Рабство и свобода
Долг по отношению к государству нередко заставляет нас жертвовать общей пользе нашими личными побуждениями, но, чтоб человек приносил такую жертву охотно, надобно, чтоб он ее нес согласно своему собственному побуждению, а не по принуждению, которое может человека обратить в бессмысленную машину от страха, но никогда не будет в силах изменить его тайных чувств, покоящихся в глубине его сердца, недоступной никакой полиции.
Н. И. Костомаров. УкраинофильствоВместо предисловия: опальный историк
Так уж сложилось в нашей исторической науке, что в ней принято вешать на историков ярлыки. Ярлык, который в свое время повесили на Николая Ивановича Костомарова, был таков, что его труды, многочисленные и отнюдь не бесспорные, предпочитали замалчивать. Да, был историк Костомаров, но жившие в его время другие историки сделали для науки куда больше полезного. Так считалось в царское время, так считалось и после революции, так начинает считаться многими мозговедами и в современной России. Почему? Чем так не угодил какой-то историк всем властям, пребывающим во главе сначала Российской империи, затем Советского Союза, а теперь — и просто России? Почему при любом правительстве Костомаров тут же попадал в опалу — и при жизни, и после смерти?
Царским властям историк Костомаров очень не нравился по причине его революционных убеждений: когда бы надо, как все порядочные копатели прошлого, заниматься историей государства Российского, он, к вящему неодобрению, предпочитал заниматься сугубо историей народа. Можно сказать, он первым отказался разбирать государственные модели мироустройства и озаботился совершенно иным — как удалось выживать народу при всех его беспощадных правителях! Естественно, с таким вольномыслием в официальные историки этого самого государства Костомаров попасть никак не мог! При Советах мертвого Костомарова тоже пинали все кому не лень.
Но — за что? Разве не победила та самая революция, тот самый народ? Увы, если почитать труды Костомарова, то станет ясно — этой победившей якобы революции он был опаснее даже троцкистско-зиновьевского блока, потому что показал, как стихийные бунты берут под контроль те, кому это выгодно, и что в результате народ оказывается под новой властью, которая ничем не лучше старой. А в позднее сталинское время он и вовсе был не ко двору: добрых слов в защиту деспотов искать у Костомарова бессмысленно, но как раз деспоты и были возведены в ранг народных героев. Но в наши-то времена? А в наши времена несчастного Костомарова зачислили в… украинские националисты, хотя никаким националистом он никогда не был, но правду об отношениях Москвы и Малороссии сказал. А также имел несчастье объявить, что истинная свобода была в этой Малороссии только в казачьем стане.
Костомаров верил, что именно в этом общественном слое существовала демократия. Он, конечно, заблуждался насчет казачьей демократии. Но наши мозговеды не стали шибко разбираться в воззрениях Николая Ивановича, они просто объявили, что тот стоит на вражеском берегу. Беда еще в том, что выросший на Украине Костомаров любил язык, на котором говорили окружавшие его люди, и считал, что украинский народ имеет очень древнюю историю, но эту историю и этот народ безжалостными методами пытались истребить из столицы Великороссии — Москвы. Некоторые свои ранние произведения историк даже и писал-то на «мове», а это уж ни в какие ворота… это ж плевок в лицо государству Российскому, пусть и новой формации. В связи с усложнившимися отношениями с современной Украиной мозговедам тут же померещилось, что даже покойный историк может чем-то эти отношения сделать еще хуже, когда куда там — не в Костомарове дело. Украинские националисты в пику Москве тут же подняли имя Костомарова на свой щит! Ведь «мову» защищал и на «мове» даже и писал! Таким вот образом виднейший историк девятнадцатого века, оставивший труды по русской истории, то есть истории этой Руси, теперь России, оказался не только не нужен, но даже опасен. Смешно оно, если бы не было так печально. Историю, как мы знаем, всегда пишут победители. История, которую написал Костомаров, была историей побежденных. В этом-то и причина, по которой до сих пор существуют неизданные сочинения Костомарова. А ведь прошло более столетия с года его смерти и почти двести лет — с года его рождения…
Опасный историк всегда опальный историк. Но среди наших отечественных историков никого опальнее Костомарова вы не найдете. Он такой был только один. Опальный во все времена и при всех властях.
В основном имя Костомарова знают благодаря его «Русской истории в жизнеописаниях ее виднейших деятелей», капитального труда, охватившего историческое полотно от Владимира Святого до конца царствования Елизаветы Петровны. Кроме собственно властителей государства в эту историческую мозаику попали также духовные лидеры, полководцы, общественные деятели, вожди восстаний. Недаром, ох, совсем недаром, Костомаров посвятил целую монографию гетману Мазепе, которого одни считали предателем (русская сторона), другие героем (украинская сторона), и только историк видел, что четкое определение Мазепы как предателя или как героя условно, и он нарисовал портрет ловкого царедворца, который не столько заботился о русской или украинской победе, сколько о звонкой монете в собственном кармане. Такую же большую работу он посвятил и «песенному» народному герою казаку Степану Разину. А кроме всего прочего, он одновременно с Забелиным занялся изучением русского быта и оставил описание этого быта, почерпнутое из летописных и зарубежных источников. То есть он вторгался в области, которые считались «непривлекательными» для изучения. Быт, мифология, народные сказания сразу низводили историка с постамента «ученого» до практически дилетанта, хотя это слово и не было произнесено. Но, тем не менее, эти серьезные работы ценились куда меньше, чем, допустим, солидный труд по экономике Древней Руси.
Почему? Да потому что экономика была привязана к политике и развитию государственной машины, а народное творчество и народный быт — нет. Неудивительно, что эти важные исследования почитались как легковесные. Вот она, научная солидарность! Был и еще один недостаток трудов Костомарова: он пытался писать не для высоколобого меньшинства, а для всех, кому интересно читать исторические труды, справедливо считая, что историки собирают факты и восстанавливают ход событий не только для узких специалистов, но и просто для людей, которые не могут продраться сквозь наукообразие текста, потому и писать исторические исследования нужно так, чтобы они были понятны любому образованному человеку. Он даже тешил себя мыслью, что нужно издавать специальную историческую серию для совсем уж неподготовленного читателя, то есть для народа. Но дальше мечты это начинание не пошло: к Костомарову власть относилась с крайним опасением — вдруг что запретное расскажет он этому неподготовленному читателю, — так что исторические книжки для народа попросту запретили. Правильно, в устах Костомарова самый невинный исторический эпизод становился крамолой. Недаром после публикации полемических статей, написанных в пылу диспута с историком Погодиным в 1864 году, некий господин Аверкиев разразился статьей, которую я не могу не привести целиком. Статья Аверкиева называлась «Г. Костомаров разбивает народные кумиры», и эпиграфом к ней стояла следующая цитата: «И таков начала упивались граждане и ругаться некими образы безстудными». А ниже читайте и сам замечательный ругательный текст.
I
Г. Костомаров, ученый пользующийся в Петербурге большой известностью, любимец петербургской публики, написал, как известно по поручению здешней Академии Наук, статью для «Месяцеслова» на 1864 г. Эта статья успела в короткое время прославиться чуть ли не больше всех других трудов почтенного ех-профессора и по справедливости заслужила позорную известность. Статья эта вызвала замечание г. Погодина в 4 № «Дня» и таким образом повела к длинной полемике, окончившеися 2-го марта статьею г. Костомарова, напечатанной в № 62 «Голоса». В этой полемике приняли косвенное участие два петербургских журнала, выразившие своими замечаниями впечатление, произведенное спором двух ученых на петербургскую публику. Как самая полемика, так и замечания петербургских журналов весьма знаменательны и, по нашему мнению, заслуживают полного внимания читателей. Сперва скажем о менее важном. В Петербурге есть целый класс существ, которых русские, живущие в этом городе, прозвали общечеловеками. Эти общечеловеки — существа до того цивилизованные, что отрешились от всяких предрассудков и, постоянно обретаясь в возвышенных сферах мечтания, низким для себя полагают принадлежать к какому-нибудь народу. Действительно, ни с одним народом нет у них ничего общего, даже языка. Их хлебом не корми, подавай только какое хочешь обличение: всякий скандал, всякое заушение исторического лица для них праздник. Им дела нет до правды — им нравится самый процесс оскандализирования известной личности, — хотя они в то же время большие хитрецы и не прочь при случае посмеяться над обличениями. Им статья г. Костомарова понравилась донельзя.
— Читали вы ответ Костомарова? — спрашивал меня один такой общечеловек.
— К несчастию, — отвечал я.
— Как к несчастию? Помилуйте, прекрасный ответ, — перебил он.
— К несчастию, — продолжал я, — ответ этот написан не на замечания Погодина; я готов отдать полную справедливость г. Костомарову: он весьма искусно отлынивает от ответа.
— Этого я не могу сказать; я не читал погодинской статьи, но Костомаров отвечал отлично. Димитрий-то, Димитрий каков молодец, а? Запрятался под дерево! Ха-ха-ха!
«Чему это он радуется?» — подумал я и стал было вразумлять общечеловека, но он не дал мне сказать и трех слов.
— Да разве вы занимались русской историей? — спросил он с изумлением.
Изумление это ясно говорило: а меня Бог миловал. Я почел излишним продолжать разговор. Я даже не спросил общечеловека на каком основании он произносит суждение о предмете ему известном, ибо сии существа делают то, что им нравится, а заниматься умственным шалопайством для них самое любезное дело. Вероятно, читателям не раз приходилось вести подобные разговоры. Мнение этих общелюдей нашло себе отклик в нашей журналистике, ибо нет такой пошлости или глупости, на которую не откликнулась бы наша современная журналистика. Жаль, что нет под руками одного из двух вышеупомянутых журналов; по поводу полемики гг. Костомарова и Погодина там выражено весьма курьезное мнение; впрочем, смысл этого мнения мы передадим совершенно точно, и читатель лишится только красноречивой фразы. Смысл же (или, вернее, бессмыслица) таков: «Что нам за дело до Куликовской битвы, да и до битв вообще!» Не правда ли, как прогрессивно? Действительно, почтенному журналу нет дела до битв; его больше интересуют мордобития, о которых он повествует весьма красноречиво и которые он воспевает в пошлых стишонках. Другой журнал, отличающийся в противуположность первому, весьма легкомысленному, необыкновенною тяжеловесностью мыслей, выразился о споре двух ученых подобным образом: «мы полагаем, что г. Погодин прав, но думаем, что виноват не г. Костомаров, а г. Погодин».
В чем же вина г. Погодина, по мнению этого увесистого, но весьма почтенного органа? В том, что он сказал, и совершенно справедливо, что г. Костомаров недолюбливает Москвы. Прежде чем мы перейдем к самому предмету этой статьи, мы считаем нелишним разъяснить и этот пункт. Г. Костомаров весьма обиделся на замечание г. Погодина о том, что он недолюбливает Москвы. Так, в первом своем ответе (Голос № 32) он говорит: «по крайней мере при описании таких отдаленных событий, как Куликовская битва, авторы должны быть изъяты от подозрений в неблагонамеренности своих взглядов… Иначе невозможно заниматься историей». Весьма жаль, что г. Костомаров употребил слово «неблагонамеренность»; оно на современном журнальном языке получило такой неприличный оттенок и так часто употребляется журнальными башибузуками, что уважающему себя ученому следует остерегаться употреблять его. Мы заменим его словом «недобросовестность» и надеемся ниже доказать, что именно в недобросовестности должно не только заподозрить, но и обвинить г. Костомарова за его «описания таких отдаленных событий, как Куликовская битва». Мы увидим, как он искажает факты, приводит из летописей только те из них, которые бросают на Дмитрия мнимую тень, умалчивая о других; притом он вообще лишен способности обращать внимание на совокупность фактов. Какой бы известностью ни пользовался ученый, — но если он, подобно г. Костомарову, искажает факты, — то нельзя назвать его добросовестным. Мы не говорим, чтобы это искажение было злоумышленным со стороны г. Костомарова; готовы даже утверждать, что он трудится весьма прилежно, желает по мере сил разъяснить нашу историю, бросить новый свет на многие события, — но что же делать, если он не обладает необходимыми для этого — ни силою, ни ученостью?
Разве не желание провести новый взгляд заставило г. Костомарова написать статью о происхождении Руси из Литвы? К несчастию, он не обладал и, вероятно, продолжает не обладать необходимыми для этого знаниями, и его ученая фантазия разлетелась в пух и прах. Он желал также доказать, что Поляне и Новгородцы одно и то же, но доказал единственно незнание основных правил филологии. Он писал и о Горе-Злосчастии, и о Сусанине — но к чему вспоминать старое? Вообще, у г. Костомарова всегда охота смертная сказать что-нибудь «новенькое». Он всегда схватится за один какой-нибудь факт, раздует его в гору, построит на нем целую статью, а на другие факты не обратит никакого внимания. И так желание сделать во что бы то ни стало открытие — весьма сильно мешает г. Костомарову. Во-вторых, у г. Костомарова есть какая-то идиосинкразия к Москве; в его статье о Куликовской битве, как нарочно, примеры этому встречаются на каждом шагу. Весьма может быть, что эта идиосинкразия в настоящем случае только кажущаяся; самое открытие, сделанное г. Костомаровым в этой статье, было такого рода, что под впечатлением его он поневоле видел все в черном свете. Но тем не менее, шпилек Москве в статье немало, и г. Погодин не мог не заметить этого. Если бы г. Костомаров ограничился только вышеприведенным нами намеком, то мы даже не обратили бы на этот пункт спора никакого внимания, но, к несчастию, г. Костомаров позволил себе, во втором своем ответе, сказать, что в статье г. Погодина есть ученополицейская сторона. Отчего это г. Костомаров заметил только во второй статье г. Погодина полицейский тон? Обвинение в нерасположении к Москве высказано г. Погодиным в первой его статье. Чем тон этой второй статьи более полицейский, чем первой? И в чем этот полицейский тон, в том, что г. Погодин не верит в любовь г. Костомарова к Москве? Но как верить в этом человеку, не обращающему внимания на представленные ему возражения, бросающемуся из стороны в сторону для подтверждения своего ни на чем не основанного мнения? И будто любовь или не любовь к Москве XIV века подлежит ведомству полиции? Кого это г. Костомаров удивить хочет? Лучше бы г. Костомарову серьезно взглянуть на дело, перечесть еще раз Никоновскую летопись, которой он отдает преимущество; при внимательном чтении он, надеемся, увидел бы всю шаткость своих доказательств, — а не то поневоле думается, что г. Костомаров нашел полицеискии тон в статье г. Погодина единственно для того, чтобы расположить в свою пользу читателей.
Мы спросим г. Костомарова для чего он писал свою статью о Куликовской битве? Какие новые истины он высказал в ней? Объяснил ли он ее значение лучше своих предшественников? Нового-то найдется весьма немного, да и то подлежит великому сомнению; при чтении ясно одно: желание бросить тень на Димитрия и на Москву вообще; желание это столь сильно, что автор сообщает только неблагоприятные для Москвы факты и для этого даже, как увидим, искажает слова летописей. Но, впрочем, любит ли г. Костомаров Москву, решительно все равно, и это никого ни опечалить, ни обрадовать не может. Весьма прискорбно только, что он недобросовестно обращается с фактами. Что против этого скажут рассуждения г. Костомарова о любви к отечеству, сравнение г. Погодина со старой лошадью, рассуждения о Пелисье, Канробере и других генералах? Или г. Костомаров полагает, что он сказал дельную мысль, объявив, что «дело историка не курить фимиам перед народными кумирами, а разбивать их»? О, какая великая мысль, достойная быть записанною как пример риторического красноречия! Разбивать кумиры, может быть, и приятно, не знаем; добросовестное изучение, конечно, не столь приятно, но, наверно, гораздо полезнее.
ІІ
Приступим теперь к разбору самой статьи и поучимся у г. Костомарова тому, как ученые люди разбивают народные кумиры. Исходным пунктом воззрений г. Костомарова мы считаем следующее место. Рассказав о разделении орды в начале княжения Димитрия, он говорит: «В это время было естественно и Руси, входившей в число ханских владений, по примеру отложившихся частей, покуситься на отторжения, и, конечно, знамя восстания должно было подняться на Москве. Московский князь был уже признаваем от хана наместником Русского мира; Московский великий князь естественно мог и должен был захотеть так же сделаться независимым, в качестве особого хана, как делали другие». Вот поистине новый взгляд на русскую историю. Москва и вообще платившая дань часть Руси, по г. Костомарову, составляла часть Орды — это новость. Орда стала распадаться, и Московский великий князь сделал попытку сделаться отдельным ханом, как, напр., Тогай! Но это прелестно! История Руси — история части Орды. Из этого можно вывести преинтересные заключения. Можно, напр., сказать, что около Москвы не собиралась русская сила, что Русь вообще не крепла, а стала впоследствии свободной единственно вследствие распадения Орды. Удивительно как это ее последующая история непохожа на историю других ханств. Жаль, что такое великое открытие сделано г. Костомаровым мимоходом. Развитие этой исходной мысли было бы крайне поучительно и интересно.
Г. Костомаров между прочим забыл в своей статье упомянуть о том, что распавшаяся Орда соединилась под Мамаем и что Дмитрий начал борьбу со всею Ордою. У него просто сказано: «В то время Мамай перестал ставить кукол, называемых ханами или царями. Он сам назвался наконец царем». Забывчивость удивительная, особенно в историке, разбивающем народные кумиры. Впрочем, небрежность изложения не редкость у г. Костомарова. Так, на той же странице у него сказано: «Тогда (в битве на Воже) поймали Москвичи какого-то изменника; был он Иван Васильевич, тысячского сана сын, и шел из Орды с татарами на своих собратий. У него нашли целый мешок зелья, должно быть, как думали, лихого, и после расспроса послали его в заточение на Лачь-озеро в Каргополь, в Новгородскую землю».
Что за небрежность изложения! Г. Костомаров позабыл, что он сам говорил об Иване Васильевиче, и называет его «каким-то изменником». Притом вовсе не его поймали тогда; как же это г. Костомаров, писавши эти строки, не вспомнил, что Иван Васильевич был казнен в следующем году в Москве? Вероятно, он понадеялся на свою память и при писании статьи не справлялся с источниками. Иначе, как возможно было перековеркать такое ясное известие «изымаша же тогда на войне той некотораго попа от орды пришедша Иванова Васильевича, и обретоша у него злых и лютых зелей мешок; и истязавше его много, и послаша в заточение на Лачь озеро, идеже бе Данило заточенник»? Примеры подобной небрежности встречаются на каждом шагу; мы не станем нарочно отыскивать, но поневоле наткнемся на них.
III
Рассмотрим теперь отношения г. Костомарова к Дмитрию. Постарался ли он хотя несколько обрисовать характер этого великого князя? Ясны ли читателю поступки его? Увы! Даже и попытки объяснить характер Дмитрия нет у г. Костомарова. Две черты заметил он в Дмитрии: именно, что он «не отличался пылкой отвагою» и любил барыши. Насчет «пылкой отваги» после, а теперь насчет барышничества, тем более что и при этом г. Костомаров не мог не исказить факта, вероятно вследствие своей любви к Москве, исторического беспристрастия и других подобных причин, о которых он так красноречиво пишет. Вот что сказано у г. Костомарова: «В орде был тогда (1371) сын Михаила Александровича (тверского); он там задолжал; московский князь выкупил его, привез в Москву и отпустил только тогда, когда отец его, соперник Димитрия, заплатил ему за свободу сына десять тысяч рублей, конечно, с значительным барышом против того, за сколько его выкупил из орды Московский великий князь». Откуда это конечно и в то же время известие, что тверской великий князь заплатил десять тысяч рублей? Ведь по летописям эту именно сумму заплатил Дмитрий за князя Ивана в Орде. Напрасно г. Костомаров надеется на свою память: этак он дойдет до того, что придется каждый сообщаемый им факт заподозревать в искажении. Вот, напр., как сказано об этом факте в Воскресенской летописи: «выведе же с собою (Дмитрий) из орды княже Михайлова сына Тверскаго князя Ивана, окупив его у Тотар в долгу, дасть на нем десять тысящь рублев серебра, еже есть тма, и приведе его на Москву, посади на митрополичье двор Алексееве, и седни колико донелиже выкупиша его». О том же в Тверской под 6880 годом: «А князь Дмитрей послал в Орду, высулиша князя Ивана Михайловича, сына Александровича, и приведоша на Москву, заговев Филипову заговению; начата его дрежати в истоме». И ниже, под 6881 «Той же зимы сътворися мире князю великому Михаилу с князем великим Дмитрием, и отпусти сына с Москвы князя Ивана с любовию». Вот вам и конечно! Где же барыш? Об нем упомянула бы хоть Тверская летопись. Как же, поминутно встречая подобные искажения, не заподозрить г. Костомарова в недобросовестности? Итак, одна черта характера Дмитрия изобретена г. Костомаровым, — что же касается до отсутствия пылкой отваги — то это черта отрицательная и ничего не рисующая. Г. Костомаров впоследствии стал смелее и прямо называет в «Голосе» Димитрия трусом, сравнивает его с Фальстафом и т. п.
Г. Костомаров не понял характера Дмитрия, или даже просто не хотел понять. В первом своем ответе г. Погодину г. Костомаров говорит: «Вам бы хотелось, чтоб он (т. е. Дмитрий) был богатырь, герой, исполнен всевозможнейших добродетелей: что же? И мне того же хотелось бы». Как это нежно, особенно со стороны историка, разбивающего народные кумиры. Видно, с такими миндальными требованиями и приступал г. Костомаров к Дмитрию и рассердился на него за то, что он не был исполнен всевозможнейших добродетелей. В своем желании унизить Димитрия г. Костомаров часто доходит до смешного. По рассказу г. Костомарова, Димитрий в 1371 г., когда Мамай дал Михаилу Тверскому ярлык на Владимирское великое княжество, «тотчас побежал в Орду, просил, кланялся и склонил татарскую власть в свою пользу поклонами и подарками»? Это сказано на стр. 9; а на 8 рассказано весьма просто как было дело. Где же тотчас Дмитрий побежал в Орду? Он даже не поехал во Владимир к ханскому послу. Даже по числам можно рассчитать все: пришел из Орды Михаил Александрович с ярлыком 10 апреля, а Дмитрий поехал в Орду 15 июня, т. е. через два месяца и то потому что тверской великий князь послал в Орду сына своего Ивана. Ему нечего было особенно кланяться; он поехал с деньгами. «Князь великий Дмитрей в орду поиде, и подаваа серебра много от великаго княжения». Не очень-то нужно было кланяться в Орде князю, который, вероятно, при этом уговорился с Мамаем платить меньший «выход»?
Г. Костомаров, рассказывая о негодовании русских князей на тверского великого князя во время похода 1375 года за то, что он несколько раз «приводил ратью» зятя своего Ольгерда Гедиминовича на Москву и сложился теперь с Мамаем, — прибавляет: «но Дмитрий прежде сносился с тем же Мамаем, и это не представлялось опасным. Ясно, что московская политика умела представить князьям и вообще Русской земле предосудительным в других то, что оправдывала за собой». Что же предосудительного было в сношениях Дмитрия с Мамаем, приводил ли он врагов на Русскую землю, подсылал ли к Мамаю людей подобных Ивану Васильевичу и Никомату? Чего же было бояться русским князьям сношений Дмитрия с Ордою? Не потому ли, что он стал платить меньший «выход»?
Встречая беспрестанно подобные выходки, нисколько не удивляешься, когда г. Костомаров почти что сердится на Димитрия за то, что он поскупился и дал мало денег Мамаю. Немудрено, что при таком вникании в смысл фактов г. Костомаров дошел до мнения, что Димитрий трус.
IV
«Димитрий, как показывают все дела его, не отличался пылкой отвагой», — говорит г. Костомаров. Что такое нужно разуметь под этой пылкой отвагой, неизвестно. И что это за особенно важное качество, эта пылкая отвага, что отсутствие ее может составить характеристическую черту человека? Не отличался ею Димитрий, и слава Богу; она не нужна была ему; отважный князь в это время много бы зла принес Русской земле; он начал бы дело освобождения преждевременно, и хорошо, если бы при нем случился, как при Владимире Андреевиче во время Куликовской битвы, опытный боярин Дмитрий Михайлович (Как это г. Костомаров не обвинит Д. М. в трусости, или как он выражается, в отсутствии пылкой отваги?) который сдержал бы его пыл.
Не пылкою отвагою, а твердым умом, выдержанностию воли, знанием обстоятельств и умением пользоваться ими отличались московские князья. В Дмитрии виден ясно внук Калиты; тип Калиты облагородился в нем. На его памяти нет такого пятна, как дело тверского великого князя Александра Михайловича. У Дмитрия больше смелости, прямоты в действиях, чем у его деда. Он сознавал свою силу. «Умными очами» смотрел он на дело. Соперников опасных между другими великими князьями ему не было; Михаил Тверской сам своею неумелостью портил возможный успех своего дела и постоянно «оставался в дураках», по выражению г. Костомарова. Олег Рязанский был в слишком исключительном положении и не пытался стать во главе Руси; но это был соперник сильный, умный, и Дмитрии действовал относительно его чрезвычайно осторожно и умно; неучастие Олега в Куликовской битве повело к заключению между ними мира. В 1386 г., видя неудачу Рязанской войны и в то же время задумав поход к Новгороду, — он заключил с Олегом, хотевшим, по летописному выражению, добра не Москве, «а своему княжению» вечный мир. Воспитанный митрополитом Алексеем, Дмитрий был богомолен, «от юныя вресты Бога взлюби и духовных прилежаше делех»; благочестив более на деле, чем на словах, что наивно выражено в витиеватом слове о его житии и преставлении: «аще и книгам не учен сый добре, но духовныя книги в сердце своем имаше»; хотя в назначении в митрополиты Митяя он и не совсем любезно обошелся с духовенством, за то и в рассказе об этом проглядывает явное неудовольствие духовенства; как Калита, он заставлял церковь помогать ему в делах мирских. В частной жизни, он «тело свое чисто сохрани до женитьбы», и после женитьбы; любил, как его соперник Олег, пиры (но не попойки, как полагает г. Костомаров); из себя был человек ражый; вероятно, очень добродушный и веселый, как большинство толстяков; говорил всегда толково, не хвастая нимало; десять раз отмеривал, один отрезывал; начинал войну, уверенный в успехе; от неудачи духом не падал; не удалась Рязанская война, удался поход к Новгороду; не отличался пылкой отвагой, но был храбр и умел постоять за себя. Истый москвич. Владимир Андреевич был, может, и отважнее и храбрее, но никак не умнее Дмитрия.
«Димитрий, говорит г. Костомаров, как показывают все дела его, не отличался пылкой отвагой. Он оскорбел и опечалился зело (узнав, что Мамай идет войной) — говорит летописец — и начал прежде всего молиться». Затем г. Костомаров, не говоря ни слова о распорядительности Дмитрия; следует Никоновской летописи, где митрополиту Киприану приписывается не только мысль о походе, но и все распоряжения Дмитрия, все делается по совету Киприана; и собирается войско, и посылаются послы к Мамаю. Г. Костомаров полагает, что сношения с Киприаном подвергаются «сомнению именно потому, что, по известиям некоторых списков, Киприан приехал позже» (т. е. в следующем году, 1381). Известие это можно подвергнуть сомнению и по другим причинам. По расчету времени, нет ничего невозможного, что Киприан и мог быть уже в Москве, но он никак не мог в такое короткое время получить такое расположение Дмитрия (который недолюбливал его), чтобы он не только советовался с ним, но и исполнял все его советы беспрекословно. Если принять известие Никоновской летописи, то Киприян приехал в Москву 4 мая 1380 г. Мамай перешел через Воронеж летом, в конце июня или в начале июля (не позже), следовательно, влияние на великого князя он должен был приобресть в два месяца. Притом же это известие только в одной Никоновской; а вдобавок в самой Никоновской летописи хронология несколько в этом случае сбивчивая. На стр. 77 читаем, что через семь месяцев по прибытии Киприана приехал Пимен митрополит, т. е. в 1380 г., а на стр. 129 приезд Пимена назначен в 1381 г. согласно со всеми другими летописями. Итак, известие о разговоре Киприана с Дмитрием по получении известия о переходе Мамая через Воронеж — весьма сомнительно. Киприан является в этом разговоре весьма распорядительным, каким далее в повести является сам Дмитрий. Но во всяком случае, на основании этого разговора нельзя прийти к заключению, выраженному г. Костомаровым. «Наконец, если это известие выдуманное, и тогда оно имеет значение, как образчик духовной мудрости века, как взгляд, который действительно имели и могли иметь тогда православные духовные, когда они заботились о вере и об исполнении ее уставов более чем о земном отечестве, входящем в круг мирских дел». Сказать этого и вообще нельзя, а тем более вывести подобное заключение из разговора великого князя с митрополитом, как он приведен в Никоновской летописи. Есть там и витийство, и даже сильное (и это заставляет полагать, что разговор сочинен), как вообще в начале повести, — но участие Киприана к мирским делам выставлено ярко: князь только исполняет его приказания, и даже представлен человеком, не знающим за что на него восстал Мамай; агнцем невинным, просто — качество, которым не отличались московские князья. Либо надо было передать весь разговор, либо совсем не упоминать о нем; из того отрывка, который приведен у г. Костомарова, еще можно вывести вышеприведенное заключение, но из самого разговора нельзя.
Задавшись подобною идеею, г. Костомаров неверно смотрит и на игумена Сергия. «Верный православному смирению, предпочитавший лучше златом и сребром отделаться от врагов, чем отваживаться на кровопролитие, за столом преподобный Сергий сказал великому князю: „Почти дарами и честью нечестивого Мамая; Господь видит твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит"». Надо заметить, что раньше, по летописи, Сергий говорит князю «да даст тебе Господь Бог и Пречистая Богородица помощь; не от этой еще победы носить тебе венец с вечным сном; прочим же многим без числа готовятся венцы с вечною памятью». Этих слов у г. Костомарова не приведено, а между тем они оттеняют приведенные у него слова. И затем, г. Костомаров опять опускает слова Сергия, сказанные в ответ на слова Дмитрия «я уже поступил так, но он тем более с великою гордостию возносится», а именно: «если так, то ждет его конечное погубление и запустение, тебе же от Господа Бога и Пречистой Богородицы и святых его помощь, милость и сила».
На основании совета окончить дело мирно с Мамаем еще нельзя обвинять духовенство, что оно не заботилось о земном отечестве. 11реподобныи Сергии, по крайней мере, весьма о нем заботился. Он предсказал победу и таким образом придал Дмитрию более уверенности в успехе дела; он и в приведенном не вполне г. Костомаровым разговоре не очень упрашивает Димитрия примириться с Мамаем; он желал только увериться, вполне ли прав Дмитрий, не слишком ли самонадеянно, гордозаносчиво поступает он и, узнав, что Дмитрий поступает, хорошо обдумав дело, благословил его. Сергий и раньше и после доказывал, что он заботился о земном отечестве; пусть г. Костомаров вспомнит кто был послан в 1365 г. в Нижний Новгород объявить Андрею Константиновичу князю Нижегородскому, чтоб он ехал судиться с братом своим Дмитрием Константиновичем Суздальским к Дмитрию Ивановичу; кто уговорил в 1386 г. Олега Ивановича заключить с московским великим князем вечный мир? Что это за охота у г. Костомарова не обращать внимания на совокупность фактов. Чуть ему придет какая мысль в голову, он ее и печатает, не проверив предварительно.
Кстати, о почтении Мамая дарами. В календаре г. Костомаров говорит следующее: «Димитрий послал в орду посла Захария Тулчева (У г. Костомарова в календаре он назван Пулчевым, а в „Голосе“ Тульчиным.) с двумя толмачами. Он вез покорную грамоту и дань Мамаю; но дань была не в той пропорции, в какой хотел получить властитель, думавший о восстановлении блеска и силы Кипчака. Посол этот едва вступил на Рязанскую землю, как узнал, что Олег предался Мамаю, и известил об этом Дмитрия». Не говорится в сказаниях, продолжал ли посол свой путь далее и как принял его Мамай. Уже впоследствии оказывается, что Мамай отверг умеренную дань, пред окончательным опустошением (Которого не было. Что за небрежность изложения.) и завоеванием земли Русской. Что Мамай не принял дани, можно видеть только из разговора Дмитрия с Сергием; что она была послана по уговору Дмитрия с Мамаем, кажется, быть сомнения не может; иначе не понятен ответ Дмитрия ханским послам, требовавшим дани, какая при Джанибеке платилась; в Никоновской летописи посылка дани приписана совету Киприана, но об этом обстоятельстве мы уже говорили; Мамай, вероятно, не надеялся на уступку Дмитрия, потому что продолжал наступательное движение, — но ему важно было выиграть время, чтоб успеть соединиться с Олегом и Ягейлом. Рассказ г. Костомарова в календаре согласен с источниками, — но впоследствии, когда г. Костомарову захотелось доказать, что Дмитрий был трус и из трусости начал только войну, он не устыдился написать следующее: «Узнавши, что вся Русская земля дружно (Будто вся?) встает против него, Мамай послал к Дмитрию требовать выхода в таком размере, в каком он давался при Узбеке и Джанибеке; Дмитрий (как всегда водилось в Московщине) старался выторговать выгоднейшие условия и предлагал выход в том виде, в каком положено было платить по прежнему договору с Мамаем. Послы, по воле Мамая, не согласились и ушли. Дмитрий подумал, посоветовался и послал к Мамаю Захария Тульчина и двух толмачей, а с ними злата и сребра много. Мамай не принял. Почему он не принял? Потому, говорит сказание, что надеялся на Ягейла и на Олега Рязанского. Что же посылал ему великий князь Московский? На какую дань соглашался Дмитрий? По смыслу выходит, что на ту, какой требовал Мамай. Иначе как Дмитрию посылать Мамаю то, чего Мамай не принял уже раз через своих послов? Что же оставалось тогда делать Дмитрию? Ведь он соглашался покориться, да покорности-то его не принимали. Конечно, драться. Тут у него не было решимости: тут была неизбежность, крайняя необходимость. И потому-то нельзя приписывать его храбрости то, что он пошел на войну против Мамая». Что это значит? Почему в календаре сказано одно, а в «Голосе» другое? Почему при этом не объяснена причина перемены мнения? Ведь это нечто вроде ученой передержки. Конечно, у г. Костомарова произошло это единственно от зудливого желания доказать во что бы то ни стало свою идейку. И это беспристрастие, любовь к истории? Мнение, что решимость Димитрия идти против Мамая есть собственно трусость, до того курьезно, — что опровергать его даже странно. Мы заметим только еще раз, что г. Костомаров лишен способности обращать внимание на совокупность фактов.
V
Теперь об участии Дмитрия в битве и о его личной храбрости.
Собственно на этом пункте и основана полемика г. Костомарова с г. Погодиным. Беда, надо сказать правду, с обеих сторон. Г. Погодину нечего было сердиться и, главное, не за чем было пускаться в рассуждения о генералах Пеллисьи и Канробере. Врага следует поражать его собственным оружием. Доказательства мужества (но не пылкой отваги) Димитрия следовало основать на Николаевской летописи. Г. Костомаров весьма остроумно отвергает сказание о битве, помещенное в IV томе (оно и в Воскресной летописи) Полного Собрания Летописей. Там победа приписана помощи ангелов, там мало характеристических черт и все описание весьма похоже, напр., на описание битвы на реке Сальнице (см. Ипатьевскую лет.). Нас же интересуют не столько подробности полемики двух ученых, сильно понадеявшихся на память, сколько самая битва, хотя мы, по-видимому, будем следить по этой полемике за ходом битвы. Ошибки обоих ученых происходят от того еще, что они не уяснили себе характера Димитрия. Один смотрит на него по Карамзину; другой желает отыскать в нем отсутствие пылкой отваги. Вместо фактов оба пускаются в водянистые и ни к чему не приводящие рассуждения о храбрости вообще.
1) Речи и поведение Дмитрия во время предшествовавшее битве.
Ясно показывают, что он был мужествен. Г. Костомаров не отвергает этого, но говорит, что если судить по речам, то и Фальстаф храбрый человек. Из этого заключаем, что г. Костомаров незнаком с личностью Фальстафа, ибо по речам сего последнего о его храбрости разве миссис Квикли заключить может. Что хвастливого нашел г. Костомаров в речах Дмитрия. Твердая уверенность звучит в них. «Лепо нам, братия, положить головы за православную веру христианскую, чтоб не запустели церкви наши, да не будем рассеяны по лицу земли, а жены наши и дети не отведутся в плен, на томление от поганых. Да умолит за нас Сына Своего и Бога нашего Пречистая Богородица». Это ли хвастливая речь? Какая простота и твердость! Великость предпринимаемого дела, сознание этой великости, твердая уверенность и упование — вот что заставляет говорить такие речи. Так ли говорили пьяные русские люди за рекою Пьяною?
«Находились многие, — повествует г. Костомаров, — у которых осторожность брала верх над отвагою; они все еще настаивали, чтоб оставаться», т. е. не перевозиться за Дон. Что же сказал им Дмитрий? Дмитрий сказал им: «честная смерть лучше злого живота. Уж лучше было вовсе не идти против безбожных татар, чем, пришедши сюда и ничего не сделавши, назад возвращаться». И вслед за этим г. Костомаров с воодушевлением продолжает: «И пристал великий князь к совету Олгердовичей, и решились переправляться за Дон, отважиться на крепкий бой, на смертный бой, победить врагов или без поворота всем пропасть. В первый раз со времени Батыева ига, Русь, собранная в виде воинственных детей своих, решилась предпочесть смерть рабству». О ком же г. Костомаров говорит с таким одушевлением? Неужели о князе, который, по его мнению, из трусости пошел на Мамая?
О, художественность, увлекающаяся первой фразой, первым фактом, неспособная создать типа, неспособная к спокойному изучению и созерцанию! Это самая низкая степень художественной способности; истинный художник умеет обуздывать себя; он заклинатель своих собственных сил. О, самолюбие, готовое двадцать раз переиначивать факт, единственно ради защиты своего меленького мненьица. Затем трус отправляется, накануне битвы, в поле между двумя станами вдвоем с Дмитрием Волынцем. Боброк предсказывает ему победу; затем следуют другие предзнаменования победы. И этот князь струсит, ибо г. Костомарову так покажется: г. Костомаров забудете все, когда увидит его без чувств под деревом.
2) Факт переодевания.
Г. Костомаров, начиная рассказывать о переодевании, уже предвкушает свое открытие и потому умалчивает о том, что князь ездил в сторожевой полк. «И начаша прежде съзжатись сторожевыя полки руския се татарскими; сам же князь великии наперед в сторожевых полцех ездяше, и мало тамо пребыв возвратись паки в великии полк». Может быть, г. Костомарову требуется, чтобы Дмитрий остался в сторожевом полку? К счастию, Дмитрий был человек умный и воротился в большой полк, чтобы ободрить воинов на битву, и «прослезились все они, и укрепились, и были мужественны, как летающие орлы, как львы, рыкающие на татарские полки». Обладай Димитрии пылкой отвагой такого сорта, какая нравится г. Костомарову, он бы должен остаться в сторожевом полку и, пожалуй, быть там убитым. Г. Костомаров напрасно выпустил также и то обстоятельство, что полки устроил воевода Димитрий Волынец Боброк. Объехавши полки, Дмитрий приехал под свое великокняжеское черное знамя — мы следуем г. Костомарову, — помолился образу Спасителя, написанному на знамени, сошел с коня, отдал коня боярину своему Михаилу Бренку, снял с себя княжескую приволоку (плащ) и надел на Бренка, велел ему сесть на коня своего, а своему рынделю (знаменоносцу) приказал нести перед собою (Не совсем верно передан летописный рассказ; см. ниже.) великокняжеское знамя. Повесть говорит, что окружающие великого князя упрашивали его стать в безопасном месте, где бы он мог только смотреть на битву и давать ей ход (Отчего это слово переводится г. Костомаровым бежал? Он так спорил о слове бежал.); но великий князь отказался от этого и говорил: «Я у вас первый над всеми; я более всех вас получал всего доброго и теперь должен первый с вами терпеть». Но кажется, думает г. Костомаров, что Дмитрий нарядил своего боярина великим князем с тою именно целью, чтобы сохранить себя от гибели и еще более от плена, потому что враги, узнавши великого князя по знамени и по приволоке, употребляли бы все усилия, чтобы схватить его. Иного побуждения быть не могло.
Как у г. Костомарова легко это кажется перешло в быть не могло — что за игривость мыслей! Но, однако, посмотрим, насколько справедливы эти «кажется» и «быть не могло». Где стояло великокняжеское знамя? Разумеется, не в великом полку, ибо сказано, что Дмитрий, осмотрев полки, приехал под него, — где же? Бояре советуют ему стать «назади», или на «крыле», или где-нибудь на «опришеном месте»; в подобном месте и знамя стояло. Дмитрий был толст, и очень, немудрено, что он снял с себя приволоку и «царскую утварь», — а пошел сражаться в одних латах. И если б он хотел себя переодеванием спасти от гибели, то для чего было ему отдавать на гибель своего любимого наперсника Михаила Бренка? Будто у него не было бояр, которых он недолюбливал? Тут немного надо логики, чтобы видеть, что не погубить, а сохранить Бренка желал великий князь.
3) Когда был убит Михаил Бренок?
Г. Костомаров рассказывает так: «Татары стали одолевать. Москвичи, небывальцы в бранях, как называет их Новгородский летописец, в страхе пустились врассыпную. Татары погнались за ними и, увидевши черное великокняжеское знамя, направили туда все свои усилия; добрались, изрубили знамя и убили Михаила Бренка, которого по одежде приняли за великого князя. Как мало строк и как много пылкой отваги — виноват — фантазии»!
Г. Костомаров позабыл,
а) что перед этим: «много от сановитых великих князей и бояр и воевод, аки древеса клоняхуся на землю». Напрасно же он говорит в возражении, что князья, бояре и воеводы были убиты, когда все побежали.
б) что великого князя Дмитрия уже два раза сбили с коня и «уязвша зело, и он притруден вельми, изыде (Очевидно, опечатка, следует перед ним.), с побоища едва в дубраву».
в) что после этого сказано «Татарове же начата одолевати».
г) новгородский летописец и не думал называть москвичей «небывальцами в бранях», а говорит «москвичи же мнози небывалцы», согласно с другими летописцами. Действительно, много небывальцов было в войске.
д) что Татары направили все свои усилия и т. д. ученая фантазия г. Костомарова.
Итак, когда же был убит Бренок? Когда татары начали одолевать. Значит, он не в опасном месте стоял. Или г. Костомаров станет уверять, что Дмитрий знал вперед, что это именно случится? Если бы он и знал, все бы лучше ему поставить не любимца, а кого другого. Дмитрий был очень умен. Отчего бы ему не поставить на гибель, например, своего боярина большого Юрия Васильевича Кочевина Олешина, на которого он гневался по делу Пимена.
4) Димитрий был ранен, но не смертельно.
В тех летописях, где победа приписывается ангелам, то что Димитрий не был ранен, приписывается чуду. Такого мнения и Карамзин держался. Но и в приводимых Карамзиным летописях, либо как в Синодальной; князья литовские говорят после битвы: «мним, яко жив есть, но уязвлен», либо как в Ростовской, противоречие «наидоша великаго князя в дуброве велми язвена лежаще» и далее «на теле его не бысть язвы». Г. Костомаров следует Никоновской летописи: в ней 4 раза сказано, что Димитрий был «язвен». У Арцыбашева есть известие, что великого князя нашли в одной сорочке, всего в крови, лежащего под деревом. Да оно и естественно. Все летописи говорят согласно, что весь доспех великого князя был избит, и только г. Костомаров в состоянии вывести из этих согласных известий, что Дмитрий, «почувствовав несколько ударов, побежал в лес». Да, избит был весь Дмитрий, два раза с коня сбит, едва добрел до дубравы — вот в чем согласны все летописи. В Никоновской сказано: «и много по главе его, и по плещима его, и по утробе его бьюще, и колюще, и секуще, но от всех сице Господь Бог милостию своею… соблюде его от смерти; утруден же бысть и утомлен от великаго буяния татарскаго толико яко близ смерти».
Сам господин Костомаров упоминаете несколько раз, что великий князь был ранен, что не мешает ему сказать, что у князя не нашли ран на теле. Зачем тут пропущен эпитет: «смертных»? О, любовь к истине! И вот человека за то, что его не убили до смерти, величают трусом. Надо-де разбивать народные кумиры, которых у нас нет. Дай нам Бог понять свою историю, верно изобразить типы, а то наши исследователи только и дела делают, что разбивают Карамзина, да и то неумело, не обладая верным чутьем.
5) Участие Дмитрия в битве.
Мы уже указали на то, что он был дважды сбит с коня, весь изъязвлен, но не до смерти. Далее, есть свидетельства об этом отвечавших на вопрос Володимира Андреевича после битвы: не видел ли кто великого князя? У г. Костомарова эти известия перепутаны в двух местах, но дело главное в том, что он не отвергает, что Дмитрия видели перед самые приходом Володимира Андреевича. Это очень важное дело; значит, Дмитрий был на поле сражения почти до конца; т. е. до самого выхода засады, решившей участь сражения.
6) Как попал Дмитрий под новосрубленное дерево.
У г. Костомарова сказано: «Димитрий почувствовал на своих доспехах несколько ударов, побежал в лес, запрятался под срубленное дерево и там улегся без чувств». Г. Костомаров уверяет, что это перевод следующих слов Никоновской летописи: «он же притруден вельми изыде с побоища едва в дубраву, и вниде под новосечено древо многоветвенно и лиственно, и ту скрыв себе лежаша на земле».
а) Идти через силу (изыде едва) не значит бежать;
б) «вниде» и «запрятался» никак не прийдутся в тоне;
в) «несколько ударов» не переводят «язвен зело» и «притруден»; и в тех местах, где г. Костомаров признает, что Дмитрий был ранен, он везде пропускает «зело» или «вельми».
г) «улегся без чувств»! — это по-русски бессмыслица; улечься можно с комфортом, но без чувств можно упасть только.
д) в рассказе о том, как нашли Дмитрия, у г. Костомарова не сказано «и наехаша великаго князя бита вельми, едва точию дышаща», а сказано «они заметили, что князь дышит», и прибавлено в виде фантазии «глаза его то открываются, то закрываются». Эти «глаза» особенно хороши у г. Костомарова.
Однако, как попал Дмитрий под новосрубленное дерево? В известии Никоновской летописи об уходе великого князя и о том, как он скрыл себя под деревом, мы видим догадку летописца. В самом деле, кто это видел? Никто; если бы видели, то сказали бы князю Володимиру и нечего бы искать Дмитрия. Дмитрий сам ничего не помнил. Откуда же это известие? Оно не более как объяснение. Это подтверждается еще тем, что догадка эта находится только в Никоновской, а известие о том, что князя под деревом нашли, почти во всех. Наконец, сама Никоновская летопись столь много свидетельствует о мужестве Дмитрия, что совокупность фактов не позволяет принять толкования г. Костомарова.
Как попал Дмитрий под дерево не важно, но важно то, что его видели на побоище перед самым приходом Володимира Андреевича. Притом же не слишком, должно быть, хорошо спрятался Дмитрий, когда его нашли. Или г. Костомаров скажет, что он выполз перед этим, но в таком случае мы посоветуем ему предположить, что Дмитрий еще до сражения нарочно наметил где ему спрятаться и даже велел срубить на этот конец дерево. Торжество так торжество: валяй во все колокола.
6) Где было это дерево?
«Изыде едва в дубраву». По описанию поля сражения не видно, чтобы были две дубравы; а кто стоял с войском в дубраве? Пусть-ка припомнит это г. Костомаров. Не шел ли Дмитрий сказать, чтобы Володимир Андреевич и Боброк выходили из засады?
7) Обморок Дмитрия объясняется физиологически.
В Никоновской летописи, как будто нарочно тотчас после того, как сказано, что Дмитрия «били, кололи и секли по голове, по плечам и по утробе», следует его портрет, где сказано, между прочим, что он был «чреват велми и тяжел собою зело». Ясно, что у человека такого сложения после такого утомления мог сделаться обморок. Да и не обморок, а просто человек был без чувств вследствие ран.
VI
В доказательство трусости Дмитрия г. Костомаров приводит его бегство перед нашествием Тохтамыша. Г. Костомаров приводит для этого известие первой Новгородской летописи, сущность которого, что Дмитрий побежал на Кострому. То же известие и в Тверской. Оба известия краткие. Г. Костомаров полагает, что тирада об оскудении воинства в Никоновской летописи приведена ради оправдания великого князя, что он не трус был. Оскудение после Куликовской битвы действительно было большое; ведь меньше чем в два года трудно было поправиться. Никоновская летопись сама себе, впрочем, противоречит здесь, говоря что Дмитрий «собра вои многи»; не мог он этого сделать и по оскудению всей земли, и потому что Тохтамыш пришел набегом, быстро. Олег Рязанский при изгонах татар несколько раз бегал за Оку, и, однако, г. Костомаров не обзывает его трусом. Кроме того, г. Костомаров выпустил известие, находящееся и в Никоновской летописи, что Дмитрий пошел против Тохтамыша.
Согласное свидетельство Новгородской четвертой и Воскресенской лучше объясняют это дело: в обоих показано, что Дмитрий выехал из Москвы, чтоб идти против Тохтамыша, и начал думу думать со всеми князьями русскими, и обрелась в них разность, не хотели помогать. Дмитрий был в недоумении и размышлении, и было отчего. Олег, с которым только что был заключен договор, по которому великие князья взаимно обязались помогать друг другу против татар, встретил Тохтамыша до его прихода в землю Рязанскую; великий князь Дмитрий Константинович Суздальский двух сыновей своих послал на поклон к Тохтамышу. Вероятно, и другие неудовольствия были. И поехал в город свой Переяслав и оттуда через Ростов, быстро на Кострому. Для чего же спешил Дмитрий в Кострому? Для ради ли единой трусости? Г. Костомаров отвергает, что для сбора войска, но пусть он вспомнит, что 23 августа пришли татары под Москву — а шли они быстро, — 26 взяли город обманом, — а в начале сентября, «не по многих дней», уже московская рать шла на изменившего договору Олега Рязанского. Откуда же взялось войско? Из земли, что ли, выросло? Поход на Рязань ясно показывает, что Дмитрий не пал духом. Он рассудил как истый внук Калиты: не удалось против Тохтамыша, удастся против Олега. Оставаться Дмитрию в Москве или, вернее, возвращаться туда, было бы глупо. Он о земле своей радел, а не о том, чтобы прослыть отважным храбрецом. И что за Фермопилы Москва? Г. Костомарову хотелось бы, чтобы Дмитрий на Леонида походил, — но во всякой земле, в свое время, свои типы; где нужны Леониды, а где Дмитрии. Заметим еще, что догадка Савельева-Ростиславича, что князь Остей был послан в Москву Дмитрием, кажется нам вероятною. Наконец, если бы Дмитрий и остался в Москве, — то что ручается, что она не была бы взята точно так же, тем же обманом?
VII
Покончим счеты. О личности Олега Ивановича и плохой услуге, которую ему г. Костомаров оказал, сказав, что «даже с желанием освободить отечество и всю Русь от татарского ига, Олегу был расчет пристать к Мамаю», — мы считаем излишним распространяться. Мы отсылаем г. Костомарова к прекрасному исследованию г. Илловайского «История Рязанского княжества». Там личность великого князя Олега Ивановича, хотевшего добра своей земле, объяснена прекрасно, так же как и мнимая его измена перед Куликовской битвой. Перечтя это сочинение, г. Костомаров, вероятно, перестанет верить многим известиям, напр., что Олег после Куликовской битвы бежал в Литву. Г. Костомаров не понимает значения Москвы в истории земли Русской, — и оттого его увлечения и ошибки. Нам кажется, что его исследования «удельновечевого уклада» были бы гораздо удачнее. Нам истинно прискорбно читать и разбирать статьи вроде «Куликовской битвы». Неужели г. Костомаров, подобно многим нашим профессорам, достигнув известности, позволяет себе писать наобум?
Такая вот статья.
Но заметьте, какие обвинения против Костомарова выдвигает его оппонент: г-н Костомаров не понимает значения Москвы в истории земли Русской. И тут не столь важно, на какой вопрос обращал свой острый ум Костомаров, он всегда говорил вещи крайне нелицеприятные. Он посмел назвать Дмитрия трусом и скрягой, имел несчастье предположить, что в той ситуации, когда Олег Рязанский ожидал похода на его земли московского войска, тому имело смысл заключить соглашение с Мамаем (что в среде патриотов могло расцениваться только как измена, — но чему измена, вот ведь вопрос, — Москве!!!), он посмел назвать полемику со стороны Погодина полицейской, то есть верноподданнической (что для историка было синонимами) и объявил, что историк не должен обвиняться в неблагонадежности, когда говорит о событиях далекого прошлого. Но такова русская история, что тот, кто ее трактует, тут же оказывается либо на стороне власти, либо в оппозиции. Бедняга Костомаров желал этого избежать… и попал под статью Аверкиева, явно написанную по тогдашнему госзаказу. Впрочем, он всегда, с самой юности, попадал в «неблагонадежные». И хотя был прекрасным лектором, преподавать ему давали крайне редко и крайне недолго. Все что он мог — это писать статьи и книги. Он трудился по многу часов сутки, к концу жизни почти совсем ослеп, разбирая старинные документы, но стоило выйти новому его исследованию — и возникал скандал. Не умел Костомаров писать так, чтобы власть его историей осталась бы довольна. И все темы-то какие выбирал! Самые болезненные, которыми гордость московитов была тут же уязвлена. Где он нашел свободу и равноправие (пусть относительные)? В Новгороде, Пскове и Вятке, а совсем не в Москве. В казацком Запорожье, но не в Москве. В Литве даже, но не в Москве. Даже первых известных летописных князей он не желал связывать с будущими московскими властителями — вывел весь род Рюрика из Литвы, а не из варягов, то есть даже этим ущемил Москву, которая на протяжении нескольких веков Литву поминала примерно как черта. Там, где Карамзин патетически восклицал «аллилуйю», Костомаров с таким же пылом провозглашал «анафему». Он не был ни западником, ни славянофилом — в том, конечно, варианте, как развивалось это чисто московское течение. Скажем, он был «филом», но не Московской, а Днепровской Руси и двух феодальных республик, то есть демократом. А настоящему демократу очень плохо живется при любой тоталитарной власти.
Думаете, сегодня что-то кардинально переменилось? Да не смешите меня, как говорят в Одессе. Ничего не изменилось. За Куликовскую битву точно так же сражаются патриоты, для которых Дмитрий — самый умный, самый верный, самый освободительный князь, и не-патриоты, которые упоминают в пику первым все то же дерево, под которое заполз князь в ходе битвы, дабы ее избежать и уцелеть, и те же доспехи, которыми он поменялся с верным военачальником, и даже дальше идут, высчитывая реальное число участников искомого сражения, в пух и прах разбивая «точные» показания летописей, поскольку на означенном поле две вражеских армии упомянутого масштаба могли разместиться только так примерно, как селедки в бочке, — то есть стоя впритык друг к другу, не имея возможности даже поднять руки.
За что ругали Костомарова? За то, что он пытался рассматривать летописные тексты как судебный поединок, находя в них неправду. Ибо эта неправда и стала правдой для официальных историков, поскольку говорила не о трусости или лживости, не о предательстве или мошенничестве, а о славе русского оружия, славе и отваге князей, едином народном порыве костьми лечь за отчизну… Господи, то есть о том, что большей частью выдумано, потому что этого не было или было не так — не столь пафосно, а горько, больно и очень обидно. Он считал, что на протяжении всей истории России происходила жестокая борьба между удельно-вечевым, то есть демократическим устройством общества, и единодержавием, и Россия прошла путь от федерации к единому полицейскому по сути государству. Это государство он ненавидел, поскольку нормально жить и дышать в нем невозможно. Вот по всему этому Николай Иванович всегда и пребывал в опале. В ней он остается и сегодня. Ровно по тем же причинам. Причем опала на Костомарова была двухсторонняя — как из реакционного, так и из революционного лагеря. Первым, ясно, не нравились каверзные вопросы ученого и его нелицеприятные идеи. Вторым — тем не нравилось, что историк не идет далее истории, то есть в революцию. На этом предмете и поругались, собственно говоря, прежде дружившие Николай Костомаров и Николай Чернышевский. Чернышевский требовал, чтобы историк ясно обозначил свою позицию, а тот… тот не мог. Он только упорно повторял, что преобразование человеческих мозгов и мироустройства, которое эти мозги создают, может занять не пять — десять, а пятьдесят — двести лет, то есть он не верил, что единым махом Россию можно сделать идеальным демократическим государством. Более того, студенты считали Костомарова либералом и атеистом, однако сам Костомаров совершенно искренне считал, что он не либерал и тем более не атеист. Студенты были крайне разочарованы, что ученый, оказывается, посещает церковь. Но и в другом лагере Костомаров был чужим: его первая же диссертация (о чем речь ниже) по поводу церковной унии вызвала такое неприятие, что работу потребовали забрать и все ее экземпляры предать огню. Более ортодоксальные его современники упорно не слушали костомаровское «никакой я не либерал» и обвиняли его в неблагонадежных взглядах. Быть опальным сразу во всех лагерях — это нужно постараться.
Как же так вообще могло получиться? И тут нам лучше обратиться к первоисточнику, то есть к автобиографии ученого, которую он написал на склоне лет. Но, читая этот первоисточник, нужно сразу понять одну вещь: автобиография писалась не для потомков, а для современников, Костомаров в ней защищает и объясняет свои взгляды — но это его личное мнение. Мы с вами можем по прочтении текста прийти и к другим выводам. Для пользы дела я решила сжать эту автобиографию, но не выпустить важные для понимания взглядов историка факты и мысли.
Итак, автобиография Николая Ивановича Костомарова
Начинает рассказ о себе историк Костомаров издалека — с истории появления рода Костомаровых, к которому он принадлежал по отцу. Впрочем, дворянином ученый был всего лишь наполовину: его отец женился на крестьянке, более того: «он ни во что не ставил дворянское достоинство и терпеть не мог тех, в которых замечал хотя тень щегольства своим происхождением и званием», почему, собственно, и приглядел себе крестьянскую девочку, «отправил ее в Москву для воспитания в частное заведение, с тем чтобы впоследствии она стала его женою», но девочка получить образование не успела: началась война с Наполеоном, и отец Костомарова поспешил забрать невесту из разоренной Москвы. Отец женился на своей воспитаннице, но, тем не менее, брак был зарегистрирован только после рождения сына Николая. По тогдашним законам историк Костомаров был незаконнорожденным, бастардом. До самой своей смерти отец так и не озадачился узаконить этого ребенка. По словам ученого, отец принадлежал к типу старинных вольнодумцев, отличался крайним неверием, почитывал энциклопедистов XVIII века, хотя с молодости и служил в армии и даже участвовал в войске Суворова при взятии Измаила. Николай родился 4 мая 1817 года и до десяти лет жил в имении отца Юрасовке, получая несистематическое воспитание, а потом его отвезли в Москву в пансион, «который в то время содержал лектор французского языка при университете, Ге». Только там мальчик стал осваиваться, он тяжело заболел, отец явился в Москву и забрал его на год. Это был последний его год с отцом. В тот год лакеи отца сговорились его ограбить и убили.
«Вот уже 47 лет прошло с тех пор, — говорил Костомаров, — но и в настоящее время сердце обливается кровью, когда я вспомню эту картину, дополненную образом отчаяния матери при таком зрелище. Приехала земская полиция, произвела расследование и составила акт, в котором значилось, что отец мой несомненно убит лошадьми. Отыскали даже на лице отца следы шипов от лошадиных подков. О пропаже денег следствия почему-то не произвели». Все списали на несчастный случай. Матери пришлось оставить барский дом, а будущего историка отдали «учиться в воронежский пансион, содержимый тамошними учителями гимназии Федоровым и Поповым, — рассказывал ученый. — Пансион, в котором на этот раз мне пришлось воспитываться, был одним из таких заведений, где более всего хлопочут показать на вид что-то необыкновенное, превосходное, а в сущности мало дают надлежащего воспитания.
…Я пробыл в этом пансионе два с половиною года и, к счастию для себя, был из него изгнан за знакомство с винным погребом, куда вместе с другими товарищами я пробирался иногда по ночам за вином и ягодными водицами. Меня высекли и отвезли в деревню к матери, а матушка еще раз высекла и долго сердилась на меня. По просьбе моей в 1831 году матушка определила меня в воронежскую гимназию. Меня приняли в третий класс, равнявшийся по тогдашнему устройству нынешнему шестому, потому что тогда в гимназии было всего четыре класса, а в первый класс гимназии поступали после трех классов уездного училища.
…Число учеников гимназии в то время было невелико и едва ли простиралось до двухсот человек во всех классах. По господствовавшим тогда понятиям родители зажиточные и гордившиеся своим происхождением или важным чином считали как бы унизительным отдавать сыновей своих в гимназию: поэтому заведение наполнялось детьми мелких чиновников, небогатых купцов, мещан и разночинцев.
…Об охоте к наукам можно судить уже из того, что из окончивших курс в 1833 году один я поступил в университет в том же году, а три моих товарища поступили в число студентов тогда, когда я был уже на втором курсе…» В тот достопамятный 1833 год наконец-то открылась правда о смерти отца Костомарова: «Началось следствие, потом суд…Убийцы сосланы в Сибирь. Члены земской полиции были также привлечены к ответственности и приняли достойное наказание, но виновнейший из них, заседатель, во избежание грозящей судьбы отравился».
Из гимназии ученый был выпущен в возрасте шестнадцати лет и мечтал поступить в университет, однако оказалось, что подготовки ему не хватает, пришлось доучивать те предметы, в которых он считал себя слабым. Во второй половине августа 1833 года он отправился держать впускной экзамен и был принят в студенты. Началось время упорного овладевания знаниями.
Больше всего его манило языкознание: «В первый год моего пребывания в университете я усиленно занялся изучением языков, особенно латинского, который я очень полюбил, и вообще меня стал сильно привлекать антический мир… Я с жаром увлекся французским языком, а с зимы начал заниматься и итальянским». В то же время все больше и больше его привлекала к себе история: «Мне хотелось знать судьбу всех народов; не менее интересовала меня и литература с исторической точки ее значения… Я постоянно сидел за книгами, не имел в городе почти никаких знакомых и самих товарищей принимал редко. Такой образ жизни вел я до самых Рождественских святок, когда отправился в деревню к матери». Эти вакации едва не стали для студента Костомарова последними: приехав домой, он заболел оспой и пролежал более месяца, а потом выздоравливал до конца марта. «Болезнь моя была так сильна, — вспоминал он, — что несколько дней боялись смерти или, что еще хуже, слепоты. Глаза мои, и без того уже требовавшие очков для близоруких, с этих пор еще более ослабели». Эта слабость глаз мучила и пугала ученого на протяжении всей дальнейшей его жизни. Однако тогда, в юности, он поспешил назад, в университет, «с красными пятнами на лице и со слабыми мускулами; меня останавливали, но мне ни за что не хотелось пропустить экзамена и оставаться в университете лишнии год». Когда он приехал, оказалось, что его имя из списков было уже вымарано как умершего, но, тем не менее, Костомаров стал готовиться к экзамену и благополучно его прошел. Он ожидал, что получит звание кандидата, однако оказалось вдруг, что по Закону Божьему он имеет не пятерку, а четверку, а тем, у кого была хоть одна четверка, кандидатскую степень не давали. Ему пришлось снова проходить экзаменацию (отдельно сдать только богословие не разрешалось), он экзаменацию прошел. Далее следовало выбрать будущее поприще. Сдуру Костомаров записался в Кинбурнский драгунский полк юнкером. Ничего глупее, конечно, юный Костомаров придумать не мог, но судьба все решила за него: в городе Острогожске, где стоял полк, нашелся богатый казачий архив, так что вместо занятий на плацу будущий историк пропадал в архиве, за что и был отчислен из юнкеров.
«Это был мой первый опыт в занятиях русскою историею по источникам и первою школою для чтения старых бумаг, — вспоминал он. — Поработав целое лето над казачьими бумагами, я составил по ним историческое описание Острогожского слободского полка, приложил к нему в списках много важнейших документов, и приготовил к печати; но потом задумал таким же образом перебрать архивы других слободских полков и составить историю всей Слободской Украины. Намерение это не приведено было к концу: мой начатый труд со всеми документами, приложенными в списках к моему обзору, попался в Киеве между прочими бумагами при моей арестации в 1847 году и мне возвращен не был». Впрочем, до «арестации» было еще десять лет.
Эти годы Костомаров употребил на дополнительные знания: «я принялся прилежно слушать лекции Лунина, иногда же я посещал лекции Балицкого. История сделалась для меня любимым до страсти предметом; я читал много всякого рода исторических книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец, труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе проявлений его радостей и печалей? Скоро я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе. Не может быть, чтобы века прошедшей жизни не отпечатались в жизни и воспоминаниях потомков: нужно только приняться поискать — и, верно, найдется многое, что до сих пор упущено наукою. Но с чего начать? Конечно, с изучения своего русского народа; а так как я жил тогда в Малороссии, то и начать с его малорусской ветви. Эта мысль обратила меня к чтению народных памятников. Первый раз в жизни добыл я малорусские песни издания Максимовича 1827 года, великорусские песни Сахарова и принялся читать их. Меня поразила и увлекла неподдельная прелесть малорусской народной поэзии; я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая глубина и свежесть чувства были в произведениях народа, столько близкого ко мне и о котором я, как увидел, ничего не знал. Малорусские песни до того охватили все мое чувство и воображение, что в какой-нибудь месяц я уже знал наизусть сборник Максимовича, потом принялся за другой сборник его же, познакомился с историческими думами и еще более пристрастился к поэзии этого народа.
…Мое знание малорусского языка было до того слабо, что я не мог понять „Солдатского портрета“ и очень досадовал, что не было словаря; за неимением последнего служил мне мой слуга, уроженец нашей слободы по имени Фома Голубченко, молодой парень лет шестнадцати… В короткое время я перечитал все, что только было печатного по-малорусски, но этого мне казалось мало; я хотел поближе познакомиться с самим народом не из книг, но из живой речи, из живого обращения с ним. С этой целью я начал делать этнографические экскурсии из Харькова по соседним селам, по шинкам, которые в то время были настоящими народными клубами. Я слушал речь и разговоры, записывал слова и выражения, вмешивался в беседы, расспрашивал о народном житье-бытье, записывал сообщаемые мне известия и заставлял себе петь песни.
…О прошедшей истории Малороссии я имел сведения преимущественно по Бантышу-Каменскому. Несмотря на малое знакомство мое с малорусскою речью и народностию я задумал писать по-малорусски и начал составлять стихи, которые впоследствии явились в печати под названием „Украинских баллад".
В феврале 1838 года я принялся писать драматическое произведение и в течение трех недель сотворил „Савву Чалого Вслед за тем, не печатая своих малорусских произведений, раннею весною 1838 года я отправился в Москву вместе с Метлинским, получившим какую-то командировку по должности библиотекаря, которую он занимал в Харьковском университете. Пребывание мое в Москве продолжалось несколько месяцев. Я слушал университетские лекции тамошних профессоров и имел намерение держать экзамен на степень магистра русской словесности; но, отложивши этот план на будущее время, в начале лета отправился вместе с Метлинским в Воронежскую губернию… и с жаром принялся учиться немецкому языку, в котором чувствовал себя малознающим…Между тем наступала осень; я снова отправился в Харьков и принялся печатать своего „Савву Чалого". Печатание протянулось почти всю зиму, а я в это время учился по-польски у одного студента и по-чешски — самоучкой, причем тогда же перевел малорусскими стихами старочешские стихотворения, известные тогда под именем Краледворской рукописи. За „Саввой Чалым" я отдал в печать и свои стихотворения, давши им общее название украинских баллад, название, не вполне подходившее к содержанию всех помещенных там стихотворений. Обе книги после всех цензурных мытарств явились в свет весною 1839 года. Любовь к малорусскому слову более и более увлекала меня; мне было досадно, что такой прекрасный язык остается без всякой литературной обработки и сверх того подвергается совершенно незаслуженному презрению. Я повсюду слышал грубые выходки и насмешки над хохлами не только от великорусов, но даже и от малорусов высшего класса, считавших дозволительным глумиться над мужиком и его способом выражения. Такое отношение к народу и его речи мне казалось унижением человеческого достоинства и, чем чаще встречал я подобные выходки, тем сильнее пристращался к малорусской народности». Вот так, разрываясь между изучением литературы и истории Малороссии и подготовкой к экзамену на степень магистра, он провел 1840 год. За это время он успел напечатать стихотворный сборник «Ветка» и представить в университет диссертацию. Тему он выбрал сам: значение унии в истории Западной Руси. Закончив диссертацию, он отдал ее на факультет. Тут-то и разгорелись страсти.
«По приезде в Харьков я узнал, что моя диссертация утверждена факультетом, но не всеми его членами. Ее не нашли достойною Артемовский-Гулак и профессор Протопопов. Первый из них находил, что само заглавие ее по близости к современным событиям не должно служить предметом для ученой диссертации; но так как большинство членов утвердило ее, то она была признана и я начал ее печатать. В это время я сблизился с целым кружком молодых людей, так же, как и я, преданных идее возрождения малорусского языка и литературы; (один из них — автор) Корсун затеял издание малорусского сборника (,Снип“) и наполнил его стихами, как собственными, так и своих сотрудников…
Я поместил гам перевод нескольких „Еврейских мелодий“ Байрона и трагедию „Переяславська нич“, написанную пятистопным ямбом без рифм, не разбивая на действия, со введением хора, что придавало ей вид подражания древней греческой трагедии. Вслед за тем явился другой деятель по части возрождающейся малорусской словесности: то был некто Бецкий, приехавший в Харьков из Москвы. Он начал готовить сборник, который предполагал наполнить статьями, писанными по-малорусски или относящимися к Малороссии. Познакомившись со мною, он заявил доброе желание собрать воедино рассеянные силы духовных деятелей и направить их к тому, что имело бы местный этнографический и исторический интерес. Я обрадовался такому появлению, видя в этом зарю того литературного возрождения, которое давно уже стало моею любимою мечтою…
В 1842 году, в то время как я готовил кое-что для Бецкого в предполагаемый сборник, печаталась моя диссертация, и на шестой неделе поста назначено было ее защищение. В это же время перевели куда-то харьковского архиепископа Смарагда, и вместо него прибыл в Харьков архиереем знаменитый духовный оратор Иннокентий Борисов. Ко мне приезжает декан историко-филологического факультета Валицкий и сообщает, что Иннокентий, узнавши о моей диссертации, выразил какое-то неудовольствие и неодобрение; затем Валицкий советует мне ехать вместе с ним к архиерею, поднести ему экземпляр моей диссертации и в разговоре проведать, в чем состоит его недовольство. Мы поехали. Иннокентий сказал, что уже читал ее и заметил несколько мест, о которых может сказать, что лучше было бы, если бы их не было…
Я начал доказывать историческую справедливость моих мнений, а Валицкий спросил Иннокентия, как понимать его возражения — в цензурном или же только в ученом смысле. Иннокентий сказал, что единственно в ученом, а никак не в цензурном. Тогда, отвечал Валицкий, дефенденту предоставляется защищать свои положения на кафедре во время защиты. Тем и кончилось первое свидание…Между тем наступал день защищения моей диссертации. Накануне этого дня является прибитое к стенам университета объявление, в котором говорится, что по непредвиденным обстоятельствам защищение диссертации Костомарова отлагается на неопределенное время.
…Прошло между тем более месяца; меня известили, что министр народного просвещения, которым был тогда граф Сергей Семенович Уваров, прислал написанный профессором Устряловым разбор моей диссертации и вместе с тем предписал уничтожить все экземпляры, которые были напечатаны, а мне дозволить писать иную диссертацию. Так как, кроме профессоров и коротких знакомых, я не успел ее пустить в публичную продажу, то мне поручили самому объездить всех тех, у кого находилась или могла найтись моя диссертация, отобрать все экземпляры и представить в совет университета для сожжения…» Правда, все экземпляры собрать так и не удалось: из 100 штук возвращено для сожжения было лишь 20 экземпляров. Тему, однако, пришлось срочно менять. Костомаров выбрал наиболее близкую по тогдашнему образу мысли: «Об историческом значении русской народной поэзии». «Я подал свою тему в факультет и тотчас встретил неодобрительные отношения к ней некоторых лиц, — писал он. — Профессор философии Протопопов первый не одобрил ее и находил, что такой предмет, как мужицкие песни, унизителен для сочинения, имеющего целью приобретение ученой степени; но всего страннее покажется, что против этой темы был и Артемовский-Гулак, несмотря на то что по правде считался лучшим знатоком малорусской народности, как это и доказывали его собственные малорусские сочинения…Протест Артемовского-Гулака был, однако, не настойчив, и, когда я подал свою диссертацию уже написанную, он был в числе утвердивших ее. Профессор Протопопов, напротив, продолжал оставаться при прежнем взгляде и выразился, что считает даже неприличным ходить на защищение такой диссертации.
Весною 1843 года моя диссертация была готова и подана на факультет… Пущенная в публику, моя диссертация получила сочувственный отзыв только в одном „Москвитянине", в статье, написанной Срезневским; в других журналах — „Библиотеке для чтения" и „Отечественных записках" — ее приняли не так ласково. В „Библиотеке для чтения", которою заправлял тогда Сенковский, мои мнения о важности народной поэзии для историка подали только возможность поглумиться и позабавиться над моею книгою; в „Отечественных записках" перо знаменитого тогда Белинского выразилось, что народная поэзия есть такой предмет, которым может заниматься только тот, кто не в состоянии или не хочет заняться чем-нибудь дельнее…» В эти же годы Бецкий выпустил в свет одну за другою три книжки костомаровского «Молодика», третья была посвящена русским статьям, относящимся к истории и этнографии Малороссии; а также статьи о восстании Наливайка и биографический очерк фамилии князей Острожских. В то же время историк преподавал в мужском пансионе Зимницкого и собирал материалы для большой работы об эпохе Богдана Хмельницкого. Диссертация, хоть и не понравившаяся по теме многим на кафедре, была все же защищена 13 января 1844 года. Костомаров получил степень магистра исторических наук.
Прошел год, за это время историк сошелся с кружком молодых людей, сыгравших в его судьбе особую роль. «Наши дружеские беседы, — писал он в автобиографии, — обращались более всего к идее славянской взаимности. Надобно сказать, что то было время, когда сознание этой идеи было еще в младенчестве, но зато отпечатлевалось такою свежестью, какую она уже потеряла в близкое к нам время. Чем тусклее она представлялась в головах, чем менее было обдуманных образов для этой взаимности, тем более было в ней таинственности, привлекательности, тем с большею смелостью создавались предположения и планы, тем более казалось возможным все то, что при большей обдуманности представляло тысячи препятствий к осуществлению. Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась уже сферою науки и поэзии, но стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была воплотиться для будущей истории.
Мимо нашей воли стал нам представляться федеративный строй как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций. Мы стали воображать все славянские народы соединенными между собою в федерации подобно древним греческим республикам или Соединенным Штатам Америки, с тем чтобы все находились в прочной связи между собою, но каждая сохраняла свято свою отдельную автономию. Федерация только по одним народностям не оказалась для нас вполне удобною по многим причинам, а в особенности по количественному неравенству масс, принадлежавших к народностям. Какое, в самом деле, союзничество на основаниях взаимного равенства могло существовать между ничтожными по количеству лужичанами и огромною массою русского народа с неизмеримыми пространствами его отечества? Мы пришли к результату, что с сохранением права народностей необходимо другое деление частей будущего славянского государства для его федеративного строя. Таким образом, составилась мысль об административном разделении земель, населяемых славянским племенем, независимо от того, к какой из народностей принадлежит это племя в той или другой полосе обитаемого им пространства. Мы не могли уяснить себе в подробности образа, в каком должно было явиться наше воображаемое федеративное государство; создать этот образ мы предоставляли будущей истории. Во всех частях федерации предполагались одинакие основные законы и права, равенство веса, мер и монеты, отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее уничтожение крепостного права и рабства в каком бы то ни было виде, единая центральная власть, заведующая сношениями вне союза, войском и флотом, но полная автономия каждой части по отношению к внутренним учреждениям, внутреннему управлению, судопроизводству и народному образованию. Ближайшим и вернейшим путем к достижению этой цели в далеком будущем предполагалось воспитание общества в духе таких идей, а потому считалось необходимым, чтобы в университетах и прочих учебных заведениях были люди искренно преданные этим идеям и способные внедрять их в юные поколения. С этою целью явилась мысль образовать общество, которого задача была бы распространение идей славянской взаимности — как путями воспитания, так и путями литературными. В виде предположения мною начертан был устав такого общества, которого главными условиями были: полнейшая свобода вероисповедания и национальностей и отвержение иезуитского правила об освящении средств целями, а потому заранее заявлялось, что такое общество ни в коем случае не должно покушаться на что-нибудь имеющее хотя тень возмущения против существующего общественного порядка и установленных предержащих властей. Изучение славянских языков и литератур ставилось главнейшим делом в образовании.
Товарищи мои искренно приняли эти идеи; самому обществу предположено было дать название общества св. Кирилла и Мефодия, славянских апостолов. Мысль об основании общества вскоре была забыта, после того как я, оправившись от недуга, стал ездить в гимназию на должность и с приездом ко мне матушки на постоянное жительство нанял другую квартиру; но мысль о славянской взаимности и славянской федерации глубоко оставалась у всех нас как заветная в жизни». Жизнь шла своим чередом. Костомарову предложили занять вакантную должность преподавателя русской истории в университете св. Владимира, для этого требовалось прочитать пробную лекцию. Тема была избрана самим университетом: с какого времени следует начинать русскую историю.
«Я прочитал, — рассказывает Костомаров. — Содержание моей лекции основывалось на том, что история русская есть история славянского племени, живущего в России, и потому начинать ее надобно с тех времен, в которые являются признаки поселения славян на русском материке. Задача моя повлекла меня в эпоху владычества готов и гуннов. Я изложил со своей точки зрения теорию происхождения гуннов от смеси разных племен, обитавших в России, и в том числе славян, порабощенных готами и бежавших в заволжские степи вместе с беглецами из других племен. Так как я недавно перед тем читал Аммиана Марцеллина, Иорнанда, Лиутпранда, Ириска и других писателей древнего времени, оставивших повествование о гуннах, то лекция моя вышла настолько богата сведениями, сколько и примерами свидетельств, приводимых мною в подлинниках: она произвела самое хорошее впечатление. По удалении моем из зала совета произведена была баллотировка, а через час ректор университета, профессор астрономии Федоров прислал мне записку, в которой известил, что я принят единогласно и не оказалось ни одного голоса, противного моему избранию. То был один из самых светлых и памятных дней моей жизни. Университетская кафедра давно уже для меня была желанною целью, которой достижения, однако, я не надеялся так скоро.
Так началась моя кратковременная профессорская карьера. С тех пор я начал жить в совершенном уединении, погрузившись в занятия историею; время мое поглощалось писанием лекций по русской истории, которых надобно было каждую неделю приготовить четыре. Кроме того, я иногда принимался за Богдана Хмельницкого, дополняя написанное мною некоторыми источниками, отысканными в университетской библиотеке. Потом я принялся писать „Славянскую мифологию", что, впрочем, было частию читаемых мною лекций».
А потом случилось непоправимое. На Рождественские святки в Киев приехал старый друг историка Савич, который собирался за границу. И ученый пригласил его к своим новым друзьям.
«Разговоры коснулись славянской идеи; естественно выплыла на сцену заветная наша мысль о будущей федерации славянского племени. Мы разговаривали не стесняясь и не подозревая, чтобы наши речи кто-нибудь слушал за стеной с целью перетолковать их в дурную сторону, а между тем так было. У того же священника квартировал студент по фамилии Петров; он слушал нашу беседу и на другой же день, сошедшись с Гулаком, начал ему изъявлять горячие желания славянской федерации и притворился великим поборником славянской взаимности. Гулак имел неосторожность со своей стороны открыть ему задушевные свои мысли и рассказал о бывшем нашем предположении основать общество. Этого только и нужно было. Около этого же времени я написал небольшое сочинение о славянской федерации, старался усвоить по слогу библейский тон. Сочинение это я прочитал Гулаку; оно ему очень понравилось, и он списал его себе, а потом, как я узнал впоследствии, показал студенту Петрову. Белозерского уже не было в Киеве; он отправился в Полтаву учителем в кадетский корпус. У него был также список этого сочинения». Беды ничто не предвещало. В феврале историк обручился с Алиною Леонтьевною Крагельскою, уже был назначен и день свадьбы — после Пасхи в Фомино воскресенье, 30 марта 1847 года. В пасхальную пятницу Костомаров заехал в церковь, чтобы оплатить освещение церкви во время венчания, до памятного дня оставалась всего неделя…
А когда он вернулся домой и стал готовиться ко сну, но еще не успел раздеться, «вошел ко мне помощник попечителя учебного округа Юзефович, — вспоминает ученый, — и сказал: „На вас донос, я пришел вас спасти; если у вас есть что писаного, возбуждающего подозрение, давайте скорее сюда". За свои бумаги в кабинете мне нечего было бояться, но я вспомнил, что в кармане моего наружного пальто была черновая полуизорванная рукопись того сочинения о славянской федерации, которую еще на Святках я сообщил для переписки Гулаку. Я достал эту рукопись и искал огня, чтобы сжечь ее, как вдруг незаметно для меня она очутилась в руках моего мнимого спасителя, который сказал: „Soyez tranquille, ничего не бойтесь". Он вышел и вслед за тем вошел снова, а за ним нахлынули ко мне губернатор, попечитель, жандармский полковник и полицеймейстер. Они потребовали ключей, открыли мой письменный стол в кабинете, и попечитель, увидя в нем огромный ворох бумаг, воскликнул: „Mon Dieui il faut dix ans pour dechiffrer ces brouillons". Потом забрали мои бумаги и, завязавши их в потребованные простыни, опечатали кабинет, вышли из моей квартиры и велели мне ехать вместе с ними».
Так Костомаров оказался сначала в Подольской жандармской части, а потом его увезли в Петербург. Все из-за несчастного сочинения, в котором увидели крамолу. В дороге историк пал духом и решил, что лучше попросту уморить себя голодом, но сопровождавший его квартальный сумел убедить Николая Ивановича, что есть нужно, чтобы суметь себя оправдать. В Гатчине впервые за всю долгую дорогу он немного поел…
«Меня привезли прямо в III отделение канцелярии его величества, — повествует историк о дальнейшем испытании, — ввели в здание и длинными коридорами провели в комнату, где кроме кровати с постелью стояла кушетка, обитая красною шерстяною материею, а между двумя окнами помещался довольно длинный письменный стол. Первым делом было раздеть меня донага; мое платье унесли, а меня одели в белый стеганый пикейный халат и оставили под замком. В верхней части двери были стекла, за которыми виднелись стоявшие на часах жандармы с ружьями. Не прошло и часа, как вахмистр принес мое платье, велел одеваться и объявил, что меня требует к себе граф Алексей Федорович Орлов, бывший тогда шефом жандармов… С этого дня начались допросы. От меня добивались: знаю ли я о существовавшем обществе Кирилла и Мефодия. Я отвечал, что не считаю его существовавшим когда-либо иначе как только в предположении, которое могло сбыться и не сбыться; я давал ответы, что такого общества не знаю и что только говорено было о пользе учреждения учено-литературного общества, а само общество не сформировалось; но оказывалось, что от нас хотели непременно признания в том, что общество было, и потому, видимо, были недовольны моими ответами…
В начале мая делопроизводитель в канцелярии с разрешения Дубельта принес ко мне показание Белозерского и объяснил, что такого рода показание понравилось моим судьям, а потому и мне следует написать в таком духе. Собственно, Белозерский говорил сущность того же, что и я, но выразился, что общество было, однако не успело распространиться. Видя, чего хотят от нас, и сообразив, что плетью обуха не перешибешь, я написал в новом своем показании, что хотя мне казалось, что нельзя назвать обществом беседу трех человек, но если нужно назвать его таким образом ради того, что оно было как бы в зародыше, то я назову его таким образом. Я изменил свое прежнее показание, тем более что оно было написано под влиянием сильного нравственного потрясения и, как находили мои судьи, заключало в себе невольное противоречие… Мая 15-го созвали нас на очные ставки. Здесь увидел я студента Петрова, который наговорил на меня, между прочим, что я в своих лекциях с особенным жаром и увлечением рассказывал будто бы такие события, как убийства государей… Здесь я встретил другого студента, Андрузского, уже не в звании обвинителя, но в качестве соучастника, по неизвестной мне причине привлеченного к следствию… Третья очная ставка была иного рода — между мной и Гулаком. Я писал, что дело наше ограничивалось только рассуждениями об обществе, и найденные у нас проект устава и сочинение о славянской федерации признал своими. Вдруг оказалось, что в своих показаниях Гулак сознавался, что и то и другое было сочинено им. Видно было, что Гулак, жалея обо мне и других, хотел принять на себя одного все то, что могло быть признано преступным. Я остался при прежнем показании, утверждая, что рукопись дана была Гулаку мною, а не мне Гулаком. Гулак на очной ставке упорствовал на своем… его попытка выгородить товарищей принята была за обстоятельство, увеличивавшее его преступление, и он был приговорен к тяжелому заключению в Шлиссельбургской крепости на три с половиною года…С прочими лицами очной ставки для меня не было. Из всех привлеченных к этому делу и в этот день сведенных вместе в комнате перед дверью, той, куда нас вызывали для очных ставок, Шевченко отличался беззаботною веселостью и шутливостью…
30 мая утром, глядя из окна, я увидал, как выводили Шевченко, сильно обросшего бородой, и сажали в наемную карету вместе с вооруженными жандармами. Увидя меня в окне, он приветливо и с улыбкой поклонился мне, на что я также отвечал знаком приветствия, а вслед за тем ко мне вошел вахмистр и потребовал к генералу Дубельту. Пришедши в канцелярию, я был встречен от Дубельта следующими словами: „Я должен объявить вам не совсем приятное для вас решение государя императора; но надеюсь, что вы постараетесь загладить прошлое вашею будущею службою". Затем он развернул тетрадь и прочитал мне приговор, в котором было сказано, что „адъюнкт-профессор Костомаров имел намерение вместе с другими лицами составить украино-славянское общество, в коем рассуждаемо было бы о соединении славян в одно государство, и сверх того дал ход преступной рукописи «Закон Божий», а потому лишить его занимаемой им кафедры, заключить в крепость на один год, а по прошествии этого времени послать на службу в одну из отдаленных губерний, но никак не по ученой части, с учреждением над ним особого строжайшего надзора“. Сбоку карандашом рукою императора Николая было написано: „В Вятскую губернию"… По прочтении этого приговора меня вывели, посадили в наемную карету и повезли через Троицкий мост в Петропавловскую крепость… 14 июня меня снова позвали к коменданту; я увидел опять свою матушку и вместе с нею мою бывшую невесту, приехавшую в Петербург со своею матерью. Мне дозволили проститься с нею…
С тех пор потекли дни за днями, недели на неделями, месяцы за месяцами…До февраля 1848 года я был здоров и занимался греческим языком, в котором чувствовал себя и прежде слабым: мне хотелось пополнить этот недостаток в моем образовании. После усилий, продолжавшихся несколько месяцев, я наконец дошел до того, что читал свободно Гомера, хотя по временам заглядывал в подстрочный латинский перевод в издании Дидо. В то же время в виде отдыха от головоломки над греческим языком я занимался испанским языком и при сравнительной его легкости успел прочитать несколько пьес Гчальдерона и почти всего „Дон Кихота". В феврале меня одолела невыносимая головная боль и нервные припадки, сопровождаемые галлюцинациями слуха. К этому, как кажется, расположило меня то, что, бывши перед тем в бане, я по совету смотрителя дозволил окатить себе голову ледяной водой и в то же самое время — парить свое тело вениками. Доктор, призванный ко мне, сказал, что по моем освобождении мне будет полезно гидропатическое лечение холодной водой, а я, не желая откладывать надолго такого рода пользование, стал лечиться водою в крепости. Каждый день меня выпускали в сад на полчаса, а потом и на долее; я раздевался, становился под желоб и пускал себе водяную струю на спину. Смотритель, большой поклонник гидропатии, не только не препятствовал мне делать эти эксперименты, но еще одобрял их, — и в самом деле, в марте здоровье мое стало поправляться. Этому пособило еще и то, что по совету доктора я перестал заниматься греческим языком как занятием чересчур тяжелым для заключенного, и стал читать французские романы. Я прочел тогда все сочинения Жорж Санд. Весною, с появлением зелени мне еще стало лучше и я с нетерпением ожидал 30 мая, когда оканчивался срок моего заточения и меня, как я надеялся, должны были вывести из крепости…
Долгожданный день наступил.
…Однажды позвали меня в канцелярию и сказали, что император изволил приказать графу Орлову спросить меня, не хочу ли я куда-нибудь потеплее вместо Вятки и не нужно ли мне денег. (На выбор было предложено 4 города — Астрахань, Саратов, Оренбург или Пенза. — Авт.) Подумавши, я избрал Саратов, так как сообразил, что там пригоднее будет купаться. Мне дали триста рублей вспоможения… Прощаясь со мною, Дубельт сказал: „Для вас сделали все, что могли, но, конечно, вы не должны ожидать себе больших благ. Знаете, мой добрый друг, люди обыкновенные, дюжинные стараются о собственной пользе и потому добиваются видных мест, богатств, хорошего положения и комфорта; а те, которые преданы высоким идеям и думают двигать человечество, те, вы сами знаете, как сказано в Священном Писании: ходят в шкурах козьих и живут в вертепах и пропастях земных“».
Так историк оказался в Саратове. Это была ссылка. Ссыльных полагалось определить на службу. Костомаров занял должность переводчика при губернском правлении, но работы у него не было, вместо этого он стал заведовать сначала уголовным столом в губернаторской канцелярии, а потом секретным.
«В последнем, — рассказывает он, — производились дела преимущественно раскольничьи, что для меня было довольно любопытно. Тут я увидел строгие преследования и стеснения раскольников, бывшие в силе при архиерействе Иакова, недавно перед тем переведенного в Нижний. Занятие сектантскими делами влекло меня к ознакомлению с миром раскольничьим, но это было не так-то легко: с одной стороны, при крайней сосредоточенности, какою отличаются сектанты в сношениях с чиновниками; с другой — при моем положении ссылочного близкие сношения с раскольниками могли бы возбудить подозрение начальства. Я успел, однако, на первых порах познакомиться с одним раскольничьим семейством, имевшим под городом сад, куда я стал ездить для прогулки…
На следующий год я познакомился и сошелся с кружком сосланных поляков. Эти были люди развитые, и мне было приятно в их обществе, хотя их польский патриотизм не раз наталкивался на мои русские симпатии и подавал повод к горячим, хотя и приятельским, спорам». В Саратове возродилась и затея Костомарова собрать этнографический материал. Он пишет, что «перебрал все, что мог найти печатного из актов и документов, касающихся внутреннего русского быта прошедших времен, и делал выписки и заметки на особых билетах, составляя из них отделения, касающиеся разных отраслей исторической жизни». Однако даже увлечение местным народными песнями и сказаниями оказалось совсем небезопасным! Историк отдал для напечатания в «Саратовских губернских ведомостях» собранные песни, но не подписывал своего имени. И еще не было завершено печатание этих песен, «как вдруг из Петербурга получается бумага, где извещается, что высшая правительственная власть заметила, что в „Саратовских губернских ведомостях“ печатаются некстати народные песни непристойного содержания, причем против одной песни было замечено: „мерзость, гадость; если такие песни существуют, то дело губернского начальства искоренять их, а не распространять посредством печати…“
Вследствие этого повелено было цензора, пропустившего песни, отставить от должности с лишением пенсиона. Цензором был директор саратовской гимназии, который, однако, сумел отписаться и оправдаться. Я думал, что доберутся и до меня, но меня не спрашивали». Как бы то ни было, в отличившийся Саратов был назначен новый полицеймейстер, «отличившийся тем, что на первых же порах, желая угодить начальству, неблагосклонно взглянувшему на песни, ездил по городу с казаком и приказывал бить плетью людей, которых заставал с гармониками поющих песни». А в начале следующего года этот полицеймейстер решил ужесточить режим всех поднадзорных лиц. Однажды он затребовал к себе всех ссыльных и поднадзорных.
«Я был позван в числе прочих, — говорит историк, — и увидел кроме знакомых мне сосланных поляков несколько мужчин и женщин, содержавшихся под надзором не за политические дела, но за всякого рода преступления и проступки. Тут были, как я узнал, и содержательницы домов терпимости, и оставленные в подозрении по разным уголовным делам, между прочим, и по тому еврейскому делу, которое не так давно принесло мне столько неудовольствия. Полицеймейстер, вошедши с грозным начальническим видом, начал читать всем составленные им правила, заключавшие в себе разные наставления о добропорядочном поведении, например: не ходить по кабакам, по зазорным домам, не буянить, не пьянствовать до безобразия и т. п.; но вместе с тем навязывал на всех обязанность не выезжать за городскую черту, ни с кем не сноситься и не вести корреспонденции иначе как с его ведома и разрешения. Прочитавши такое нравоучение, он требовал, чтобы все давали подписку в соблюдении начертанных им правил. Призванные стали подписываться. К удивлению моему, я увидал, что поляки, содержавшиеся по политическим делам, также безропотно подписывались. Когда же очередь дошла до меня, я сказал, что давать такой подписки не стану, потому что хотя я и состою под надзором, но под особым, и по высочайшему повелению определен на службу, в которой я нахожусь».
Дело могло кончиться худо, но Костомаров потребовал, чтобы вопрос был разрешен у губернатора, который к нему благоволил, и вместо того, чтобы наказать историка за дерзкий ответ, губернатор дал ему звание делопроизводителя статистического комитета. Новая должность не мешала ему заниматься историческими изысканиями, он все так же работал с разного рода старинными актами и занялся даже разбором рукописей саратовского собора, некогда отобранных у раскольников. В числе этих рукописей, добавляет с гордостью, он «нашел превосходный и полный список „Стоглава“, самый старейший и самый правильный из всех, какие мне случалось видеть после того».
Скоро ссылка завершилась, и Костомаров вернулся в Петербург. Там он занимался работой над историей Хмельницкого и дополнял новыми выписками из книг и рукописей Публичной библиотеки материалы для «внутреннего быта Древней России» — одной из первых книг в стране, посвященных этой тематике. Режим у него был насыщенный: «С декабря 1855 года я начал ходить в императорскую Публичную библиотеку, занимался печатными источниками в отделении Rossica и рукописями славянскими и польскими. Не проходило дня, в который бы я не сидел в библиотеке, отправляясь туда к десяти часам утра и возвращаясь вечером, обыкновенно в девять часов, если не посвящал вечера на посещение театра. На обед тратил я не более получаса, отправляясь из библиотеки в один из ближайших ресторанов. Так прошло до четырех месяцев. Я почти ни у кого не бывал и погрузился всецело в мир минувшего. Таким образом в этот период моей жизни я успел перечитать множество томов и брошюр по истории Малороссии при Богдане Хмельницком, пересмотрел несколько книг, польских рукописей и перебрал путешественников, писавших о России, из которых сделал себе отметки, относившиеся к чертам нравов и быта, подмеченным путешественниками. В марте 1856 года я отнес экземпляр истории Богдана Хмельницкого к цензору Фрейгангу, как вдруг неожиданно для меня услыхал от него, что при покойном государе состоялось секретное запрещение допускать мои сочинения к напечатанию». Пришлось идти объясняться с Дубельтом, тот запрет снял, книга была напечатана, хотя и пострадала от цензора… Мой «Богдан Хмельницкий», однако, прошел и поступил в распоряжение Краевского, издателя «Отечественных записок». В то же время я поместил статью о «Горе-Злосчастии» в «Современнике»: этот памятник великорусской поэзии XVII века нашел буквально на его глазах в одном из погодинских сборников А. Н. Пыпин.
Костомаров вернулся в Саратов и стал приводить в порядок собранные в Публичной библиотеке выписки о внутренней истории Древней Руси, занимался описанием саратовского края, народными малоросскими песнями. Опубликовал он и свои собственные сочинения на этом языке под юношеским еще псевдонимом Иеремия Галка. После коронации нового императора был издан высочайший манифест, освободивший историка от надзора. И первое, что сделал Костомаров: отправился в заграничное путешествие, объездив практически все континентальные европейские страны. Вернувшись в Саратов, он снова окунулся в воды истории: писал очерк домашнего быта и нравов великорусского народа, затем — «Бунт Стеньки Разина», а в августе 1858 года к нему приехал губернский предводитель дворянства князь Владимир Алексеевич Щербатов и стал уговаривать «от имени саратовского дворянства взять временно место делопроизводителя в предполагавшемся тогда губернском комитете по улучшению быта крестьян». Комитет должен был выработать условия освобождения крестьян.
«Членов комитета — относительно их убеждений и способов заявления мнений о предлежавших вопросах — можно было разделить на три рода, — рассказывает историк. — Первые — строгие защитники дворянских интересов, имевшие в виду исключительно выгоду дворянства; вторые — умеренные либералы, которые хотя и стояли за дворянские выгоды, но показывали заботы и о том, чтобы и крестьянам было по возможности выгодно; третьи — составлявшие, как и везде, меньшинство, стояли за крестьян с готовностью принести жертвы и со стороны дворянства. Но справедливость требует заметить, что из последних были и такие, которые, прослышавши наперед о том, что правительство дает крестьянам свободу, поспешили предложить крестьянам свободу сами, постаравшись удержать за собою землю и освободивши крестьян на таких условиях, на каких сами крестьяне спустя несколько месяцев позже не согласились бы принять этой свободы. С другой стороны, можно было указать и на таких, которых во время комитетских заседаний, судя по их отзывам, надобно было поместить в число крайних крепостников, но которые впоследствии рассчитались со своими крестьянами самым гуманным образом и даже безденежно подарили им земельный надел. Видя это близко, я вполне убедился, что русский человек способен действовать по сердцу так человеколюбиво, как не способен по своим убеждениям. Вообще же саратовский комитет постановил отпустить безвозмездно всех дворовых людей и не удерживать крестьянского имущества в пользу дворянства».
Когда действие комитета подошло к концу, Костомарова пригласили занять кафедру русской истории в Петербургском университете. «Радость моя была чрезвычайная, — писал он, — готовясь вступить на кафедру, я продолжал сидеть по целым дням в Публичной библиотеке. Ноября 20-го назначена была мне вступительная лекция в университете. Стечение публики было большое: несколько государственных лиц посетили мою лекцию. По окончании чтения последовали громкие рукоплескания, а потом толпа молодых людей подхватила меня на руки и вынесла из университетского здания к экипажу.
С тех пор начались мои обычные чтения лекций. Стечение публики не только не умалялось, но с каждою лекциею возрастало: аудитория моя всегда была битком набита лицами всякого звания, и между ними было множество женщин и девиц. Я продолжал заниматься и в Публичной библиотеке: готовил лекции и писал другие сочинения. Моя вступительная лекция отдана была для напечатания в журнал „Русское слово". В „Современник" отдал я отрывок из своих лекций „О начале Руси". Кроме того, я по читанным тогда лекциям предположил составить статью о русских инородцах, изложив их историю и настоящее этнографическое их положение. Я начал с литовцев, изложив древнюю историю событий, составил описание внутреннего быта литовского племени и приложил разбор их современной народной поэзии. Статья эта отдана была в „Русское слово", где и напечатана в следующем году. Вступая на кафедру, я задался мыслию в своих лекциях выдвинуть на первый план народную жизнь во всех ее частных видах. Долговременное занятие историею развило во мне такие взгляды. Я видел, что государства являлись более случайным плодом завоеваний, чем необходимым последствием географических и этнографических особенностей народной жизни. Всегда почти поэтому государство составлялось не из одной народности; сильнейшая подавляла слабейших, стремилась подчинить, а иногда и ассимилировать их, считала за собою право власти над ними, которое освящалось давностию, допускала над ними насилие и всякую с их стороны попытку к самосохранению признавала преступлением.
Жизнь, однако, продолжала развиваться иным путем, и государство оставалось только внешнею формою объединяющей полицейской власти. Там, где не было завоевания или где оно не являлось достаточно могучим, там не могло составиться и государство. Свободные человеческие общества ради взаимных выгод, а более всего ради собственной защиты стремились к союзности (федерации)… Что в Древнем мире являлось в формах республик, то в новом, христианском мире явилось в форме отдельных земель, подвластных в большей или меньшей степени мелким владетелям. Отсюда — на западе Европы — феодальная система баронов, а в славянском мире — земель с избранными князьями. И те и другие вели между собою распри, при недостатке и слабости связывающих их органов, пока, наконец, сильнейшие из них завоеванием подчинили слабейших, и так составлялись государства, которые потом преобразовывались и переделывались большею частию случайно, на правах большей силы. И русская история представляла то же, хотя с своеобразными особенностями.
Русское государство складывалось из частей, которые прежде жили собственною независимою жизнию, и долго после того жизнь частей высказывалась отличными стремлениями в общем государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни частей Русского государства составляло для меня задачу моих занятий историею. Насколько это могло мне удаться — должен был показать опыт, но я взял на себя задачу чрезвычайно трудную и, как показалось мне самому на деле, малоудобоисполнимую по причине моей малой подготовки к работам над этой задачей. Меня утешало только то, что я мог хотя сделать мало, но, по крайней мере, наметить дорогу другим, более меня способным и сведущим. Во всяком случае я был уверен, что и любой из наших ученых не был еще в состоянии более меня приняться за это дело. В таком духе я и начал читать свои лекции, обративши внимание на черты местной истории русских земель и княжеств и на отличную жизнь инородцев, вошедших в состав Русской державы».
На это время и приходится та самая статья Аверкиева, приведенная мною выше. Дело в том, что в 1860 году «Современник» напечатал работу Костомарова «Начало Руси», которая очень не понравилась Михаилу Петровичу Погодину. «Старый ветеран истории, — вспоминал ученый, — никак не мог переварить смелости, с какою я отважился на разбитие системы происхождения Руси из норманнского мира. Он прибыл в Петербург и, встретив меня в Публичной библиотеке, предложил мне вступить с ним в публичный диспут по этому вопросу…Диспут наш состоялся 19 марта. Как и следовало ожидать, он кончился ничем…
Собственно говоря, ни Погодин, ни я не были абсолютно правы, но на моей стороне было, по крайней мере, то преимущество, что я понимал чтение летописей в более прямом смысле, и притом таком, какой, по предмету нашего спора, существовал издавна и какой, вероятно, имелся у самих летописцев. Впоследствии, вдумавшись в состав наших летописей, как и в дух сообщаемых ими известий, я пришел к такому результату, что самая история призвания князей есть не что иное, как басня, основанная на издавна внедрившихся взглядах, почерпнутых из мифического сказочного мира. Моя теория о происхождении Руси из литовского мира если и не имела за собой неоспоримой исторической истины, по крайней мере доказывала норманнистам, что происхождение князей наших и их дружин еще с большею вероятностию, чем из Скандинавии, можно выводить из других земель, и таким образом подрывала авторитет мнений, до того времени признававшихся неоспоримыми и занесенных в учебники как несомненная истина». Иными словами, это была не антинорманнская теория, а контрнорманнская теория, в стороне остались как норманнисты, так и славянофилы. Естественно, негодование возникло у тех и у других!
Но гораздо более Костомаров занимался делами Археографической комиссии, публикуя древние акты, относящиеся к Южной и Западной России. Как действительный член Русского географического общества, он также взялся за издание «Памятников старинной русской литературы», «помещая там по своему усмотрению рукописные статьи, отыскиваемые в письменных хранилищах». Работа заставила его обратиться к поискам древних документов в Духовной академии: эти рукописи были привезены туда из новгородского Софийского собора и из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. Одновременно он занимался разработкой лекций по истории Новгорода и Пскова. Эти лекции требовали разбора многочисленных документов, написанных не только на русском или польском языках, но на старом нижненемецком наречии. И Костомарову пришлось изучить это наречие, выбирая свободные от других занятий дни. Работа была каторжная. В Духовной академии историк просиживал от девяти утра до пяти часов вечера.
«Так продолжалось осенью и зимою 1860—61 годов, — говорит он, — я имел возможность сделать там множество выписок из рукописей на отдельных листочках, надписывая на них, к какой стороне жизни относится выписка». Эти выписки очень пригодились Костомарову: одни он использовал для дополнений к «Очерку быта и нравов великорусского народа», а другие были оставлены для дальнейших публикаций; в то же время он занимался делами Археографической комиссии и начал публикацию актов эпохи Хмельницкого из Малороссийского приказа, а более поздние использовал для написания статьи о Выговском. Занимаясь малороссийскими бумагами, Костомаров опубликовал небольшую статью «О казачестве». Он пишет, что в этой статье «я старался установить надлежащий взгляд на это историческое явление и опровергнуть возникавшее в тогдашней литературе мнение о том, что казаки сами по себе были обществом антигосударственным, что душою этого общества была анархия, и потому на попытки как Польши, так впоследствии и России к обузданию казацкой воли надобно смотреть как на защиту государственного элемента против вторжения диких, разрушительных побуждений. Такая точка зрения, давно уже поддерживаемая поляками, начинала переходить и в русскую ученую литературу, и я принимал на себя призвание доказать ее несостоятельность и уяснить, что казачество при всех временных уклонениях было последствием идей чисто демократических. Статья моя возбудила против меня возражения в польских повременных изданиях, и тогда особенно выступило против меня лицо, укрывавшееся под псевдонимом Зенона Фиша. Его возражения вызвали с моей стороны новую статью в защиту своего мнения».
Собранные материалы легли и в основу публичных лекций в пользу бедных студентов. Содержанием этих лекций была история эпохи гетманства Выговского, а всего он прочел четыре лекции. О популярности этих лекций говорит такой факт: «несмотря на страшный мороз, доходивший в те дни до 30 °C, лекции мои были посещаемы значительным приливом публики». С 1861 года стала издаваться «Основа», где ученый поместил несколько статей по русской истории, «написанных на основании того, что я имел случай читать в университете. Таковы статьи „О федеративном начале Древней Руси“, „Две русские народности”, „Черты южнорусской истории”; последняя из них заняла несколько нумеров и заключала в себе сплошное историческое повествование событий удельно-вечевого периода в Южной Руси до татар.
…Мои статьи „О федеративном начале Древней Руси”, „Две русские народности” и, наконец, „Черты южнорусской истории”, статьи, написанные на основании задачи, которую я предположил себе в чтении лекций по русской истории, возбудили против меня невыгодные толкования, проявившиеся не раз в печати впоследствии. Моя идея о том, что в удельном строе Руси лежало федеративное начало, хотя и не выработалось в прочные и законченные формы, заставляла подозревать — не думаю ли я применять эту идею к современности и не основываю ли на ней каких-нибудь предположений для будущего. Это подозрение много раз высказывалось там и сям намеками, большею частью неясными, потому что не у всякого доставало отваги обвинять меня в том, на что я сам не дал явных указаний. Независимо от печатных намеков, появлявшихся кстати и некстати в периодических наших изданиях, я тогда же получал письма с укором за мою статью и с отысканием в ней такого смысла, какого я не заявлял и какого она, конечно, не имела. Еще более возбуждала раздражение моя статья „Две русские народности “, которую через несколько лет, вспомнивши о ней, „Русский вестник“ назвал „позорною“. Дело в том, что много открылось политических мыслителей, хотевших во что бы то ни стало, чтобы на Руси существовала только одна русская народность, и не терпевших, если им указывали не одну, а несколько, хотя бы даже существовавших в прошедшие времена.
Привычка отыскивать в рассуждении о прошедшем быте каких-нибудь отношений к настоящему или будущему заронилась в некоторой части читающего русского общества. Это было естественно при цензурной строгости, когда многие писатели поневоле принуждены бывали недосказывать своих мыслей, предоставляя читателям читать их у себя между строками. Эта привычка послужила против меня источником уже крайне смешных и нелепых догадок по поводу моей литовской системы происхождения Руси; она же действовала и по поводу мыслей о двух русских народностях. Впрочем, после выхода моей статьи в первое время не раздавалось крупных обвинений в „сепаратизмекоторыми так щедро награждали меня, после того как вспыхнуло польское восстание и русские стали горячо хвататься за идею своего национального единства. Многие часто не знали, что, говоря об Украине, повторяли сказанное их врагами-поляками по отношению к себе. Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси, идея двух русских народностей не представлялась в зловещем виде и самое стремление к развитию малорусского языка и литературы не только никого не пугало признаком разложения государства, но и самими великороссами принималось с братскою любовью. Притом же содержание моей статьи о двух русских народностях ясно отклоняло от меня всякое подозрение в замыслах „разложения отечества", так как у меня было сказано и доказываемо, что две русские народности дополняют одна другую, и их братское соединение спасительно и необходимо для них обеих. Достойно замечания, что через пятнадцать лет после того патриотический „Киевлянин", обличая меня в „украинофильстве", в виде нравоучения й в назидание своих читателей привел мою мысль (выдавая ее за собственную) о необходимости и пользе соединения двух русских народностей из моей же статьи „Две русские народности", и притом почти буквально в тех же выражениях, в каких эта мысль была высказана у меня».
Как видите, статьи Костомарова поневоле оказывались полемическими: он имел свой взгляд на историю и не желал писать так, как требовала современная ему политика. Такой же славой, что и «малороссийские» статьи, пользовались и лекции о древних русских республиках, а также «Очерк быта и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Казалось, что после трудной молодости жизнь начинает налаживаться. Куда там!
Проблемы начались с достопамятной речи на университетском акте. Тема была уж безобиднейшая — «О значении в обработке русской истории трудов Константина Аксакова». К тому же это была речь в память недавно умершего Аксакова, так что полемических экивоков не предполагала. Однако накануне Костомарова попросили не читать эту речь, сославшись, что будут присутствовать старые архиереи, которым высидеть лишнее время в университетском зале затруднительно. Костомаров согласился прочесть речь на литературном вечере. Он деликатно ушел. Но студенты, которые видели в Костомарове борца с несправедливостью, возмутились, начались беспорядки. «Между тем тогда же до меня дошло, — рассказывал ученый, — что во многих высших кругах общества беспорядок, произведенный студентами на акте по поводу отмены чтения моей речи, возбудил неодобрительные толки, возымевшие влияние на правительственные лица, и что вследствие этого события правительство вознамерилось принять меры к обузданию своевольства студентов и учредить для хода университетских лекций более строгие правила. Через несколько времени произошло в Петербурге событие, подавшее больший повод к желанию обуздать студентов. В Варшаве происходили уличные беспорядки, последствием которых были выстрелы со стороны войска, положившие на месте пятерых поляков. В Петербурге поляки устроили по этому поводу в костеле Св. Екатерины на Невском проспекте панихиду по убиенным, которая должна была служить демонстрациею против мер правительства…» Костомаров посетил в этот день костел, в автобиографии он объяснял это тем, что обещали концерт из Моцарта и что он, увидев, что это совсем не концерт, тут же ушел. Но эти объяснения ему пришлось давать соответствующим органам. А 25 февраля скоропостижно скончался друг Костомарова Шевченко. Похороны тоже вылились в своего рода акцию протеста. Студенты несли гроб Шевченко от университета до Смоленского кладбища. Над телом его говорились речи на трех языках — русском, украинском и польском. Костомаров тоже сказал речь, он не мог ее не сказать. Речь была на украинском. Позже, на вечере памяти, устроенном в университете, он прочел статью «Воспоминание о двух малярах».
«Статья эта принята была публикой с восторгом, — вспоминал он, — и напечатана вслед за тем в „Основе". Бедный Шевченко несколькими днями не дождался великого торжества всей Руси, о котором только могла мечтать его долгострадавшая за народ муза: менее чем через неделю после его погребения во всех церквах Русской империи прозвучал высочайший манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости…Вспоминая эти минуты, могу сказать, что тогда была видима и ощущаема безмерная радость между людьми всякого звания и образования: чувствовалось, что Россия свергала с себя постыдное бремя, висевшее на ней в продолжение веков, и вступала в новую жизнь свободной христианской нации. Казалось, после отдаленной от нас эпохи крещения при Владимире еще не переживал русский народ такой важной минуты. После того оставалось желать одного — просвещения освобожденного народа, и действительно, это желание слышалось в устах всех образованных людей той эпохи».
Итак, вот основа дальнейшего непонимания между революционерами и Костомаровым: он считал реформу 1861 года поворотным пунктом в русской истории и ожидал просвещения народа, молодое поколение ожидало иного — окончательного освобождения из всеобщего рабства, точнее — отмены самодержавия. Историк, который замечательно понимал нюансы законов в относительно дальние времена, не сумел увидеть, что московское самодержавие за века ничуть не изменилось, просто сменило личину. Отмену крепости он воспринял как нравственную победу, а люди другого поколения — как временную уступку власти, чтобы «заткнуть рты» недовольным.
Со счастливыми иллюзиями, прочитав лекцию «О значении Новгорода в русской истории» в новгородском Дворянском собрании, он отправился за границу — отдохнуть и подлечиться.
Когда он вернулся в Петербург и пришел в университет для начала курса, то застал студентов в сильном волнении: в аудитории было немного слушателей, да и те стали расходиться. «Я узнал, — вспоминал он, — что в это самое время в университетском парадном зале происходила бурная сходка; студенты выломали дверь и шумно требовали отмены установленных для них стеснений, объясняясь с новым ректором И. И. Срезневским, заступившим на место выбывшего и уехавшего за границу Плетнева. На другой день произошло знаменитое, наделавшее в свое время шуму путешествие нескольких сот студентов в Колокольную улицу, в квартиру нового попечителя университета Филипсона, которого студенты потянули за собой через весь Невский проспект до университета. На следующий день новый министр народного просвещения граф Путятин сделал распоряжение о временном закрытии университета. Более двадцати студентов, сочтенных зачинщиками, были арестованы и посажены в крепость. С этих пор в Петербурге чуть не каждый день повторялось волнение молодежи, выражавшееся сходками на улицах, которые разгонялись солдатами…
12 октября громадная толпа студентов, человек более трехсот, у здания университета была окружена войском и отправлена в казематы, причем двум студентам нанесены были удары в голову. В Петропавловской крепости недостало места, и половина арестованных была отправлена в Кронштадт. Я не принимал ни малейшего участия в тогдашних университетских вопросах, и хотя студенты часто приходили ко мне, чтобы потолковать со мною, что им делать, но я отвечал им, что не знаю их дел, что знаю только науку, которой всецело посвятил себя, и все, что не относится непосредственно к моей науке, меня не интересует. Студенты были очень недовольны мною за такую постановку себя к их студенческому делу, но мне не удалось тогда уйти от клевет, ничем не заслуженных.
…Закрытый университет был вновь открыт для тех, которые покорились воле правительства и взяли матрикулы, повинуясь предписанным в них правилам, которые не принявшими матрикул считались стеснительными…Количество покорных властям не составляло и трети студенческого сословия, да и взявшие матрикулы не посещали аудитории, так что хотя университет объявлен был открытым, но читать в нем было не для кого… Между тем грозные слухи приходили о студентских смутах, совершающихся в других университетских городах…Впоследствии явилось мнение, что и в Петербурге волнению молодежи содействовали поляки, готовившие у себя восстание и желавшие произвести всеми силами беспорядок в русском обществе. Насколько я мог следить и заметить, это мнение едва ли основательно…Каков бы ни был москаль, либерален ли он или консервативен, — для них было все равно: достаточно того, что он москаль и не католик, — он уже им чужой…Студенческое дело производилось до конца 1861 года…За несколько дней до праздника Рождества Христова университет вторично был закрыт и уже на долгое время… Так как университет был закрыт, и неизвестно было, когда он откроется, то, желая сохранить за мною профессорское содержание, министр Головнин оставил меня при должности члена-редактора в Археографической комиссии с сохранением профессорского жалованья на три года».
Из добрых побуждений Костомаров вместе с другими преподавателями решил помочь выпущенным из крепости студентам, организовав публичные лекции, аналог университетского курса. Костомаров читал там русскую историю с XV века, то есть с того момента, на котором остановился в связи с закрытием университета. «Вообще я разделял русскую историю по времени на два отдела, — пояснял он, — первый заключал историю Руси удельно-вечевого уклада; второй — обнимал Русь единодержавную. Первый отдел был уже мною прочитан в университете, теперь я предложил читать второй отдел.
Лекции читаемы были в большом зале городской думы, очень просторном и светлом, в два света, с галереями наверху. Таким образом, после закрытия университета сам собою возникал новый, совершенно свободный университет, открытый для лиц обоего пола всех званий и без всякого официального начальства.
Февраль прошел благополучно, но в начале марта наступило неожиданное потрясение. В доме Руадзе на Мойке происходил литературный вечер 5 марта. На этом вечере между прочими участниками читал небольшую статью профессор Платон Васильевич Павлов. Статья называлась „Тысячелетие России" и была небольшим сокращением той статьи, которая в том же году была напечатана в календаре…Профессор несколько раз был останавливаем и прерываем рукоплесканиями, более на таких местах, которые могли иметь либеральный смысл и которые могли подать повод к толкованиям в дурном смысле. По окончании чтения, когда Павлова стали вызывать, он произнес текст из Евангелия: „имеющие уши слышати, да слышат". Это до чрезвычайности понравилось публике: его наградили самыми бешеными рукоплесканиями, которые побудили его в другой раз повторить то же изречение. На другой же день мы все узнали, что Павлов арестован и ссылается в Кострому. Студенты-распорядители заволновались и стали ходить к профессорам, представляя, что по этому поводу в виде демонстрации следует прекратить чтение лекций. Некоторые профессора поддались голосу студентов, но я энергически доказывал и тем и другим, что прекращение лекций не имеет никакого смысла, тем более что Павлов навлек на себя нерасположение правительства вовсе не за эти лекции, а по поводу тона чтения, не имевшего к лекциям никакого прямого отношения, и что делать демонстрации вообще в нашем положении нелепо. (Этим отказом Костомаров сильно возмутил студенчество, и его перестали считать либералом. — Авт.)
Надобно заметить, что я, некогда пользовавшийся у студентов большою любовью, стал уже прежде терять многое в глазах их. Меня почему-то считали вначале отъявленным либералом, даже революционером, и это было одною из причин того горячего сочувствия, каким я пользовался у молодежи. Вероятно, к тому мнению обо мне располагало молодежь мое долгое пребывание в ссылке за политическое дело, которого значения они хорошо не знали… Теперь мое нежелание прекращать лекции и мое увещание, обращенное к профессорам, о том же сделали меня в глазах молодежи решительным противником всякого модного либерализма. Затаивши против меня злобу, студенты-распорядители сказали мне, что они покинули свое намерение прекратить публичные лекции, и, обнадеженный их уверениями, я приехал 9 марта на свою лекцию». Эту лекцию ученый прочитал, но после объявления темы следующей студенты стали требовать, чтобы он, как и другие профессора, отказался в знак протеста от чтения лекций, на что он ответил отказом. Он собирался найти помещение для чтения лекций, поскольку дума отказывалась предоставлять свой зал (и понятно — почему). Вот тогда-то и явился к нему приятный молодой человек Николай Гаврилович Чернышевский, с которым ученый успел подружиться в Саратове. Прежний сторонник теперь стал просить, чтобы Костомаров от лекций отказался и молодежь не раздражал, обещая в случае отказа скандалы и бунты. На это историк заметил, что Чернышевский обратился не по адресу, если речь идет о возможном бунте — так надо бы поговорить с бунтарями. Чернышевский страшно рассердился и пообещал, что сделает все, чтобы лекции прикрыли.
«Я заявил ему, — говорил Костомаров, — что если правительственные лица, облеченные правом, приостановят чтение лекций во избежание беспорядков, то я подчиняюсь этому; притворяться же больным, когда я не болен, не стану, потому что это значило бы, заявивши публике о будущем моем чтении, вдруг испугаться молодежи и волею-неволею примкнуть к их партии и участвовать в программе их действий. Через день после этого я получил от министра извещение о том, что чтение публичных лекций приостанавливается». В запрещении лекций Костомаров менее всего видел «руку» Чернышевского, который вряд ли сумел бы дойти до Кабинета министров и иметь там серьезный разговор. Но, тем не менее, про переговоры с Чернышевским узнали, студенты стали распространять про ученого слухи и домыслы, он так от всего этого клеветничества устал, что отправился к министру и отказался от должности профессора Петербургского университета. «Эта думская история оставила на меня глубокое впечатление, — говорил он с горечью, — которое переменило многое в моих убеждениях. Я увидел, что большинство русской того времени молодежи, в научные силы которой я простодушно верил, легко могло быть увлекаемо трескучими фразами, шумихой, но оно мало ценило посвящение себя науке…Нигилизм сильно стал охватывать умы молодежи, и каждый день увеличивались сотнями полки его последователей.
…Вместе с тем в молодежи развивалась мысль, что для благой цели общественного преобразования не нужно стесняться ни в каких средствах; все меры признавались хорошими, если только в виду имелась желанная цель. Это была самая черная и возмутительная сторона современного нигилизма. Пусть бы у нигилистов были какие угодно идеалы об устройстве общества, но, если бы путь к достижению этих идеалов согласовался со враждебными душе человека принципами нравственности, нигилисты не представляли бы слишком опасных элементов, так как ничто не может поставить отпора беспощадной силе логики и убеждений. Что бы ни взяло верх в человеческом обществе, со всем пришлось бы мириться, лишь бы только это совершилось тою неотразимою силою признанной истины, которая всегда двигала и вечно будет двигать историею рода человеческого; но как скоро допустится столь известное у иезуитов правило — для доброй цели позволять дурные средства, то самая добрая цель превращается во вредную, а злые меры, от которых общество не в силах будет уберечься, принесут свои злые плоды, и последние непременно окажут вредоносное влияние, хотя бы и временное…Венцом всего был страшный эгоизм, выразившийся впоследствии тем, что значительная часть таких юных преобразователей общества, возмужавши, переродилась в биржевых игроков и эксплуататоров чужой собственности всеми возможными средствами; те же, которые остались энергически преданными своим нигилистическим теориям, оправдывающим всякое средство для цели, нравственно произвели поколение безумных фанатиков, отваживающихся проводить свои убеждения кинжалами и пистолетами». Костомаров не дожил ни до первой русской революции, ни тем более до второй и Октябрьского переворота, но поколение безумных фанатиков он угадал за годы до его настоящего появления. На его век достался один только Каракозов, совершивший покушение на цареубийство.
Отстранившись от студенческих дел, Костомаров занялся научными изысканиями. В 1862 году он напечатал в «Основе» коротенькую статью о малорусском писательстве. Она, «более, чем какая другая, была оценена публикою и откликнулась полным сочувствием. Я доказывал в этой статье, что мысль о выработке литературного малорусского языка тем путем, какой велся до сих пор, едва ли осуществима, и если может быть справедливым и полезным писать и печатать по-малорусски, то единственно книги, имеющие целью народное образование и заключающие в себе элементарные сведения в науках, которые бы расширяли кругозор народной умственной жизни. Мысль моя до того понравилась публике, что я начал получать отовсюду горячую благодарность и предложение взять на себя издание таких популярных книжек, которые бы содействовали указанной мною цели… Между тем впоследствии, когда по этому поводу поднялась против меня буря обвинений в „сепаратизме“, то печатно заявлялось мнение, что намерение издавать популярные малорусские книги научного содержания есть плод польской интриги».
История эта кончилась ничем. Летом 1863 года в «Московских ведомостях» поднялась буря «против малорусского литературного движения, коснувшаяся меня тем более, что в этой газете имя мое было выставлено на позор, как одного из преступных составителей замыслов, по мнению противников, грозивших опасностью государственному порядку. Пошли в ход слова: сепаратизм и украинофильство. Инсинуации давались преимущественно из Киева…На обвинения „Московских ведомостей“ я написал большое опровержение, но цензура его не пропустила. Тогда я обратился лично к министру внутренних дел Валуеву, который назначил мне свидание на своей даче на Аптекарском острове и сообщил мне, что, хотя мысль о написании популярных сочинений по-малорусски с целью распространения в народе полезных знаний не только не преступна, но и похвальна, однако в настоящее время правительство по своим соображениям считает нужным приостановить ее, чтобы не подать повода злонамеренным людям воспользоваться для иных целей и под видом дозволенного распространения в народе популярно-научных книг не дать им возможности распространять законопреступных подущений к мятежам и беспорядкам. Вслед за тем я узнал, что состоялось запрещение печатания по-малорусски книг, имеющих учебное значение. Я успел выпустить только первый выпуск „Священной истории“ Опатовича, у которого остались готовые два другие, и арифметику Конисского. Печатались еще два жития святых и остались также невыпущенными. Министр народного просвещения Головнин относился совершенно беспристрастно к вопросу о малорусской литературе… По его предложению я напечатал в „Журнале Министерства народного просвещенияu статью об особенностях малорусского наречия, дающих ему право самобытности в ряду славянских языков и не дозволяющих признать его ни видоизменением великорусского, ни польского».
Увы, Костомаров совершенно не понимал, что статьи в защиту языка становятся статьями в защиту народа, а защита народа — вещь запрещенная. Словом, все, что бы ни напечатал, ни решил сделать Костомаров, оказывалось крамолой и скандалом.
Угораздило его опубликовать в «Отечественных записках» исследование об Иване Сусанине. Эта работа тут же подверглась яростным нападкам. «Так как я доказывал, что история Сусанина украсилась разными добавлениями досужей фантазии и событие не могло происходить в таком виде, в каком привыкли видеть его и даже читать в учебниках, — поясняет ученый, — то сейчас нашлись ревнители патриотической славы, старавшиеся увидеть из этого моего поступка что-то неблагонамеренное. Началась составляться обо мне молва, будто я задаю себе задачу унижать доблестные русские личности и, как говорили, сводить с пьедестала и развенчивать русских героев. Укоры эти много раз заявлялись в литературе, расходились в обществе и повторялись даже такими людьми, которым, собственно, не было ни тепло ни холодно от того, будет ли прославлен или унижен какой-либо из деятелей русской истории минувших веков. До меня доходили слухи, что люди высокопоставленные в чиновной иерархии оскорблялись моим критическим взглядом на личность Сусанина и говорили, что я человек злонамеренный, желаю во что бы то ни стало унижать великие личности русской истории. Иные толковали это тем, что я, как малорус, хочу выставлять напоказ лица южнорусской истории и в противоположность им унижать севернорусских героев… Их выходки служили доказательством еще не прекратившегося господства детских взглядов и раболепства перед рутинными убеждениями, основанными на ложном патриотизме. Считали как бы вывескою благонамеренности в науке непременно восхвалять признанные доблести и в каждом критическом отношении к ним отыскивали что-то затаенное, нерасположенное к славе и чести отечества. Между тем истинная любовь историка к своему отечеству может проявляться только в строгом уважении к правде. Отечеству нет никакого бесчестия, если личность, которую прежде по ошибке признавали высокодоблестною, под критическим приемом анализа представится совсем не в том виде, в каком ее приучились видеть. Притом же не следовало забывать, что безусловно добродетельных и безупречных людей на свете не бывает и прежде не было. Все люди — с ошибками и пороками, и если мы не в состоянии указать на их темные стороны, то это служит только признаком нашего недостаточного уразумения этих личностей. Наконец, все века имели свои заблуждения и слабости, и великие люди этих веков часто не были чужды этих заблуждений и слабостей.
Показывать в истории те и другие — не значит унижать самые исторические личности; напротив, чем личность прошедшего времени представится нам со всеми своими сторонами, как светлыми, так и темными, тем яснее станет пред нашими глазами и тем нагляднее мы можем рассмотреть ее и оценить. Но всего несправедливее ставить историку в вину, если он ни в каком случае не унижал исторической личности, которой привыкли оказывать уважение, а только старался установить правильный взгляд на ее действительное историческое значение и снять с нее вымышленные черты, созданные или народным воображением под влиянием протекших веков, или фантазиею писателей, как это и было относительно личности Сусанина. Что касается до толкования тех, которые объясняли мои исторические приемы умышленным желанием выставить в темноте великорусские личности с целью придать больше света малорусским, то это ребяческое толкование опровергалось как нельзя более теми моими сочинениями, которые относились к истории Южной Руси. Касаясь южнорусских героев, я нигде не скрывал черт их слабостей, пороков, заблуждений и ошибок, что и доказывается тем, что никто из критиков не в состоянии был указать на такие места моих исторических трудов, где бы я преднамеренно скрыл дурные стороны южнорусских знаменитых людей или представил их безупречными вопреки несомненным историческим данным, обличающим мои неправильные или пристрастные взгляды».
О, эта приверженность к поиску правды! Костомаров никак не желал понять, что правда историческая и правда политическая — две разные правды. Он слущивал шелуху наслоений с картин прошлого, но властям нужен был неочищенный от шелухи портрет народных героев! Впрочем, Сусаниным историк не ограничился. В тех же «Отечественных записках» он опубликовал статью «Великорусские вольнодумцы XVI века». Это было, по его объяснению, историческое исследование о признаках религиозного волнения умов в Московской Руси в царствование Ивана Грозного, выразившегося мнениями Матвея Башкина, игумена Артемия, дьяка Висковатого и Феодосии Косого. Из них, по его мнению, только за Косым можно было признать действительные еретические мнения; другие лица осуждены были в ереси отчасти по недоразумению, отчасти по невежеству судей. Тут нападок было меньше, но истыми патриотами исследование считалось вредным. В конце концов, не выдержав журнальных нападок, ученый разразился серией статей. «Так, по поводу поднятых против меня в Москве возражений на мои исторические взгляды я написал статью „Правда москвичам о Руси", по поводу новых польских выходок там же напечатал „Правду полякам о Руси". Вслед за появлением этой статьи я стал получать из разных мест анонимные письма от поляков с угрозами смерти; одно из этих писем заключалось словом „готовьтесь! По поводу вопроса об отношениях иудеев к русскому, и преимущественно малорусскому племени в „Основе" же я напечатал статью „Иудеям". Последняя статья задела за живое некоторых лиц иудейского племени, и я получил из плева от одного из них укорительное, хотя и дружелюбное письмо, в котором автор письма доказывал, что иудеи — сущие благодетели малорусов, и огорчался тем, что я дозволил себе употреблять название „жиды". Я отвечал этому господину, что сомневаюсь насчет благодетельности иудеев, а что касается до слова „жиды", то обещаю вперед не употреблять этого слова, а писать „иудеи". Этот корреспондент милостиво согласился, что „иудеи" звучит лучше, но пошли потоком письма от других „иудеев", которые были не согласны».
В статьях на современную ему тему Костомаров умудрялся наговорить такого, что только больше разжигало эмоции. К счастью, на этих трех статьях, где всем и обо всем он открыл правду, историк остановился и снова обратился к интересующей его старине.
«Печатая мою историю Новгорода и Пскова, — писал он, — я в ту же осень принялся заниматься историею Смутного времени Московского государства в начале XVII века, и, каждый день посещая Публичную библиотеку, изучал источники эпохи, которую предполагал обработать. Во всей древней севернорусской истории не было такого другого периода, в котором бы народ был до такой степени предоставлен самому себе и собственными силами должен был отстаивать свое политическое, общественное и религиозное существование от внешних нападений и внутренних неурядиц и где он невольно должен был показать весь запас собственных духовных сил, необходимых для своего спасения. Эпоха эта, страшная и кровавая, заключала в себе утешительного то, что народ, перенесший ее, вышел из нее с торжеством, отстоявши, по крайней мере, свою независимость и свой общественный строй с теми началами, с какими установился прежде…Приступая к Смутному времени, я был верен себе и своей задаче работать над историею народа. Я работал над эпохою Хмельницкого и Выговского, где главным образом выказывалась деятельность народной массы; меня увлекала история Новгорода и Пскова, где также на первом плане была народная масса; меня заняла сильно эпоха дикой самодеятельности народа, проявившейся в бурное восстание Стеньки Разина. Точно по тем же побуждениям изучать и выражать в истории народную жизнь принялся я и за Смутное время Московского государства в начале XVII века.
В начале 1863 года я съездил на непродолжительное время в Москву, где систематически осмотрел все монастыри и много церквей, имевших историческое значение, а по возвращении оттуда выпустил в свет свою историю Новгорода и Пскова, давши ей название „Севернорусские народоправства"… по выпуске его в свет я получил от некоторых знакомых мне ученых лиц замечание, что название „Севернорусские народоправства" слишком вычурно, с чем я мало-помалу согласился и впоследствии перепечатал заглавный листок, давши этому сочинению другое название, гораздо проще: „История Новгорода, Пскова и Вятки". Впрочем, первоначальное название остается для меня предпочтительнее. Сочинение это встречено от некоторых с похвалою, от других с упреками; иные видели у меня исключительное пристрастие к Новгороду, поклонение его свободе, других коробило то, что я указывал на сходство древнего новгородского наречия с малорусским и на этом основании делал предположение о древнем сродстве новгородцев с южнорусским племенем». На это сравнение великорусские патриоты могли только злобно шипеть. Впрочем, особенного шипа тут не было. Но Костомарову ли не превратить тихий шип в звериный рев?
В 1864 году в издаваемом от Академии наук календаре он опубликовал исторический очерк Куликовской битвы. Вот на нее-то с такой яростью и кидался Аверкиев. Возражения первого мы уже знаем, послушаем объяснения второго. «Статья эта не менее „Ивана Сусанина” навлекла на меня разнородные обвинения в недостатке патриотизма и в злонамеренности моих способов обращаться с событиями русской истории. Дело было в том, что я, руководясь источниками, указал на такие черты в личности Димитрия Донского, которые противоречили сложившемуся о нем и ставшему как бы казенным мнению как о доблестном и храбром герое княжеских времен. Против меня поднялась целая буря патриотического негодования. Бывший тогда председатель Археографической комиссии Авраам Сергеевич Норов, старик хотя добрый и образованный, но считавший нравственным долгом казаться завзятым патриотом, так озлобился против меня за эту статью, что почти не мог выносить моего присутствия в заседаниях Археографической комиссии. В ученом отношении эти попытки оказывались очень слабыми, потому что за них брались люди, заслуживавшие одобрение только за свой патриотизм, а никак не за ученость. К ним следовало отнести и Погодина, который писал на меня в газете „День" ряд статей, главным образом указывая на мою склонность к какому-то недоброжелательству к России — унижать великих людей русской истории. Я защищался против него на страницах газеты „Голос"; но правду надобно сказать, что в ту пору я еще не освободился вполне от старой привычки слепо и с верою держаться известий в том виде, в каком они передаются летописными источниками, мало вникая в то, что самые источники по разным причинам нередко являются лживыми, даже без умышленного обмана. Так произошло и в вопросе о Димитрии Донском. Погодину и другим моим противникам очень не нравилось известие летописной повести о том, что Димитрий Донской перед Куликовской битвой надел свое великокняжеское платье на своего боярина Бренка, а сам в одежде простого воина в конце битвы очутился лежащим под срубленным деревом. Это имело вид, как будто великий князь Московский, желая сохранить собственную жизнь, выставил на убой своего верного слугу, а сам оказался в самой битве трусом. Погодин силился всеми натяжками объяснить это событие в хорошую для Димитрия сторону и, конечно, не мог; я же старался показать истинный смысл, какой представляло летописное повествование; но ни я, ни Погодин не обратили внимания, что самая эта летописная повесть не выдерживает критики и должна быть отвергнута, о чем я и заявил уже впоследствии в своей „Русской истории в жизнеописаниях". Впрочем, трусость Дмитрия Донского, которою так оскорблялись Погодин и другие мои противники, кроме этого события, не выдерживающего критики, неоспоримо доказывается постыдным бегством Московского великого князя из столицы во время нашествия на нее Тохтамыша».
Что тут скажешь? Костомаров, действительно, разбивал «народные кумиры», причем разбивал со знанием дела и без всякой жалости. Рев патриотов звучал еще очень долго. Они ему эту Куликовскую битву и этого Сусанина поминают даже сегодня. Напечатанная в то же время «Ливонская война» прошла на фоне Донского и Сусанина практически без эмоций.
Но самая большая и тяжелая работа велась над эпохой Смуты: над старинными текстами Костомаров сидел зимой 1864 на 65 год и весну 1865-го, работал без передышки, иногда целыми ночами, и в конце концов его организм не выдержал: у Николая Ивановича появились слуховые и зрительные галлюцинации. Он не мог спать. Он стал хуже видеть. Как средство избавления от наваждения — от истории Смуты, он выбрал отвлекающую поездку в Варшаву, хотя она и предполагала работу с польскими источниками по Смуте, но в свободное время историк посещал театры, музеи, церкви и кладбища. Когда он побывал на Повонзковском кладбище и увидел могилы с памятниками, запечатлевшими реальные исторические лица, оставившие след в истории Польши практически ему уже современной, у него явилась мысль заняться разработкой истории эпохи падения польской независимости. «Мне казалось, — пояснял он, — что недостаток исторической обработки этой эпохи составляет один из важнейших пробелов в нашей истории, и стоило приложить труд, чтобы его пополнить. Долгое время занятие историею падения Польши было почти немыслимо, потому что большая часть важнейших источников, относящихся к этому знаменитому событию, не только не была напечатана, но и самый доступ к пользованию ими не был дозволен. В нашей русской литературе, кроме „Истории падения Польши” Соловьева, не было ничего сколько-нибудь разработанного по этой части.
…Прежнее правительство наше долгое время считало изучение падения Польши как бы запретным плодом, и неудивительно, если польская молодежь, начитавшись об этом кое-чего из заграничных книг или из произведений польских эмигрантов, да вдобавок поддаваясь внушениям своих старых соотечественников, расхваливавших старое время и вздыхавших об уничтожении старых порядков, воображала себе бог знает сколько хорошего в том, чего не знала обстоятельно. Таким образом, Конституция 3 мая являлась их воображению таким безусловно-благодетельным актом народной мудрости, какому подобного едва можно отыскать во всей истории человечества, а эпоха восстания Костюшки представлялась доблестным всенародным движением за дело всеобщей свободы и всеобщих прав человечества. С другой стороны, политические силы, содействовавшие падению Польского государства, воображались в самом возмутительном виде, и факт раздела Полыни казался самым гнуснейшим актом насилия и коварства. Этот взгляд проповедовался поляками и между русскими — и те из русских, которых коробило от польских речей, не в состоянии были делать на них возражения, так как сами не менее поляков находились в неведении об этих вопросах…От этого в последнее время, незадолго до восстания шестидесятых годов, русская молодежь в известной степени симпатически относилась к польским политическим мечтаниям: находились русские, не только учившиеся истории, но и сами писавшие исторические статьи, которые по неведению местных вопросов, относящихся к Польше и вообще к Западному краю, склонны были верить, что Польша была демократична, — и вместе с тем готовы были признавать справедливость польских замашек — считать несомненною принадлежности Польши такие древние русские области, которые играли самую видную роль в русской истории дотатарского периода. Последнее восстание поляков просветило русский взгляд; сочувствие к польским претензиям уничтожилось после бесцеремонных выходок поляков, но правильного взгляда на своих врагов-соседей русские все-таки не получили. В патриотических статьях тогдашних русских газет это ярко выказывалось. Поляки возбуждали в русском обществе негодование, доходившее до ненависти, но полякам приписывали такие качества, каких вовсе не было в польской народности. Отдельные исключительные случаи, или признаки, общие всем народам в периоды мятежей и восстаний, провозглашались за характеристические черты польской народности. Чтобы поставить русское читающее общество на настоящую точку воззрений, надобно было представить ему беспристрастную картину старой польской жизни и событий, сопровождавших прекращение самобытности Польши. Эту-то задачу я задумал взять на себя в то время, как памятники Повонзковского кладбища расстилались перед моими глазами с воспоминаниями эпохи конца польской независимости». Позднее мысль была воплощена в исследовании «Последние годы Речи Посполитой».
Вернувшись в Петербург, ученый закончил работу над Смутным временем, и текст этого исторического исследования появился в журнале Стасюлевича «Вестник Европы» в 1866–1867 годах (печаталось исследование частями в течение двух лет).
Осенью 1866 года случилось еще одно важное для Костомарова событие. Он решился пойти на Смоленское поле, где 2 сентября наблюдал публичную казнь Каракозова. Вот как это запомнилось ученому: «Я решился пойти на это потрясающее зрелище для того, чтобы быть однажды в жизни очевидным свидетелем события, подобные которому мне беспрестанно встречались в описаниях при занятии историей. Меркантильное направление Петербурга поспешило из этого извлечь для себя выгоду: продавались довольно дорогою ценою скамьи, с которых удобно было видеть совершаемую казнь. Преступник, которого я до тех пор не видел, оказался молодым человеком лет 25-ти, чрезвычайно бледный и до такой степени истощенный, что, когда его ввели на эшафот и привязали к позорному столбу, он не устоял на месте и упал, но был поднят палачами. При вступлении на эшафот он положил на себя крестное знамение. Полицейский чиновник прочитал приговор, слова которого не доходили до моих ушей. Потом взошел к нему на эшафот священник, протоиерей Полисадов, бывший прежде профессором в университете, прочитал над ним отходную, дал ему поцеловать крест и удалился. Палачи стали надевать на него рубашку с колпаком, закрывавшим голову. Преступник сам помогал надеть на себя эту роковую рубашку. Палачи туго завязали ему назад руки, свели с эшафота и повели к виселице, сделанной глаголем и поставленной вправо от эшафота. Когда его подвели к петле, палач сделал ему два удара петлею по затылку, потом накинул ему петлю на шею и быстро поднял вверх по блоку. Я посмотрел на часы и заметил, что в продолжение четырех минут повешенный кружился в воздухе, бил ногою об ногу и как бы силился освободить связанные руки; затем движения прекратились, и в продолжение получаса преступник посреди совершенно молчавшей толпы висел бездвижно на виселице. Через полчаса подъехал мужик с телегой, на которой был простой некрашеный гроб. Палачи сняли труп и положили в гроб. Отряд солдат с ружьями провожал его в могилу, приготовленную где-то на острове Голодае. Толпа разошлась. Публика, как я заметил, относилась к этому событию совершенно по-христиански: не раздалось никакого обвинения и укора; напротив, когда преступника вели к виселице, множество народа крестилось и произносило слова: „Господи, прости ему грех его и спаси его душу!" Я достиг своей цели: видел одну из тех отвратительных сцен, о которых так часто приходится читать в истории, но заплатил за то недешево: в продолжение почти месяца мое воображение беспокоил страшный образ висевшего человека в белом мешке — я не мог спать. Успокоившись, я принялся за свои обычные занятия историею последних лет Речи Посполитой и разбирал материалы, хранящиеся в Литовской метрике при правительствующем Сенате». Только размеренный, хоть и тяжелый труд заставил его забыть недавнее зрелище. Он упорно трудился над публикациями актов Южной и Западной России, почти каждый год выпуская по тому. Затем напечатал в «Вестнике Европы» монографию о гетманстве Юрия Хмельницкого, «составленную по делам московского архива, и статью о первом разделе церквей при патриархе Фотии, написанную по поводу вышедшей тогда немецкой книги Гергенретера». Остальное время было отдано исключительно «Последним годам Речи Посполитой», публикация которой началась в 1869 году. Эти отнимающие много времени и сил занятия чередовались с чтением лекций. Посетив в 1870 году Киев, Костомаров вернулся домой с ревматической болью в затылке, которая с тех пор его не отпускала.
«Только в свободные от этой боли часы, — рассказывал он, — я мог предаваться прежнего рода трудам. В это время я написал и поместил в „Вестнике Европы" статью „Начало единодержавия в Древней Руси". Эта статья была сокращением мыслей, изложенных в более подробном виде в моих публичных лекциях, читанных в клубе художников в 1869— 70 годах, и по своей задаче составляла как бы продолжение статьи „О федеративном начале", появившейся некогда в „Основе". Я доказывал, что единодержавие у нас, как и везде в свете, явилось вследствие факта завоевания страны. Завоевателями нашими были татары — и первыми единодержавными обладателями Русской земли и ее народа были татарские ханы. Тогда вместо общинного старинного быта, не прекратившегося в удельные времена при князьях Рюрикова дома и выражавшегося автономическим значением земель или городов, появился своеобразный феодализм. С падением могущества золотоордынских ханов роль единодержавных обладателей стала переходить на их главнейших подручников — великих князей, которыми, по утверждении великокняжеского достоинства в Москве, делались один за другим князья московские, разрушая феодальные элементы и сосредоточивая верховную власть в одни руки. Я старался вывести характер московского владычества из самой истории его образования.
В 1871 году я напечатал в „Вестнике Европы" три статьи. Первая из них — „История раскола у раскольников" — заключала разбор неизвестного в печати исторического сочинения Павла Любопытного. В этом разборе я избрал себе задачею объяснить культурное значение великорусского раскола в духовной жизни русского народа. Другая статья — „О личности Ивана Грозного" — написана по поводу речи К. Н. Бестужева-Рюмина, где почтенный петербургский профессор вознес царя Ивана до небес как великого человека. Тогда же напечатано было там же рассуждение „О личности Смутного времени". В этой статье я указывал на то неприятное обстоятельство, что многие важнейшие личности знаменитейшего периода нашей истории, как, например, Михаил Скопин-Шуйский, Минин и Пожарский, представляются с такими неясными чертами, которые не позволяют историку уразуметь и в точности очертить их характеры. Статья эта вооружила против меня Ивана Егоровича Забелина и дала повод на его возражение писать в опровержение новую статью в 1872 году. Г. Забелин сообщал такой взгляд, что в России главную роль играл народ всею своею массою, а не типичными личностями, и потому историку не нужно гоняться за отысканием заслуг отдельных исторических лиц.
…Впоследствии на меня начал за то же нападать в московских газетах и Погодин, но последний прямо хотел доказать, что личности, за которыми я признавал неясность по источникам, напротив, очень ясны, и при этом приводил разные летописные похвалы, желая показать, что это именно те черты, в которых я как бы преднамеренно не усматривал никаких характеров. Возражения Погодина отзывались устарелостью, так как при современном состоянии науки всякий занимающийся ею легко мог понять, что чертами характеров нельзя называть похвалы летописцев, расточаемые обыкновенно по общим, предвзятым для всех приемам. Известно, что летописец о редком старинном нашем князе не наговорит несколько лестных слов в похвалу его добродетелям, но приводит обыкновенно такие черты, которые не представляют ничего присущего отдельному лицу, независимо от нравов того времени. С половины 1871 года я принялся за большой труд — писать сочинение „Об историческом значении русского песенного народного творчества". Это было расширение того давнего моего сочинения, которое некогда служило мне магистерской диссертацией. В 1872 году я начал помещать его в московском журнале „Беседа", издаваемом Юрьевым, но печальная судьба этого журнала, присужденного по не зависящим от редакции причинам прекратить преждевременно свое существование, лишила меня возможности окончить печатание моего труда. Я успел выпустить в свет только черты древнейшей русской истории доказацкого периода южнорусской половины, насколько она выразилась в народной песенности…
В 1872 году, продолжая в „Беседе" печатание моего сочинения о русской песенности, я начал писать статью „Предания первоначальной русской летописи", стараясь доказывать, что на события русской истории, до сих пор считаемые фактически достоверными, надобно смотреть более как на выражение народной фантазии, облекшейся в представления о фактах, долго признаваемых на самом деле случившимися… Разные газетные нападки и всякого рода печатные и словесные клеветы мало меня раздражали и вообще почти не мешали ходу моих ученых и литературных занятий, но нервные боли, проявлявшиеся прежде, как и теперь, преимущественно головными и глазными страданиями, составляли для меня постоянное несчастие. Я чувствовал, что под гнетом этих болей мои умственные силы ослабевали, пропадала энергия, мучило невольное бездействие, а если брал над собою волю, то это стоило мне больших усилий и я сознавал, что физические страдания отпечатлевались на моих произведениях, а перо мое делалось вялым, — по крайней мере, как я чувствовал, лишено было той живости, какую имело бы при более нормальном состоянии моих телесных сил. Еще более наводила на меня страх и уныние грустная мысль, что в будущем я должен ожидать себе худшего состояния и быть лишенным зрения, а с ним и возможности заниматься наукою, тогда как занятие это стало для меня необходимым как воздух».
Страх перед возможностью ослепнуть мучил его с юности, но сейчас он был более чем оправдан. Ему бы в таком состоянии получить приветливые слова, нет! Даже вручение премии за «Последние годы Речи Посполитой» оказалось поводом для отчаяния и негодования: хотя немецкий профессор Герман посчитал этот труд достойным большой премии, Академия решила дать ему малую, отговорившись тем, что у Костомарова нет семьи, следовательно, ему хватит и этих средств. Костомаров очень обиделся, он Академии этого так и не простил: больше никогда, ни под каким видом он не желал давать работы на академический конкурс! Обиду он, так же как и ужасы казни, превозмогал работой над монографией о гетманстве Дорошенко.
А в декабре 1872 года у него снова началась сильная боль в глазах. Работать он не мог. «Глазам моим от напряжения делалось все хуже и хуже, — говорил он, — сказали мне, что единственным спасением моим от слепоты будет, если я на продолжительное время стану воздерживаться не только от разбора старых бумаг, но даже и вовсе от чтения и письма. Я чувствовал в глазах страшную ломоту, доводившую меня иногда до крика; боли усиливались по вечерам, когда нужно было употреблять свечи, — лампы уже давно стали невыносимы для моих глаз. При таком состоянии моего зрения, при болях, невозможность предаваться любимым трудам по исследованию занимавших меня научных вопросов повергала меня в сильнейшую тоску, окончательно разбившую мою нервную систему. Я положительно пропадал от бездействия. Тогда по совету многих знакомых я решился приняться за составление „Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", предназначая эту историю для популярного чтения. Мысль эта уже много раз была настойчиво сообщаема мне знакомыми, но я не поддавался ей, будучи постоянно увлекаем другими вопросами отечественной истории. Теперь по причине решительной невозможности заниматься чтением источников и вообще тою подготовительною работою, какой требуют новые научные исторические труды, я решился последовать внушаемому мне намерению и приступил к составлению „Русской истории в жизнеописаниях". Отдаленные периоды русской истории с ее деятелями были уже во многих частях изучены мною при отдельных исследованиях, и потому предпринимаемая задача не представлялась трудною и беспокойною для моих нервов. Для сбережения глаз я пригласил жену моею бывшего приятеля г-жу Белозерскую читать мне вслух места, которые я укажу в источниках, и писать текст по моей диктовке. Ее сестра, г-жа Кульжинская, изъявила желание быть издательницею моей „Истории". Таким образом, я принялся за труд, подходивший к тому состоянию зрения, в каком оно у меня находилось. В мае 1873 года был уже готов первый выпуск моей „Истории". Отдавши ее в печать, я тотчас принялся за другой и тем же способом работал над ним.
Между тем на короткое время я обратился снова к эпохе Смутного времени. Появившаяся в „Журнале Министерства народного просвещения" статья Е. А. Белова силилась доказывать, что царевич Димитрий не был никем умерщвлен, а действительно сам себя зарезал в припадке падучей болезни, как показывается в следственном деле, которое после его смерти производил в Угличе князь Василий Шуйский. Статья Белова представляла новую попытку вносить в историю Смутного времени парадоксальные понятия, и я счел нужным опровергнуть ее и разобрал следственное дело об убиении царевича Димитрия, чтобы показать несостоятельность вытекающих из него заключений. По мнению, которое я изложил в тогдашней статье, царевич Димитрий был несомненно убит, но действительно ли Годунов давал приказание убить его, или его клевреты заблагорассудили сами угодить ему втайне и совершили убийство без его приказа, но с явным сознанием, что совершенное ими злодеяние будет ему приятно и полезно, — это остается в неизвестности. Что же касается до производства следствия Шуйским, то этот князь, собственно, и не мог по следствию отыскать убийц Димитрия: их уже не было на свете; оставалось поставить дело так, чтобы угодить сильному Годунову, иначе Шуйский не мог бы сделать последнему ничего особенно вредного, но вооружил бы его против себя напрасными попытками сделать ему вред».
Как только глазам стало немного лучше — он снова взялся за «Русскую историю в жизнеописаниях». К весне 1874 года было готово уже 4 выпуска этой «Истории», а также статья «Царевич Алексей Петрович», опубликованная в журнале «Древняя и новая Россия». Над «Историей в жизнеописаниях» ученый трудился до середины января 1875 года (было готово уже 6 выпусков!), и тут ему стало совсем плохо — оказалось, что это тиф. Будучи в самом тяжелом периоде болезни, он узнал, что от той же болезни, от тифа, умерла его мать. А в мае 1875 года историк наконец-то сделал то, чему воспрепятствовал арест в далекой юности, — он обвенчался со своей Алиной Леонтьевной. На этой счастливой ноте автобиография Костомарова завершается. Он прожил еще десять лет. В эти последние годы жизни он работал столь же упорно и постоянно, как и прежде. Но теперь его изложение истории становилось все суше и суше, словно болезнь унесла и живость ума, и яркость образов. Впрочем, он ведь был уже совсем не молод. Очевидно, к концу жизни он попробовал исправить, так сказать, ошибки, в которых его постоянно упрекали, — легкомысленное отношение к фактам, то есть те незначительные ошибки, которые происходили из-за сбоев памяти (Костомаров, увлекаясь, не всегда обращался к первоисточнику, поскольку памяти доверял больше). И в его работах последних лет факты выверены строжайшим образом, там — море фактов, иногда — просто перечень фактов… и как результат — крайняя сухость стиля, чего прежде в его трудах не было и быть не могло. Поэтому на эти работы последних лет стоит смотреть снисходительно. Страшно больной, изувечивший себя каторжным трудом историк и сам знал, что лучшее осталось уже в прошлом, пусть это прошлое было тяжелым и лишенным радости. Но в эти последние годы ему немного улыбнулась судьба, она его соединила с той самой невестой, которую отняла у него крепость, может, хоть это было наградой за каторжный труд? Умер Николай Иванович весной 1885 года.
Идеи, высказанные Костомаровым, постигла разная судьба. Одни были приняты историками и далее развивались, другие — забыты, впрочем, на их справедливости и сам Костомаров не всегда настаивал, третьи — были намеренно исключены из обращения. Это были те самые, неугодные идеи. И федеративная удельно-вечевая Русь, и первый самодержец — монгольский хан не могли обрадовать ни западников, ни славянофилов. Так что совсем не удивительно, что их просто признали ненаучными. Но без этих идей Костомаров — не Костомаров, так что нам с вами придется принимать его таким, каким он был, — с этим своеобычным и очень неудобным для всех образом мыслей. Поэтому в этой книге я расскажу не только его облегченную версию истории, записанную женой его друга, эти достопамятные «Жизнеописания», но буду говорить и о других его работах, куда как менее известных или совсем непопулярных. Моя задача, по сути, проста — собрать его мысли, объединить его исследования и на основе этого изложить вам другую, опальную историю. Историю нашего бедного униженного и порабощенного народа. Историю народа, который попал в рабство, живет в нем и считает почему-то, что это и есть порядок и свобода. Ибо та история, над которой до последних дней жизни трудился Костомаров, была не историей управляющего аппарата — государства, а была историей народа. Нарисованная мрачными красками, эта история на самом-то деле ничуть не противоречит летописям. Тем, кто умеет их читать, отбрасывая шелуху славящих князей слов, давно известно, что это кровавая и неприглядная история, от которой дыбом встают волосы и холод омерзения подымается к самому горлу. Но это наша родная история. Костомаров был прав: прошлое нельзя перечеркнуть, его нельзя забыть. То, что забыто, будет мстить тем, кто забыл.
Часть первая. Две русские народности
Киев и Москва
Современников Костомарова сильно раздражало то, что он вовсе не считал государство Россию наследницей древней Киевской Руси. Для него Днепровская Русь и Московская Русь были двумя не только разными государствами, не обладающими чертами правопреемственности, но даже государствами, населенными разными народами, хотя и оба — с сильным славянским элементом. Он искренне говорил, что русские и малороссы, или украинцы, за долгое время развития общества давно стали не единым русским народом, а двумя народами, близкими друг другу, но отличающимися даже национальными чертами характера и языком. Во времена Костомарова, как вы уже, наверно, поняли, была взята политика на истребление национального самосознания украинцев. Сам украинский язык в образованном обществе воспринимался только как язык некультурной толпы, в нем видели только смешные стороны, считали его языком простонародным, провинциальным и изо всех сил пытались вовсе образовывать молодые поколения на общепринятом русском, чтобы дети и внуки напрочь забыли свою неуклюжую малороссийскую речь.
Как человеку, рожденному на Украине, Костомарову это было и нелепо, и обидно. В малоросском языке он видел красоту и напевность, в характере украинцев — поистине южную бесшабашность и искренность, неумение приспособиться к условиям строго централизованного и бюрократического Российского государства. В этой дурной политике он видел только возможные будущие беды: нельзя же запретить матерям петь песни на родном языке? Нельзя же детей насильно заставлять говорить на чуждом им наречии, хотя и близком, но все равно «не своем»! Он предлагал вместо стандартного определения «русская народность» ввести в обиход другое словосочетание — «русские народности». Для ученого и украинец и московит были русскими, но в силу исторических причин из некогда единого смешанного населения образовались два народа — один южный, малороссийский, другой северный, великоросский. Что делить? Зачем делить? Не проще ли воспринимать сложившиеся народы как два родственных, а не подавлять один посредством другого?
Увы, эта национальная тема оказалась вполне актуальной и в наше время: точно так же при советской власти украинский язык пытались отменить и уничтожить, запрещая печатать на нем книги, а несчастных литераторов, желавших писать и говорить на родном языке, тут же зачисляли в националисты. После советской власти стало еще смешнее: школьники учат в школе историю Киевского государства, считая, что это история России, а украинские националисты заняты на Украине, то есть теперь, как стало принятым говорить — в Украине, запрещением русского языка, хотя на нем разговаривает половина страны. Кто прав? Кто виноват? Тут правых нет. Неправы ненавистники украинского, поскольку их претензии вполне очевидны — это больное наследие великодержавного русского шовинизма. Неправы украинские националисты, поскольку их страна — это сегодня вовсе не одни только малороссы, русских «великороссов» там вполне достаточно. И с языками нельзя поступать как с преступниками, то есть арестовывать, сажать за решетку и пытать, у языка — к несчастью для его гонителей — нет тела, за которое можно ухватить и применить смертную казнь. Язык все равно выживет, но народ, коему запрещают пользоваться родным языком, будет ощущать себя несчастным и обездоленным, что всегда выражается через некоторое количество десятилетий в бунтах, восстаниях и недовольстве. Костомаров — так уж случилось — первым озвучил проблему. Он не просто назвал черное черным и белое белым, он попробовал это еще и исторически доказать. Сами понимаете, шовинистам при царском режиме (как и их потомкам при советском и потомкам потомков при постсоветских режимах) такие доказательства были все равно что красная тряпка для быка. От деления единой русской общности на две они приходили в ярость.
При советских вождях в такую же ярость впадали защитники «великого и могучего», сталкиваясь с желаниями других народов, населявших огромную державу, восстанавливать по крупицам свою народную историю и писать и говорить на своем языке. Нет чтобы считать русский язык связующим между разными народами этой державы, что само по себе нормально! Русский язык стали считать почему-то единственно правильным, единственно достойным. Да сами подумайте, кто, например, какие-то зыряне, если они однажды были захвачены более сильными соседями, если их история — это история завоевания, то есть история побежденных? Историю пишут победители. Они и отменили этих зырян. Все стали русскими, а позже явилось внеязыковое, внеисторическое, государственное понятие — «советский человек», и автоматом зыряне стали… русскими, потому что всех на обозримом географическом пространстве одной шестой считали русскими. В паспортах этой замечательной эпохи русскими стали марийцы, татары, башкиры и прочие малые народы Российской Федерации. Украинцам в этом плане еще повезло — в союзных республиках в русские записывали не всех.
Так что неудивительно, что в середине 19 столетия, когда жил Костомаров, процесс русификации был процессом государственным. И неудивительно, что историк, посягнувший на святая святых — величие русского народа, не мог считаться правильным историком.
Но поглядим, что сам Костомаров вкладывал в понятие «двух русских народностей»: есть люди, которые говорят: русская народность, когда они должны были говорить: русские народности. «Оказывается, что русская народность не едина; их две, а кто знает, может быть, их откроется и более, и, тем не менее, они — русские. Мы как будто возвращаемся вспять: выплывают наружу погребенные элементы давно прошедших времен, когда слово Русь имело обширное и тесное значение, когда русский мир составлял цепь самобытных, но внутренне связанных частей; внутренняя жизнь разрывает внешнюю кору; тождество оказывается призрачным. Кроме господствующей во внешнем мире русской народности, является теперь другая, с притязаниями на равные гражданские права в области слова и мысли». Во времена Костомарова насильная русификация уже принесла свои плоды: образованные малороссы стыдились именовать себя украинцами, они предпочитали называться русскими, вот и приходилось историку отправляться в плавание по реке времени, чтобы увидеть то, что лежало за пределами русифицированного общества, — древние черты Древней Руси с ее разными, но не смешавшимися еще по приказу из Москвы родственными славянскими народами — южным и северо-восточным. Он считал, что, чем менее цивилизован народ, переменяющий место проживания, тем больше шансов у него сохранить самобытность, однако, сталкиваясь с соседями более развитыми, эти народы вынуждены налаживать контакты с соседями, перенимая у них то, что было успешнее или нужнее для выживания. В конечном итоге народы перенимают их образ жизни, привычки и даже веру, например, «если бы перевести толпу американских индейцев в Россию, то, при сообщении с русскими, они бы усвоили образ господствующей туземной народности», — говорил историк, вопрос в другом — стали бы они русскими?
В нашей истории не существовало замкнутых на себя народов, даже при перемещении на восток, не существовало мест, где туземный народ мог укрыться от внешних связей, и, даже если он так и оставался в пределах своего исконного обитания, приходили воинственные соседи, подчиняли этот народ, и со временем он тоже перенимал чужие черты — черты завоевателей. «Образование народности, — пояснял он, — может совершаться в разные эпохи человеческого развития — только это образование идет легче в детстве, чем в зрелом возрасте духовной жизни человечества. Изменение народности может возникнуть от противоположных причин: от потребности дальнейшей цивилизации и от оскудения прежней и падения ее, от свежей, живой молодости народа и от дряхлой старости его.
С другой стороны, почти такое же упорство народности может истекать и от развития цивилизации, когда народ выработал в своей жизни много такого, что ведет его к дальнейшему духовному труду в той же сфере; когда у него в запасе много интересов для созидания из них новых явлений образованности, и от недостатка внешних побуждений к дальнейшей обработке запасенных материалов образованности; когда народ довольствуется установленным строем и не подвигается далее. Последнее мы видим на тех народах, которые приходят в столкновение с такими, у которых силы более чем обыкновенно: верхние слои у этих народов усваивают себе народность чужую, народность господствующую над ними, а масса остается с прежнею народностию, потому что подавленное состояние ее не дозволяет ни собраться побуждениями к развитию тех начал, какие у ней остались от прежнего времени, ни усвоивать чуждую народность вслед за верхними слоями». Собственно, в его время такими народами оказались все, что не русские: высшие слои этих народов усвоили чужую культуру и чужой язык, а у низших остался только местный народный говор да устное народное творчество. Украинцам в этом плане «повезло» дважды: сначала по ним катком проехалась более развитая Польша, затем — на смену ей — Россия. То, что не добила польская культура, добила русская (московская), и Украина оказалась разорвана пополам — культурное общество изъяснялось, писало и мыслило сперва по-польски, потом по-русски, а народ практически не имел ни литературы, ни науки на своем родном языке, только песни и сказания — вот и вся эта малороссийская литература. Но ведь та история, которую «присвоили» себе великороссы, была украинской историей тоже! И если уж разбираться, чьим городом был Киев — русским или малоросским, то некогда он был древнерусским, потому хотя бы, что, когда Москва была небольшой деревней, Киев несколько веков был уже крупнейшим городом юга. И люди, которые жили в древние времена на Киевской земле, не успели еще смешаться с северо-восточными дикими племенами и дать основу для будущего народа — великороссийского. Если искать, грубо говоря, родину Москвы, то искать ее нужно в Киеве.
Земли восточных славян до 962 года
Еще ранее, говорит Костомаров, славянское племя уже успело разделиться на разные ветви: антов, славов и венедов. Вне сомнения, каждый из указанных славянских народов имел еще более дробное деление. Все племена постояно друг с другом враждовали, а там, где существует вражда, образуются этнографические особенности и отличия. Если у Прокопия Кесарийского было названо всего две славянских ветви — анты и славы, то у Иорнанда — уже три: анты, славы и венеды, а у Константина Багрянородного — их множество. «Древнейшие известия о народах, занимавших Южнорусскую землю, — писал ученый в исследовании „Черты народной южнорусской истории", — очень скудны; впрочем, не без основания: руководствуясь как географическими, так и этнографическими чертами, следует отнести к южнорусской истории древние известия об антах, по крайней мере к юго-западной отрасли этого народа. По известию нашего летописца, улучи, бужане и тиверцы имели много городов по Бугy и Днестру вплоть до устья Дуная и до моря; они назывались у греков Великая Скифь. Летописец наш понимал так, что под этим народом должно разуметь народ, известный грекам; и действительно, мы встречаем у греческих писателей антов — народ славянского происхождения, на тех же самых местах. Невозможно, чтоб под именем антов разумелись только днестрянские жители; без всякого сомнения, этому имени придавали пространнейшее географическое значение». Но были ли в древности следы существования южнорусской народности, было ли внешнее соединение славянских народов юго-западного пространства нынешней России в таком виде, чтоб они представляли одну этнографическую группу, задавался он вопросом. В летописях ответа на вопрос он так и не получил. Вот о белорусах можно точно сказать, что ее начало идет от племени кривичей, потому что этот тоже русский народ не переменил место жительства, разве что разделился на две части — западную и восточную, по разделу земель в пределах создавшихся государств. В южной же Русской земле называются по именам племена, которые к современности стали мифом, они потеряли свои названия. Но еще в XIX веке Костомаров прослеживал четкую связь единства древнего южнорусского общества в языке: одно наречие, хотя и с диалектическими отличиями, бытовало даже тогда в малороссийских и новгородских землях.
А что же Москва? Извините. Это другой язык. Костомаров считал, что новгородцы по языку ближе к Южной Руси, нежели к территориально ближней Москве! Язык запоминает исторические связи, он хранит память о единстве народа, и если у новгородцев язык другой, нежели в Москве, то и судьбы новгородцев и москвичей соединились позже, язык не успел забыть другой, более древней, настоящей связи. В древности, говорил ученый, эта связь крайнего севера и крайнего юга Руси была еще нагляднее, достаточно положить рядом две летописи — Южную и Новгородскую, они написаны практически на одном и том же языке. И это казалось ему наиболее ценным, поскольку Киев и Новгород очень далеки друг от друга, чтобы могли оказывать языковое влияние, следовательно, дело тут не во влиянии, а именно в родстве, в единстве народа. Это сродство, писал он, «указывает, что часть южнорусского племени, оторванная силою неизвестных нам теперь обстоятельств, удалилась на север и там водворилась со своим наречием и с зачатками своей общественной жизни, выработанными еще на прежней родине. Это сходство южного наречия с северным, по моему разумению, представляет самое несомненное доказательство древности и наречия и народности Южной Руси. Разумеется, было бы неосновательно воображать, что образ, в каком южнорусская народность с ее признаками была в древности, тот самый, в каком мы ее встречаем в последующие времена. Исторические обстоятельства не давали народу стоять на одном месте и сохранять неизменно одно положение, одну постать. Если мы, относясь к древности, говорим о южнорусской народности, то разумеем ее в том виде, который был первообразом настоящего, заключал в себе главные черты, составляющие неизменные признаки, сущность, народного типа, общего для всех времен, способного упорно выстоять и отстоять себя против всех напоров враждебно-разрушительных причин, а не те изменения, которые этот тип то усвоивал в течение времени и перерабатывал под влиянием главных своих начал, то принимал случайно и терял как временно наплывшее и несвойственное его природе».
Откуда появился этноним Русь
Наш летописец, оставивший Начальную летопись, указывал историк, не мог еще назвать одним именем упомянутые им славянские племена Восточно-Европейской равнины. Он знает их под именами полян, древлян, дреговичей, тиверцев, уличей, северян, бужан, волынян и прочих, но история дала им это имя, точнее имя той земле, где все они обитали, — Русь. Он считал, что это название — Русь — первоначально принадлежало «порусско-варяжской горсти, поселившейся среди одной из ветвей южнорусского народа и поглощенной ею вскоре».
В XI веке название Руси проникло в земли Волыни и современной ученому Галиции, но еще не распространялось, как он пишет, на северо-восток (ростово-суздальские земли), Новгород и Полоцкое княжество. В XII веке Русью в Ростово-Суздальской земле называли конкретное географическое понятие — южную и юго-западную территорию. Замечу, что даже более поздние по времени Новгородские летописи Русью называют только нынешнюю территорию Украины, Полоцк сначала выделяется особо, затем ассоциируется с Литвой, а северо-восток с будущей его столицей Москвой имеет точное наименование: это вовсе не Русь, это «низовские земли», или «понизье».
«Это название, отличное от других славянских частей, — говорил Костомаров, — сделалось этнографическим названием южнорусского народа; мелкие подразделения, которые исчислил летописец в своем введении, изчезли или отошли на третий план, в тень; они были, как видно, не очень значительны, когда образовалось между ними соединение и выплыли наружу одни общие, единые для них признаки. Название Руси за нынешним южнорусским народом перешло и к иностранцам, и все стали называть Русью не всю федерацию славянских племен материка нынешней России, сложившуюся с прибытия варягов-руси под верховным первенством Киева и не исчезнувшую, в духовном сознании, даже и при самых враждебных обстоятельствах, поколебавших ее внешнюю связь, а собственно юго-запад России, населенный тем отделом славянского племени, за которым теперь усвоивается название южнорусского или малороссийского. Это название так перешло с последующих времен. Когда толчок, данный вторичным вплывом литовского племени в судьбу славянских народов всей западной части русского материка, соединил их в одно политическое тело и сообщил им новое соединительное прозвище — Литва, это прозвище стало достоянием белорусского края и белорусской народности, а южнорусская осталась с своим древним привычным названием Руси». Позднее, в XV веке, иностранные путешественники четко делили все земли восточных славян на четыре известные им части — Новгород, Литва, Московия и Русь. В XVI–XVII веках, когда Новгород был уничтожен московскими завоевателями, осталось три части — Литва, Московия и Русь. Русь имела точное географическое положение — Малороссия, или Украина.
«На востоке имя Руси, — пояснял далее ученый, — принималось как принадлежность к одной общей славянской семье, разветвленной и раздробленной на части, на юго-западе это было имя ветви этой семьи. Суздалец, москвич, смолянин — были русские по тем признакам, которые служили органами их соединительности вместе: по происхождению, по вере, по книжному языку и соединенной с ним образованности; киевлянин, волынен, червонорус — были русские по своей местности, по особенностям своего народного, общественного и домашнего быта, по нравам и обычаям; каждый был русским в тех отношениях, в каких восточный славянин был не русский, но тверитянин, суздалец, москвич. Так как слитие земель было дело общее, то древнее название, употребительное в старину для обозначения всей федерации, сделалось народным и для Восточной Руси, коль скоро общие начала поглотили развитие частных: с именем Руси для них издревле соединялось общее, сравнивающее, соединительное. Когда из разных земель составилось Московское государство, это государство легко назвалось Русским, и народ, его составлявший, усвоил знакомое прежде ему название и от признаков общих перенес его на более костные и частные признаки. Имя русского сделалось и для севера и для востока тем же, чем с давних лет оставалось как исключительное достояние юго-западного народа. Тогда последний остался как бы без названия; его местное частное имя, употреблявшееся другим народом только как общее, сделалось для последнего тем, чем прежде было для первого. У южнорусского народа как будто было похищено его прозвище».
Увы, у этого южнорусского народа было похищено не только его «прозвище», но и его история. Когда московская часть Восточно-Славянской земли стала называть себя русской, или Московской Русью, а в обиходе и вообще Русью, этот народ остался и без имени, и без истории. Московские владыки вели счет своих князей с южнорусских, а свою историю — с разрушенного монголами Киева, слава которого осталась уже далеко в прошлом. В червенских городах, то есть на землях Галиции, за жителями бывшей Червонной Руси сохранилось наименование русских или русинов, потому как они сильно отличались хотя бы по греческой вере от входящих с ними в одно государство поляков. Русские, оказавшиеся под немцами, так и остались русинами или русскими, тот же самый процесс самонаименования происходил и на территории Венгрии, в бывших Угорских землях. У всех них был один богослужебный язык, одна вера и одна древняя история. В среде чужих народов, считал Костомаров, русским не нужно было искать для себя имени — оно у них уже имелось. Другое дело — Северо-Восточная Русь, которая подмяла под себя южноруссов. Им пришлось потерять свое настоящее имя, ведь между югом и северо-востоком была такая этнографическая и культурная разница, что называться русскими, будучи русскими, в этом русском мире они уже не могли. Так появилось другое имя — малоросс, в отличие от северо-восточного великоросса. «Этих народных названий являлось много, — говорит Костомаров, — и, правду сказать, ни одного не было вполне удовлетворительного, может быть, потому, что сознание своенародности не вполне выработалось.
В XVII веке являлись названия: Украина, М&юроссия, Гетманщина, — названия эти невольно сделались теперь архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни третье не обнимало сферы всего народа, а означало только местные и временные явления его истории». Позднее образовалось название «южнорус», но оно тоже оказалось неустойчивым, более книжным, нежели разговорным. При Екатерине Великой случился и вообще казус: императрица высочайшим установлением велела московским русским более не называться москвитянами, а только русскими, таким образом окончательно отняв у южан именование русских… За южанами постепенно прижилось довольно уничижительное именование хохлов (от оселедца, который считался признаком сугубо южной прически). Южнорусы-хохлы сначала это название не принимали, а потом… привыкли. Так что бывшие малороссы влились в русскую действительность как хохлы. Вот уж, действительно, непостижимы пути Господни!
Очень трудно судить об общественном развитии и жизни народа, указывал Костомаров, исследуя сугубо летописные сведения, потому что летописи не интересовались жизнью народа, они сосредоточены вокруг событий, важных для земель, вокруг власти — то есть князей, междоусобиц между ними, и церковной жизни. Но даже этих скрытых под летописным грунтом намеков достаточно, чтобы понять: Южная Русь выбрала свой, особый путь развития, не похожий на северо-восточный или северный. Достаточно сравнить летописи, чтобы вдруг увидеть — одни и те же вроде бы общие начала дали совершенно разные плоды. Сначала разница была заметна уже между Киевской землей и Новгородской, но еще большая пропасть разделяет с XII века южные и северо-восточные земли. Летописные источники тут нас могут разве что удивить: если на юге события описываются красочно и детально, то в Новгороде, а потом на северо-востоке записи, по словам Костомарова, выглядят как «оглавление утраченного летописного повествования» — настолько сжаты описания, кратки и дают сухой перечень фактов, но не живую ткань повествования. А от Суздальско-Ростовско-Муромско-Рязанской земли, по его словам, не осталось даже и оглавления. Не странно ли, если знать, что именно этот северо-восток стал затем ядром, вокруг которого формировалось большое русское государство? Древние времена скрыты точно густым слоем тумана.
«При невозможности рассеять его густые слои, — писал Костомаров, — остается или поддаться искушению и пуститься в бесконечные догадки и предположения, либо, как некогда делали, успокоиться на утишающей всякое умственное волнение мысли, что так угодно было верховному Промыслу и что причины — почему великорусская народность стала такою именно, какою явилась впоследствии, зависели от неисповедимой воли. И тот и другой способ мышления не удовлетворяет нашей потребности. Догадки и предположения не сделаются сами собою истинами, если не подтвердятся или очевидными фактами, или несомненной логической связью явлений. Мы не сомневаемся в Промысле, но верим при этом, что все, что ни случается в мире, управляется тем же Промыслом — как известное, так и неизвестное, а опираясь в суждениях только на Промысел, не останется ничего для самого суждения. Дело истории — исследовать причины частных явлений, а не причину причин, недоступную человеческому уму. Единственно, что мы знаем о северо-востоке, — это то, что там было славянское народонаселение посреди финнов и с значительным перевесом над последними, — что край этот имел те же общие зачатки, какие были и в других землях русского мира, но не знаем ни подробностей, ни способа применения общих начал к частным условиям». А между тем по описанным в летописях событиям Южной Руси, добавляет он, можно вполне судить о единстве живущего там народа, несмотря на постоянные стычки между князьями, южнорусские земли точно тянутся одна к другой, не желая разрывать единства. Не так складывается у кривичей: Полоцкое княжество построено по принципу федерации. Зато северные новгородские земли, по его замечанию, более склоняются к южным, несмотря на значительную отдаленность. Итак, Полоцк ближе к Киеву, но имеет больше отличий, чем Новгород, который географически дальше. Почему? Ученый видел причину в этнографической близости северян-новгородцев и южан-киевлян.
Земли русского северо-востока (XII век)
Зато с XII века вдруг образуется целый ряд северо-восточных земель, которые строятся по иному принципу и имеют иные порядки. Начинается это с Андрея Боголюбского, избранного (так по Костомарову) особым князем Ростово-Суздальской земли. Это как бы точка отсчета, князь Боголюбский. До него северо-восток имеет неопределенную историю, он находится в сфере юга, служит его далекой и не самой приятной окраиной, но с 1157 года неожиданно становится альтернативой югу. Есть Киев, вокруг которого сталкиваются интересы южных князей, и есть Владимир, городок пока что никудышный, но, тем не менее, для Андрея перспективный, поскольку именно с этой мошки на карте и начинается созидание иного мироустройства.
«Тогда-то явно выказывается своеобразный дух, — добавляет Костомаров, — господствующий в общественном строе этого края, и склад понятий об общественной жизни, управлявший событиями, — отличие этих понятий от тех, которые давали смысл явлениям в Южной Руси и в Новгороде. Эпоха эта чрезвычайно важна и представляет драгоценный предмет для исследователя нашего прошедшего; тут открывается нарисованная, хотя не ясно, наподобие изображений в наших старых рукописях, картина детства великорусского народа. Тут можно видеть первые ростки тех свойств, которые составляли впоследствии источник его силы, доблестей и слабостей. Словно вы читаете детство великого человека и ловите, в его ребяческих движениях, начатки будущих подвигов». Сам факт единого избрания Андрея по всем северо-восточным землям заставляет историка воскликнуть, что изгнание родичей Андрея из их законных земель было не индивидуальным решением Андрея, а приговором всего северо-востока. В этом, конечно, с Костомаровым согласиться нельзя. Он стремится не видеть властолюбивого характера князя и умения вовремя устранять соперников, приписывая народу это как бы единогласное избрание. Историки, писавшие после Николая Ивановича, на московскую приманку единогласного избрания уже не попались: они хорошо представляли, что на северо-востоке о каком-то избрании и речи идти не могло. Даже если бы тогда существовала некая избирательная система и бюллетени «за» и «против» Андрея, все равно все бюллетени или почти все показали бы «единогласное» решение. Костомаров не учитывал, что с вечевым управлением городами северо-востока было плохо, совсем плохо. Эти земли почти не имели городов с вечем, вместо веча там был князь, владелец города.
Историк этого не понял. Он приписал изгнание братьев или внезапное ухудшение здоровья, которое прекращало их княжеские функции, к единогласному приговору всей земли. Причем сам же и отметил, что после Андрея, то есть при менее готовых к полной власти князьях, оных бывало и по нескольку сразу. Сам он видел в этом не противоречие собственным словам, но просто постепенное поступательное движение. Хотя, если Андрей смог «единогласно» избраться, почему не могли другие? Аппетиты у потомков родичей Андрея были ничуть не хуже! Но… не смогли. Значит, и единогласие народа — фикция. Был захват. Да и какое и с кем единогласие? С муромой, мордвой, черемисами и другими финскими народами? Православных с язычниками? С единогласием на северо-восточной окраине дела были плохи. Единогласие могло дать только право сильного. Его-то Андрей и применил. И между прочим, это даже на северо-востоке почему-то многим не понравилось. Будь иначе, так дожил бы Андрей до глубокой старости, а не закончил свои дни голым трупом, выброшенным заговорщиками в огороде.
Тут Костомаров неправ. Однако он совершенно справедливо заметил, что эта Владимирская земля стала понемногу стягивать вокруг себя другие княжества. Тогда уже появилось желание этого ничем не примечательного городка захватить все окрестные русские земли. «Так Муромская и Рязанская земли, — пишет он, — уже были подчинены с своими князьями князю ростовскосуздальскому. Это не были личные желания одних князей — напротив: князья, принадлежа к роду, которого значение связано было с единством всей Русской федерации, сами заимствовали в Восточно-Русской местности это местное стремление. Из нескольких черт, сохраненных летописцем, при всей скупости последнего на заявление народных побуждений, видно, что князья в делах, обличавших, по-видимому, их личное властолюбие, действовали по внушению народной воли, и то, что приписывалось их самовластию, надобно будет приписать самовластным наклонностям тех, которые окружали князей».
И снова вывод неправильный: не было народного побуждения, особенно у рязанских-то князей, слиться навсегда с владимирцами в едином порыве. По Костомарову выходит, что и Всеволод Юрьевич, якобы истый средневековый гуманист, решил вот князей рязанских из плена отпустить, а владимирцы этого не позволили, и когда на Торжок пошел, так тоже хотел дело миром решить, да его владимирцы обиделись и заявили, что они сюда пришли не целовать их, новгородцев, то есть. И даже всю борьбу владимирских князей с новгородцами он видит в этом чудесном свете давления на князей их стремящегося к единовластию окружения. Точка зрения более чем занимательная! Костомаров договорился даже до того, что не княжеские интересы вызвали противостояние Новгорода и Ростово-Суздальской земли, а прямо-таки «народный заказ», некие странные весьма народные побуждения. Ключевский позже назвал эти «народные побуждения» непомерной алчностью суздальцев, с этой алчностью и бились новгородцы, достигнув, действительно, единения, и выиграли знаменитую Липицкую битву. Народ же, по Ключевскому, был тут вовсе ни при чем: с действительно народным новгородским ополчением бились княжеские суздальские дружины. Однако Костомаров делает интересный вывод, трактуя события: «во время нападений князей Восточно-Русской земли на Новгород прорывалась народная гордость этой земли, успевшая уже образовать предрассудок о превосходстве своего народа пред новгородцами и о праве своего первенства над ними».
Что было — то было. Как нарисовались первые владимирские князья захватчики, так ими и оставались, почему уязвляли народную гордость новгородцев. Впрочем, это «право первенства» и в самом деле глубоко засело в головы владимирских князей. «Вместо Киева южного, — говорит Костомаров, — явился на востоке другой Киев — Владимир; по всему видно — существовала мысль создать его другим Киевом, перенести старый Киев на новое место. Там явилась патрональная церковь Святой Богородицы Златоверхой и Золотые Ворота, явились названия киевских урочищ: Печерский город, река Лыбедь. Но нельзя было старого Киева оторвать от днепровских гор; те же отростки под северо-восточным небом, на чуждой почве, выросли иначе, иным деревом, — другие плоды принесли». Соглашусь: ростки были другими и плоды — тоже.
Князь и вече (XI–XIII века)
Основное расхождение между северо-востоком и остальными «Русями» Костомаров видел в том, что «старые славянские понятия об общественном строе признавали за источник общей народной правды волю народа, приговор веча, из кого бы то ни состоял этот народ, как бы ни собиралось это вече, смотря по условиям; эти условия то расширяли, то суживали круг участвующих в делах, то давали вечу значение всенародного собрания, то ограничивали его толпою случайных счастливцев в игре на общественном поле. При этом давно уже возникла и укоренилась в понятиях идея князя — правителя, третейского судьи, установителя порядка, охранителя от внешних и внутренних беспокойств; между вечевым и княжеским началом само собою должно было возникнуть противоречие, но это противоречие улегалось и примирялось признанием народной воли веча под правом князя… Князь был необходим, но князь избирался и мог быть изгнан, если не удовлетворял тем потребностям народа, для которых был нужен, или же злоупотреблял свою власть и значение.
Принцип этот в XI, XII и XIII веках выработывается везде: и в Киеве, и в Новгороде, и в Полоцке, и в Ростове, и в Галиче. Его явление сообразовалось с различными историческими внутренними обстоятельствами и разными условиями, в какие поставлены были судьбою русские земли. Этот принцип принимал то более единовластительного, то более народоправного духа; в одних землях князья выбирались постоянно из одной линии, и, таким образом, водворение их приближалось к наследственному праву, и если не совершенно образовалось последнее, то потому только, что не успело заглушиться выборное право, которое, по своему существу, умеряло непреложность обычая; в других — в Новгороде — при выборе князя народная воля не соблюдала вовсе никаких обычаев преемничества, кроме насущных текущих условий края». Иными словами, для всех «Русей», кроме северо-востока, определяющими были приговор веча и принятый на службу князь.
Порядка наследования земель в Киевской Руси Костомаров не понимал. Он считал, что существовала как бы идея старшинства, но важнее был приговор веча. И в этом он был несправедлив: для Новгорода приговор веча был воистину важен, для Киева, как показал в своих исследованиях Соловьев, важнее была идея старшинства, так называемая княжеская «лествица», или лествичное право, от горожан мало зависело, какой князь садился в главном городе земли. Костомаров несколько идеализировал древнерусское право, это была сугубо романтическая точка зрения. В той древности он видел черты народного правления. Реально существовавшие изгнания князей киевлянами были, скорее, не правилом, а исключением, они совершались только в моменты исключительной опасности для горожан. В целом киевляне были приучены терпеть князей, положенных им по закону. Только уж самые возмутительные княжеские выходки могли вызвать гнев и — изгнание. В основном же изгнания осуществлялись другими князьями, если очередной киевский князь сел «не по праву». Вече существовало во всех древних русских городах, но значение этого веча были разные у новгородцев с полоцкими землями и у Днепровской Руси, а уж у северо-востока эти отношения и вообще с вечевым порядком рядом не ночевали. За вечем у южан стояли многочисленные князья из одного правящего рода — Рюриковичи, в северо-восточных землях эти родовые отношения такого значения уже не имели, там было, по сути, княжеское право, которое никакого веча не учитывало и если к таковому и обращалось, так только для проформы. Впрочем, и Новгород, с его бесконечными бунтами и мятежами, управлялся хоть и вечевым образом, но с подачи боярских партий.
Таким же боярским порядком, но с ограниченным вечевым элементом управлялся и червенский город Галич, куда галицкие бояре принимали князей и даже иностранных королей по собственному усмотрению. Великокняжеский Киев уж менее всего был вечевым городом, пусть вечевой порядок в нем никто и не отменял. Киев был единственным в своем роде, особым городом, столицей: туда мечтали попасть все южные князья, но его достигал только старший в роду. Какое уж там значение веча! «Читая историю Южной Руси XII и XIII века, — пишет Костомаров, — можно видеть юношеский возраст того общественного строя, который является в возмужалом виде через несколько столетий. Развитие личного произвола, свобода, неопределительность форм — были отличительными чертами южнорусского общества в древние периоды, и так оно явилось впоследствии. С этим вместе соединялось непостоянство, недостаток ясной цели, порывчатость движения, стремление к созданию и какое-то разложение недосозданного, все, что неминуемо вытекало из перевеса личности над общинностью. Южная Русь отнюдь не теряла чувства своего народного единства, но не думала его поддерживать: напротив, сам народ, по-видимому, шел к разложению и все-таки не мог разложиться. В Южной Руси не видно ни малейшего стремления к подчинению чужих, к ассимилированию инородцев, поселившихся между ее коренными жителями; в ней происходили споры и драки более за оскорбленную честь или за временную добычу, а не с целию утвердить прочное вековое господство».
Начало этому историк видел еще в долетописной истории, то есть во времена варягов, которые дали толчок самосознанию полян и определили их ведущую роль в древней истории.
Поляне, породнившие Русь
IX–X века
859 год — Первое упоминание Новгорода в летописи; призвание на княжение внука новгородского старосты Гостомысла конунга Рюрика
860 год — Первое упоминание Киева в летописи
Племена, жившие на территории еще не получившей русской государственности, в эпоху варягов были на совершенно разном уровне развитая. Поляне изображались первыми русскими летописцами наиболее цивилизованным племенем: в отличие от древлян они не умыкали девиц (то есть знали брак). «Как ни подозрительно могло бы казаться предпочтение, оказываемое в отношении нравственного образования полянам пред древлянами летописью, — пишет Костомаров, — но действительно поляне имели более залога образованности, чем древляне: первые обитали близ большой реки и, следовательно, могли завести удобнее знакомство с образованною Грецией и с берегами Тавриды, где еще сохранялись остатки древней образованности; поход Кия под Цареград, переселения Кия на Дунай и обратно — все это предания, в которых несомненно одно: давнее знакомство полян с Грецией. Договоры Олега и Игоря достаточно показывают древность сношений полян-руси с югом. Все, что говорится в этих договорах о Руси, должно относиться не только к чужеземной Руси, пришедшей в киевскую сторону, но и к туземцам Руси — полянам; ибо в договоре Олега говорится о возобновлении бывшей между христианами и Русью любви. Эта бывшая любовь, конечно, существовала между славянскими племенами и греками, и не только у полян, но отчасти и у других славянских народов, которые чрез посредство полян имели сношения с греками». То есть, по Костомарову, зачатки цивилизации на наши туземные днепровские берега были принесены греками, а если точнее — Византией, договоры с которой сохранились в этих летописях. Поскольку в договорах речь идет в основном о торговле, то ученый видел, что торговля с греками и была важнейшим родом деятельности этих полян. В Царьграде, по его мнению, существовало нечто вроде русской торговой фактории, то есть там постоянно жили русские купцы, которые занимались этим важным делом. Существование купцов ученый рассматривал как очень важный исторический факт: следовательно, поляне уже достигли определенного экономического развития, и в то же время этот факт свидетельствовал о разделении общества, об имущественном расслоении, а перечисленные предметы торговли — воск, мед и челядь, показывали и общественное состояние полян: у них имелось рабство, иначе бы поляне не торговали челядинцами, то есть рабами. Товары, которые закупали в Византии, тоже показывают существование целого слоя богатых людей — паволоки и дорогие изукрашенные одежды были предметами роскоши. К тому же поляне знали деньги, в договорах указаны греческие монеты. Если бы, скажем, денежные знаки были у этого племени в диковину, то указывалась бы другая единица расчета. Однако Ключевский, например, упоминал, что наряду с греческими монетами и русскими деньгами имели хождение «меховые деньги», и ходили, однако, эти куски звериных шкурок не в каком-то девятом веке, а даже во вполне уж цивилизованном четырнадцатом (правда, упоминание меховой денежной единицы относится уже не к полянам). В этой древнеполянской среде вполне уже было известно и о греческом православии.
«Едва ли можно предположить, — пишет он, — чтоб только с половины IX века, то есть с Аскольда и Дира, проникло христианство в Киев; легенда об апостоле Андрее есть не что иное, как апофеоз памяти о древнем христианстве в той стране. Не может быть, чтобы христианская вера не проникала туда издавна путем торговли и путем проповеди. С половины IX века мы узнаем уже об открытом крещении Руси от многих византийских летописцев. Патриарх Фотий в окружной грамоте оповестил отрадное и счастливое для всей христианской церкви событие — обращение русов. С тех пор христианская вера расцветала в Киеве и расширялась. В договоре Игоря мы встречаем и церкви — церковь Ильи, которая была соборная; из этого видно, что были еще и не соборные. Летописец, назвав эту соборную церковь, заметил, что и многие варяги были крещены. Видно, христианство было настолько распространено, что могло привлечь к себе скоро пришельцев: если б число христиан было незначительно, то христианство едва ли могло бы иметь такое влияние на них, будучи религией только немногих». Но так поднимая культурный статус полян, Костомаров считал, что между ними были постоянные распри и в конце концов это цивилизованное племя вынуждено было покориться первым же «находникам» с севера, имея в виду Аскольда, Дира и Олега.
864 год — Захват Аскольдом и Диром Киева
«Без сомнения, — добавляет он, — сравнительное пред соседями превосходство образованности Киева и полян еще в язычестве содействовало тому, что этот народец соделался после крещения центром, связующим остальные племена славян. Иными являются древляне, их соседи. Здесь опять приходится то же сказать, что сказано уже по поводу полян. Описание древлян в черных красках, как, напротив, противников их — полян в светлых, показывает, что летописец не был изъят от народной нелюбви к древлянам, как не был изъят от привязанности к полянам».
По Костомарову, до варягов еще полянам пришлось иметь столкновения с Хазарским каганатом, которому они вынуждены были платить дань, поэтому и первый князь — креститель Руси именовался на этой Полянской земле каганом. Впрочем, насколько поляне были под властью каганата, об этом ученый умалчивал. Судя по всему, время каганата закончилось с походами Святослава, к этому времени в земле полян было уже немало христиан греческого образца. При тесном общении с Византией такое должно было случиться. И именно этим фактом — наличием большого числа верующих, он и объясняет, почему крещение народа в Киеве прошло практически бескровно (напротив, попытка ввести язычество была более болезненной и бесперспективной), но так было лишь в упомянутом Киеве.
В другом крупном городе Руси Новгороде это было совсем не так безоблачно. «Там Добрыня должен был употреблять оружие и огонь, чтобы приводить новгородцев на путь истины и спасения». Отличный, конечно, способ направить жителей Новгорода, по Костомарову — отделившуюся ветвь от племени полян, — на путь истины и спасения.
Равноапостольная Ольга 945–969
Итак, поляне — отличное цивилизованное племя, все остальные отличаются дикостью. Самое дикое из них — древляне, которые живут в непроходимых лесах и болотах, почему и не достигли Полянского уровня образованности, там им не до цивилизации — выжить бы. Это племя, конечно, в летописи представлено в наиболее отвратительных красках. Именно эти древляне убивают князя Игоря, мужа Ольги, а потом еще и пытаются сосватать ей какого-то своего и вовсе не варяжского рода князя Мала.
«Из рассказов, которые летопись помещает по поводу прибытия послов Мала к Ольге, — поясняет историк, — видно, что о них ходили такие же анекдоты, обличающие их глупость, какие и теперь ходят о полещуках, потомках старинных древлян. Так, древлянские послы некстати говорят: „мы не идем и не едем на лошадях, а несите нас в ладьях“; и когда их несли в ладье — о них говорит летописец, — что они в перегбех в великих сустугех гордящеся. Ольга заманила их в западню. Цель рассказа показать глупость и несмышленость древлян, так как они не могли предвидеть своей беды. В том веке, когда еще были слабы узы обществ, сила и хитрость брали верх, и ум измерялся именно тем, чтоб не попасть в обман. Повесть не ставит в упрек Ольге ее вероломных поступков, но выставляет глупым народ, который легко было надуть. Древляне не были знакомы с духом мести и потому так доверились; это показывает, что у славян вообще она была мало развита: иначе, если бы даже предположить, что у полян существовала святость мщения, а у древлян ее не было, то все-таки последние не доверились бы своим врагам; но, еще не зная пришельцев с Балтийского поморья, они думали, что можно и с ними поссориться и потом помириться безопасно. Ольга пользуется новостью обычая, а уважительный тон повести об Ольге показывает, что славяне стали сами заимствовать этот обычай: впоследствии он как будто пропадает, ибо даже в драках наших позднейших князей замечается, как он смягчался и исчезал, — несомненно, что, кроме христианства, на ослабление его действовал также перевес славянского элемента перед пришлым».
У этого народа древлян, по Костомарову, еще сохранились первобытные обычаи, которые у полян «изменились под влиянием несколько высших понятий», то есть, читайте — религии. Управляли деревскими землями несколько неизвестных князей, ясно только, что это были местные князья, а скорее — старейшины родов. Однако, отказывая древлянам в цивилизованности, Костомаров тут же добавлял, что, «живя в лесных деревнях, древляне строили города, которые, по общему славянскому обычаю, имели значение господствующих местностей. Вместе с тем города были местом большей культуры, состоящей в земледелии; города древлянские не были тем, чем впоследствии обозначалось это название, вблизи них жители занимались земледелием. В деревнях занимались более звероловством. Все города с землями составляли одну союзную землю, и существовало сознание о ее единстве; потому что когда Ольга покоряла древлян, то обходила с сыном Святославом всю Древлянскую землю». Убейте меня, не понимаю, как нецивилизованное племя может строить города и даже иметь понятие о единстве своей земли. Впрочем, не только я этого не понимаю, этого не понимали и критики Костомарова, и те, что справа, и те, что слева. Тут, скорее всего, просто смешение временных пластов: летописец, называя племена, живущие на Восточно-Европейской равнине, имел в виду незапамятную давность, когда древляне еще «ели нечисто», то есть занимались каннибализмом и не знали брака, а при Ольге они тоже успели цивилизоваться, пусть и не так здорово, как упомянутые поляне. Ольга, впрочем, ответила им совсем нехристианской местью и привела всю деревскую землю к порабощению. Это было именно порабощение, а не подданство, добавляет Костомаров. Хоть за это ему спасибо.
Это, несомненно, было порабощение. Во-первых, древлянских мужей отдали в работу мужам Ольги, то есть — в рабство. Во-вторых, Ольга установила ловища, куда древляне должны были доставлять тяжелую дань звериными шкурами, которые затем шли на экспорт в Византию. А город Искоростень, как пишет Костомаров, был и вовсе стерт с лица земли, а жители убиты и пленены. «Покорение древлян, — развивает ученый свою мысль, — способствовало к формированию и усилению высшего класса, оседлости пришельцев и смешению народностей. Если бы принимать произвольно созданную нашими историками-исследователями теорию родового быта с патриархами-родоначальниками; если бы родовая связь поглощала семейную, тогда надобно было бы принять издревле строгое аристократическое начало, возвышение нескольких родов, унижение и порабощение других. Но, изучая историю славянских народов, и в особенности русского, замечая следы старого быта в памятниках, не видно, да и предположить нельзя, чтобы на родовых основаниях семьи находились под какой-нибудь зависимостью от известных лиц-родоначальников; а поэтому невозможно было образоваться родовому рабству, т. е. такому рабству, когда прежняя власть отеческая, по мере родственной отдаленности тех, которые должны были находиться к ней, так сказать, в сыновнем отношении, перешла во власть господскую. Семьи делились, и каждая семья, если бы и сознавала связь с другою, то не была зависима одна от другой. Покорение древлян если не вносило в жизнь южнорусских славян рабство вновь, то усиливало его, распространяло, упрочивало те начатки его, которые существовали исстари, ибо целый народ объявлен был в рабстве. И это возвысило высший класс. Появлялись бояре, сильные, подобные князьям, имевшие свои дружины в Киеве, о которых осталась память даже в песнях (например, Иван Годинович, Чурило Пленкович). По происхождению своему эти бояре, как они назывались, были, во-первых, варяги-пришельцы и, во-вторых, — русы-поляне, с массою которых совершилось порабощение древлянского народа. Поляне, и прежде ставшие уже в уровень с пришельцами, скоро усвоившими их народность, теперь еще более сливались; они пользовались равенством господских прав над покоренным народом: и пришлец, и полянин-русин равным образом были господа, высший класс в отношении древлян. Часть порабощенного народа переведена была в землю полян — Русскую, другая осталась на месте, и русы-поляне делались владельцами в земле древлян. Иначе не могло быть: надобно же было держать в покорности порабощенный народ».
Однако о цивилизаторах полян, о чужих князьях, севших управлять полянами, Костомаров имел смутное представление. Он считал саму летописную историю с призванием варягов басней, которой верить нельзя, поскольку в таком же виде эта легенда о призвании существует у многих европейских народов. Происхождение первых поработителей полян он тоже назвать конкретно не мог, сделав в пику норманнистам предположение, что оные пришли вообще из Литвы, то есть с земель, которые спустя века стали Литвой. Сам на этом литовском варяжестве он не настаивал, поясняя, что в басне могут присутствовать совершенно разные действующие лица — хоть шведы, хоть балты, хоть пруссы. Этим басня и отличается от исторического факта. А факта — увы — нет. Нет факта — нет веры летописной записи. Но то, что в Киеве было полно чужеземцев, это отлично видно хотя бы по договорным грамотам первых князей — там сплошь неславянские имена. Да и путешественники тоже сообщали, что в городе Киеве общались с выходцами из Швеции.
Историк считал, что само по себе появление чужих княжеских родов не принесло особых изменений: эти пришлые завоеватели благополучно рассосались в среде туземцев. Если Ключевский видел в «руси» особый завоевательский класс, присвоивший чужие земли и занявшийся их управлением, то есть что эта «русь» и создала основу для древнего Днепровского государства, то Костомаров считал, что завоевательный процесс в Приднепровье начался с Полянской экспансии, кем бы она ни возглавлялась, а «призванные» князья были аналогом приглашенных в более поздние времена. И с покорения Деревской земли, считал он, началась раздача земельных владений в нечто подобное лену западной истории.
Князь-язычник Святослав 964–972
Позже, уже при Святославе выделение этой же Древлянской земли сыну Олегу Костомаров воспринимал как начало удельного деления. Но именно Ольгина месть положила начало большим и успешным завоеваниям полян. «Такое отношение двух соседних народов, — объяснял он, — должно было развить в обоих разные взгляды и характеры. Поляне — народ победительный. Древляне — покоренный; первые — господа, вторые — рабы, и, конечно, из этого должны были произойти разные проявления общественного и домашнего быта, разное течение истории. Киев делался центром управления народов не только близких, но и более далеких. Покорение древлян, показавшее силу Русской земли, еще более должно было утвердить мысль о первенстве ее над другими народами. Но так как ни обстоятельства не способствовали утверждению централизации, ни понятия о ней не развивались, то вместе с другими землями и древляне скоро начали жить самобытною жизнью уже в удельном порядке…»
С покорения древлян, по Костомарову, собственно, и началась идея о правомерности одного княжеского рода править всеми завоеванными территориями: «В продолжение тридцати лет расселившиеся по Древлянской земле русины успели пустить в народе идею, что над ними имеет право владеть княжеский род; а потому оппозиция, если б и была, то происходила бы уже под влиянием этого нового, умеряющего начала». Иными словами, произошел прецедент: свершенное однажды закрепилось как данное по праву. Аналогичное присоединение, хотя и без летописной красочности, как в рассказе о древлянах, произошло также с уличами и тиверцами, северянами и прочими племенами. Костомаров считал племя полян мирным, хотя и сведущим в мореходстве. Когда над ним установили власть пришлые и отважные мореходы с севера, началась череда походов на Византию, с которой прежде в войны поляне не вступали. Эти походы были своего рода способом побыстрее объединить разрозненные племена, чтобы, само собой, ими владеть и управлять. «То была приманка для удалых того века, — говорит историк, — собираться под знамена вещего князя, идти в далекую сторону и воротиться оттуда с добычею, привести паволок и золота; хвастаться пред теми, кто оставался дома, передавать добычу детям на память отцовской славы. Предводители народцев легче становились подчиненными киевскому князю, когда он их обогащал. Это, соединяя народы, мало-помалу подклоняло их под власть единого рода и приготовляло к новому порядку, когда в разных частях русского мира должны были явиться князья, хотя особые, но связанные между собой и родом, и единством страны».
Больше всего, конечно, от этой приманки выигрывали поляне и пришлые северные мореходы. Жажда легкой добычи сделала местных князьков слепыми, они сами легко попали в ловко сплетенные Полянские сети и привели туда следом все свои небольшие народцы. Но особенно большие завоевательные планы строил сын Ольги Святослав — он вообще решил прибрать к рукам всю Болгарию. «Завоевание Болгарии, — объяснял Костомаров, — по современным понятиям, не было чем-либо отличным от покорения древлян и тиверцев или присоединения их к Киеву. Болгары — самая близкая к русским славянам народность: тогда еще языки их и нравы не так различались, как после; между ними так было много общего, что киевляне именно шли туда не с мыслью о завоевании чужого, а руководясь побуждением близости соединения славянских народов, долженствующих войти в закладку новой державы. Пределы этой державы расширялись, по мере того как народный взор встречал сходственное с своею народностью. О болгарах могла явиться также мысль, что они должны войти в русский мир. Можно с этим вместе проникнуть, каким образом у
Святослава и у товарищей его возникла идея поселиться в Переяславле-Дунайском… Князья своими походами привлекали их (удальцов. — Авт.) с разных сторон славянорусского мира, составляли из них подвижное население кочующих молодцов, наездников и пиратов, готовых жить везде, не жалея о родине: отечеством их делалось море или степь, — то были запорожцы своего века; вот этих-то удалых и увел Святослав в Болгарию». Забавно, но в удалых сторонниках Святослава историк видел начало малоросского казачества. Впрочем, если принять описание Святослава в византийских источниках, то внешне — да, форма одежды, прическа и украшения явно напоминают будущие портреты казачьих молодцев: оселедец, усы, серьга в ухе (она особенно запомнилась византийцам), нечто похожее на шальвары, пояс — чем не древний казак? Тем же образом описывались и разные древние русы, с которыми сталкивались в странствиях восточные путешественики.
Но хотя Костомаров не уставал повторять, что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям, бывает, что одинаковые описания принадлежат разным эпохам и разным общественным слоям. Из Святослава казак был бы отвратительный: он был мореходом, но не всадником. Когда войско Святослава решило драться конными, оказалось, что сидеть на коне русы не умеют. Прошли века, пока из Полянского морского разбойника получился казачий всадник с кнутом и саблей в руке.
То, что войско первых князей было фактически речной или морской разбойной шайкой, что перед всеми прочими средствами передвижения они отдавали предпочтение моноксилам и лодкам, — это факт. Если необходимо было передвигаться по суше, желание совершать набеги быстро угасало. И первыми «присоединенными» оказались народы, жившие именно по рекам. Те, что оказывались в стороне от речной сети, так и остались еще долго «неучтенными». Если уж приходилось идти в сухопутные походы, то войско чаще всего было пешим. Вероятно, по этой причине объединителям-полянам так несладко пришлось со степняками-печенегами при Святославе и половцами при его потомках.
Киев в эпоху Владимира Святого 956—1014
Разбоем добытые богатства князей шли на украшение Киева. Еще в хазарские времена город был большим и красивым — так его описывали путешественники. В нем было множество церквей и восемь торговых площадей — для той эпохи предел мечтаний. Киев строился за счет выгодных торговых сделок, грабежей и дани с подвластных племен. Примерно так сегодня отстраивается наша Москва — за счет регионов. Киев был центром Руси, куда стекались все богатства, так что и выглядел он как единственный в таком роде город, столица. Киевляне были столичные жители со всеми вытекающими следствиями — любовью к роскоши, хорошей еде, искусной работе, украшательству и т. п. Даже о киевских женщинах Костомаров выразился как о сладострастных и склонных к кокетству.
Начальное киевское православие было под стать городу — храмы, сверкающие золотом и драгоценными камнями, роскошь и богатство. Это был не просто город, это была действительно мать русских городов. Старший город над остальными. Недаром в такой стольный Киев стекались люди со всей тогдашней Нус и: «Население Киева и Русской земли не было однородное: тут были и греки, и варяги, шведы и датчане, и поляки, и печенеги, и немцы, и жиды, и болгаре. Эта пестрота народонаселения объясняет и предания о предложениях Владимиру принять ту или иную веру; если здесь можно искать исторической истины, то предлагавшие Владимиру веру были скорее жители Киева, чем иноземные апостолы. При Владимире, после его крещения, при Святополке и при Ярославе Киев быстро развивался и процветал. При веселой жизни и распущенности нравов киевляне не имели ничего строгого, подавляющего; оттого в Киев и Русскую землю сбегались — по известиям Дитмара — разного рода беглые рабы, тут они находили себе приют и пропитание. Вероятно, тут же себе находили люди рабочие хорошие заработки; охота строить здания, украшать дома призывала туда рабочих. В Киевской земле, менее чем где-нибудь, мог сохраниться чистый тип одной народности, когда люди всякого звания и ремесла скоплялись там отовсюду. Даже те, которые составляли княжескую дружину — класс, возвышавшийся над массою по значению и силе, — были не киевляне по происхождению, а пришельцы».
Впрочем, и остальные города, которые строились в Русской земле, заселялись пришельцами из разных мест: при Владимире «переселение в Русскую землю совершилось из Белоруссии, из Средней России, из Новгородской земли и, наконец, из Чуди», «он призвал и переселил лучших людей из чужих народов — не земледельцев, не смердов, но способных к оружию. Это должно было способствовать образованию, в некотором смысле, высшего сословия, потому что в тот век люди, посвященные военным занятиям и обороне края, должны были пользоваться уважением и преимуществами пред простым народом; а военные — мужи города — были люди разного происхождения и, следовательно, составляли сами по себе общество отдельное от массы народа и не связанное с ним этнографическим единством и местными преданиями». В самом Киеве, который был богаче на порядок прочих городов, по словам Костомарова, человек делался продажным. «От кого бы ни зависела судьба Киева, а с ним и целой Руси в то время: от избранных ли классов или от народа, — в том и в другом случае легко можно было торжествовать неправде и прикрыться продажности… Вот здесь открывается народная местная черта. Еще народ киевский не впал в рабскую покорность, но мог подпасть под всякую неправую власть посредством приманки его материальными выгодами». Такой был Полянский стольный город. В нем осели чужеземцы и к власти пришли чужеземцы. Все это пришлое население было разбавлено полянами и выходцами из других славянских племен. Город был совершенно космополитический.
Недаром польский король Болеслав, явившись в Киев по просьбе своего зятя Святополка, как писал ученый, принял «Русь за продолжение Польши». Он поясняет, что «народ южнорусский был в таком же отношении к польскому, как болгарский к русскому», то есть они в те времена были очень похожи, единственное, что поляков отличало, — латинская вера. Но пока воины Болеслава не надоели киевлянам, им в стольном граде жилось великолепно. Потом их перерезали.
Князь Ярослав Мудрый 1019–1054
Соперник Святополка Ярослав тоже пришел с чужаками, то есть с варягами. И тоже варягам очень понравилось в Киеве. «Роль одних чужеземцев, поляков, — замечает Костомаров, — сменилась ролью других, варягов — шведов. Это было время, когда скандинавы, просветившись христианством, начали показывать энергическую деятельность в новой сфере; охота странствовать по свету для разбоев заменилась несколько более законным способом — стали наниматься в военную службу греческих императоров. Явились собственно так называемые варенги, или варяги; они во множестве проходили через Русь по Днепру. Киев был их временным пристанищем. Тогда князья нашли удобным приглашать их, и вот они, так же, как и в Греции, у нас являются с тем же значением наемного сословия». Долго, впрочем, эти варяги тоже не задержались: Ярослав их сплавил в Константинополь, послав одновременно письмо императору, чтобы в одном месте этих наемников не держал, а развел по разным городам, иначе устроят бузу. Так что видно, что иноземцы в Киеве были явлением обычным, но значительный перевес вооруженных иноземцев над княжеской дружиной не дозволялся. Власть ведь нужно держать в безопасности, чтобы никто ее перехватить не смог! На норманнское вмешательство в киевскую политику ученый отвел 70 лет. Но на самом ли деле этому влиянию было всего 70 лет? Если считать, что его конец пришел с утверждением Ярослава, то начало нужно искать в правления предыдущие. Без учета легендарного Рюрика, не менее легендарного Олега и Игоря, считая только от Ольги, реально существовавшего исторического персонажа, Святослава и Владимира, всяко выходит куда как более этих 70 лет. Откуда взял Костомаров эту цифру? Бог весть.
Впрочем, наряду с норманнским (в силу завоевания) и византийским (в силу принятия веры) влиянием, Русь имела и сильное влияние Хазарского каганата (частично еще и при Владимире). И тут Костомаров задает один интересный вопрос: как бы могло пойти развитие завоеванной полянами земли под названием Русь, если бы к византийскому влиянию добавилось бы и хазарское, то есть если бы оба влияния совпали по времени? Вывод он делает такой: «Влияние восточно-хазарского элемента могло бы в то время, совокупно с византийским, водворить, утвердить и укрепить единовластие и значение царственности княжеского достоинства, если бы развитие удельности не помешало этому тотчас же. Невозможно определить, что брало перевес — восточный элемент или свобода; и то и другое было в зародыше, как и удельность, и единодержавие». Единодержавия все же не получилось. Значит — свобода? Сдельные отношения? Цельные отношения — да. Ярослав оставил слишком много потомков мужского пола, чтобы речь о единодержавии вообще могла бы проникнуть в головы князей-наследников. Если сам он сумел устранить всех своих соперников, то его потомки более желали остаться живыми. А свобода? Свобода тут несколько ни при чем.
Костомаров считал, что такая неполная власть князя, то есть не единодержавие, сложилась просто в силу неразработанности самих отношений между князем, его боярами и его народом. «Недостаточность источников не дает нам права представить, до какой степени власть князя поглощала личную деятельность народа и общественную. Не было институций — ни подпиравших княжескую власть, ни указывающих ей пределы. Несомненно то, что, с одной стороны, князь не утвердил еще в себе понятия о царственности и о недоступности своей особы для прочих смертных; с другой — народ не развил в себе идеи свободы в отношении с властью». Вывод довольно неоднозначен: в это время на Руси прекрасно знали, что Византией управляет император, обладающий формально неограниченной властью, однако великий киевский князь даже не пробовал сделать себя «императором». Этой полной недоступности царственной особы впервые смог достичь только женатый на греческой царевне Зое (Софье) дед Ивана Грозного, и не в стольном Киеве, а в столице Северо-Восточной Руси Москве. Но и то он именовал себя царем, а не императором. Первым императором стал только Петр Алексеевич Романов. Почему? Ключевский на этот вопрос отвечал несколько иначе: в древней Днепровской Руси существовали родовые отношения, поскольку князья были выходцами из одного правящего и очень разветвленного рода. Эти отношения не позволяли великому князю полностью взять себе всю силу власти. Он был главным — да, но не владельцем над землями и жизнями своих братьев, дядьев и прочих родичей. Власть была внутри рода, но не внутри семьи, то есть она передавалась не по наследству от отца к сыну (старшему или же избранному из остальных), а от старшего к старшему. Этот древний порядок иногда нарушался, но всегда находился правдоискатель, который восстанавливал справедливость. Костомаров пытался найти ответ в неразвитости отношении, Ключевский видел его в силе установившейся традиции. А нет ничего труднее, чем изменить традицию. Народ, конечно, мог бы тоже вдохновиться идеей свободы, но такая мысль вряд ли придет в голову потомкам завовеванных, воспитанных к тому же хоть недолго, но в христианской вере. Образец свободомыслия получился несколько размытым даже в самом гнезде средневековой демократии — Новгороде.
Подполянский Новгород
Костомаров, как я уже говорила, находил общие черты в языке, культуре и способе политической организации общества между Киевом и Новгородом, но не между Новгородом и Москвой. Правда, в летописные времена Новгород так разительно отличался от Киева, что в глаза бросаются скорее различия, чем нечто общее. Как таковое могло случиться, если, по Костомарову, в Новгороде жили переселенцы с южной части единого государства — те самые поляне, которые положили начало национальной государственности? Почему южные князья «ходили по лествице», а в Новгороде князь был фигурой несколько иного плана, не имел права забирать власть у горожан и вынужден был подчиняться приговору веча (из-за чего возникали постоянные конфликты и князей гоняли из города, если вдруг те начинали захватывать больше, чем им полагалось по рангу)? Для Костомарова «лествица» казалась больше фикцией, чем правдой, он даже приводил примеры, когда «лествица» нарушалась. Но… она ведь и восстанавливалась княжеским сообществом!
В Новгородской боярской республике дело обстояло совсем иначе. По традиции, конечно, киевский князь посылал управлять большой торговой республикой своего старшего сына. Но когда сложилась такая традиция? Ведь Ярослав, сын Владимира Святого, был вовсе не старшим? При самом Владимире Новгород скорее выглядел для этого княжича-робичича местом далекой северной ссылки, совсем не трамплином на великокняжеский стол. Зато позже вдруг образовалась эта традиция, то есть Новгород стал трамплином! Действительно, до междоусобицы XII века (то есть около столетия) таковая традиция образовалась. Но что ее предваряло и как управлялся Новгород до Владимира и Ярослава? Летописи тут нам вовсе не помогают. Они молчат. Между якобы призванным в Новгород Рюриком и Владимиром (а это огромный промежуток времени) мы имеем лакуну. Если задуматься, так вполне может оказаться, что там существовало либо наместничество из Киева, либо городом и всей его немалой территорией с пригородами правили какие-то иные лица, если и князья, то не из Рюрикова дома. И как они управляли? И на что ориентировались? И не была ли посылка малолетнего «неправильного», «незаконного» сына способом вернуть Новгород в лоно киевской политики? И что сделал для Новгорода Ярослав? Почему он прекратил выплату Киеву дани с города и вызвал недовольство Владимира? Не надеялся ли он вовсе отобрать Новгород в особое владение или, может, расценивал управление Новгородом как свое личное право, не имеющее отношения к Киеву? Все это — вопросы и загадки, которые так и останутся без ответа.
Легенда о новгородском князе Гостомысле
Костомаров считал, что русский славянский народ разделяется на две ветви (это он вывел из особенностей речи): первая изменяет о в а, если нет ударения, и произносит древний ер как мягкое е, вторая сохраняет о в любом варианте и произносит ер как мягкое и. К первой он относил белорусов и великорусов, а ко второй — южнорусов и новгородцев. Одни пришли на Восточно-Европейскую равнину под ударами Рима, другие вынуждены были покинуть родину позже. Белорусов он относил к племени кривичей, кривскую основу видел также и в великорусском народе, но этот народ образовался из смешения вятичей, южнорусов, новгородцев и кривичей гораздо позже, включив также финно-угорское и тюркское население. Новгородцы рано появились в пределах Волхова и Ильменя, перенеся со своей дунайской прародины отличительные черты быта и языка. Они успешно колонизировали новые земли, расселяясь на север, восток, запад и юг.
В XVI–XVII веках распространилось сказание об основании Новгорода, в котором рассказывалось, что потомки Яфета Скиф и Зардан пришели и сели на берегу Эвксинского Понта, то есть Черного моря, но скоро между ними началась распря, так что часть славянского народа под водительством Словена и Руса отправилась искать новых земель. Они зашли далеко на север и остановились на берегу озера Мойско (в Белоруссии), откуда вытекала река под названием Мутная. Тут, по предсказанию, они решили обосноваться. У истоков реки они построили город, а озеро переназвали по имени дочери Словена — Ильмер, речку — по имени сына Словена — Волхов. И вообще, все водные потоки, которые там проходили, получили имена знатных переселенцев: Шелонь от имени жены Словена, Волховец — по имени его младшего сына, Желотут — по имени другого сына, городок Руса и река Руса — по имени брата Словена Руса, речки Порусия и Полиста получили названия от имен жены и сестры Руса. Потомки этих славянских братьев дошли до самого Ледовитого океана, до рек Печора и Вымь, смогли даже перейти за невысокие Уральские горы — страну соболей, а также воевали в Египте. Но слава была недолговечной: землю охватила страшная моровая язва и народ в ужасе разбежался кто куда.
Только на Белом море и на Темном озере остались жители, которые стали себя называть весью (очевидно, от понятия, что это все, что от большого народа осталось). Но на тех, кто ушел и осел южнее, напали угры и все города разметали, так что пришлось им снова возвращаться на Ильмень. Тем временем за века запустения Ильмень был уже заселен, так что за свои старые земли пришлось сражаться. Города Словенска, который оставили, тоже больше не было. Пришлось ставить новый, на Волхове, его назвали Новгород Великий. Князем избрали Гостомысла, восстановили запустелые городки вроде Русы, а сын Гостомысла Словен пошел в западные земли и поставил там новый город Словенск, который после его смерти переименовали в Изборск. Сын этого Словена, совсем как вещий Олег, умер от укуса змеи. Гостомысл же дожил до глубоких седин и стал ожидать конца своих дней. К старости у этого Гостомысла стало плохо не только с волосами (он стал сед не только волосами, но и умом, ехидно замечал Костомаров), так что везде ему мерещились грядущие мятежи и прочие неприятности, он созвал славянских властителей и посоветовал им отправить посольство в Пруссию, к тамошним князьям, пригласить их занять его место. Вскоре он умер и был погребен на Волотовом поле. Новгородцы, впрочем, ни в какую Пруссию посольство не послали, но они благополучно дожили до первых междоусобиц. Киевские поляне, жившие под управлением своих князей Аскольда и Дира, племянников Кия, вспомнили о далеком Новгороде и решили его присоединить. Тут-то и припомнился совет Гостомысла. Словом, новгородцы, кривичи, чудь, меря и весь отправили-таки посольство в Пруссию звать Рюрика с братьями.
862 год — Призвание варягов во главе с «норманским конунгом» Рюриком; начало правления Рюрика в Новгороде; начало династии Рюриковичей
Костомаров считал, что эта сказка, сочиненная книжниками XVI–XVII веков для каких-то московских нужд, изобилует множеством неточностей, так что нельзя принимать ее за действительный чудом сохранившийся кусок летописи. В основе, говорил он, лежит действительное предание, которое дорабатывалось, изменялось и в конце концов приняло форму откровенной сказки. Однако вот за это-то сказочное повествование ухватились современные искатели Рюрика с братьями. И Гостомысл был объявлен отцом той девицы, которая вышла замуж за Рюрика, таким образом завязав династический брак, напрочно прикрепив Рюрика к Новгороду. Даже летописи на сей счет были деликатнее, оговорив, что Рюрик был призван, по сути, для управления. Как он властью распорядился — разговор особый. По новгородским спискам, еще при его жизни вспыхнуло восстание некоего Вадима, новгородского патриота.
Варяжский Рюрик
Костомарова и в этой истории, и в летописи интересовал как раз вопрос, управлять каким народом были приглашены князья. То есть что за этнический состав был в древней Новгородской земле. Он находит здесь аборигенные племена чуди, пришедших славянских пересенцев кривичей и более поздних переселенцев с юга — как раз очевидно южнорусов, то есть будущих украинцев. Как нам уже известно из предыдущего, этих южнорусов он считал племенем полян. О происхождении наименования ильменские словене он говорил следующее: оставление за ильменскими поселенцами имени славян, в отличие от кривичей, указывает, что северные народы славянского племени называли вообще таким именем живущих на юге своих соплеменников, а потому за пришельцами оставили это генетическое имя. Некоторые факты, оставившие след в сказке, считал он, подтверждены: такова моровая язва, заставившая словен переселиться на берега Белого моря. Это переселение на восток, добавлял он, объясняет, почему среди народов, призвавших варягов, названа весь: к «варяжскому» времени народонаселение этого региона стало уже смешанным и главное место занимали славяне. Следовательно, заселялась земля несколькими волнами, между этими переселениями было время запустения края из-за морового поветрия, после чего пришли новые переселенцы и основали город немного в стороне от утраченного. Причем он предложил два варианта рождения сюжета: либо запустение было страшным, с почти полным уничтожением прежних жителей, либо оно было кратковременным, но пришедшие на север создали легенду по свежим следам.
По Несторовой, то есть Начальной летописи, легенда о призвании варягов выглядит так: «(859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей… (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: „Чей это городок?" Те же ответили: „Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам". Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде».
Здесь картина завоевания через призвание с севера, а не с юга. Для Костомарова были важны три вопроса: кто призвал князей, кто были эти призванные и для чего они были призваны. Призвали, по летописи, варяжских князей меря, весь, чудь и словене. Для этого, говорит он, указанные народы должны были уже какое-то время сосуществовать вместе, чтобы составить некий союз, то есть они должны были договариваться между собой. Эта связь должна была происходить из племенного родства и древней колонизации, во-первых, и из временных обстоятельств, заставивших действовать их в согласии, во-вторых. Костомаров полагал, что весь и меря, хотя и названы, своего голоса в IX веке не имели, поскольку успели попасть под полную власть славян. Во всяком случае названия городов Белоозеро и Ростов — не финские, но славянские. Причиной призвания он полагает вовсе не желание северных «инородцев», а желание славян иметь наемников для удержания под своей властью названные финские племена. Другое доказательство, что дело было в подчинении неславянских народов, он видит в том, что в Ростово-Суздальской земле позднее туземное население практически исчезло — оно либо вынуждено было уйти, либо было оттуда выбито. К тому же образование русского княжества попросту невозможно в стране, занятой сугубо финскими народами, если не было сильной русской колонизации с преобладанием славянского населения.
С чудскими племенами картина была несколько иной — там русской колонизации как таковой не было, были славянские походы на чудь, славяне держали чудь в страхе и подчинении, вторгаясь в населенные этими племенами земли. Весь, меря и мурома были завоеваны, почему они не показали в дальнейшем никакой самобытности. Не зафиксировано и выступлений против славян, что непременно случилось бы, имей они самостоятельность. И в районе Белоозера, и в районе Ростова колонизаторами были новгородцы. В современном ему Ростове ученый тоже видел следы сильного новгородского влияния, хотя давно уже этот край не принадлежал Новгороду. Если над весью стояло Белоозеро, над мерей — Ростов, то над чудью — Изборск, а позже Псков. Но это была не западная, ливонская чудь, которую потом воевали Псков и Полоцк, а чудь восточная, вынужденная смириться с усилением Новгорода. Не стоит соблазняться свидетельствами летописца, добавляет историк, что чудь была названа среди призвавших князей народов. Чудь, которую имеет в виду летописец, уже была подчинена славянами. Это не та ливонская чудь, а чудское население, оказавшееся среди славянских завоевателей. Для того чтобы объяснить, кто призывал князей на самом деле, историк использовал современную ему аллюзию: когда говорят «Сибирь этого хочет», не имеется в виду коренное население Сибири, только русские завоеватели Сибири.
Так в целом обстояло дело и с призванием варяжских князей. Они были нужны славянам Новгорода: «призывавшие варягов-русь народы были все наголо славяне, этим отстраняются неразрешимые вопросы: как могли появляться в союзе разноязычные племена, тогда как впоследствии мы не видим равноправности между ними, — напротив, одно постоянно играет роль господствующего, а другое находится или в зависимости, или в безуспешном сопротивлении». Эта идея Костомарова между тем опровергается археологическими изысканиями: Новгород был многонациональным, так что существовал и союз, пусть союз завоеванной знати и славян. Девятый век — это действительно век. когда дружины варягов совершают набеги, и не только на восточный берег Балтийского моря и прилежащие к нему земли.
Так что неудивительно, что Новгород проявил чудо сплоченности против варяжской экспансии. Славяне попросту использовали эту варяжскую опасность в своих интересах. Нарождающийся торговый город, само собой, не желал платить дани чужеземцам. Первая экспансия варягов была отбита, дань платить перестали. За помощью лучше всего было обратиться по знакомому варяжскому адресу. Интересно, что Костомаров обратил внимание на такую деталь призвания: когда явился Рюрик со своим войском, то первым делом он посадил своих наместников в Полоцке — земле кривичей, которые вместе с ильменскими славянами занимались вопросом призвания. Летописец, говорит он, не называет среди призывавших полочан, он именует их кривичами, чем они, честно говоря, и были. Историк предполагал, что участвовали в призвании разные ветки кривичей, вполне вероятно, что и смоляне, тоже кривичи. На эту мысль его навело то, что Смоленск очень легко и без проблем подчинился потом Олегу.
Другая его мысль еще более интересна: Костомаров был уверен, что в призвании каким-то образом принимали участие и далекие от севера киевляне. Это он выводит из факта, что явившийся на берега Днепра Олег с малолетним Игорем как-то слишком уж просто устранил неправомерных князей Аскольда и Дира, и киевляне не возражали. «Очевидно, — говорит он, — что киевляне приняли Аскольда и Дира не за тех, чем они были, а за князей и не противились их казни, когда узнали, что они не князья». Это размышление Костомарова вступает в противоречие со «сказкой», по которой Аскольд и Дир племянники Кия, то есть поляне, но не варяги. Но, по летописи, оные князья с Кием никак не связаны, их происхождение темно. Костомаров говорит, что киевляне знали, что им положено повиноваться князьям, которые придут с севера. С севера пришли Аскольд и Дир. Но они были просто не теми, кого ожидали. Если поляне участвовали в этом призвании, то суть вопроса понятна.
На вопрос, кем могли быть призванные князья, ученый отвечает так. Варяги, это ославяненное скандинавское слово, означающее — союзники или наемные воины. С IX столетия дружины этих варягов стали появляться в Византии для несения службы за деньги. В скандинавских источниках впервые это слово появляется спустя два века — в 1040 году. Варяги, очевидно, и до этого времени ходили в далекую Византию по восточноевропейским рекам, чтобы устроиться на приличную византийскую службу, то есть киевлянам они были хорошо известны. Впрочем, в русском варианте под именем варягов имели в виду не только шведов, но и всех морских разбойников, имея в виду все многообразие народов Балтийского региона, откуда они приходили.
Интересны его замечания по варяжскому вопросу: не только Балтийское море называлось Варяжским, но даже латинская вера называлась варяжской. Если учесть, что скандинавы сплошь были язычниками, то тут есть повод задуматься. Впрочем, тут есть еще одна существенная деталь: термины варяжская вера или варяжский поп — это продукты более позднего времени, времени написания летописи. Тут под варяжским имеется в виду огромный католический мир Западной Европы. Если посмотреть договоры Игоря и Олега, то в них нет такого слова, как варяги, поскольку, говорит историк, люди его заключавшие варягами не были. Интересно, что к варяжскому побережью Волынская летопись причисляла даже сербских князей из Кашубы. Проще: слово варяг в означенном периоде времени было синонимом позднего слова «немец», то есть западный европеец. Это тем более знаменательно, что варяги носили разные национальные характеристики — русь, свей, урмяне, геты. Призванные править восточноевропейскими землями наемники носили название русь. Причем варяги, изганные новгородцами, и варяги-русь — были по сути разными варягами. Особенно интересно, что в летописном тексте о принятии Олегом Киева сообщалось, что кроме варягов-руси там были и варяги другого происхождения, варяги, которые прежде не называли себя русью. Относительно изгнанных новгородцами варягов он был убежден — шведы. Тем более что в скандинавских сагах серединой девятого века датирован уход шведов из Северо-Западной Руси. Эти шведские варяги то и дело ходили на Хольмгард, то вступали с ним в дружественные отношения, то воевали. Эти варяги короля Эрика овладели Финляндией, Карелией, Эстонией, Курляндией, оставив по пути своих походов многочисленные насыпи и прочие археологические памятники. Но затем они стали терять свои владения, сперва упустив литовских куршей, а затем и другие народы.
Поскольку варяги летописи именуются русью, то и искать их среди прочих варягов нужно по самоназванию. Костомаров нашел географическую русь в устье реки Неман. Это Пруссия, или Самбия, Адама Бременского. Пруссия, по Костомарову, — сокращенная версия слова Порусье, поскольку страна лежала по реке Руса. Варяги Пруссии были славянами. Даже имена, указанные в договорах первых князей с Византией, он видит происходящими от литовских корней. Другим фактом для него было существование в самом Новгороде Прусской улицы. Жителей улицы называли пруссами, это были богатейшие и знатнейшие фамилии Новгорода. Летопись упоминает, что переселившиеся с князьями варяги остались в Новгороде и стали его насельниками. Во многих текстах XVI–XVII веков варяги-русь тоже так и называются пруссами. Поскольку ничего более разумного современная наука Костомарову предложить не могла, он выбрал из всех возможных кандидатов на роль призванных новгородцами князей выходцев из Пруссии, имея в виду литовское происхождение новой русской власти.
Цель призвания тоже прозрачна: идите и володейте нами по праву, то есть для установления порядка. Выбрать князя из своей среды, считал историк, было проблематичным, требовался своего рода третейский судья, который стоял бы над местными интересами и партиями. Поскольку дело происходило в расцвете родового строя, то избрать князя из какого-то рода означало сразу же возвысить его род, а потом, сами понимаете, хлопот не оберешься. Нужен был чужак, но такой, который мог внушить саму идею подчинения личных интересов общественным и не узурпировал бы эту власть потом. Для удобства правления, то есть чтобы князь не разрывался между новгородцами и их большими землями, призвано было три брата с их родами, так в каждом важном стратегическом пункте садился один из князей, который мог заниматься интересами новгородцев. Учитывая, что близкое новгородское население было славяне, меря и весь, то князья точно сели по указанным племенным адресам. Причем княжить и володеть эти призванные иностранцы должны были по праву, то есть им были оговорены условия правления. Это, по Костомарову, было не завоевание, а именно призвание третейских судей, поскольку собственными силами накопившиеся противоречия оказалось разрешить невозможно. Так что князьям указывалось четко, что они имеют право делать, а что — ни в коем случае. Так в Новгороде возникло своего рода двоевластие: одновременное существование земской, или вечевой, власти и княжеской. Таким двоевластием, считал Костомаров, отличается вся древняя русская история. Но история Новгорода в особенности.
Но если, задает он вопрос, чужих князей призвали установить порядок, то как могли это сделать чужеземцы, не знающие славянского языка? По Костомарову — они прекрасно знали язык, поскольку сами были славянами. В Иоакимовской летописи, которую изучал Татищев, указано, что изгнанием шведских варягов занимался новгородский князь Гостомысл. Потомки мужского пола были убиты, остались лишь три дочери — надежды на рождение наследника не было, поскольку князь был уже стар. Когда ему предсказали появление потомства, он мог только недоумевать и не верить. Но однажды ему привиделся вещий сон, будто из утробы его дочери Умилы вырастает плодоносящее дерево, и плодами от него кормится весь его народ. Гостомысл попросил расшифровать этот сон. Предсказатели объяснили его тем, что Умила родит наследника, который и будет править новгородскими землями. Умила уже давно была замужем: ее сыновей звали Рюрик, Трувор и Синеус. Таков вкратце пересказ Татищева источника.
Из этого, говорил историк, не следует, что Умила была матерью призванным князьям, но под легендарной шелухой можно найти понятное объяснение: мать призванных князей была славянкой, ее дети знали язык новгородцев. Они были, что хорошо для призвания, родственными по крови и обычаям и в то же время, что тоже отлично, — далеки от местных распрей. То есть они могли трезво оценить обстановку и выбрать оптимальный путь правления. Понятно также, что инициаторами такого призвания были именно жители Новгорода, заинтересованные в процветании города. Так появился призванный Рюрик и началось возвышение Новгорода, который стал центром федерации. А дальше — дальше лакуна.
Правитель Олег 879–912
Уже при Олеге Новгород находится в странном положении: город, призвавший князей для упорядочивания жизни, платит варягам дань. Костомаров думал, что это были другие варяги, скандинавские, от которых Новгород предпочитал откупаться. Но зачем тогда нужен был Олег? Славянских варягов призвали как раз для того, чтобы исключить дань варягам норманнским! Еще интереснее, что дань эта была установлена Олегом перед его отбытием в южные земли навсегда. Это — еще страннее. Костомаров считал, что Олег добился компромисса с норманнами: мы платим дань, вы нас не трогаете. Но могло быть и иначе, тогда указанная дань — это дань варягам Олега. Между тем в походе Олега участвовали и новгородские удальцы, что еще больше запутывает дело. Дань была, между прочим, немалая — триста гривен от доли общины (по Соловьеву, тут ему веры больше).
Вопрос для читателя: нормальный, принятый на службу князь оставил бы город с выплатой такой дани чужеземным искателям добычи или попробовал бы применить военный талант? Скорее — последнее. По моему глубокому убеждению — эти триста гривен шли тем самым варягам-руси. Но тогда… да, тогда это было не призвание, а завоевание под видом призвания. Костомаров за этот вывод удушил бы меня, но это — очевидно.
Как долго продолжалась эта «оплата услуг»? Точно сказать нельзя. Но во времена Святослава новгородцы являются в Киев просить себе князя, причем ведут себя независимо и сразу говорят, что если не даст никого из сыновей, так найдут князя и в другом месте, следовательно, никакой дани Киеву они уже не платят (иначе так вольно себя вести не решились бы). Святослав меж тем дает такой ответ: дам, если кто-нибудь к вам пойдет. Очевидно, для южного богатого Киева Новгород — глухая провинция, куда очень не хочется ехать. Старшие сыновья наотрез отказались.
Князь Владимир Святой 980—1014
Поехал меньший, к тому же и незаконнорожденный, от Малуши, ключницы. С этого «робичича» и ведется более жесткое управление Новгородом. Он становится куда как более связанным с Киевом. Но — как? Владимир, оказавшись в Новгороде, провел, так сказать, «присвоение отделившегося города», то есть снова призвал варягов и по-своему укомплектовал властные структуры, и тогда связь Киев — Новгород стала постоянной.
В скандинавской саге об Олафе рассказывается такая история: мать Владимира предрекла, что в Новгород придет герой с севера (искомый Олаф). Владимир знал, что между его братьями возникла междоусобица, так что дожидаться, что Ярополк придет его убивать, княжич не стал, а сразу отправился за море, за варяжской дружиной. Ярополк, точно, явился в Новгород и посадил там своего посадника. А потом вернулся с варягами (норманнскими) Владимир и изгнал посадника Ярополка. Затем он повел объединенное варяжско-славянское (новгородское) войско на Киев. Стольный город эти варяги рассматривали лишь как отличную военную добычу. И когда Владимир утвердился в Киеве, они ожидали благодарности. С Киева потребовали — как всегда — дани. Если дань потребовали с Киева, говорит историк, так в каком же тогда положении мог находиться Новгород, если сам Владимир обошелся с городом как с завоеванным и (видимо) не считал его входящим в знаменитую Киевскую Русь? Увы, для Владимира Новгород был чужой завоеванной землей. Так он поступил с Новгородом и при самом благостном историческом событии, о котором летописцы пишут с умилением, — во время крещения.
988 год — Крещение князя Владимира I; его брак с Анной; начало принятия христианства на Руси
990 год — Восстание в Новгороде против христианского крещения
Если читать не Начальную летопись, а Иоакимовскую, то крещение Новгорода было одной из самых мрачных страниц древней истории. «В Новгороде люди, проведав что Добрыня идет крестить их, — писал по этой летописи Татищев, — собрали вече и поклялись все не пустить в город и не дать идолов опровергнуть. И когда он пришел, они, разметав мост великий, вышли на него с оружием, и хотя Добрыня прельщением и ласковыми словами увещевал их, однако они и слышать не хотели и выставили 2 камнеметательных орудия великих со множеством камений, поставили на мосту, как на самых настоящих врагов своих. Высший же над жрецами славян Богомил, из-за сладкоречивости нареченный Соловей, строго запретил люду покоряться. Мы же стояли на торговой стороне, ходили по торжищам и улицам, учили людей, насколько могли. Но гибнущим в нечестии слово крестное, как апостол сказал, явится безумием и обманом. И так пребывали два дня, несколько сот окрестив. Тогда тысяцкий новгородский Угоняй, ездя всюду, вопил: „Лучше нам помереть, нежели богов наших отдать на поругание". Народ же оной стороны, рассвирепев, дом Добрынин разорил, имение разграбил, жену и некоторых родственников его избил. Тысяцкий же Владимиров Путята, муж смышленый и храбрый, приготовил ладьи, избрав от ростовцев 500 мужей, ночью переправился выше града на другую сторону и вошел во град, и никто ему не препятствовал, ибо все видевшие приняли их за своих воинов. Он же дошел до двора Угоняева, оного и других старших мужей взял и тотчас послал к Добрыне за реку. Люди же стороны оной, услышав сие, собрались до 5000, напали на Путяту, и была между ними сеча злая. Некие пришли и церковь Преображения Господня разметали и дома христиан грабили. Наконец на рассвете Добрыня со всеми кто был при нем приспел и повелел у берега некие дома зажечь, чем люди более всего устрашены были, побежали огонь тушить; и тотчас прекратилась сеча, и тогда старшие мужи, придя к Добрыне, просили мира. Добрыня же, собрав войско, запретил грабежи и немедленно идолы сокрушил, деревянные сжег, а каменные, изломав, в реку бросил; и была нечестивым печаль велика. Мужи и жены, видевшие то, с воплем великим и слезами просили за них, как за настоящих их богов. Добрыня же, насмехаясь, им вещал: „Что, безумные, сожалеете о тех, которые себя оборонить не могут, какую пользу вы от них можете надеяться получить?" И послал всюду, объявляя, чтоб шли на крещение. Воробей же посадник, сын Стоянов, который при Владимире воспитан и был весьма сладкоречив, сей пошел на торжище и более всех увещал. Пришли многие, а не хотящих креститься воины насильно приводили и крестили, мужчин выше моста, а женщин ниже моста. Тогда многие некрещеные заявили о себе, что крещеными были; из-за того повелел всем крещеным кресты деревянные либо медные и каперовые (сие видится греческое — оловянные, испорченные) на шею возлагать, а если того не имеют, не верить и крестить; и тотчас разметанную церковь снова соорудили. И так крестя, Путята пошел к Киеву. С того дня люди поносили новгородские: Путята крестит мечом, а Добрыня огнем».
По поводу этих крестов, которые надевали на шею крещеным, Татищев заметил в примечаниях так: «Кресты на шею класть нигде у христиан, кроме Руси, не употреблялось, но, кто узаконил, нигде не нахожу. Некоторые сказывают якобы Владимир, иные о болгарах, только в Болгарии не употребляют. Итак, думаю, что Иоаким начал, а Владимир во все государство определил, чтоб от крещения никто не отолгался». Значит, были такие проблемы с крещением, что ради прежней веры могли и отолгаться. Подобное крещение трудно назвать мирным и добровольным, как это делается в большинстве летописных русских источников. Впрочем, таким способом крестили не только в Новгороде, но и в иных городах, к северу от Киева: вместе с мирными пастырями шло войско, которое подвергало непокорных казням, неся таким замечательным образом слово Божье в каждый дом и каждое сердце. Это был, если хотите, русский крестовый поход из плева на север, в земли язычников. Слово Божье распаляло почище медовухи, войско Путяты росло по мере продвижения на север. В Новгород вместе с киевлянами вошли также и собранные по пути поборники новой веры, которым хотелось поквитаться с соседями за прежние обиды, — в него влилось немало жителей Ростова. Только что окрещенные ростовцы с воодушевлением крестили Новгород.
С этого крещения новгородцы повернулись к ростовцам спиной. Отношения между городами вконец разладились. Новгородцы были вполне толерантны к чужой вере — город многонациональный, торговый, так что (Владимиру об этом, что ли, не знать?) вопрос правоверности в нем прежде не всплывал. В Новгороде было немало своих христиан, но столько же и язычников, никто никому не мешал. Владимира в религиозных действиях назвать последовательным никак нельзя. Сначала он пытается ввести в Киеве (городе достаточно христианизированном) язычество и получает все удовольствие мятежа, потом точно так же умно он пытается ввести в относительно языческом Новгороде христианство. Естественно, местные язычники, помнившие Владимира отроком и вовсе не христианином, были возмущены — и предательством, и нововведением, и невозможностью достойно противостоять огромному крестоносному войску. Для Новгорода этот поход был тем же примерно, что поход 1096 года на Иерусалим. Только там шли западные рыцари и весь прибившийся к войску фанатичный элемент, а тут — крещеное войско и новообращенные православные, готовые умереть за свою новую веру.
Результат крещения был страшным: Новгород стал считаться пригородом Киева. Что же стояло за этим крестовым походом? Неуемная жажда Владимира усмирить новгородцев, вряд ли истинное желание донести до далекого севера свет истины. В Новгороде Владимир теперь стал набирать воинов для борьбы с печенегами (прежде новгородцы ни о каких печенегах не думали — где печенеги, где Новгород!), наложил на город тяжелейшую дань — 1000 гривен в год в Киев, 1000 гривен на содержание княжеской гриди, то есть войска, которое стояло в Новгороде и держало его в смирении (завоеванные вынуждены были оплачивать и войско завоевателя), а вдобавок он посадил в Новгороде своего сына Ярослава, чтобы тот занимался делами управления, а проще — держал новгородцев в строгости и повиновении.
Князь Ярослав I 1019–1054
Впрочем, назначенному в Новгород Ярославу отцовские условия нравились не больше, чем новгородцам. Скандинавская сага рисует его скупым и жадным. Так что Костомаров объясняет нежелание Ярослава выплачивать в Киев дань просто: Ярославу не хотелось расставаться с легкими деньгами. Он и перестал платить. Это взбесило Владимира, он собирался идти на Новгород войной. Но недаром Ярослав был сыном Владимира: он поступил так же, как некогда отец, — отправился к варягам набирать войско. Тут все понятно: если бы князь выступал защитником прав Новгорода, ему бы не потребовалось вербовать находников на стороне, новгородцы сами пошли бы сражаться за свою свободу. Но Ярослав не думал о свободе Новгорода — он думал о собственной выгоде. За эту выгоду не нашлось желающих воевать. Новгородцам от перемены получателя дани лучше бы не стало — все равно платить. Так что они встали на сторону Владимира, то есть Ярославу отказали. Однако тот вернулся в город с варягами, и началось еще одно уничтожение Новгорода — варягам этот богатый торговый город представлялся тоже только источником отличного дохода, грабеж и насилие были обеспечены. Новгородцы этого не стерпели. Горожане собрались и перебили варягов.
Летописи сообщают о дальнейшем так: «И веставшии Новогородци избиша Варяги во двори Парамони. И разгневався Ярославе и, шеде на Рокомо, седе во дворе и посла к Новогородцеме и рече: „Оуже мне сихе не кресити“. И позва к себе нарочитыа моужи, иже бяхоу секли Варягы, и оболстиве изсече 1000 моуже, а иныа бежаша изе града. В тоу же нощь приде ке Ярославу весть ис Киева оте сестры его Предславы: „Отець ти оумерле, а Святополке седить в Киеве, оубиле Бориса, а на Глеба послале, а ты ся его блюди повеликоу“. И тогда же посла весть и ке Глебоу Ярославе, якоже преди писахоме. Слышаве же оте сестры своеа, Ярославе печалене бысть о отцы и о братии. Заоутра же избытоке Новогородцеве себраве Ярославе, сетвори вече на поли и рече к ниме: „О любимаа дроужина, юже вечера избихе ве безумии моеме, а ныне надобни золотоме бы ихе коупити“. И оутере слезе, рече име на вечи: „Отець мой оумерле есть, а Святополке седить в Киеве, избиваа братию свою. Хощю нань пойти. Потягните по мне“. И реша емоу Новогородци:
„Аще, княже, братиа наша избита соуть, а мы можеме с тобою ити“. И себраве воа Ярославе, Варяге 1000, а прочихе вой 30 000, и поиде на Святополка, нареке Бога и рече: „Не азе начахе избивати братию, но оне, да отместнике Боге братии моеа крови, зане безвинную пролиа, егда и мне сице сетворить. Но соуди, Господи, по правде, да скончается злоба грешьныхе“. И поиде на Святополка. Слышаве Святополке идоуща Ярослава, пристроиле бес числа вой, Роу си и Печенеге, и изыде противоу к Любчю обоне поле Днепра; Ярославе об сю страноу».
Костомаров указывает, что новгородцев было в войске Ярослава даже не 30 000, а 40 000 человек. По справедливости город должен был не подчиниться князю, который идет на законного старшего брата Святополка, князя киевского. Почему Новгород вдруг переменил решение и помог Ярославу (несколько ранее, когда Ярослав собирался биться с отцом, Новгород в помощи ведь отказал)?
Костомаров считал, что новгородцы как-то договорились с Ярославом: они ему помощь, тот им — независимость. Только избавление от киевской дани могло подвигнуть жителей выставить столь большое по тем временам ополчение. Историк, впрочем, считал, что это запредельное по численности войско нужно называть куда как проще: «много». Тысяча недобитых варягов плюс новгородское «много» — это и было войско Ярослава. В конце концов с помощью Новгорода Ярослав войну выиграл, киевляне, только что свысока смотревшие на «плотников» и «хоромников», бежали с поля боя — Киев был захвачен Ярославом, новгородцы вознаграждены. Но Ярослав недолго удержался в Киеве, Святополк привел своего тестя польского короля Болеслава, Ярослав был разбит и снова бежал в Новгород. По летописям, дело далее происходило так: «Ярослав же прибеже Новоугородоу и хотяше бежати за море. И посаднике Констянтине, сыне Добрынине, разсекоша лодии Ярославли, ркоуще: „Хощем ся еще бити по тебе с Болеславоме и СвятополкомеГ И нача скоте сбирати: оте моужа по четыре коуны и оте старосты по 10 гривене, а оте боляре по 18 гривне. И приведоша Варяге и вдаша име скоте. И севокоупи Ярославе воа многы». Скот в летописном тексте нужно читать как деньги, то есть труд варягов был оплачен все из того же новгородского кармана. Но почему город теперь так активно встал на сторону Ярослава? Да все потому же: победа Святополка была для Новгорода еще хуже: это означало лишь одно — полное порабощение.
1019 год — Битва на реке Альте, победа Ярослава над Святополком
В 1019 году Ярослав одолел Святополка на реке Альте, эта победа досталась новгородцам дорогой ценой, но теперь уже и Ярослав не мог не отплатить за помощь Новгорода. По Костомарову, он рассчитался с воинами деньгами и дал новгородцам «Правду», то есть закон, и «Устав», документы, которые известны как первые юридические акты на Руси. Текста этой грамоты Новгороду от Ярослава не дошло, но можно предположить, что это было возвращение независимости от Киева. Новгород вернул себе право суда и самоуправления, перестал платить дань и официально стал считаться автономным образованием, вроде бы и Днепровская Русь, а в то же время совершенно отдельное владение, которое связывалось с Киевом лишь посадником, назначенным Ярославом. Последнее, конечно, несколько странно: посадники сидели только в пригородах, но, видимо, дело вот в чем: новгородцы считали своим князем Ярослава, посадник был, так сказать, его осязаемым воплощением на севере, будь не так — горожане смотрели бы на дарованные законы и грамоту только как на очередное унижение. На протяжении столетий Новгород при возникновении споров со своими князьями апеллировал к этой Ярославовой грамоте, вероятно, это была своего рода хартия вольности. Даже имя Ярослава в Новгороде стало священным, двор, где он прежде жил, стали именовать Ярославовым дворищем, даже
Ладогу после смерти ее управителя шведа Рангвальда, которому город был дан Ярославом, вернули новгородцам.
Но по летописям очень трудно судить о новгородских событиях — эти тексты крайне скупы и до середины XII века многие события никак в них не отражены. Так что нельзя сказать, было ли независимое управление даровано Ярославом или же оно существовало и прежде. На последнее намекает то, что Новгород самостоятельно призвал заморских князей, то есть он имел право выбирать себе князя. А это говорит, что в городе было самоуправление, как оно было построено — вопрос иной.
Костомаров не видел особых отличий в устройстве городского управления по всей древнерусской земле. В той или иной степени он считал такое управление народным, то есть вечевым. В одних землях такое вечевое управление больше зависело от князей, в других — меньше. Даже в самом вольном из русских городов Новгороде князей старались приглашать из Рюрикова дома сообразно старшинству и родословию, то есть князей желали таких, которые либо прежде уже сидели и хорошо себя зарекомендовали, либо их детей. Так, они с удовольствием выбирали в князья Мономашичей — Мстислава Мономаховича, его сына Мстислава Храброго и его внука Мстислава Малого. Век спустя такое же предпочтение Костомаров видел в выборе Ярослава Всеволодича, его сына Александра Невского и детей Невского. Еще через век ориентация идет на московских князей.
Однако не все историки придерживались такого мнения. По одной из догадок, право выбора князей безотносительно к их родословию появилось в Новгороде только при Всеволоде Мстиславиче, а содержание Ярославовых грамот было другого свойства — финансового: в Новгород как присылались князья и посадники из Киева, так это и продолжалось и после дарования грамоты. Но тут же, все искажая, является текст Суздальской летописи (а суздальцы ох как ненавидели новгородцев), и эта летопись гласит, что новгородцы с глубокой древности имели свободные права. Очевидно, таковые существовали, но может статься, что Ярославом они были официально закреплены в грамоте. Тем более показательно, что тот же Ярослав посадил в Новгороде своего старшего сына Владимира, наследника киевского стола, то есть тут-то Новгород и стал трамплином к Киеву. Известно также, что новгородские князья не всегда постоянно жили в Новгороде и могли на время город оставить. При первых князьях такое допускалось, потом новгородцы стали болезненно воспринимать, если князь отлучался «по своим делам», за это даже изгоняли. Собственно, было два пункта, по которым князь тут же делался изгнанником: если нарушал новгородские законы и посягал на новгородские права и если отлучался часто и оказывался плохим воином. Иногда город оставался и вовсе без князя, но, тем не менее, жизнь в нем от этого никак не затухала.
Что же тогда было управление Новгородом и зачем ему нужен был князь? Может, князь — это статус? Но иногда городом правил наместник из Киева и статус города ниже не становился. Тут стоит вспомнить самое первое призвание — для чего? Суд и защита. Что дал Ярослав городу? Судебный кодекс. Далее и судили по слову Ярослава. Зачем еще был нужен князь? В те времена князь приходил со своей дружиной, это и была защита. Новгородцы поднимали ополчение только в критические моменты для города, с обычными военными задачами вполне справлялась дружина князя. Иными словами, князь — это судебная и военная власть. Власть, которой город назначал оговоренную оплату. Вот почему то управление Новгородом и подобными ему городами с вечевым укладом Костомаров очень точно назвал не самоуправлением, а народоправством.
Древнее народоправство
Тут стоит обратиться к современным мыслям по поводу преимуществ подобного рода организации власти. Как пишет профессор Лобачев касательно аналогичного управления в Пскове, «главное вечевое собрание, открывавшееся звоном колокола, утверждало или вносило поправки в принимаемые законы; решало важнейшие вопросы жизни республики, войны и мира; могло казнить и миловать, невзирая на ранги и должности; ведало расходами казны, назначало воевод и управителей в пригороды; приглашало на псковский стол князей, которые выполняли решения веча, охраняли со своей дружиной рубежи Псковской земли, заботились о строительстве оборонительных сооружений, ведали судами; выбирало посадников, которые, как мы сказали бы сегодня, возглавляли администрацию, руководили вечевыми собраниями, занимались крепостным строительством, заключали договора и вели переговоры, участвовали в судах и военных делах. Дабы князь не вел себя по-барски, вольно, не „дурил“, не давил бы на вече и не мог его подчинить своей воле и власти, ему не позволялось на территории, где он княжил, иметь в собственности землю, собирать налоги, иметь право окончательного голоса в судебных решениях. Конечно, Псковская земля не была единственной территорией России, в том числе и за ее пределами, например Черногория, где государственное устройство выражалось в форме веча. Тем более до получения своей независимости Псков ходил в „младших братьях" Великого Новгорода, был частью Новгородской вечевой республики. Любопытствующий найдет массу примеров исторического опыта деятельности веча как формы государственного политического устройства и механизма осуществления власти. Здесь лишь коснемся вопроса о власти, его отражения в вечевой политической культуре и, уже зная исторический опыт вече, суть вечевого устройства, посмотрим на проблему совершенствования государственного и местного (муниципального) управления в современной России. Чтобы понять, как сложилась вечевая политическая культура, была ли она изобретением (открытием) славян (новгородцев, псковичей, других сообществ) или необходимостью наиболее рационального общественного устройства в далеком прошлом, обратимся к страницам научных исследований истории Отечества. Авторы „Истории России", изданной в 1922 году в Риме, отмечают, что природно-климатические условия существования наших предков вырабатывали наиболее приемлемую для их самосохранения, продолжения рода и бытового уклада особую форму самоорганизации общественной жизни. Сравнительно большая обособленность жизни на Западе выработала в тамошнем человеке индивидуальность и самобытность, личное Я; на Русской равнине, где все скоро зажили одной общей жизнью, выработались, наоборот, общинность, „мир“, поглощение личного Я массою».
В VI веке византийский писатель-историк Прокопий Кесарийский отмечал, что славяне «не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается общим»; Псевдо-Маврикий писал, что эти племена «никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране»; епископ Мерзебургский в X веке обращал внимание на то, что племенами славян не управляет один отдельный властитель, «рассуждая на сходке о своих нуждах, они единогласно все соглашаются относительно того, что следует сделать; а если кто из них противоречит принятому решению, то того бьют палками…»; а епископ Бамбергский в XII веке заметил: «Честность же и товарищество среди них (славян. — Авт.) таковы, что они, совершенно не зная ни кражи, ни обмана, не запирают своих сундуков и ящиков».
Создатель известной «Истории государства Российского» утверждал: «Российские славяне, конечно, имели властителей с правами, ограниченными народной пользой и древними обыкновениями вольности». Или: «Народ славянский хотя и покорился князьям, но сохранил некоторые обыкновенные вольности и в делах важных или в опасностях государственных сходился на общий совет… Сии народные собрания были древним обыкновением в городах российских, доказывали участие граждан в правлении и могли давать им смелость, неизвестную в державах строгого неограниченного единовластия». Н. М. Карамзин не идеализировал власть в то далекое время. Прослеживая борьбу двух начал: вечевого, народного, и великокняжеского — с древнейших времен и до конца XVI века, он писал, что «Новгород,
Псков, некогда свободные державы, смиренные самовластием, лишенные своих древних прав и знатнейших граждан, населенные отчасти иными жителями, уже изменились в духе народном, но сохраняли еще какую-то величавость, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в их бытии гражданском». Употребление слова «народоправство» точно отражало реальное в истории России наличие такого общественного устройства, когда народ правил, но не властвовал. Народоправство означало установление в той или иной устной или письменной форме правил и норм отношений граждан в обществе, уклада, морали и власти, а также требований по их соблюдению всеми членами общества, включая и властителей, а власть была инструментом, вручалась определенному лицу или лицам, чтобы принятые нормы и правила жизни неукоснительно соблюдались в данном обществе. Лица, наделяемые властью (например, князья), могли не только лишиться власти, но и быть изгнанными, а то и лишенными жизни, если они нарушали или пренебрегали принятыми правилами и нормами. Вечевой Псков, как образец народоправства, проявлял, говоря современным языком, разделение представительной (законодательной) и исполнительной власти, причем обязательное подчинение последней первой, обязательное единогласие при принятии решений, а не большинства над меньшинством, хотя это и вело порой к «насилию» большинством меньшинства. Но ни при каких условиях не допускалось исключение из общины ее членов, а покидавшие добровольно оставляли общине значительную часть своего имущества. Заметим, что «разделение власти на законодательную (представительную) и исполнительную» в современном политическом звучании не соответствует тому, как это реально осуществляли наши далекие предшественники.
…В последующем отголоски принципов народоправства еще наблюдались в работе Земских соборов в России вплоть до последнего — 1653 года, когда, как писал Б. Н. Чичерин: «государственная власть окончательно выработалась в форму неограниченного самодержавия», население «потеряло личную свободу» и произошла «замена местного самоуправления бюрократическим». С установлением самодержавия народоправство было подавлено. Государство «образовалось сверху» действиями правительства, а не «самостоятельными усилиями граждан», ему стала принадлежать «главенствующая роль в определении правил и норм социальной жизни…». То, что вече было и по форме, и по содержанию народоправством, подтверждают современные публикации отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам становления и развития политической культуры России с древнейших времен и до настоящего времени. И хотя в них практически не встречается слово народоправство (но почему?..), наличие вечевой политической культуры у восточно-славянских народов, то есть там, где она была распространена, ее влияние и значение на последующее политическое развитие не подвергаются сомнению… Вечевая организация общества не подавляла свободу личности, если ее действия не наносили соотечественникам ущерба, и граждане реально управляли обществом, а не потому, что власть привлекала их к этому. Именно поэтому в генах славянского народа, а не только в его легендах, мифах, былинах и летописях отражается заложенная черта народоправства: воля, свобода, земля, полное владение ими являются изначальной необходимостью, собственностью и личности, и «мира», то есть данного сообщества, данной общины. И не случайно, что именно с установлением самодержавия (единовластия, монархии), а значит после фактического устранения народоправства, история России стала изобиловать многочисленными народными волнениями и восстаниями простого люда, крепостных, холопов, челяди, а в XX веке и революциями.
С утверждением самодержавной власти в России были утеряны многие черты вечевой политической культуры. Причем ирония истории, ее «злая шутка» в том, что там, где народоправство особенно ярко проявило себя, а именно на Псковщине, появилась и теория псковского мыслителя и писателя старца Елеазаровского монастыря Филофея «Москва — Третий Рим» (XVI век), которая, благословив величие авторитета московских князей, по сути, утверждала необходимость авторитарной власти, единодержавность, а не только державное царствование Москвы как Третьего Рима. Итак, община с утверждением единодержавности, самодержавия потеряла свое былое народоправство и уже сама власть определяла общественную жизнь коллектива, устанавливала рамки, нормы, правила, то есть законы его поведения. И вряд ли можно обольщаться словами историка XX века И. И. Ульянова, что «России выпала доля — идти путем подчинения частного общему, личного государственному», хотя русский народ сохранял свою внутреннюю свободу, что власть «усматривала свой долг не в удовлетворении национальных претензий, а в попечении о „благодействии“… Народоправство — образец вечевой культуры. Она, первое — предполагала неукоснительное следование личности правилам и нормам, установленным всем „миром", общиной; второе — власть, действия носителей власти подавлялись силой коллектива, если с их стороны установленные нормы и правила нарушались. Нашим предкам не откажешь в мудрости: они понимали разницу в том, кто должен определять, устанавливать правила и нормы, важность их неукоснительного соблюдения, и что такое власть, как средство, инструмент, орудие, необходимое для жесткого и неукоснительного проведения, поддержания этих правил и норм в жизни, принуждения тех, кто их нарушал. И действительно, грубо говоря, власть есть топор. Надо ли ему позволять решать судьбу своего хозяина?..
Еще раз подчеркнем: народ не осуществляет свою власть, он ее хозяин, он может отдать, передать, вручить власть, наделить ею лицо или лиц, которые знают и умеют владеть ею в том или ином направлении на пользу этого народа: защищать отечество, организовывать торговлю, развивать производство, повышать качество медицинского обслуживания, бороться с уголовщиной и т. д. Отсюда и самоуправление не есть форма осуществления народом своей власти на местах, а самообман, ибо суть, содержание этой „народной" власти, ее возможности, рамки, принципы и т. д. диктуются, определяются вышестоящей властью, кастой высших государственных чиновников. Вот почему до сего времени народ зависит от власти, а она, изгаляясь над ним, через своих представителей постоянно заявляет, что власть должна повернуться лицом к народу, не объясняя каким же местом она к нему повернута…»
Лобачев говорит о народоправстве в Пскове, но точно таким же образом организовалось управление в Новгороде. Просто Новгород в этом плане был более «партийным» городом: в нем всегда существовала партия бояр «за князя» и партия бояр «против князя». Это был своего рода маятник, который умело отвечал на малейшее недовольство народа. «В Новгороде все исходило из принципа личной свободы, — писал Костомаров. — Общинное единство находило опору во взаимности личностей. В Новгороде никто, если сам не продал своей свободы, не был прикован к месту. Свобода выдвигала бояр из массы, но тогда эгоистические побуждения влекли их к тому, чтобы употребить свое возвышение себе в пользу, в ущерб оставшихся в толпе; но та же самая свобода подвигала толпу против них, препятствовала дальнейшему их усилению и наказывала за временное господство — низвергала их, чтобы дать место другим разыграть такую же историю возвышения и падения». Хотя Новгород был республикой, он был боярской республикой. И чем более он развивался, тем более вече использовалось для принятия нужных решений.
Новгород в период расцвета вечевого правления XI–XII веков
Но в период расцвета вечевого правления (с XI века) князья отлично понимали, что плохое управление городом будет стоить им должности. И еще князья знали: Новгород возьмет себе только того князя, которого выбрал самостоятельно. Когда было назначили княжеским советом в город Давыда Смоленского, то ему было тут же сказано: не ходи к нам, сиди в Смоленске, а на стол позвали Мстислава Владимировича, сына Мономаха.
Когда через семь лет Владимир урядился со Святополком посадить в Новгороде сына последнего, а Мстислава переместить на Волынь, новгородцы возмутились и добились, чтобы Мстислав остался, аргумент, который они приводили, был таков: мы сами себе князя вскормили, его и хотим. Именно начало XII века и стало временем, когда город фактически перестал управляться из Киева. Тогда в нем и стали происходить сильные народные волнения, которыми управляли боярские партии. «Законодательный орган Новгорода, — по словам исследователя Янина, — фактически сливался с „митингом“, и каждый, кто находился в толпе, воспринимал себя в качестве участника политической жизни. Внутренняя борьба в основном велась между боярскими группировками трех городских концов за передел власти». Бояре ставили нужных князей, князья продвигали интересы своей «партии», и в городе всегда имелись недовольные, готовые выступить против неугодного князя. В такой ситуации князьям приходилось вести взвешенную политику, что удавалось не всем и не всегда. Янин говорит, что демократия, естественно, была боярской, народные возмущения — это уже прерогатива более позднего времени, практически времени заката вечевого правления.
Новгородская республика при Владимире Мономахе 1113–1125
Костомаров, конечно, идеализировал боярскую республику Новгород. И не меньше идеализировал князей, которые городом управляли. Он пишет о каком-то возмущении 1117 года, когда Владимир и Мстислав некоторых новгородцев заточили и сослали, что горожане не держали за это на них зла, поскольку партия оппонентов была немногочисленной и интересов большинства не представляла. В качестве доказательства он указывает на то, что новгородцы потом тепло отзывались и о Владимире, и о Мстиславе. Впрочем, о Владимире Мономахе благожелательно отзывались все летописцы.
«Время его княжения до смерти, последовавшей в 1125 году, — замечал Костомаров, — было периодом самым цветущим в древней истории Киевской Руси. Уже ни половцы и никакие другие иноплеменники не беспокоили русского народа. Напротив, сам Владимир посылал своего сына Ярополка на Дон, где он завоевал у половцев три города и привел себе жену, дочь ясского князя, необыкновенную красавицу. Другой сын Владимира Мстислав с новгородцами нанес поражение чуди на Балтийском побережье, третий сын Юрий победил на Волге болгар. Цельные князья не смели заводить междоусобиц, повиновались Мономаху и в случае строптивости чувствовали его сильную руку. Владимир прощал первые попытки нарушить порядок и строго наказывал вторичные… Рассуждая беспристрастно, нельзя не заметить, что Мономах в своих наставлениях и в отрывках о нем летописцев является более безупречным и благодушным, чем в своих поступках, в которых проглядывают пороки времени, воспитания и среды, в которой он жил. Таков, например, поступок с двумя половецкими князьями, убитыми с нарушением данного слова и прав гостеприимства; завещая сыновьям умеренность в войне и человеколюбие, сам Мономах, однако, мимоходом сознается, что при взятии Минска, в котором он участвовал, не оставлено было в живых ни челядина, ни скотины. Наконец, он хотя и радел о Русской земле, но и себя не забывал и, наказывая князей действительно виноватых, отбирал их уделы и отдавал своим сыновьям. Но за ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходившем из самого варварского состояния, вращаясь в такой среде, где всякий гонялся за узкими своекорыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один Мономах держал знамя общей для всех правды и собирал под него силы Русской земли». Только вот ведь в чем дело: Новгород — это особая земля. Даже в годы самого тесного общения с югом Новгород стремился не допускать усиления власти посаженных в нем князей.
1113 год — «Устав Володимерь Всеволодича» Владимира Мономаха
Хотя именно эту эпоху, когда Новгород стал заведомо своевольным, а Киев сильным, и Днепровское государство славян на короткое время представляло что-то единое, Костомаров считал наиболее важной для становления новгородских свобод. Тогда, по его словам, Новгород занял сразу позицию огромной благожелательности к Киеву, видя в нем центр этого государства. Объясняя, почему же только Новгород имел смелость так свободно вести себя с киевскими князьями, он говорил, что дело в особом положении Новгорода, — тот был слишком далеко на севере, вдали от кочевых орд сначала печенегов, потом половцев, ему фактически ничто не угрожало. А соседняя чудь, хоть и пробовала сопротивляться новгородской экспансии, мало в этом могла преуспеть. И изгнанные князья не могли ждать помощи от этих соседей, как бывало на юге, где соседствовали более сильные и отважные народы. К тому же Новгород находился в таком отдалении от центра, что не мог стать ареной для борьбы за княжеские владения, как это было в центре (Чернигов, Волынь, Смоленск, Киев).
Новгород имел полное и никого не задевающее право постоянно расширять свои земли, поскольку это были земли нерусские, окраинные, на них не было претендентов, то есть не было и обиженных. Эти края давали Новгороду огромные богатства, торговля была единственной важной статьей дохода. Недаром Новгород вошел в систему ганзейских городов, наряду с ним в этой ганзейской торговле были задействованы Смоленск и Полоцк, но Новгород был крупнее и куда как богаче, и расположение его было удобнее. Новгород, по Костомарову, тяготел к Южной Руси, был, так сказать, частицей этой Руси на далеком севере среди этнографически чуждых славянских и неславянских племен. И только когда эта Русь запустела, только тогда он вынужден был связать свою судьбу с северо-востоком, то есть с Москвой и другим типом правления, стремящимся не к удельно-вечевому укладу, а к самодержавию. Северо-восточные князья вынуждены были терпеть свободы Новгорода и до поры до времени их не трогать. Но Новгород очень плохо вписывался в централизованную систему, которую строили на северо-востоке, рано или поздно его свободы должны были отнять.
Между Югом и Северо-Востоком
Не слишком долгая эпоха практически полной новгородской самостоятельности — факт в русской истории единичный. Новгород действительно был городом более всего сходным чертами управления с полисами Древнего мира. Недаром историки, говоря о Новгороде, находили аналог этого управления во временах, лежавших за пределом феодальных, и считали Новгород едва ли не вариантом греческих полисов. Тут стоит особо оговорить, что свободы касались более жителей города и пригородов, но не сельского населения. С сельским населением было совсем иначе. Первый опыт полного превращения свободных землепашцев в посаженных на землю рабов — это даже не Южная Русь, это как раз Новгород, взрастивший слой землевладельцев, стремившихся однажды продавших свою свободу лично свободных людей превратить в полных, то есть обельных холопов. Этот процесс происходил по всей тогдашней Руси, но на бедных новгородских пашнях он шел активнее, чем на черноземном юге. Так что идеализировать новгородские свободы можно, только исключив несвободу на прилегающих землях, а они были огромны. Там все оказывалось просто: либо полный холоп, либо данник, промежуточный слой лично свободных сельских жителей сокращался с чудовищной скоростью. Так что, говоря о свободах самого Новгорода, нужно понимать, на чем эти свободы базировались. Ведь кроме торговли важной статьей дохода были пространства вовсе без городов, зато с населением — частью славянским, частью инородным. Управление Новгорода этими землями было жестким. В этом плане бывший пригород Новгорода Псков, который в конце концов добился самостоятельности, был гораздо демократичнее. Во всяком случае на псковских землях не было такого количества обельных холопов, там старались такого поворота событий не допустить, не потому, наверно, что землевладельцы псковских земель были сугубыми гуманистами, а просто потому, что Псков был пограничным городом, рабство и защита от внешних врагов (их было предостаточно — литовские племена, немецкие рыцари) — вещи несовместимые.
Новгород в меньшей степени подвергался таким вторжениям, его защищал как раз Псков. Новгородцы привыкли воспринимать Псков как заслон от вторжений, и они перекладывали, точнее стремились перекладывать, военные обязанности на своего соседа. Иногда новгородцы даже бросали этого соседа в беде, свои выгоды были дороже.
Князь Всеволод Мстиславич? — 1138
Пока Киев был сильным, новгородцы в своей политике на него и ориентировались. Князей они брали оттуда, с юга. Стоило начаться на юге серьезным усобицам, уже во время когда на северо-востоке стала поднимать голову Суздальская земля, то есть при Юрии и Андрее, новгородцев угораздило рассориться со своим Мстиславичем — Всеволодом: тот решил обосноваться в Переяславле, хотя клялся править Новгородом до самой смерти. Обиду новгородцы не простили: стоило Всеволоду, потеряв возможный Переяславль, вновь явиться в Новгород, это ему тут же и припомнили. На общем с ладожанами и псковичами вече «обидчика» прогнали. Правда, потом они его вернули, но удовлетворение было не долгим.
Новгород из-за усобиц оказался втянутым в далекую для него княжескую борьбу южан с северо-востоком. В этой борьбе Новгород оказался против Суздаля. Причем, по житию Всеволода, новгородцы вдруг припомнили, что Ростов и Суздаль были некогда их кровными землями. Тут, как говорит Костомаров, не совсем ясно, выступали новгородцы против суздальских князей из-за своих, противников Юрия, или же выступали из-за утраченной давным-давно территории. Может, добавляет он, было и то и другое. В первом походе весной 1134 года они дошли до Волги, но ничего не навоевали, во втором — зимой — дело выглядело еще хуже. Новгородцы пошли на Суздаль против воли и желания своего князя. Войско собралось большое, кроме новгородцев участвовали псковичи и ладожане. От похода их отговаривал не только Всеволод, но и митрополит, который специально приехал в Новгород. Ничто не помогло. Пошли. Всеволод вынужден был вести это сборное войско. Митрополита, чтобы не мешал, не выпустили из города. Сражение на Жданой горе они с позором проиграли. По всей Руси шли междоусобицы, и все князья хотели перетянуть Новгород на свою сторону.
Именно к этому времени Костомаров и относит появление в Новгороде боярских партий. Город стал втягиваться в политическую княжескую борьбу, партии использовали перемену князя для перемены общей политики. Ориентация партий понятна — Киев или северо-восток. В начале этой борьбы победила партия Ольговичей: Всеволода обвинили не только в провале похода на Суздаль, ему припомнили и прочие грехи. Новым князем стал Святослав Ольгович, а Всеволод отправился в соседний Псков, там его приняли.
1136 год — Восстание в Новгороде; изгнание князя Всеволода Мстиславича
1137 года — Последняя попытка псковичей отделиться от Новгорода; начало псковского княжения Всеволода Гавриила Мстиславича
В самом Новгороде было неспокойно: сторонников изгнанного князя было немало. Того псковичи и оппозиционные новгородцы убеждали идти отвоевывать себе потерянный город. На беднягу Святослава даже готовили покушение, которое сорвалось. Против сторонников Всеволода в самом городе началась жестокая борьба: их всех обложили пеней и на эту пеню готовили поход, теперь уже против Пскова. Войска сошлись у Дубровны, но битвы не было: псковичи были хорошими воинами и сразу построили засеки, тут новгородцы были бессильны. Тем временем все разрешилось само собой: Всеволод умер. Но хотя до сражения не дошло, псковичи расплевались с новгородцами: к себе на княжение они призвали брата Всеволода Святополка. Так оказалось, что Псков взял сторону Мономашичей, а Новгород — Ольговичей.
Ольговичи были что для южан, что для северо-востока нежеланным подарком судьбы. Они как бы изымали Новгород из этой борьбы юга и северо-востока. Это был своего рода вынужденный нейтралитет. Тогда южные и северо-восточные князья пошли на экономическую блокаду Новгорода — хлеб, который всегда был проблемой для города, перестали пропускать как с юга, так и из Суздаля. Начался голод. Тут новгородцы одумались, взяли своего несчастного Святослава и заточили в монастыре со всем семейством, а потом прогнали прочь. На вакантное место призвали Ростислава.
Выбор был сделан: новгородцы предпочли Киеву Суздаль. Это был очень странный выбор, он был бы невозможен, если не оказалось бы в Новгороде «агитаторов» за Ростислава. Отношения новгородцев с суздальцами можно честно назвать паршивыми, но тут по непонятной совершенно причине победил князь из ненавистной горожанам земли. Это заставляет задуматься об успехах партийной борьбы. Впрочем, когда этот Ростислав явился в Новгород со своей суздальской дружиной, ощущение праздника померкло — начались недовольства. Не могли новгородцы жить в мире с совершенно несходными с ними суздальцами. Ростислав попробовал управлять городом, не смог и бежал.
Ольговичи тем временем добились себе Киева. Новгородцы вдруг сообразили, что сделали ставку не на ту лошадку, и снова призвали Святослава. Наученный горьким опытом князь медлил, когда же он в конце концов явился, то не просидел и двух месяцев — снова победила суздальская партия, желавшая получить на стол князя из Киева, начались смуты, в Киев послали просить сына Всеволода, а своему Святославу велели ждать, когда приедет его сменщик. Оскорбленный Святослав бежал из города вместе с частью сторонников. За ними послали погоню. Святославу удалось скрыться, посаднику Якуну повезло куда как меньше: его догнали, пленили, привезли в Новгород, раздели догола и сбросили с моста. Якун не утонул, ему удалось выбраться из Волхова живым, но зато ему пришлось выплатить огромный штраф в 1000 гривен, и эту пеню взяли не только с него, но и со сторонников Святослава, а самого Я куна заточили в Чудской земле. На радостях тут же отправили в Киев новое посольство, только теперь никакой речи о сыновьях Всеволода не шло: новгородцы потребовали князя из племени Владимирова. Всеволод только что отпустил прежних послов, просивших у него сына, — с великой честью, как говорят летописи.
Тут — новое, оскорбительное предложение: не хотим ни тебя, ни сына твоего, ни брата твоего, никого из племени твоего, хотим из племени Владимира. Всеволод тут же вернул прежнее посольство, а новгородских купцов, находившихся в стольном Киеве, задержал, не пустил он и южных купцов торговать с Новгородом. Начался голод. Третье новгородское посольство пришло уже требовать себе шурина Всеволода — Святополка Мстиславича, которого собирались взять себе псковичи. Святополка Всеволод не дал ни Новгороду, ни Пскову — он отправил того в Берестье. А новгородцы просидели без князя девять месяцев. Все это время в Киеве под стражей сидели три новгородских посольства, в одном из них пребывал даже новгородский епископ. Новгородцам было сказано, что никто к ним не пойдет в князья, пусть, где хотят, там себе князя и ищут. Искали и нашли: все в том же Суздале и все того же Ростислава, тут уж выбор был невелик. Киевский князь рассердился, но боялся полностью потерять влияние на Новгород, так что он отправил в конце концов Святополка. А Ростислава? Того просто прогнали. В Святополке новгородцы потом полностью разочаровались, «злобы его ради», а на стол взяли сына Изяслава Ярослава. Это был для горожан желанный князь. Однако и с ним они с недовольством расстались, взяв брата Изяслава Ростислава, а затем его сына Давыда. Тем временем на киевском столе оказались суздальские князья.
Суздальские князья на новгородском столе
Новгородцы поддались соблазну и попросили сына у Юрия Суздальского, Мстислава. На протяжении короткого времени на новгородском столе успели посидеть несколько потомков то суздальского Юрия, то Мстиславичей. Дело удивительное, но за влияние на Новгород между князьями пошла серьезная борьба. Святослав даже объединился ради этой цели с суздальцами. Теперь силы распределялись так: Новгород объединился с южными Мстиславичами, а против него выступало объединенное войско северо-востока во главе с суздальским князем Андреем. Тот решил полностью взять контроль над Новгородом. Для этого он ввел войско в Двинскую землю. Новгородцам удалось небольшим отрядом разбить огромное суздальское воинство: первое, что сделали новгородцы, — стали собирать дань в Суздальской земле, что Андрея совсем не порадовало. Он собрал против новгородцев войско со всех возможных союзных земель: вместе с суздальцами шли смоляне, муромчане, полочане.
«В то же лето, на зиму, — гласит первая Новгородская летопись, — приидоша под Новегород суздалци се Андреевицем, Романе и Мьстислав с смолняне и с торопцаны, и с муромци и с рязанци се двема князьма, и полочкыи князь с полочаны, и вся земля просто Руская, а новгородци же сташа твердо о князи Романе Мьстиславлици, о Изяславли внуце, и о посадници Якуне, и устроиша город около города. И приидоша к городу в неделю на зборе, и сходистася промежи себе о уряди по три дни; в 4 же день, в среду, приступиша силою и бишася весь день; и к вечеру победи я князь Романе, он еще бо тогда детске бяше сыи, с новгородци, силою крестною и святою Богородицею и молитвами благовернаго владыкы Ильи, месяца февраля в 25, на память святого отца Тарасия, патриарха Цесаряграда, овы исесекоша, а другыя изимаша, а проке их зле отбегоша, и продаваху суздалца по две ногате». Андрей был в ярости. Единственное, что он мог сделать после такого исхода сражения, перекрыть новгородцам доступ к хлебу, что и было сделано. Новгородцам пришлось расстаться с любимым ими князем Романом и просить у Андрея его сына Юрия. Но, считал Костомаров, это все равно была победа новгородцев, поскольку не Андрей ставил им князя, а они пошли на примирение и взяли Юрия на «всей воле». Этот Юрий просидел недолго, после смерти Андрея новгородцы снова стали брать князей с юга.
Князь Мстислав Удалой? — 1228
1179 год — Начало новгородского княжения Мстислава Ростиславича Храброго
В 1179 году они пригласили к себе Мстислава Храброго, к тому времени ставшего врагом суздальцев. После его смерти на новгородском столе сидел злейший враг суздальцев сын Святослава Всеволодовича из Ольговичей. На этот раз война с суздальцами кончилась страшным разгромом Торжка, пришлось снова мириться и снова брать себе другого князя — однако не суздальского, а внука Мстислава Великого. Но северо-восточные князья все же диктовали свои условия, в любой момент они могли «убедить» новгородцев голодом. Когда в 1195 году суздальский князь потребовал участия в борьбе с Ольговичами, новгородцы вспомнили, что они имеют право на собственный выбор. Они прогнали своего Ярослава и взяли князя из Ольговичей, став таким образом еще раз врагами Суздаля.
1196 год — Признание князьями новгородских вольностей
Это снова кончилось голодом и мятежами. В конце концов победила партия с просуздальской ориентацией. Суздальские князья смотрели на Новгород как на «свой» город, но, тем не менее, отменить новгородские свободы боялись. В случае неповиновения они поступали очень просто: перекрывали Торжок, сразу начинался голод. Несколько раз оказавшись в таком безнадежном положении, новгородцы не выдержали, их спас (на короткое время, правда) от наступления северо-востока торопецкий князь Мстислав Удалой. «Эта личность может по справедливости назваться образцом характера, — так писал о нем Костомаров, — какой только мог выработаться условиями жизни дотатарского удельно-вечевого периода.
Этот князь приобрел знаменитость не тем, чем другие передовые личности того времени… Он не преследовал новых целей, не дал нового поворота ходу событий, не создавал нового первообраза общественного строя. Это был, напротив, защитник старины, охранитель существующего, борец за правду, но за ту правду, которой образ сложился уже прежде. Его побуждения и стремления были так же неопределенны, как стремления, управлявшие его веком. Его доблести и недостатки носят на себе отпечаток всего, что в совокупности выработала удельная жизнь. Это был лучший человек своего времени, но не переходивший той черты, которую назначил себе дух предшествовавших веков; и в этом отношении жизнь его выражала современное ему общество… Отец этого князя Мстислав Ростиславич приобрел такую добрую память, какой пользовались редкие из князей. Он был сын Ростислава Мстиславича, смоленского князя, правнук Мономаха, прославился богатырской защитой Вышгорода, отбиваясь от властолюбивых покушений Андрея Боголюбского, а потом, будучи призван новгородцами, одержал блестящую победу над чудью, храбро и неутомимо отстаивал свободу Великого Новгорода и пользовался восторженной любовью новгородцев. В 1180 году он умер в молодых летах в Новгороде и был единственный из выбранных новгородских князей, которым досталась честь быть погребенным в Св. Софии. Память его до такой степени была драгоценна для новгородцев, что гроб его стал предметом поклонения, и он впоследствии причислен был к лику святых. Современники прозвали его „Храбрым", и это название осталось за ним в истории. И не только храбростью — отличался он и благочестием и делами милосердия — всеми качествами, которыми в глазах его века могла украшаться княжеская личность.
До какой степени современники любили этого князя — показывает отзыв летописца; кроме общих похвал, воздаваемых и другим князьям по летописному обычаю, говоря о нем, летописец употребляет такие выражения, которые явно могут быть отнесены только к нему одному: „Он всегда порывался на великие дела. И не было земли на Руси, которая бы не хотела его иметь у себя и не любила его. И не может вся земля Русская забыть доблести его. И черные клобуки не могут забыть приголубления его". Эта-то слава родителя, эта-то любовь к нему новгородцев и всей Русской земли проложили путь к еще большей славе его сыну». Мстислав тогда еще не был новгородским князем: Торжок как раз и перекрывал, так сказать, новгородский суздальский князь. «В древних известиях, — говорит историк, — не видно, чтобы его призывал кто-нибудь. Мстислав является борцом за правду, а правда для Новгорода была сохранение его старинной вольности».
Мстислав освободил Торжок, взял в плен суздальцев, освободил новгородцев и тут же был приглашен в князья. Разрешить трудный спор между Новгородом и Суздалем ему удалось не пролив и капли крови: он просто обменял сына Всеволода суздальского Святослава и его мужей на свободы Новгорода и мир. С Мстиславом новгородцам жилось хорошо: князь был отважен и некорыстолюбив. Повоевав чудские земли и взяв большую дань, две третьих этой дани он отдал городу, третью часть своему войску, себе же не взял ничего.
«По возвращении Мстислава из чудского похода, — пишет Костомаров, — к нему пришло приглашение из Южной Руси решить возникшее там междоусобие. Киевский князь Рюрик Ростиславич, дядя Мстислава, умер. Черниговский князь Всеволод, прозванный Чермным, выгнал с Киевской земли Рюриковых сыновей и племянников и сам овладел Киевом: за несколько лет перед тем в Галиче народным судом повесили его родственников Игоревичей; Всеволод обвинял изгнанных киевских князей в соучастии и принял на себя вид мстителя за казненных. Изгнанники обратились к Мстиславу. Снова представился Мстиславу случай подняться за правду. Линия Мономаховичей издавна княжила в Киеве; народная воля земли не раз заявляла себя в их пользу. Ольговичи, напротив, покушались на Киев и овладевали им только с помощью насилия. Мстислав собрал вече и стал просить новгородцев оказать помощь его изгнанным родственникам. Новгородцы в один голос закричали: „Куда, князь, взглянешь ты очами, туда обратимся мы своими головами!“ Мстислав с новгородцами и своею дружиною двинулся к Смоленску. Там присоединились к нему смоляне. Ополчение пошло далее, но тут на дороге новгородцы не поладили со смолянами. Одного смольнянина убили в ссоре, а потом несогласие дошло до того, что новгородцы не хотели идти далее. Как ни убеждал их Мстислав, новгородцы ничего не слушали; тогда Мстислав поклонился им и, распростившись с ними дружелюбно, продолжал путь со своей дружиной и смолянами. Новгородцы опомнились. Собралось вече. Посадник Твердислав говорил: „Братья, как наши деды и отцы страдали за Русскую землю, так и мы пойдем со своим князем“. Все опять пошли за Мстиславом, догнали его и соединились с ним.
Они повоевали города черниговские по Днепру, взяли приступом Речицу, подошли под Вышгород. Тут произошла схватка. Мстислав одолел. Двое князей Ольгова племени попались в плен. Вышегородцы отворили ворота. Тогда Всеволод Чермный увидел, что дело его проиграно, и бежал за Днепр, а киевляне отворили ворота и поклонились князю Мстиславу».
1214 год — Победа Мстислава Удалого над Всеволодом Чермным; посажение на киевский стол Мстислава Романовича
На киевском столе был посажен его двоюродный брат Мстислав Романович. Установивши ряд в Киеве, Мстислав отправился к Чернигову, простоял под городом двенадцать дней, заключил мир и взял со Всеволода дары, как с побежденного. Он со славою вернулся в Новгород, и сам великий Новгород возвышался его подвигами, так как новгородская сила решала судьбу отдаленных русских областей.
Князь Ярослав Всеволодович 1191–1246
Но Мстислав не желал долго быть новгородским князем, у него было немало дел и в Южной Руси, так что в 1215 году он простился с горожанами. «Мстислав на вече поклонился Великому Новгороду, — поясняет Костомаров, — и сказал: „Есть у меня дела на Руси; а вы вольны в князьях“. Затем он уехал в Галич с дружиною». Стоило ему покинуть Новгород — тут же победила партия суздальцев. Взяли сына Всеволода Ярослава — отца Александра Невского. Этот Ярослав сразу же рассорился с новгородцами (было много недовольных) и ушел в Торжок. Торжок он стал использовать как клапан, регулирующий подачу продовольствия в город. По Костомарову, он собирался возвысить Торжок, фактически заменив им Новгород, то есть отнять у Новгорода возможность торговать.
Торжок к этому времени уже косо поглядывал на богатый Новгород, он тоже стоял в хорошем месте и видел в старинном Новгороде своего конкурента. Так что убедить новоторжан не пропускать хлеб на север большого труда не составило. Суздальские князья имели в Торжке собственный интерес: город был совместным владением Новгорода и Суздаля, поскольку стоял на границе с Суздальской землей. Перекрытие Торжка было лучшим средством воздействия на Новгород. Новгородцы умоляли, Ярослав молчал и не пускал хлеб.
1215 год — Голод в Новгороде
Но эту игру ему не дал довести до победного конца все тот же Мстислав Удалой. Узнав, что случилось с оставленными им новгородцами, князь двинулся на север, к Торжку. Сначала он пробовал урегулировать отношения миром, но Ярослав не принял посла и стал рубить засеки. Вместо мира он послал на Новгород, куда шел Мстислав, сотню «своих» людей, чтобы те захватили князя, вместо этого «верные» новгородцы тут же передались на сторону Мстислава. Разъяренный Ярослав вывел на окраину Торжка новгородцев, которых подозревал в неверности, велел их перековать, товары отобрать, а самих их разослать по разным городам, подальше. Как только узнал об этом Мстислав, тут же стали готовить поход на бывшего князя. Вместе с новгородцами на Ярослава пошли псковичи со своим князем Владимиром, братом Мстислава, смоляне с Владимиром Рюриковичем, а также к ним присоединился старший сын Всеволода Суздальского Константин (в это время между сыновьями умершего Всеволода началась междоусобная война за Владимир). Мстислав объявил, что собирается не только отстоять права Новгорода, но и установить ряд в Суздальской земле. Против этого войска выступили двое Всеволодичей — изгнанный из Новгорода Ярослав и Юрий.
Когда объеденное войско вошло в Суздальскую землю, срочно стали вооружаться муромчане, городчане, бродники (шайки вольных вооруженных людей, в которых Костомаров видел прообраз казаков), а также простые земледельцы, которых князья гнали воевать за свою землю. Решающая битва состоялась при реке Липица. Победили объединенные новгородские силы.
1216 год — Победа новгородского князя Мстислава Удалого над суздальцами в Битве при Липице; окончание первого княжения Юрия Всеволодовича во Владимире-на-Клязьме; начало правления Константина Всеволодовича Доброго
Владимир достался Константину, закон восторжествовал. Путь на Новгород снова был открыт. Мстислава встретили со всей народной любовью. Но он не собирался долго задерживаться в освобожденном городе. В 1218 году дела снова позвали его на юг. Некоторое время новгородскими князьями были племянники Мстислава, но горожане с ними не ужились. Так что ничего удивительного: спустя десятилетие после Липицкой победы новгородцы снова позвали на свой стол того же самого Ярослава.
Он не высидел и года, ушел в Переяславль. Посадили Всеволода Юрьевича, тот тоже сразу почти сбежал да еще и занял по проторенной дорожке Торжок. Юрий до новой войны не довел, хотя отступился лишь узнав, что горожане готовят укрепления. Михаил Черниговский тоже и года не высидел, хотя расстался с горожананми без обиды. И тогда снова позвали Ярослава. Но тут случилась распря новгородцев с псковичами, Ярослав хотел идти против Пскова, новгородцы не дали. Князь рассердился и уехал, оставив малолетних сыновей, которые скоро тоже сбежали. На княжеское место вернулся Михаил Черниговский, но потом дела заставили его отъехать и оставить своего сына. Тут же начались новые волнения, сын тоже покинул Новгород.
1230 год — Посредничество Владимира Рюриковича в конфликте Ярослава II Всеволодовича и Михаила Черниговского; возвращение Ярослава в Новгород
Снова все вернулось на круги своя: позвали Ярослава. Он и княжил до 1235 года, когда решил утвердиться в Киеве, а на княжение дал своего сына Александра. Тот был новгородским князем до 1252 года, когда получил права на великое владимирское княжение. С этого момента новгородскими князьями становились практически только ставленники великого князя, но теперь уже не киевского, а владимирского.
«Новгород, — писал в „Двух русских народностях" Костомаров, — был всегда родной брат юга. Политики у него не было; он не думал утвердить за собою своих обширных владений и сплотить разнородные племена, которые их населяли, и ввести прочную связь и подчиненность частей, установить соотношение слоев народа; строй его правления был всегда под влиянием неожиданных побуждений личной свободы. Обстоятельства давали ему чрезмерно важное торговое значение, но он не изыскивал средств обращать в свою пользу эти условия и упрочить выгоды торговли для автономии своего политического тела; оттого он, в торговом отношении, попал совершенно в распоряжение иностранцев. В Новгороде, как и на юге, было много порывчатого удальства, широкой отваги, поэтического увлечения, но мало политической предприимчивости, еще менее выдержки. Часто горячо готовился он стоять за свои права, за свою свободу, но не умел соединить побуждений, стремившихся, по-видимому, к одной цели, но тотчас же расходившихся в приложении; потому-то он всегда уступал политике, отплачивался продуктами своей торговой деятельности и своих владений от покушений московских князей даже и тогда, когда, казалось, мог бы с ними сладить; он не предпринимал прочных мер к поддержке своего быта, которым дорожил, не шел вперед, но и не стоял болотной водой, а вращался, кружился на одном месте. Пред глазами у него была цель, но неопределенная, и не сыскал он прямого пути к ней. Он сознавал единство свое с Русскою землею, но не мог сделаться орудием ее общего единства; он хотел, в то же время, удержать в этом единстве свою отдельность и не удержал ее. Новгород — как и Южная Русь — держался за федеративный строй даже тогда, когда противная буря уже сломила его недостроенное здание».
Как видите, Новгород, как оказалось, любя южных князей, был теснее связан с северо-восточными. В конце концов эта северо-восточная ориентация и победила. Она, можно сказать, и похоронила значение Новгорода вместе с его свободами и республиканским устройством общества.
Иго, рыцари и свободы
Князь Александр Ярославич, прозванный Невским 1220–1263
Как писал Костомаров, с опустошением из-за монгольского нашествия Южной Руси Новгород потерял с ней связь. Ослабленная бесконечными междоусобицами, эта Русь не могла сопротивляться новому и очень сильному противнику, так что, делает он вывод: она «выступила из русской федерации и начала идти иным путем по колее исторической жизни». Вывод верен, но только в одном — Южная Русь, действительно, оказалась отделенной от северо-востока и Новгорода и нашла иной путь развития, но, по большому счету, никакой федерации, кроме этого юга, и не существовало. Северо-восток уж менее всего похож на единое федеративное государство. Северо-восточные соседи были не единым целым, а множеством русских княжеств, которые нашествие сначала не сплотило, а как следует разъединило. Роль Суздальской земли тут скорее отрицательная. Недаром в следующей буквально строке Костомаров упоминает, что сплотилась эта северо-восточная федерация «под верховным владычеством татар». Мнение неприятное для патриотов, но, тем не менее, по сути верное: северо-восток с великими владимирскими князьями выбрал не сопротивление монголам, а полное им подчинение, так оно и образовалось в нашей бедной истории — «верховное владычество татар» с действующими точно по указке из Орды русскими князьями, потомками Ярослава Всеволодовича. Это очень неприятный факт, но от него нам никуда не деться.
Можно оправдывать такое великокняжеское поведение, можно его поносить, сам факт никуда не исчезнет: два века монгольского рабства были подарены Руси именно владимирскими князьями. Тот самый Александр Ярославич, о подвигах которого речь впереди, уезжая в Орду за ярлыком, оставил в Новгороде своего сына Василия, но не как князя, а как своего наместника. Александр остался новгородским князем, и не помогло горожанам, что они свергли этого Василия и поставили другого Александрова сына Ярослава, вернулся отец, въехал в город как законный князь, и новгородцы не посмели возразить. Так с ними еще не поступали. А когда пришла необходимость Александру отъехать из города, он снова посадил там Василия.
1255 год — Восстание в Новгороде «меньших» людей из-за попытки монголо-татар обложить город данью
1257 год — Начало переписи русского населения монголо-татарами для введения подворного обложения; начало установления ордынского выхода
Сын Невского оказался более патриотом, чем его отец. Когда тот явился с монголами совершать перепись, горожане убедили его, что нехорошее это дело, Василий посмел ослушаться приказов отца, и в городе началось волнение. Князь же прогнал своего сына, а новгородских патриотов казнил. Новгородцы вытерпели и это. Перепись была проведена, на Новгород легла тяжелая дань, которая шла в Орду. С одной стороны, дань избавляла новгородцев от ордынских рейдов, с другой — горожане жаждали избавиться от настоящего хозяина Руси — монгольского хана Белой, или — как у нас ее называли — Золотой, Орды. Почему никто не возмутился, что приходится теперь жить вольному городу под чужим ханом? Благодаря Александру Ярославичу. В городе его уважали — не за подчинение монголам, нет, за успешные походы в западные земли — на чудь и на рыцарские военные ордена. Что ж это были за подвиги такие, которые убедили новгородцев крепко держаться за князя, который привел Новгород, не подвергшийся нашествию, в добровольный монгольский плен? И главное — когда были эти победы. Даты двух исторических стычек, извините, тут уж вопреки Костомарову, я не могу назвать эти события полноценными битвами, 1240 и 1242 годы. Нашествие началось с подчинения Северо-Восточной Руси в 1237–1238 годах, покончило с югом как раз в 1240 году, а два года спустя монгольские полчища опустошали Центральную Европу и на западе с ужасом ожидали самого страшного — порабощения.
1240 год Захват Батыем Киева
1240 год Невская битва
1242 год «Ледовое побоище» на Чудском озере
1243 год Поездка Ярослава Всеволодовича в Орду; получение ярлыка на великое княжение; получение им всех прав на Киев
Воевать с кучкой шведов на берегах озера Нево — чистое удовольствие в сравнении с тяжелым сопротивлением монгольской коннице. Воевать с горсткой рыцарей да согнанными ей в помощь чудскими мужиками, вооруженными чем попало, — тоже восторг, это не оборона Козельска и не кровавая битва за Киев. На фоне всенародной беды, какой было монгольское завоевание, эти победы выглядят даже совершенно несерьезно, даже неприлично. Шведы, бог с ними, высадились на нескольких кораблях, обычный разведочный отряд, ничего серьезного. Рыцари вынуждены были тащить с собой чудь, так их было немного. И это — битвы? Еще раз задаю этот вопрос: почему новгородцы подчинились Александру? Или из наших летописей вымараны какие-то тайные строки? Новгородцы, которые с жаром всегда кричали «умрем за Святую Софию», теперь согласились со своим князем, что перепись — это терпимо, а дань — ничего, переживем.
Что случилось с новгородцами? Ради сохранения свобод они пожертвовали свободой? Нет, все проще. По Костомарову, новгородцы страшно боялись, что их Александр Невский приведет на непокорный город монгольские полчища. Вот чего так боялись жители Господина Великого Новгорода! И приведет он не только эти полчища поганых, но и русские полки. Вот в чем была причина такой лояльности к своему князю. Против остатков Русской земли вкупе с монголами город выстоять бы не смог. Недаром, наверно, в святцы Александр попал уже много позже, вот почему его небольшие подвиги в святочном житии расписаны как огромные победы и вот почему в тексте летописей времени Александра вы найдете всего несколько десятков строк, посвященных его деяниям, зато рассказ о переписи, которую устроил в городе Александр, занимает куда больше места. Нет, не была это народная любовь. Это был страх, что сильный и жестокий князь уничтожит город полностью.
«Батыево полчище, — говорит историк, — только зацепило Новгородскую землю во время своей опустошительной прогулки в Руси в 1238 году. Одному Торжку суждено было подвергнуться пожару и всеобщему истреблению жителей. Путь к самому Новгороду не по силам был татарам. Однако, состоявши в связи с покоренной татарами Русью, Новгород не мог совершенно избегнуть необходимости хотя немного хлебнуть из той горькой чаши, которую поднесла судьба русскому миру. Новгород должен был войти в систему подчиненных ханам русских стран и участвовать в платеже выхода победителям. Новгород не противился этому платежу: он не терял сознания своей принадлежности к русскому миру, и потому должен был отправлять повинность, которая касалась всех русских земель вместе. Притом Новгород не был столько силен, чтобы отважиться раздразнить против себя могущество завоевателей. Этот платеж выхода привязывал его к особе великого князя, который был посредником между ханом и князьями и русским народом всех подчиненных земель. Александр до конца жизни (в 1262 г.) не переставал иметь непосредственное влияние на управление Новгородом, и когда сам не был в Новгороде, то оставлял там подручником другого сына, Дмитрия. Новгородцы по его приказанию ходили в походы, он посылал им и других подручных князей на помощь с войском».
Итак, что ж мы все-таки имеем? Непрестанный контроль за настроениями в городе, обработанных лаской и милостями бояр из проалександровой партии, постоянного контролера и доносчика в отсутствие князя, карательные меры, если будет недовольство, и — наконец — выплату выхода, который был распределен на всех жителей, поскольку они были переписаны. Откуда бы у Александра Ярославича, не боявшегося выступить против немцев и шведов, такая нежность к завоевателям монголам? Костомаров видит ее рождение во время посещения Александром Орды.
«Александр приехал в Волжскую Орду вместе с братом Андреем в 1247 году, — пишет он, — тогда, по смерти Ярослава, достоинство старейшего князя оставалось незанятым и от воли победителей зависело дать его тому или другому. Монголы жили тогда еще совершенно кочевою жизнью, хотя и окружали себя роскошью цивилизации тех стран, которые они покорили и опустошили. Еще постоянных городов у них на Волге не было; зато были, так сказать, подвижные огромные города, состоявшие из разбитых по прихоти властелина кибиток, перевозимых на телегах с места на место. Где пожелает хан, там устраивался и существовал более или менее долгое время многолюдный кочевой город. Являлись ремесла и торговля; потом — по приказанию хана — все укладывалось, и огромный обоз в несколько сот и тысяч телег, запряженных волами и лошадьми, со стадами овец, скота, с табунами лошадей, двигался для того, чтобы, через несколько дней пути, опять расположиться станом. В такой стан прибыли наши князья. Их заставили, по обычаю, пройти между двумя огнями для очищения от зловредных чар, которые могли пристать к хану. Выдержавши это очищение, они допускались к хану, перед которым они должны были явиться с обычными земными поклонами.
Хан принимал завоеванных подручников в разрисованной войлочной палатке, на вызолоченном возвышении, похожем на постель, с одною из своих жен, окруженный своими братьями, сыновьями и сановниками; по правую руку его сидели мужчины, по левую женщины. Батый принял наших князей ласково и сразу понял, что Александр, о котором уже он много слышал, выходит по уму своему из ряда прочих русских князей. По воле Батыя Ярославичи должны были отправиться в Большую Орду к великому хану. Путь нашим князьям лежал через необозримые степные пространства Средней Азии. Ханские чиновники сопровождали их и доставляли переменных лошадей. Они видели недавно разоренные города и остатки цивилизации народов, порабощенных варварами. До монгольского погрома многие из этих стран находились в цветущем состоянии, а теперь были в развалинах и покрыты грудами костей. Порабощенные остатки народонаселения должны были служить завоевателям. Везде была крайняя нищета, и нашим князьям не раз приходилось переносить голод; немало терпели они там от холода и жажды. Только немногие города, и в том числе Ташкент, уцелели.
У самого великого хана была столица Каракорум, город многолюдный, обнесенный глиняной стеной с четырьмя воротами. В нем были большие здания для ханских чиновников и храмы разных вероисповеданий. Тут толпились пришельцы всевозможных наций, покоренных монголами; были и европейцы: французы и немцы, приходившие сюда с европейским знанием ремесел и художеств, — самая пестрая смесь племен и языков. За городом находился обширный и богатый ханский дворец, где хан зимою и летом на торжественные празднества являлся как божество, сидя с одною из своих жен на возвышении, украшенном массою золота и серебра. Но оседлое житье в одном месте было не во вкусе монголов. Являясь только по временам в столицу, великий хан, как и волжские ханы, проводил жизнь, переезжая с места на место с огромным обозом: там, где ему нравилось, располагались станом, раскидывались бесчисленные палатки, и одна из них, обитая внутри листовым золотом и украшенная драгоценностями, отнятыми у побежденных народов, служила местопребыванием властелина. Возникал многолюдный город и исчезал, появляясь снова в ином месте. Все носило вид крайнего варварства, смешанного с нелепой пышностью. Безобразные и нечистоплотные монголы, считавшие опрятность даже пороком, питавшиеся такой грязной пищей, которой одно описание возбуждает омерзение, безвкусно украшали себя несметными богатствами и считали себя по воле Бога обладателями всей вселенной.
Нам неизвестно, где именно Ярославичи поклонились великому хану, но они были приняты ласково и возвратились благополучно домой. Андрей получил княжение во Владимире, Александру дали Киев; по-видимому, в этом было предпочтение Александру, так как Киев был старше Владимира, но Киевская земля была в те времена до такой степени опустошена и малолюдна, что Александр мог быть только по имени великим князем. Вероятно, монголы сообразили, что Александр, будучи умнее других, мог быть для них опасен, и потому, не испытавши его верности, не решились дать ему тогда Владимир, с которым соединялось действительное старейшинство над покоренными русскими землями. Посещение монголов должно было многому научить Александра и во многом изменить его взгляды. Он познакомился близко с завоевателями Руси и понял, с какой стороны с ними ужиться возможно. Свирепые ко всему, что сопротивлялось им, монголы требовали одного — раболепного поклонения. Это было в их нравах и понятиях, как и вообще у азиатских народов. Чрезвычайная сплоченность сил, безусловное повиновение старшим, совершенная безгласность отдельной личности и крайняя выносливость — вот качества, способствовавшие монголам совершать свои завоевания, качества, совершенно противоположные свойствам тогдашних русских, которые, будучи готовы защищать свою свободу и умирать за нее, еще не умели сплотиться для этой защиты.
Чтобы ужиться теперь с непобедимыми завоевателями, оставалось и самим усвоить их качества. Это было тем удобнее, что монголы, требуя покорности и дани, считая себя вправе жить на счет побежденных, не думали насиловать ни их веры, ни их народности. Напротив, они оказывали какую-то философскую терпимость к вере и приемам жизни побежденных, но покорных народов. Поклоняясь единому Богу, с примесью грубейших суеверий, естественно свойственных варварскому состоянию умственного развития, они не только дозволяли свободное богослужение иноверцам, но и отзывались с известным уважением о всех верах вообще. Проницательный ум Александра, вероятно, понял также, что покорность завоевателю может доставить такие выгоды князьям, каких они не имели прежде».
Князь Даниил Галицкий 1211–1264
Обращение с князьями в Орде оскорбило Андрея, но оставило Александра совершенно спокойным. Он выбрал свой путь: делать все, что скажут, и делать хорошо. Его современник Даниил (Данило) Галицкий, единственный русский король (так уж получилось), выбрал другой путь — путь войны.
Еще совсем юношей он принял участие в страшном для русских князей сражении на реке Калке. Тогда объединенные силы русских и половцев (за замечательным исключением суздальских князей, не давших свое войско и не явившихся в Киев) были разбиты монгольской конницей. Даниил был ранен, в пылу битвы совсем этой раны не заметил и понял, что «уязвлен», только тогда, когда наклонился, счастливо избежав смерти, чтобы напиться речной воды. Этого позора (бегства), этой обиды (поражения), этого горя (потери тех, кого любил) — он никогда не простил монголам.
Даниил укреплял как мог свои наиболее сильные юго-западные города — Галицко-Волынскую Русь. Ему удавалось даже на протяжении нескольких лет отбивать (!) атаки монгольских войск, он наносил стремительные удары по своим русским князьям, которые выбрали ту же политику, что и суздальские, — подчинение монголам, он в конце концов смог отстоять свою землю, и ему даже казалось, что он смог победить всех своих врагов-соседей (поляков и венгров) и страшных монголов. Но это было не так. Вдруг Батый потребовал Даниила в Орду.
«До сих пор, — говорит Костомаров, — он не считал себя данником хана. Монгольские полчища пока только прошли по Южной Руси разрушительным ураганом, оставивши по себе, хотя ужасные, но скоро поправимые следы. Участь других русских князей, казалось, миновала Данила. Но не так вышло на деле, как казалось. В 1250 году прибыли послы от Батыя с грозным словом: „Дай Галич!“ Данило запечалился. Занятый беспрестанными войнами со своими соперниками, он не успел укрепить городов своих и не был в состоянии дать отпор татарскому полчищу, если бы оно пошло на него. Обсудивши свое положение, Данило сказал: „Не дам полуотчины своей, сам поеду к хану“. В самом деле, Данилу приходилось, уступивши Галич, не только потерять землю, приобретенную такими многолетними кровавыми усилиями, нс ему угрожала большая беда: отнявши Галич, монголы не оставили бы его в покое с остальными владениями; и потому благоразумнее было заранее признать себя данником хана, чтобы удержать свою силу на будущее время, когда, при благоприятных обстоятельствах, можно будет заговорить иначе с завоевателями Руси. 26 октября выехал Данило в далекий путь. Проезжая через Киев, Данило остановился в Выдубицком монастыре, созвал к себе соборных старцев и монахов, просил помолиться о нем, отслужил молебен архистратигу Михаилу и напутствуемый благословениями игумена сел в ладью и отправился в Переяславль. Здесь встретили его татары. Ханский темник Куремса проводил его в дальнейший путь. Тяжело и страшно было ехать Данилу. С грустью смотрел он на языческие обряды монголов, владычествовавших в тех местах, где прежде господствовало христианство. Его страшили слухи, что монголы заставят православного князя кланяться кусту, огню и умершим прародителям. Следуя по степи, доехал он до Волги. Здесь встретил его некто Сунгур и сказал: „Брат твой кланялся кусту, и тебе придется кланяться". „Дьявол говорит твоими устами, — сказал рассерженный Данило, — чтоб Бог загородил твои уста и не слышал бы я такого слова!" Батый позвал его к себе, и, к утешению Данила, его не заставляли делать ничего такого, что бы походило на служение идолам. „Данило, — сказал ему Батый, — отчего ты так долго не приходил ко мне? Теперь ты пришел и хорошо сделал. Пьешь ли наше молоко, кобылий кумыс?" — „До сих пор не пил, а прикажешь — буду пить". Батый сказал ему: „Ты уже наш татарин, пей наше питье. Данило выпил и сказал, что пойдет поклониться ханше. Батый ответил: „Иди". Данило поклонился ханше, и Батый послал ему вина со словами: „Не привыкли вы пить кумыс, пей вино". Данило пробыл 25 дней в Орде и был отпущен милостиво. Батый отдал ему его владения в вотчину. Родные и близкие встретили его по возвращении с радостью и вместе с грустью: они радовались, видя, что он воротился жив и здоров, и скорбели об его унижении. Вместе со своим князем вся Русская земля чувствовала это унижение, и оно-то прорвалось в возгласе современника-летописца: „О злее зла честь татарская!
Данило Романович, князь великий, обладавший русскою землею, Киевом, Волынью, Галичем и другими странами, ныне стоит на коленях, называется холопом, облагается данью, за жизнь трепещет и угроз страшится!“»
Даниил не простил монголам этого позора. Вернувшись из Орды, он стал искать помощи на Западе. «Данило, — говорит историк, — слишком привык к прежнему строю жизни, чтобы примириться с новым положением. Он был гораздо ближе к европейским понятиям, чем восточные князья. Стыд рабского положения не мог для него ничем выкупаться. Его задушевною мыслью стало освобождение от постыдного ига». Он понял, что пришел час для Киевской Руси, а Даниил был уже великим киевским князем, он стал искать любого союзника, только бы против монголов — биться, биться и биться, пока есть силы. К его несчастью, союзников он не нашел. Папа сделал его русским королем в 1255 году, но не дал лишь одного — войска. В тот же год на земли Даниила пришли монгольские войска. Вел их ханский темник Куремса.
«Куремса, — пишет Николай Иванович, — человек слабый и недеятельный, не трогал долго Данила. Это ободрило русского князя. Он решился отобрать у татар русские города до самого Киева. Литовский князь Миндовг дал обещание действовать с ним заодно. Данило отправил войско под начальством сыновей своих: Шварна и Льва и воеводы Дионисия Павловича. Дионисий взял Межибожье; Лев занял берега Буга и выгнал оттуда татар; отряды Данила и Василька завоевали Бологовский край, а Шварно овладел всеми городами на восток по реке Тетереву до Жидичева. Белобережцы, чернятинцы, бологовцы, со своей стороны, прислали послов своих к Данилу, но город Звягель, обещавший принять к себе Данилова тиуна, изменил и не сдавался. Данило сам отправился вслед за своим сыном Шварном, взял Звягель приступом и расселил его жителей. В это время литовцы, вместо того чтобы помогать Данилу и идти с ним по обещанию к Киеву, начали грабить и разорять его владения около Луцка, совершенно неожиданно для Данила. Посланный против них дворский Олекса наказал их жестоко, загнав и потопивши в озере. Но измена литовцев остановила дальнейшие движения Данила. Вражда татарам была объявлена. Силы Куремсы двигались на Луцк, но этот город стоял на острове, и жители заранее истребили мост; татары через реку Стырь хотели пускать камни в город, но поднялась сильная буря и изломала их пороки. С тех пор Куремса не нападал на Данила. Но в 1260 году на место Куремсы был назначен другой темник, по имени Бурундай, человек суровый, воинственный». Бурундай потребовал от Даниила разметать укрепленные им же города. Сыновья Даниила подчинились. Когда король об этом узнал, он понял, что своими силами победить огромное войско не сможет. Он больше никогда не ездил в Орду, никогда не признавал власть папы, отказался именовать себя королем, а через четыре года его не стало в городе Холм, который войско Бурундая так и не смогло взять.
«В судьбе этого князя, — писал историк, — было что-то трагическое. Многого добился он, чего не достигал ни один южнорусский князь, и с такими усилиями, которых не вынес бы другой. Почти вся Южная Русь, весь край, населенный южнорусским племенем, был в его власти: но, не успевши освободиться от монгольского ига и дать своему государству самостоятельного значения, Данило тем самым не оставил и прочных залогов самостоятельности для будущих времен. По отношению к своим западным соседям, как и вообще во всей своей деятельности, Данило, всегда отважный, неустрашимый, но вместе с тем великодушный и добросердечный до наивности, был менее всего политик. Во всех его действиях мы не видим и следа хитрости, даже той хитрости, которая не допускает людей попадаться в обман. Этот князь представляет совершенную противоположность с осторожными и расчетливыми князьями Восточной Руси, которые, при всем разнообразии личных характеров, усваивали от отцов и дедов путь хитрости и насилия и привыкли не разбирать средств для достижения цели». Воистину так. Племя Ярославичей (исключая одного брата Александра — Андрея) это отлично доказало на собственном примере.
Московские князья на новгородском столе
Еще отец Александра Ярослав, который отдал монголам буквально на уничтожение своего брата Юрия, ожидавшего напрасной помощи, сразу понял, как надо правильно вести себя с монголами, чтобы заслужить их доверие и добиться желанного права на великое княжение. Так же поступил со своим братом Андреем и Александр — он наслал на посмевшего противиться монгольской силе Андрея объединенное русскомонгольское войско.
1247 год Отъезд Андрея и Александра Ярославичей в Орду, оттуда в Каракорум
1249 год Передача киевского престола Александру Невскому
1249 год Возвращение Андрея Ярославича из Каракорума; занятие им владимирского великокняжеского престола
1252 год Свержение Андрея Ярославича, князя Владимирского, братом Александром Ярославичем
И не памяти народной хотелось воспеть героя Александра, а его потомкам хотелось сделать образ князя, отдавшего страну в рабство, красивым и полным благолепия. Об этом говорит такой факт, приведенный Костомаровым: когда по смерти Невского на новгородское княжение заступил его сын Ярослав, новгородцы тут же припомнили все злодеяния, которые вершились именем брата Дмитрия и отца Александра, потребовав возвращения свобод. Ярослав согласился: он-то понимал, что лучше обещать, чем выполнять. Первое время так и было, потом новгородцы возмутились и Ярослава прогнали. Но что далее сделал Ярослав? Он отправился жаловаться хану! Только заступничество его брата Василия спасло Новгород от монгольской конницы. Ярослав сделал вид, что поступил неправильно, и просил прощения, но его все равно не приняли назад. Вместе с новгородцами против князя встали пригороды — Ладога, Псков, вся Новгородская волость и инородцы — ижора, вожане, корелы. Только митрополиту кое-как удалось примирить готовых драться за свободу жителей Новгородской земли. Примирились на том, что Ярослав Александрович целовал крест на всей новгородской воле, и, будучи великим князем, он поставил своего наместника на Городище, чтобы в его отсутствие следил за делами.
С тех пор так и повелось: новгородским князем считался великий князь, на Городище жил его наместник, а новгородцы имели право брать себе других князей, которым давали в кормление волость и которых ставили во главе новгородского войска. Они, по словам историка, считались князьями меньшего ранга, поскольку не были посажены на столе. Порабощение татарское, говорил он, возвысило положение великого князя, мало-помалу сообщив ему значение государя всей Русской земли. Так что, понятно, остальным князьям оставалось быть просто князьями. Когда эти князья начинали спорить из-за великого княжения, все решалось исключительно просто — спорщики отправлялись в Орду, кого Орда предпочтет, тот и получал ярлык. Новгородцам это ордынское предпочтение стоило независимости в выборе князя, недаром они жаловались на новый порядок такими словами: отовсюду нам горе — тут князь владимирский великий, тут князь тверской, а тут ханские баскаки с войском татарским. По сути, они были вынуждены принимать любого князя, на которого укажет Орда. Сначала Василия Костромского, потом Дмитрия Переяславского, потом Андрея Александровича…
В конце концов князь вообще потерял всякое значение, из свободно выбиравшейся прежде кандидатуры, которая реально управляла городом, он стал некой камуфляжной фигурой, лишним бременем для города. Сложилось двоевластие: с одной стороны, народоправство, выраженное в форме веча, с другой — великий князь, власть которого всеми способами старались ограничить. Это не получалось и раздражало. В лице великого князя новгородцы видели не защитника своих прав, а совсем наоборот — чужеземного господина, надсмотрщика, назначенного Ордой. Из всех русских земель Новгород оказался в самом странном положении: это была земля полузавоеванная, в ней даже остались какие-то свободы, только теперь город не мог проводить самостоятельную политику, он выполнял распоряжения великого владимирского князя. Положение очень обидное и двусмысленное. Может, новгородцы и решились бы что-то изменить, но, во-первых, они упустили время, во-вторых, боялись, что из положения полузавоеванной земли окажутся разом в положении полностью порабощенной, как остальные северо-восточные княжества. Великих князей, номинально управлявших Новгородом, Костомаров назвал господскими приказчиками. Это историческая обида? Нет, это историческая правда. Ничем иным они и не были. Новгороду оставалось только терпеть и ждать. Чего же? Да того, когда приказчики сами станут господами.
Великий князь Юрий Данилович 1319–1322
Это время началось с победы в Орде московских князей, которых, по привычке извиваться, чтобы не быть раздавленными, новгородцы тут же признали как великих. Новгород был готов признать своим князем любого великого князя, лишь бы этот князь не посягал на его некоторую самостоятельность. Так что они старались заранее предугадать, кого из князей предпочтут в Орде. И случалось — ставили не на ту лошадку. Когда шла борьба между тверским Михаилом и московским Юрием, новгородцы решили, что победа будет за Юрием, так что они еще до получения князем ярлыка приняли к себе его сыновей. И… ошиблись.
Орда предпочла Михаила.
Само собой, Михаил, получив ярлык, тут же пошел наказывать Новгород. Новгородцы приняли решение: не пускать Михаила и биться с монголами. Это было опасное решение, но испытать на практике новгородцам его плоды не пришлось: войско заблудилось в лесах и болотах, так что карательный монгольский отряд с войском Михаила до Новгорода попросту не дошел. Новгородцы ждали второго похода, но им повезло еще раз: в Орде Михаилом остались недовольны, тем временем Юрий женился на сестре монгольского хана и… с монгольским отрядом Кавдыгая пошел на Михаила. Ясно, что тому уж и дела не было до какого-то Новгорода. В конце концов победил Юрий, Михаила убили в Орде, а новгородцы были обласканы восторжествовавшим Юрием.
1318 год Казнь в Орде тверского князя Михаила Ярославича; начало великого владимирского княжения Юрия Даниловича
Эти северо-восточные игры очень беспокоили новгородцев. Сначала они боялись тверских князей, стремившихся соединиться с Литвой и — как думали в Новгороде — отомстить городу за поддержку Москвы. Нужно было выбрать достойный противовес. Как это ни забавно, но союзника в борьбе с Тверью и Литвой новгородцы нашли в том самом орденском рыцарстве, которое бил всего-то век назад Александр Ярославич Невский. Они подписали с орденом договор о мире и взаимопомощи.
Вот ведь какими интересными путями двигается история! Когда вдруг оказалось, что великое княжение досталось тверскому князю Дмитрию, новгородцы еще раз обеспокоились и… стали сближаться с Литвой, против которой собирались воевать вкупе с орденом! Теперь в Новгороде стали появляться литовские князья.
Великий князь Иван Данилович 1328–1340
Как только снова победил московский Иван Данилович, новгородцы тут же приняли сторону Москвы! Тверской Александр просился в Новгород, но его, конечно же, не приняли. Проигравший князь бежал в Псков, и псковичи его впустили. Это рассорило Псков и Новгород, но новгородцы твердо держались теперь Москвы: когда Иван Данилович собрался в Орду, вместе с ним поехало в дар монгольским ханам новгородское серебро, на которое и было приобретено великое княжение. Благодарный Иван Данилович с ярлыком на это княжение явился в Новгород и привез митрополита Феогноста, который из Новгорода грозил непокорному Пскову за то, что тот посмел укрыть Александра. Вместе с московским войском новгородцы даже отправились брать Псков, только Александра там уже не было — не желая причинять горожанам беды, тот отправился в Литву. Так что, если новгородцы и рыли себе яму, то рыли они ее очень старательно.
1332 год Начало борьбы Ивана Калиты с Новгородом за «дани новгородские»; взятие Торжка
Только благодаря новгородским деньгам Москве удалось так быстро и так качественно победить своих соперников в Орде. Скоро конкурентов московским князьям вовсе не стало. И теперь новгородцы стали пожинать то, что сами же и посеяли. Московские князья смотрели на Новгород как на отличную дойную корову, которую гораздо приятнее держать в личном хозяйстве, чем отпускать гулять на сторону. Достигнув искомой власти, Иван Данилович сразу потребовал с Новгорода закамского серебра, то есть новгородской дани с Закамской земли. Новгородцы отказали, но Данилович не отставал. Он по традиции захватил Торжок. В городе стали ожидать голода. Тут же мнения горожан разделились: одни считали, что лучше уступить великому князю, другие предлагали призвать на подмогу литовское войско. Сначала все же послали к Ивану Даниловичу, чтобы покончить дело миром. Московский князь посольство спровадил с отказом. Тогда, уже в Переяславль, послали своего владыку и предложили князю пятьсот рублей отступных, чтобы только ушел из новгородских волостей. Князь снова ответил отказом. Тут уж новгородцы рассердились и послали в Литву за князем Наримунтом.
Сын великого литовского князя Гедимина Наримунт был посажен новгородцами на стол по всем городским правилам, то есть так, как положено было сажать князей прежде. «Новоизбранному князю, — пишет Костомаров, — дали в кормление, в отчину и в дедину, и — с правом это кормление передать потомкам, — Ладогу, Ореховский городок, корельский город с корельскою землею, и половину Копорья». Горожане присягнули ему на верность как один человек. Но тут, как говорит историк, оказалось, что князь ожиданий не оправдал, тогда подняла голову партия, которая была за московского князя, тем более что этот князь только что вернулся из Орды с подтверждением своего статуса. Думается, однако, что не Наримунт ожиданий не оправдал, а московские патриоты и шпионы Ивана Даниловича приложили все усилия, чтобы не выпустить богатые новгородские земли в сторону ненавистной им Литвы. Когда к Ивану Даниловичу отправили третье посольство, он сразу оказался куда как милостивее. На время он даже забыл о закамской дани. Новгородцы тут же указали Наримунту на выход, после чего произошло несколько набегов литовцев. Известно, что новгородцы с московским войском ходили эти набеги отражать.
Но стоило лишь Ивану Даниловичу устранить литовскую опасность, сразу же он вспомнил о закамском серебре! И снова новгородцы страшно рассердились и поссорились с московским князем. Тот двинул войско на Заволочье. Новгородцы отдавать закамскую дань не желали, они снарядили посольство в Литву к Наримунту, но обиженный князь больше не хотел иметь дела с клятвопреступниками: он не только не пришел с войском, но и своего сына отозвал из Орешка, где тот держал оборону против шведов. Новгородцам пришлось идти без литовской помощи, впрочем, Ивана они выгнали из своего Заволочья, но ссора на этом не утихла. Скоро, ссылаясь на распоряжения хана Узбека, Иван потребовал с Новгорода двойной дани (очевидно, в отместку за закамское серебро). Новгородцы ответили отказом. Князь вывел своего наместника с Городища и объявил городу войну. Только смерть Ивана Даниловича спасла Новгород от этой опасности.
Великий князь Семен Иванович, прозванный Гордым 1340–1353
Его сын Семен, который в Орде получил ярлык без новгородской помощи, сразу же продолжил исполнять заветы отца — занял всю Торжковскую волость. Новгородцы отправили войско выручать Торжок, но оказалось, что жители Торжка не хотят быть под новгородцами и предпочитают московского князя, тем более что теперь это был уже не просто великий князь владимирский, а великий князь всея Руси, — такой титул принял Семен. Кое-как новгородским послам во главе с владыкой удалось уладить вопрос о Торжке миром: Торжок остался за Новгородом, но дань с Новоторжковской области и черный бор со всей Новгородской земли великому князю всея Руси отдать пришлось. В целом при Семене Новгород жил достаточно спокойно, но теперь горожане вдруг осознали, что для них означает усиление Москвы. Так что после смерти Семена они решили поддержать суздальских князей, претендовавших на ярлык. Новгородцы надеялись, что если будет восстановлена смена князей, то хотя бы княжеские распри помогут городу избежать жесткого давления всегда побеждающей стороны.
Но они опоздали. Поддерживать распри нужно было куда как раньше. Теперь время распрей ушло, в Орде привыкли выбирать лояльных и безопасных московских князей. К власти пришел брат Семена Иван. Его власти новгородцы так и не признали. Семь лет, пока Иван княжил, Новгород отказывал ему считаться новгородским князем. Они были обрадованы, что в 1361 году Орда выбрала вдруг не московского, а суздальского князя Дмитрия Константиновича, но их ожидало глубокое разочарование: тот вынужден был уступить княжение Дмитрию Ивановичу, московскому князю.
Великим князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским 1363–1389
Сначала отношения между Дмитрием и Новгородом складывались напряженные: Дмитрий даже собирался походом на Новгород из-за постоянных грабежей новгородских ушкуйников на Волге. Но история распорядилась иначе. Тверской князь сблизился с литовским великим князем Ольгердом (они были родственники). Такой союз угрожал и Новгороду, имевшему и прежде трения с Ольгердом, и Москве.
1367 год Начало похода Михаила Александровича Тверского и литовского князя Ольгерда на Москву против Дмитрия Донского
Новгород предпочел занять сторону Москвы. Впрочем, литовская опасность для Новгорода больше была придуманной. На самом деле у города возникли сложности с земельным вопросом. Все дело в том, что новгородские землевладельцы стали продавать свои владения тверичам, а тверской князь заявил новгородцам, что раз земля продана тверичам, так она теперь Тверская земля, на что новгородцы возмутились и ответили, что земля Новгородская неприкосновенна, кому бы она ни принадлежала, прежде всего она принадлежит Новгороду. Ко всему прочему, Михаил Тверской взял да и занял Торжок, посчитав и этот город теперь своим, даже своих наместников посадил. Новгородцев это рассердило еще больше. Они дождались, пока Михаил уведет войско, вошли в свой Торжок, наместников выгнали, тверских купцов пограбили, а кое-кого и убили и стали готовиться к обороне. Жители Торжка, которые не так уж давно собирались идти под московского князя, теперь вспомнили, что целовали крест новгородцам, и покоряться Твери не хотели. Михаил, узнав, что случилось, явился под Торжок с войском, требуя выдать тех, кто убил его тверичей. Немногочисленное новгородское воинство подбадривало своих торжковцев, даже вывело их сражаться с тверичами. Только, увидев, что Михаил берет верх, новгородские воины тут же бросились бежать, а Торжок бросили на произвол судьбы.
Произвол был таков: посады основательно пожгли, из-за ветра огонь перекинулся на город, и в пламени погибла большая часть его населения. Тверичи ограбили все, что уцелело от огня, а выживших жителей увели в плен. Никак не литовская опасность, а земельные притязания и разгром Торжка — вот истинная причина объединения Новгорода с Москвой.
В союзе с Москвой были не только новгородцы, но, по словам летописи, только новгородцы буквально рвались в бой, скрежеща зубами за обиду в Торжке. Увидев против себя среди союзного войска новгородцев, Михаил испугался, что эти сделают с его княжеством то же, что и он сам с Торжком, так что он вынужден был заключить мир с московским князем. Пришлось ему заключить и мир с новгородцами на всей их воле, то есть отпустить всех пленных без выкупа, вернуть Торжок и всю Торжковскую волость, возвратить проданные новгородскими землевладельцами земли, предоставив право решать в судебном порядке расторжение сделки, а если продавца не найти — Новгород обещал выплатить куны из городской казны, а также вернуть все товары, захваченные у новгородских и торжковских купцов. Новгородцы и не предполагали, что, борясь за земельные интересы и ослабляя Тверь, они прокладывают себе дорогу к страшному будущему. Прошло 11 лет, и московский князь вдруг припомнил новгородцам их ушкуйников на Волге-реке. Но это был, конечно же, только предлог. На самом деле московский князь был возмущен, что Новгород не платит дани с самого начала его великого княжения.
1387 год Присоединение к Москве от Новгорода Бежецкого Верха
Так что Дмитрий Иванович собрал огромное по тем временам войско и пошел на Новгород. Тут стоит сделать некоторое отступление: Дмитрий Иванович был тот самый Дмитрий Донской, он сильно опустошил казну во время Куликовской битвы, и еще сильнее — после набега Тохтамыша. От хана пострадали великокняжеские земли, и с каждой деревни в виде особого наказания была назначена дань по полтине. Эти тяготы князь и жаждал заплатить новгородскими деньгами. Сначала он просто отправил в Новгород сборщиков дани, но, как только те явились на Городище и объявили московское решение, новгородские бояре едва их не растерзали, крича, что никакой дани Новогород платить не обязан. Москвичам оставалось только что бежать от греха. Была еще одна новгородская неприятность: за год до того князем в Новгород был приглашен сын Наримунта Патрикей. Это вывело Дмитрия из равновесия: ведь иначе чем измену воспринять приглашение литовца на новгородское княжение он и не мог. Ко всему прочему новгородский владыка наотрез отказался подчиняться московскому митрополиту! Так что без открытой войны было не обойтись. Предлог же — означенные ушкуйники — был выбран очень правильно: эти молодецкие ватаги причинили немало хлопот по всей Волге, так что в московское войско с охотой пошли жители Галича, Мологи, Костромы, Городца, Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Белозерска, Устюга, Мурома, Юрьева, Владимира, Суздаля, Ростова, Мещеры, Стародуба, а также Московской земли — Можайска, Серпухова, Боровска, Ржевска, Дмитровска. Даже новгородские пригороды Вологда, Торжок, Волок Ламский, Бежецкий Верх дали людей — эти просто боялись разорения, поскольку первыми бы оказались на пути войска.
Новгородцы к такому повороту событий были совсем не готовы: своего постоянного войска у них не было, приходилось набирать ополченцев, но разбить московское войско силами ополчения — затея обреченная. Так что сперва Новгород хотел откупиться, как это обычно и делал. Не вышло. Дмитрий денег не взял. Горожане стали срочно ставить острожек для обороны. Слухи о размере войска были устрашающие, так что жители решили сами сжечь все постройки вокруг города — и запылали посады, не пощадили они даже и монастыри — в общей сложности их сгорело 24. Отовсюду доходили известия, что московское войско грабит дома, жжет поселки и уводит жителей в плен. Узнав, где Дмитрий стал лагерем, послали туда на переговоры владыку. Тот обещал наказать виновных ушкуйников и выплатить все те же 8000 рублей, которые предлагались и в первый раз. Дмитрий согласился, но, как считал Костомаров, вовсе не потому, что был тронут кроткими словами владыки, — просто он увидел, с какой легкостью новгородцы жгут свое имущество, и понял, что взять город будет не так-то просто, к тому же была зима, почти бесснежная, зато земля покрыта льдом, стоял князь в голом поле на пепелище, ни о какой осаде без продовольствия и речи идти не могло. «Сам Димитрий не был князем, способным мудростью правления облегчить тяжелую судьбу народа, — говорит Костомаров, — действовал ли он от себя или по внушениям бояр своих — в его действиях виден ряд промахов. Следуя задаче подчинить Москве русские земли, он не только не умел достигать своих целей, но даже упускал из рук то, что ему доставляли сами обстоятельства; он не уничтожил силы и самостоятельности Твери и Рязани, не умел и поладить с ними так, чтоб они были заодно с Москвою для общих русских целей; Димитрий только раздражал их и подвергал напрасному разорению ни в чем не повинных жителей этих земель; раздражал Орду, но не воспользовался ее временным разорением, не предпринял мер к обороне против опасности; и последствием всей его деятельности было то, что разоренная Русь опять должна была ползать и унижаться перед издыхающей Ордой». Новгородцы совсем не желали унижаться ни перед Ордой, ни перед князем-защитником, который, вместо того чтобы защищать, начинает карать. На этот раз беда горожан миновала. Московское войско ушло.
Великий князь Василий Дмитриевич 1389–1425
Но московская угроза никуда не исчезла. Пока еще великие князья хотели от Новгорода только денег. С князьями-защитниками у города было очень плохо. Грубо говоря, Новгороду доставались князья-неудачники, которые либо были изгнаны с родины, либо вынуждены были сами бежать, защитить они не умели даже самих себя. А между тем отношения с Москвой становились все напряженнее.
С 1390-х Попытки Москвы ограничить самостоятельность Новгорода
1390-е Война Москвы с Новгородом и присоединение Подвинья (Заволочья), земель Перми Великой, Муромского княжества, верховьев Волги
Воссевший на стол после Дмитрия его сын Василий «узаконил», так сказать, выплаченную единоразово дань с города и потребовал черного бора со всей земли. К тому же возникли и сложности в церковных отношениях: московский митрополит требовал права суда над новгородской церковью. Новгородцы, выслушав претензии, отказали и в дани, и в суде над церковью.
Снова началась война. Москвичи взяли Торжок, Вологду, Бежецкий Верх, Волок Ламский, в Торжке захватили сторонников Новгорода, увезли в Москву и казнили. В ответ новгородцы разграбили Устюг, пленили жителей. После этого был заключен мир, но мир был не в пользу Новгорода: город обещал платить черный бор. Но перемирие было не слишком долгим. В 1397 году Василий, женатый на дочери Витовта, потребовал, чтобы новгородцы объявили войну ордену, с которым Витовт был в ссоре. Новгородцы отказали. «Нам, князь, — сказали они, — с тобою один мир, а с великим князем Витовтом другой, а с немцами иной». За этот отказ московский князь отправил своих агитаторов в Двинскую землю, где они должны были склонить двинчан на сторону Москвы. Это удалось, двинчан обрадовала возможность беспошлинной торговли. По уже известному рецепту снова были захвачены Торжок, Бежецкий Верх и Волок Ламский. Одновременно митрополит потребовал к себе владыку на суд по святительским делам. Пришлось ехать. Вместе с владыкой отправился новгородский архиепископ и выборные послы. Митрополит был доволен таким послушанием и благословил владыку с послами. Но князь Василий отказался очистить взятые города и земли. Когда посольство вернулось с дурными вестями, новгородцы решили за свои земли сражаться.
В 1398 ополченцы взяли великокняжескую Белозерскую волость, захватили Кубенскую волость, Вологду, Устюг, Орлец. А когда ополчение вернулось в Новгород, вдруг выяснилось, что великий князь еще осенью отказался от своих требований и вывел войска из захваченных городов. Но за эту отвоеванную назад Двинскую землю через несколько лет пришлось отвечать новгородскому владыке: его вызвали в Москву и обвинили в том, что он благословлял ополчение идти в Двинскую землю, за что владыку на два с половиной года посадили в Чудов монастырь. Владыка сидел под замком, но вины не признавал. За это Василий вновь разорил Торжок. Отношения между Новгородом и Москвой были натянутыми, но до большой войны так и не дошло.
Но проблемы были у Новгорода не только с Москвой, проблемы были и с Литвой. Хотя и сидели на новгородском столе несколько литовских князей, новгородцы умудрились каким-то особенным образом испортить отношения с Витовтом. Костомаров объясняет этот казус тем, что Витовт мечтал создать большое и сильное русско-литовское государство. Но тут, скорее, дело в особенностях новгородского ума. Все тонкое дипломатическое дело портили новгородские послы, которые не стеснялись называть Витовта неверным и поганым. Как христианина и католика это его сильно обижало. Ругали его также псом, изменником и бражником. Последняя новгородская ругань привела к войне. Оскорбленный Витовт пошел и встал осадой на Порхов. Защитники предпочли заплатить ему за отход 5000 рублей. Потом явились новгородские послы и заплатили еще 5000 за то, чтоб не разорял новгородских волостей, и 1000 за выкуп пленных. В назидание якобы Витовт сказал новгородцам: это вам за то, что назвали меня изменником и бражником.
Великий князь, Василий Васильевич, прозванным Темным 1425–1462
После смерти Василия Дмитриевича между претендентами на престол возникли такие междоусобия, что князьям было не до Новгорода. Это, конечно, оттянуло конец его свобод. Князья порывались то пойти войной на Новгород, то отнять несчастный Торжок, но дело завершалось выплатой очередной порции денег. Московских великих князей бесило, что новгородцы дают приют даже таким изгнанникам, как Дмитрий Шемяка или Василий Гребенка, на что новгородцы отвечали, что по старому обычаю они всем князьям без разбора оказывают честь. Бесило их и то, что у новгородцев существует до сих пор вече, на котором они составляют свои грамоты не от имени великого князя (и вообще без всякого его ведома). Какой же московский князь великий князь всея Руси, если этот Новгород ведает вопросами войны и мира и ведет переговоры с иностранными державами? Русь Новгород или же не Русь?
Самое неприятное было для московского князя и то, что новгородцы стали скупать земли, и не где-нибудь в чужих еще княжествах, а, можно сказать, — в сердце Московской земли: в Ростовской да Белозерской, — и все эти земли тут же перестали уважать Москву, а взяли ориентацию на Новгород! Это уж было, сами понимаете, никак недопустимо! Так что в 1456 году Новгороду была очередная великокняжеская война. Новгородцы потерпели поражение под Русой и снова помирились с князем. Естественно, им пришлось снова платить за мир, согласиться на черный бор и вернуть Москве купленные на ее территории земли. Но самое отвратительное условие мира было не денежным: новгородцы обещали не давать вечных грамот, а только грамоты с печатью великого князя. Они еще не понимали, что это означает. Это прекрасно понимали сторонние наблюдатели.
Вторая половина 1450-х Начало борьбы Василия Темного за Новгород
1460 год «Мирный» поход Василия II на Новгород; договор об уплате жителями Новгородской земли «черного вора»
Видя, что Москва уже полностью готова сожрать Новгород, великий литовский князь Казимир предлагал новгородцам союз, но те отказались: им было непривычно принимать помощь от иноверца. А зря. Это была уже одна из последних упущенных ими возможностей. Другая была выполнимой, но не гарантирующей избавления от Москвы: во время посещения Василием Васильевичем Новгорода составилась группа заговорщиков, которые хотели порешить разом и самого великого князя, и обоих его сыновей Юрия и Андрея, и воеводу Басенка, разбившего ополчение под Русой. Только владыке кое-как удалось их остановить. И только одно обстоятельство охладило их пыл: владыка напомнил, что у Василия Васильевича имеется еще и сын Иван, его-то в Новгороде и не было. И ведь прав был владыка: именно Иван и задушил новгородские вольности.
Конец народоправств
Великий князь Иван III Васильевич 1462–1505
Еще прежние московские князья всеми способами пытались ограничить новгородские свободы: в своих землях они эту заразу свободомыслия ликвидировали уже давно. Ни один подручный Москве суздальский князь не смел и пикнуть против этой центростремительной политики, где главной была Москва, все интересы вертелись только вокруг Москвы, и то, что не нравилось Москве, должно было не нравиться всем ее рабам. В Новгороде, пусть и боярском, пусть и недостаточно демократичном (простые люди мало что могли решать и в этой самой свободной русской земле), собственного мнения никто высказывать не боялся, и, имея в виду пример уничтожения плюрализма в низовских землях, Новгород мог честно говорить, что он живет по своей воле. Но с каждым новым московским князем эта собственная воля становилась все ограниченнее.
Москвичи отлично знали, как можно унизить и оскорбить Новгород, чтобы он решился совершить неправильные поступки. Они действовали, играя на чувствах соседних с Новгородом тверских князей, в то же время создавая такую обстановку, когда Новгороду не у кого было искать помощи, разве что у Москвы. Последний московский князь оставил в сердцах новгородцев самые неприятные воспоминания. Он фактически запретил все то, чем Новгород отличался от любого иного города с северо-восточной ориентацией.
Что такое Новгород без его вечевого порядка и принятия решений простым большинством голосов?
Что такое Новгород без самостоятельной политики?
Что такое Новгород, не живущий по своей воле?
Чем он тогда отличается от Владимира, Суздаля, Ростова, самой Москвы?
Ничем.
Разве что богатством, выгодной торговлей, зарубежными связями. Всему этому Москва желала положить предел. Пусть торговый — это полезно для строящегося Москвой государства, деньги — это хорошо. Но эти деньги должны идти не на новгородские нужды, а на московские, тогда это только и будет правильно.
А так получается что? Вроде бы Новгород — русская земля, православная, а в то же время денег платить не хочет, землей своей дорожит, принимает у себя разных опальных князей, ненавидящих московского князя, берет в князья и вовсе иностранцев, врагов отечества, помимо Москвы решает все на своем проклятом вече, а к Москве обращается лишь тогда, когда у самого плохо с военным ресурсом. Нет, так жить нельзя. Василий Васильевич, хоть и слепой, в темноте своего невидения точно знал: следующий шаг должен быть очень простым — присоединить вольный город со всеми его богатыми землями, которые тоже (вот ведь нелепость!) считают себя вольными, хотя глушь инородская, присоединить к сердцу родины Москве, присоединить так, чтобы уже никогда отсоединиться не смог. Оставить Новгороду одно только право — торговать. Пусть торгует для повышения благосостояния Москвы. А все остальное — от лукавого. Сам Василий хотел, да не успел разобраться с Новгородом. Это дело выпало уже на правление его сына Ивана.
Ивана Васильевича Костомаров характеризовал как князя с деспотическими наклонностями предков, но с умом гораздо обширнейшим и политикой более чем осторожной. Близлежащие и пока еще свободные княжества вроде Тверского и Рязанского он называет странами. По сути он прав: в XV веке это и были отдельные страны, они даже по размеру именно не области Руси, а страны, хотя и повязаны единым подчинением монгольскому хану в Золотой Орде через великого князя земли Русской. В то же время нельзя рассматривать наличие этих «стран» как федерацию, поскольку федерация — образование все же добровольное, здесь же говорить о каком-то добровольном вступлении в федерацию с отдачей первого голоса Москве со стороны Рязани или Твери — более чем дико. Тверичи и рязанцы своего соседа ненавидели так, как только можно ненавидеть. Новгород, который больше всего заботился о выгодах и считал, что его вольности никуда не денутся, пока есть деньги, в этом плане был даже менее дальновидным, чем Тверь и Рязань.
Проблемы, которые вдруг образовались к середине XV века, дали понять — денутся, так что в этом плане заговор 1460 года — явление показательное. Вполне вероятно, что новый князь был осведомлен о факте этого заговора, или само отношение новгородцев, их неожиданное упорное сопротивление, их борьба за права заставили его проводить такую взвешенную политику. Вступив на должность, князь не стал сразу же давить ни на Новгород, ни на Тверь, ни на Рязань. Единственное, чего он требовал, — быть послушными Москве. Прежние князья уже так постарались в этом отношении, что Твери, Рязани и Новгороду оставалось лишь поддерживать статус-кво. Княжества не могли отказаться выделить войска для московских нужд, они покорно исполняли московские приказы. Тут-то Новгороду и стало ясно, что достаточно одного легкомысленного поступка, и вся московская сила пойдет на вольный город, чтобы стереть его с лица земли. Удивительно, но за века подлинной самостоятельности Новгород не озаботился самым важным — он не создал регулярного войска, готового в случае опасности драться с врагом. Он так привык, что князья в более благополучное время приводили свои военные силы, садясь на стол, что даже и теперь, когда ситуация ухудшилась до предела, не занялся этим вопросом. Это, можно сказать, было его роковой ошибкой.
Другой бедой оказалось наличие плюрализма. При свободе мнений нельзя было остановить ту пропаганду, которую вели подкупленные Москвой агенты в самом городе. К ним, к сожалению, относилась одна из сильных боярских партий. Агенты убеждали новгородцев, что присоединение к Москве — благо, поскольку тогда новгородский народ будет «со всей Русью», и что московский князь лучше будет управлять всеми, чем новгородский. В последнее верили: новгородцам уж в течение долгого времени не доставалось нормальных князей. Даже псковичам больше везло на князей. Уже больше века псковичи жили самостоятельной республикой и сами приглашали к себе князей. Отличался Псков и большей согласованностью в управлении, и тем хотя бы, что имел отважных защитников. Псков как-никак был крепостью, он мог пережить осаду. Новгород ничего такого не мог.
Когда притязания москвичей стали совершенно прозрачными, Новгород растерялся. Он стал искать союзников, но с союзниками было очень сложно. К середине XV века не было больше рыцарей, с которыми хоть и воевали, но умели и договариваться. Тверское княжество не помогло бы новгородцам, официально оно было лишено вечевого порядка, хотя видимость самостоятельности и соблюдалась. У новгородцев было два пути спастись: перетянуть на свою сторону Орду, но Орда тоже была уже не та, ослабела, или все-таки посмотреть на запад. Православным новгородцам этого сильно не хотелось, но, пожалуй, кроме Литвы, больше никто не мог защитить новгородских вольностей. Так вот и случилось, что в ответ на московскую боярскую партию в Новгороде создалась литовская боярская партия. Если бы не эта межпартийная грызня и постоянное колебание между Москвой и Литвой, у Новгорода могла бы сложиться другая история, может быть, и не счастливая, но — другая.
Еще при Василии Темном, пишет Костомаров, мысли Новгорода обратились к Литве. Их многое привлекало в этом соседнем государстве: земли этой страны включали не только чисто литовские, но, большею частью, русские, города на этих землях не теряли своей самостоятельности и структуру управления, Казимир не отменял их вольностей, напротив, городские свободы расширялись, король охотно раздавал охранные грамоты на земли землевладельцев, были значительно увеличены права торговых людей, даже недавно вошедшая в состав польско-литовского государства Пруссия не могла пожаловаться, что права ее городов хоть как-то ущемлены, так что была уверенность, что Новгород не пострадает от такого союза, а куда как больше приобретет. Хотя особых выгод такой союз никак не принес бы простому народу, но подчинение Москве даже ему казалось более опасным. Единственное смущало новгородцев: религия. В Речи Посполитой права православных не ущемлялись, это было известно, но для новгородцев католики были людьми второго сорта, и соединяться с католиками? Это и останавливало. Новгород, несмотря на всю толерантность, в религиозном плане был очень ортодоксален. Он мог торговать с кем угодно и без различия к вере, но жить в согласии рядом с латинянами горожанам было не слишком приятно. Даже московское православие считали они не совсем православным, что уж говорить о Литве!
Была и причина сомневаться в справедливости того, о чем рассказывают сами жители Литвы: с подачи московских агитаторов новгородцы узнали, что литовский митрополит Григорий изменил православию, а многие русские в Литве переметнулись в латинскую веру. Одни горожане верили, что литовская вера вовсе не православная, другие сильно сомневались и считали это клеветой, поскольку московского митрополита мало что не любили в Новгороде — его ненавидели за унижение собственного владыки. Так в Новгороде начались споры о вере, единственном камне преткновения для будущего союза. Эти споры велись и среди мирян, и в монастырях, некоторые монахи горячо поддерживали соседних литовцев, другие так же горячо ругались на литовскую веру, и эти споры не могли не доходить до ушей Москвы. Новгороду нужно было сделать выбор: либо под католического короля, но с сохранением свободы и своей веры, либо под Москву — то есть в тюрьму, хотя и к единоверцам. Новгороду для принятия решения требовалось время, но именно времени-то у него и не было. Москве было понятно: как только Новгород определится в религиозном аспекте — поминай его как звали. Москва выжидала, но при малейшей опасности была готова нанести упреждающий удар.
В Новгороде тем временем шли споры да споры. Постепенно перевес взяла литовская партия. Во главе этой пролитовски настроенной боярской верхушки стояла вдова новгородского посадника Марфа Борецкая. Это была уже немолодая женщина, мать двоих взрослых сыновей. Удивительно, но за Литву и свободу активно выступали не только новгородские граждане мужского пола, но и женщины, Марфа была среди них не единственной, но история просто не сохранила других имен — только Марфа и некая Наталья Григоровичева (как полагал Костомаров, жена одного из членов посольства к королю Степана Григоровича).
Московские летописцы, повествуя о новгородских делах, захлебываются от брани, когда речь заходит об этой Марфе. Вероятно, личность это была сильная, раз сумела она убедить новгородских мужчин насмерть стоять за свою свободу. В Москве немолодую Марфу упрекали даже в обычной меркантильности: мол, она на старости лет собралась замуж за литовского новгородского князя Михаила Олельковича, так им требовалось доказать своим читателям, что Марфа не только стыда не имеющая женщина (в Москве женщина — вообще не человек в те времена), но рвущаяся к власти интриганка. Интересная деталь: Марфа сумела сплотить вокруг себя не только часть новгородской знати, но и черный народ, то есть простолюдинов, хотя сама принадлежала к вполне уважаемому, хотя и не аристократическому кругу. В этой коллизии — под Литву или под Москву, на стороне Литвы было подавляющее число обычных горожан, а на стороне Ивана Васильевича — очень многие из бояр. Вот и задумайтесь, кому были важнее и милее городские свободы: новгородскому высшему слою или народу.
Марфина партия собиралась в ее доме в Неревском конце, там они и обсуждали возможные перемены и готовились к ним. В число сторонников Марфы входил ключник Пимен, который скоро должен был заменить Иону, и он, без всякого сомнения, желал получить посвящение в сан от литовского митрополита. В отделении самой новгородской церкви от московской они совершенно справедливо видели гарантию своей свободы. Если бы таковое осуществилось, то управлять новгородским мнением стало бы для московской церкви невозможным.
События в городе все больше внушали Москве опасения. Мало того что пошли разговоры об отложении новгородской церкви (прощай, Новгород), так и на вече, которое вроде бы Василий Темный лишил права голоса, постановили, что московский князь не имеет в Новгороде никакого права собственности, дани ему вовсе не положено, и весь Новгород целовал крест не на верность московскому князю, а на верность Святой Софии и Господину Великому Новгороду. Так и живущих на Городище московских наместников новгородцы ни в грош не ставили, те же, осерчав, оскорбляли новгородцев. Собралось большое вече, и там приговорили: послать к наместникам, чтобы те выдали обидчиков, — в Новгороде это означало: для растерзания. Наместники испугались, но отказали.
Новгородцы не успокоились. Толпой они просто ворвались на Городище, началась драка, в которой несколько человек убили. А парочку князей и московских вельмож взяли в плен и потащили на вече для прилюдного наказания. Когда об этом донесли московскому князю, тот рассвирепел, но отправил в мятежный край посольство, наказав говорить с горожанами елейным тоном. Тон предполагал уверить новгородцев в великой любви к ним московского князя и убедить их, что Новгород — отчина великого князя, и государь ждет от них «чистого исправления и правого челобитья». Иван Васильевич знал, что эта мягчайшая тональность вызовет в городе обратный эффект, он очень желал, чтобы новгородцы взбунтовались. Так бы он получил предлог для усмирения. Новгородцы не поняли уловки и послам нахамили. Несколько раз московский князь отправлял посольство, несколько раз послы были изруганы, а ответ веча гласил: нет над нами московского князя, нет у него здесь ни отчины, ни дедины, город управляется самостоятельно, и так будет всегда. В конце концов к Казимиру снарядили посольство просить на новгородский стол Михаила Олельковича, брата православного киевского князя Симеона, прославившегося тем, что он восстановил Печерский монастырь.
Непонятно зачем, в конце 1470 года Новгород послал в Москву посадника Василия Ананьина, по официальной версии — для переговоров. Но неизвестно ни что это были за переговоры, ни почему они велись одновременно с литовским посольством. Тема переговоров именовалась «О делах земских новгородских». От посадника, скорее всего, ожидали покаяния и смирения перед Москвой, однако ничего подобного не прозвучало. Когда его попросили повиниться за неправильное поведение горожан, тот только ответил, что этого ему вечем не велено. Ивану Васильевичу ничего не оставалось, как повторить все то, что уже доносили в город московские послы. Собственно говоря, переговоры о земских делах были какие-то неуспешные. Вернувшись в Новгород, посадник передал слова князя и добавил, что в Москве говорят, будто он на новгородцев сильно гневается и не хочет больше сносить такого унижения и оскорбления. В то же время Иван Васильевич отправил послов к псковичам с призывом готовиться идти на Новгород, если там пойдут несогласия. В это время между двумя республиками была шестилетней уже давности распря: псковичи ненавидели новгородского владыку, который считался главным церковным начальством и для псковичей. Если новгородцы видели в нем смирение и добродетель, то псковичи ничего, кроме корыстолюбия, не наблюдали. Они желали отложиться в церковном плане от Новгорода, как удачно смогли отложиться от него в смысле государственном. Был еще один нерешенный между ними конфликт: только что новгородцы задержали псковских купцов, отняли товар и бросили в тюрьму. Псковичам пришлось вести переговоры об освобождении своих гостей через великого князя. Новгородцы купцов освободили, но товар не вернули. Понятно, что псковичи были настроены к Новгороду не слишком миролюбиво, они желали получить товар назад. Московский князь очень надеялся на это несогласие, он натравливал псковичей отомстить и за себя, и за князя. Псков согласился отправить в Новгород посольство, дабы примирить великого князя и вольный город. Переговорщики прибыли в Новгород и предложили такое решение конфликта: псковичи выделяют своих послов в Москву, новгородцы — своих, все вместе едут к великому князю, и псковичи ходатайствуют перед князем в пользу новгородцев. Вече этот план не одобрило: все ждали Михаила Олельковича. Послам было сказано ехать назад в Псков и передать, что новгородцы не желают бить челом московскому князю и не хотят, чтобы псковичи их примиряли, напротив, Новгород предлагает псковичам объединиться против этого великого князя и держаться вместе до скончания века. Прибывший следом за псковским посольством новгородский посол Родион обещал также уладить все спорные вопросы между республиками. Псковичи обдумали предложение, но сразу ответ давать не стали, попросив, что, как только московский князь пришлет тем грамоту о начале войны, пусть сразу сообщат Пскову, чтобы решить, как тому поступить. Для себя псковичи пока что не решили, как им лучше — под московским князем или же в согласии с Новгородом. У них с новгородцами было немало обид друг против друга, и когда псковичам требовалась военная помощь, то чаще помогала Москва, чем Новгород. К тому же Псков стоял так далеко от Москвы, что псковичи всерьез и не думали, что эта Москва покусится на псковскую свободу.
Тем временем в Новгороде умер Иона, и нужно было выбирать нового владыку. По правилам владыку выбирали из трех кандидатур, вытягивая жребий. Среди претендовавших на этот пост был и Пимен, сторонник литовского отложения. Но назначить никто его не мог. Владыку требовалось «вытянуть». Литовской партии крупно не повезло. Жребий пал на инока Феофила, человека весьма далекого от политических споров и ревностного православного. Как только Феофил узнал, что нужно бы просить поставления от киевского митрополита, он ужаснулся. О Григории от московских агитаторов против Литвы ему было известно, что это волк, а не пастырь, что он последователь еретика Исидора, что он верный слуга папы и латинского короля, что он вообще гонитель истинного православия! Так что Феофил лично и церковь вслед ему участвовать в богопротивном деле отказалась. Литовская партия подумывала, как можно низложить избранного Богом Феофила и вместо него поставить своего Пимена. Но против обычая в Новгороде, где все решалось «по старине», было не просто трудно, а практически невозможно. Так что Феофил поехал в Москву на поставление у митрополита и на поклон к великому князю, что прошло без сучка без задоринки. Феофил вернулся в Новгород все с тем же княжеским набором слов про отчину и дедину и единство Московской земли. А на Пимена возвели поклеп, будто он растратил церковную казну для нужд литовской партии, послали отобрать казну и заставили заплатить сверх того 1000 рублей. На время эта провокация сработала: народ отшатнулся от обвиненного в казнокрадстве соискателя и одновременно от Марфы. Победили патриоты. Новгородские бояре в большинстве своем готовились примириться с великим князем, как уже и раньше не раз бывало. Литовская партия понимала, что другого раза не будет. Нужно было действовать.
Марфа подняла народ. Не богатых бояр, а самый нормальный простой народ. Ударил вечевой колокол. Площадь заполнилась людьми. Мужики кричали, что не хотят они московского князя, что нет у него тут ни отчины, ни дедины, а хотят они под Казимира, и пусть владыка едет перепоставляться в Киев — там истинный митрополит. Состоятельные горожане занимали позицию Москвы и орали, пытаясь убедить оппонентов, что Григорий латинянин сам, что под папу нельзя, что под Казимира тоже нельзя, потому как Новгород стоит от рода Рюрикова, что он всегда был отчиной великих князей, что Новгород крестил Владимир, что владыку всегда ставила Православная церковь, что митрополит сидит в Москве, и великий князь в Москве, и Новгород должен жить под Москвой. В ответ они слышали, что только Казимир обеспечит городу свободу. Истощив аргументы, толпа разделилась на две части, и каждая стала бросать в другую камни, как известно, наиболее весомый аргумент. Эта стихия бушевала несколько дней, постепенно московская партия так перепугалась, что вовсе перестала появляться на вечевой площади. Феофил тоже перепугался, но он думал только об одном: противно или не противно принимать посвящение от киевского Григория! Эти размышления вконец доконали беднягу, так что, трезво размыслив, он стал просить вовсе избавить его от сана. Но этого новгородцы ему не позволили, указав на выбор Божий, что еще больше смутило Феофила. Он не знал что и делать. Наконец, решился проверить как это будет — противно или не противно, то есть перешел на сторону литовской партии. Этому решению способствовало, наверно, и то, что в городе со своей дружиной был уже литовский князь Михаил Олелькович и владыка видел, что эти киевляне вроде бы люди совершенно православные, на поганых непохожие. Эта киевская дружина собственным примером лучше всего убедила новгородцев, что с православием в той, зарубежной Руси все в порядке — никакого гонения и что жить рядом с латинянами вовсе не противно. Так что началась агитация за то, чтобы все-таки войти в союз с Казимиром. Литва в этот период переживала период расцвета, так что Новгород легко мог попасть в более цивилизованное государство. Но самым убедительным было то, что угроза войны нависла над городом как никогда: московский князь уже поднимал против Новгорода Псков. Вече приговорило: союзу с Казимиром быть.
1471 год Союз Новгорода с Литвой против Москвы
Это был хороший договор с королем, на «всей новгородской воле». Между прочим, эта договорная грамота сохранилась. Вот она.
«Се язе честны король полскии и князь велики литовьскии докончял есми мир с нареченным на владычьство с Феофилом, и с посадники новогородцкими, и с тысяцкими, и з бояры, и с житьими, и с купци, и со всем Великим Новымгородом. А приехаша ко мне послове от нареченаго на владычьство Феофила, и от посадника степенного, и от тысяцкого степенного Василья Максимовичя, и от всего Великого Новагорода мужей волных посадник новогородцкии Офонос Остафьевичь, посадник Дмитреи Исакович, и Иван Кузмин, сын посадничь, а от житьих Панфилеи Селифонтович, Кирило Иванович, Яким Яковлич, Яков Зиновьевич, Степан Григорьевич. Докончял есми с ними мир и со всем Великим Новымгородом, с мужи волными. Адержати ти, честны король, Велики Новгород на сеи на крестной грамоте. А держати тобе, честному королю, своего наместника на Городище от нашей веры от греческой, от православнаго хрестьянства. А наместнику твоему без посадника новогородцкого суда не судити. А от мыта куне не имати. А Великому Новугороду у твоего наместника суда не отьимати, опричь ратной вести и городоставлениа. А судити твоему наместнику по новогородцкои старине. А дворецкому твоему жити на Городище на дворце, по новогородцкои пошлине. А дворецкому твоему пошлины продавати с посадником новогородцким по старине, с Петрова дни. А тиуну твоему судити в одрине с новогородцкими приставы. А наместнику твоему, и дворецкому, и тиуну быта на Городище в пятидесяти человек. А наместнику твоему судити с посадником во владычне дворе, на пошлом месте, как боярина, так и житьего, так и молодшего, так и селянина. А судити ему в правду, по крестному целованью, всех равно. А пересуде ему имати по новогородцкои грамоте по крестной, протаву посадника; а опричь пересуда посула ему не взята. А во владычень суд и в тысяцкого, а в то ся тебе не вступати, ни в манастырские суды, по старине. А пойдете князь велики московский на Велики Новгород, или его сын, или его брат, или которую землю подеимет на Велики Новгород, ино тебе нашему господину честному королю всести на конь за Велики Новгород и со всею с своею радою литовскою против великого князя, и боронити Велики Новгород. А коли, господин честны король, не умирив Великого Новагорода с великим князем, а поедешь в Лятцкую землю или в Немецкую, а бес тебе, господин, пойдете князь велики, или его сын, или его брат, или кою землю подоимет на Велики Новгород, ино твоей раде литовской всести на конь за Велики Новгород, по твоему крестному целованию, и боронити Новгород. А что Ржова, и Великиа Луки, и Холмовски погост, четыре перевары, а то земли новгородцкие; а в то ся тебе, честному королю, не вступати, а знати тебе своя черна куна, а те земли к Великому Новугороду. А Ржеве, и Лукаме, и Холмовьскому погосту, и иным землям новгородцким и водам от Литовской земли рубеж по старине. А сведется новгородцу суд в Литве, ино его судити своим судом, а блюсти новгородця как и своего брата литвина, по крестному целованью. А сведется суд литвину в Великом Новгороде, ино его судити своим судом новгородцким, а блюсти его как и своего брата новгородця, по крестному целованию тако ж. А сведется поле новгородцу с новогородцом, ино наместнику твоему взяти от поля гривна, а двема приставом две денги; а учну[те] ходити за сречкою на поле, ино взяти твоим приставом две денги. А в Русе ти имати за проежжеи суд, через год, сорок рублев, а держати ти десять варниць в Русе; а в Водцкои земле имати ти за проежжеи суд, через год, тритцять рублев; а в Ладоге ти пятнадцать рублев; а с Ижеры два рубля; а с Лопци рубль, за проежжеи суд, через год. А по иным волостем по новогородцким имати тобе пошлины по старине, а Новугороду пошлине не таити, по крестному целованию. А вывода ти, честны король, из Новогородцкои отчины не чинити, а челяди не закупати, ни даром не примати. А подвод по Новогородцкои отчине не имати ни твоим послом, ни твоему наместнику, ни иному никому ж в твоей державе. А черна куна имати ти по старым грамотам и по сеи крестной грамоте. А на Молвотицях взяти ти два рубля, а тиуну рубль за петровщину; а на Кунске взяти ти рубль; а на Стержи тритцять куниць да шестьдесят бель; а с Моревы сорок куниць да восмьдесят бель, а петровщины рубль, а в осенние полрубля; а в Жабне дватцеть куниць да восмьдесят бель, а петровщины рубль, а мед и пиво с перевары по силе; а на Лопастицях и на Буицях у чернокунцов по две куници и по две бели, а слугами бела; а на Лукахе наш тиун, а твои другой, а суд им наполы; а торопецкому тиуну по Новогородцкои волости не судити; а в Лубокове и в Заклинье по две куници и по две бели, а петровщины сороке бель; а во Ржеве по две куници и по две бели, а с перевары мед, пиво по силе. А в новогородцких волостех, ни на Демоне, ни на Цене, ни на Полонове не надобе иное Литве ничто ж, ни черны куны не брати. А иных пошлин тобе, честны король, на новгородцкие волости не вкладывати через сию крестную грамоту. А сведется вира, убьют сотцкого в селе, ино тебе взяти полтина, а не сотцкого, ино четыре гривны, а нам вир не таити в Новгороде; а о убистве вир нет. А что волости, честны король, новгородцкие, ино тебе не держати своими мужи, а держати мужми новогородцкими. А что пошлина в Торжку и на Волоце, тивун свои держати на своей чясти, а Новугороду на своей чясти посадника держати. А се волости новогородцкие: Волок со всеми волостми, Торжок, Бежици, Городец, Палец, Шипин, Мелеця, Егна, Заволочье, Тир, Пермь, Печера, Югра, Вологда с волостми. А пожни, честны король, твои и твоих муж, а то твои; а что пожни новогородцкие, а то к Новугороду, как пошло. Адворяном з Городищя и изветником позывати по старине. А на Новгородцкои земле тебе, честны король, сел не ставити, ни закупати, ни даром не примати, ни твоей королевой, ни твоим детем, ни твоим князем, ни твоим паном, ни твоим слугам. А холоп или роба, или смерд почнет на осподу вадити, а тому ти, честны король, веры не няти. А купец пойдет [во свое сто], а смерд потянет в свои потуг к Новугороду, как пошло. А приставов тебе, честны король, не всылати во все волости новогородцкие. А у нас тебе, честны король, веры греческие православные нашей не отъимати. А где будет нам, Великому Новугороду, любо в своем православном хрестьянстве, ту мы владыку поставим по своей воли. А римских церквей тебе, честны король, в Великоме Новегород не ставити, ни по пригородом новогородцким, ни по всей земли Новогородцкои. А тиуну твоему в Торжку судити суд с новогородцким посадником; такоже и на Волоце, по новогородцкои пошлине, новгородцким судом; и виры и полевое по новгородцкому суду. А что во Пскове суд и пенять и земли Великого Новагорода, а то к Великому Новугороду, по старине. А умиришь, господине честны король, Велики Новегород с великим князем, ино тебе взяти честному королю черны бор по новогородцким волостем по старине одинова, по старым грамотам, а в ыные годы черны бор не надобе. А Немецкого двора тебе не затворяти, [ни приставов своих не приста]вливати; а гостю твоему торговати с немци нашею братьею. А послом и гостем на обе половины путь им чист, по Литовской земле и по Новогородцкои. А держати тебе, честны король, Велики Новгород в воли мужей волных, по нашей старине и по сеи крестной грамоте. А на том на всем, честны король, крест целуй ко всему Великому Новугороду за все свое княжество и за всю раду литовскую, в правду, без всякого извета. А новогородцкие послове целоваша крест новогородцкою душею к честному королю за весь Велики Новгород в правду, без всякого извета».
Это была хорошая грамота: по ней Новгород должен в благодарность только однажды собрать для Казимира черный бор, за что король обещал помогать Новгороду против Москвы. С этой вечевой грамотой к Казимиру отправилось новгородское посольство. А тем временем известие о посольстве достигло ушей Ивана Васильевича. Князь сделал вид, что ничего дурного новгородцы не совершили. Снова он отправил в Новгород своих послов все с теми же известными нам словами об отчине, о дедине, о Рюрике и прочем. О себе он скромно помянул, что никакого насилия над Новгородом не чинит, только вот переживает сильно, что плохо будет новгородцам под латинянами — ведь не пробовали они жить с иноверцами. Послал в Новгород свою грамоту и митрополит Филипп, в ней он увещевал горожан, что неправо они поступают, передаваясь литовскому королю от своего природного господина. Не забыл сказать, что это дурные люди распускают слухи, будто бы Иван Васильевич поднимает Псков против Новгорода, врут они. «Не соблазняйтесь же, дети, — добавлял он, — Бога бойтесь, а князя чтите». Послание было длинное, елейное, когда оно было зачитано, то богатые бояре и купцы растрогались, плакали, зато народ принял это увещевание в штыки. Тут московский летописец сваливает это народное непонимание момента снова на Марфу Борецкую, которая послание расшифровала так, что всем стало понятно, чего ожидать после челобитья Москве. Народ шумел и возмущался, пришлось посольству от князя и митрополита возвращаться в Первопрестольную с позором. На самом деле новгородцам отступать было уже поздно: к королю уже послали, если теперь принять сторону Москвы, будет лишь хуже.
Иван же Васильевич, получив пренеприятнейшее известие, созвал своих бояр, мать, митрополита и с видимой печалью провозгласил, что сделал он для Новгорода все, что мог. После этого малого совета был созван и большой — всекняжеский, на котором Иван Васильевич повторил ту же самую процедуру. Он даже еще раз отправил в Новгород своего посла со словами: «Не отступай же, отчина моя, от православия!» Митрополит тоже отправил послание, в нем между тем говорилось об опасностях перемены отечества и веры. Страшилка была полнейшая. На беду, дела заставили литовского князя выехать из Новгорода, так что момент для зачтения этого убеждающего в ужасах латинизма письма был выбран очень удачно. С большим трудом литовской партии удалось убедить сограждан не изменять выбранному пути.
А в Москве князь собрал снова епископов, бояр и воевод. Теперь он без жеманства объявил, что Новгород пошел против Москвы, следовательно, ничего не остается, кроме как пойти против Новгорода войной. Оскорблены новгородским отложением оказались все, так что никого убеждать в пользе наказания Новгорода не пришлось. Выбирали только время: если летом идти (а было лето), так осаду трудно держать, от воды горожан никак не отрежешь, а ждать зимы — долго будет. Боялись, что на помощь новгородцам придет король. Поэтому стали спешно собирать войска. А в Новгород послали с объявлением войны, о том же известили и псковичей. Приехал посол и стал звать псковичей влиться в московское войско, те обещали, но не раньше, чем сам князь войдет в новгородские пределы. Новгородцы тоже отправили посольство звать псковичей отложиться от Москвы и стоять вместе за обе республики. Новгородское посольство, во-первых, прибыло позже московского, во-вторых, Псков оскорбила форма посольства — прислали обычного Подвойского, а не боярина, как поступали в случае, если посылали из Новгорода в его пригород. Это была еще одна роковая ошибка. Псковичи выбор сделали. Не в пользу Новгорода.
1471 год Поход Ивана III на Новгород
А в самом городе ожидали начала военных действий. Тут еще пришел в Новгород старец Зосима, который хлопотал об отдаче Соловецких островов монастырю, чему новгородцы сопротивлялись. Зосима, поняв, что обители ничего не светит, взялся пророчествовать, что скоро грядут дурные времена для Новгорода, перепугал этими пророчествами всех и в конце концов добился островов. Но, приглашенный на пир к Марфе Борецкой, он, помня ее нежелание дарить острова, во время этого пира вдруг поглядел на сидящих против него бояр, возвел очи горе и руки к потолку и заплакал, а в ответ на расспросы «что случилось» произнес вещие слова: «Я видел бояр, что сидели за столом, на них голов не было». Потом вдруг разразилась буря и сломала крест на соборе Святой Софии, на двух гробах новгородских архиепископов неожиданно выступила кровь, заплакали в храмах настоящими слезами сразу две иконы — Богородица и Николай Чудотворец, а на одной из улиц с верхушек деревьев вдруг хлынула вода. Знамения были кошмарными.
Но Иван Васильевич начал совсем не с Новгорода. Сначала он отправил войска в двинские новгородские колонии, там уже давно велась подрывная работа против города. Колонии и должны были дать дополнительные военные силы. К этому удалось легко склонить Вятку и Вологду. Новгородцам пришлось срочно отправить часть своего войска в Заволочье. Между тем с перерывом в шесть дней из Москвы выступило два московских отряда: один должен был обойти Новгород с тыла, другой — на Волок, чтобы затем остановиться на Мете. С русскими войсками шли монголы. Пскову было тоже приказано выступать. Аналогичный приказ поступил и в Тверь: тверичи должны были взять Торжок. Всем войскам дали указание жечь без жалости все новгородские посады. Отправив, таким образом, передовые силы, Иван Васильевич выступил, наконец, со своим войском. С ним шли подручные князья и новое приобретение — касимовские и мещерские татары.
1471 год Выступление 10-тысячного отряда князя Холмского и Федора Давыдовича Пестрого-Стародубского на Новгород
1471 год Выступление главных сил из Москвы через Тверь и Торжок к южному берегу оз. Ильмень
«Теперь, — с горечью говорит Костомаров, — иноплеменные поселенцы Русской земли, они платили верною службою московскому самовластию за раболепство ханам предков московского государя». Перед отбытием князь обошел все московские храмы, приложился ко всем иконам, без отдыха молился и поклонялся гробам своих предков. В конце концов он добрался до митрополита и получил благословение на брань с новгородцами. Не понимающим этого похода на север жителям северовостока с амвона объяснялось, что идет Иван Васильевич «не яко на христиан, а яко на иноязычников и на отступников православия». С собой в войско он взял архиепископского дьяка, славящегося хорошим книжным словом, чтобы этим книжным словом и пригвоздить новгородских послов. Сначала войско пришло в Волок, затем в Торжок, силы соединились с поджидавшими там отрядами, и князь велел идти войскам к Новгороду разными дорогами, чтобы обступить его со всех сторон. Дал и ценное указание: «Жгите, убивайте, в плен людей загоняйте».
Формирование войска в Новгороде проходило с большими сложностями. Новгородцы воевать давно уже разучились. Последние их крупные походы с ополчением относились к давно миновавшей эпохе. Так что в войско сначала зазывали, а потом стали загонять. Феофила все еще мучила совесть, так что свой конный отряд он в битву послал, но посоветовал уклоняться от битвы с московским князем, бить только псковичей. Передовой отряд новгородцев пошел на Русу — не посуху, по воде, то есть поплыл. Окрестности Русы были уже опустошены московским войском. «Видимая была благодать над Иваном Васильевичем, — говорила об этом лете Московская летопись, — земля Новгородская обыкновенно летом наводняется, так что никакой рати пройти невозможно, и они — окаянные изменники — жили себе безопасно от войны от весны до зимы, не чаяли они себе нашествия, а тут, на пагубу их Новгородской земле, ни капли дождя не было все лето — с мая до сентября, жары были постоянные, болота высохли, и рать московская всюду гонялась за жителями и карала их за неправду».
Новгородцы слегка опоздали: когда они высадились у Русы, пригорода больше не было. Новгородцы добрались до Коростыня, думали опередить врага, но попали в засаду. Пехота изнемогала и просила помощи у конницы, но это была та самая конница Феофила, которой было приказано драться только с псковичами. Конница отказалась помочь пехоте. Новгородцы были разбиты. Московские воеводы приказали ловить защитников города и отрезать им губы и носы. Обезображенными, их специально отпускали на свободу, чтобы достигли Новгорода и устрашили всех своим видом, наводя в городе трепет и страх. Хотя конный отряд и отказался сражаться с москвичами, видимо, москвичи не отказались его уничтожить, потому что после этого избиения новгородцев тут же снарядили одного боярина в
Псков с 300 лошадями, чтобы их там продать и показать одновременно плоды этой победы. Боярин со своим отрядом прибыл в Псков, но оказалось, что ополчение не собрано, Псков медлил, ожидая посольство от великого князя. Когда явился этот московский посол, только тогда псковичи выступили на соединение. Этот псковский отряд стал жечь ближние новгородские пригороды, дошел до Вышгорода, защитники же спрятались за стенами и держали оборону. В конце концов они стали изнемогать, тогда вышгородский воевода вывел защитников из стен пригорода с крестами и просил о милости, объясняя, что если и есть псковичам какая обида, то знают об этом лишь московский государь да новгородский князь, на том они Животворящий Крест псковичам целуют. Те посовещались и отпустили вышгородцев, впрочем отправившись тут же жечь другие пригороды.
В Новгород добрались разбитые при Коростыне ополченцы, наведя сначала своим видом страх на горожан, а потом озлобив их против Москвы. Сначала на время победили патриоты, которые тут же отправили посла мириться с князем, но потом взяла верх литовская партия. К Казимиру уже был отправлен гонец с просьбой поскорее прислать войско на помощь. Для грядущей битвы готовили и свое ополчение. Его отправили навстречу врагу. Сведения о количестве ополченцев очень рознятся, Костомаров считал, что их было не больше 12 000 — столько потом насчитали убитых. Войско должно было идти на берега Шелони и не пропустить москвичей к городу.
1471 год Приказ Ивана III отряду Холмского двинуться к р. Шелонь и соединиться с отрядом псковичей
1471 год Атака отрядом Холмского новгородцев; битва на р. Шелони
К сожалению, в Новгороде были предатели, те самые патриоты, они вовремя сообщали московскому князю о настроениях в городе, сообщили и об отправке войска. Ополчение шло двумя путями — по суше и по воде. Москвичи не дали им соединиться. Едва новгородцы дошли до берега Шелони, на них двинулась московская рать. Плохо вооруженные, неумелые, ополченцы просто не могли выстоять против москвичей. Они укрепились на берегу Шелони, московское войско — напротив. Форсировав реку, княжеская конница налетела на новгородцев, а следом, неожиданно для ополченцев, в тыл им ударила татарская конница. Воевода приказал своим стрелять не в людей, а в лошадей. Новгородцы были отвратительные всадники, в их стане все смешалось. Люди падали с коней, лошади давили упавших, строй нарушился, так что ополчение попробовало спастись бегством, но этому помешали два обстоятельства — песчаная почва и тяжелые доспехи. Москвичи убивали ополченцев копьями, татары ловили арканами и резали. Полегли практически все, в плен взяли около полутора тысяч человек, среди них оказался и воевода, который сберегал договорную грамоту с Казимиром, — зачем, с какой стати оказалась эта грамота у этого воеводы — бог весть. Взятые в плен рассказывали, что удача отступила от них, как только они услышали чужой говор и желтые знамена, — это были татары, с ними новгородцы редко сталкивались, так перепугались. Москвичи же, привычные к родным татарским лицам, их не поняли: они решили, что речь идет об апокалиптическом видении новгородцев, вдруг осознавших всю глубину своего падения — то есть измены. Так вот они и поговорили.
Пришедшая на помощь вторая партия ополченцев увидела только трупы, так что она повернула к городу. Теперь пути к нему были открыты. Москвичи этим воспользовались и двигались вперед, сжигая все на своем пути. А к великому князю тотчас послали гонца, что ополчение разбито и победа уже одержана. Прибыл к князю и другой гонец, который сообщил, что и на западном направлении полный порядок: псковичи изрядно трудятся, даже запирают людей в избах и сжигают их живьем. Очень довольный Иван Васильевич неспешно выдвинулся к Русе. Теперь у него были не слухи, а доказательства новгородской измены — так кстати обретенная договорная грамота новгородцев с Казимиром. Иван осмотрел добытых пленников, высказал им нравоучительные замечания, около полусотни бояр велел заковать и отправить в Москву, а четверых казнить. Их и казнили, точно по пророчеству Зосимы — отрубили головы на центральной площади страшной погорелой Русы.
Новгород между тем готовился к обороне. Марфа Борецкая уговаривала народ держаться, дабы врагу не удалось подойти незаметно, горожане стали жечь посады и монастыри, на стенах выставили стражу, но в городе были предатели, и они тоже действовали. Кто-то забил жерла новгородских пушек, кто-то сносился с неприятелем. Но самое ужасное: гонцу к Казимиру так и не удалось добраться до короля, его перехватили по дороге ливонцы и завернули назад. Помощи ждать было неоткуда. Ко всему прочему в Новгороде было плохо с продовольствием: спасаясь от московского войска, из окрестностей набежало множество народа, его нечем стало кормить. Переменчивый простой народ, на который так уповала Марфа, увидев трудности, тут же переметнулся на сторону Москвы. Эта чернь ожидала москвичей как освободителей, встречала их со слезами радости на глазах. Владыка тоже мгновенно осознал свои заблуждения — бес попутал, он тут же собрал свою паству вокруг себя, и всей толпой эта компания двинулась навстречу московскому князю — с дарами, как положено. Снарядили судно, посадили туда владыку с парламентариями и дарами, и отправился владыка к московскому князю, выказывать верноподданнические настроения и каяться в заблуждениях. Встретившись с московским князем, новгородцы поклонились до земли, владыка рыдал и молил смилостивиться над заблудшим городом. Иван обещал милосердие.
1471 год Коростынский договор Москвы с Новгородом
Тут же были составлены две грамоты, по которым Новгород терял свободу.
«По благословению нареченнаго на архиепископество Великаго Новагорода и Пскова священноинока Феофила. Се приехаша к великому князю Иоанну Васильевичю всея Руси и к его сыну великому князю Иоанну Иоанновичю всеа Руси от посадника новогородскаго Тимофея Остафьевича, и от тысяцкого новогородского Василья Максимовича, от всего Великаго Новагорода посадники новогородские, посадник Иван Лукинич, посадник Яков Александрович, посадник Фефилат Захарьинич, посадник Лука Феодорович, посадник Иван Васильевич; а от житьих Лука Остафьевич, Александр Клементьевич, Феодор Иевлич, Окинф Васильевич, Дмитреи Михаилович и добили челом своей господ великим князем, и кончали мир по крестныме грамотам с великим князем Иоанном Васильевичем и с его сыном великим князем Иоанном Иоанновичем. Как целовал князь велики Андреи, и князь велики Иоанн, и князь велики Семен, и прадед твои князь велики Иоанн, и прадед твои князь велики Дмитреи, и дед твои князь велики Василеи, и отец твои князь великий Василеи, целуй, господин князь велики Иван Васильевич и князь велики Иван Иванович, по тому же крест ко всему Великому Новугороду и по сеи грамоте. Новгород, господине, держати вам в старине, по пошлине, без обиды; а нам, мужем новогородцом, княжение ваше держати честно и грозно, без обиды. А за короля и за великого князя литовского, хто король или великии князь на Литве ни буди, от вас, от великихе князей, нам, вашей отчине Великому Новугороду, мужем вол[ь]ным не отдатися никоторою хитростью, а быти нам от вас, от великих князей, неотступным ни х кому. А князей нам у короля великого князя литовского собе на пригороды не просити, ни приимати из Литвы князей в Великии Новгороде. Также нам, Великому Новугороду, отчине вашей, недругов ваших, великих князей, князя Ивана Можайского, и князя Иоанна Шемякина, и князя Василья Ярославича, и их детей и их зятии к собе в Новгород не приимати. А после сего докончания и из Московской земли из великого княжениа хто лиходеи великих князей приедет в Великии Новгород, и Но[ву]городу их не примати; или хто лиходеи великих князей побежит из Московской земли в Литву или в Немци, а из Литвы или из Немець прибежит в Новгород, и Новугороду их не приимати. А на владычьство нам, Великому Новугороду, избирати нам собе по своей старине; а ставитися нашему владыце в дому Пречистые и у гроба святого Петра чюдотворца на Москве у вас, у великих князей и у вашего отца, у митрополита, который митрополит у вас, у великих князей, ни будет; а инде нам владыки, опроче московеского митрополита, нигде не ставити. А пошлины вам, великим князем, и вашему отьцу митрополиту от владыки имати по старине; а лишнего не прибавливати. А на Волоце и на Вологде владыце церкви и десятина и пошлина своя ведати по старине. А что Юрьевеского манастыря земля на Волоце, и та земля к Юрьеву манастырю по старине. А пошлин ваших, великих князей, нам, Великому Новугороду, не таити, по крестному целованию. А что волостей новогородцких всех, вам не держати своими мужи, держати вам мужи новогородскими, и дар имати от тех волостей. А без посадника вам, великим князем, суда не судити, ни волостей роздавати, ни грамоте давати. А что вам, великим князем, пошлина в Торжку: тиуны свои держати на своей части, а Новугороду на своей части. А в Бежычах вам, великим князем, ни вашим княгиням, ни вашим бояром, ни вашим слугам сел не держати, ни купити, ни даром не примати, по всей волости Новугородекой. А се вы волости новугородскии: Торжоке, Бежичи, Городець Палець, Шипина, Мелечя, Егна, Заволочие, Тирге, Пермь, Печера, Югра. А в Русу вам, великим князем, ездити на третьюю зиму. А лете ездити на Везваде зверей гонити. А в Ладогу вам слати осетреники и медовары по старым грамотам по крестным. А в Ладогу вам, великим князем, ездити на третиее лето. А из Бежичь вам, великие князи, не выводити в свою волость, ни из ыных волостей новогородских, ни грамот давати, ни закладнеи не держати, ни приимати ни вашим княгиням, ни вашим бояром, ни купчины. А без вины вам, великие князи, мужа волости не лишити, ни грамот ни посужати. А пожни, великие князи, ваши и вашых мужей, то ваты и ваших мужей; а игго пожни новогородские, а то к Новугороду, как пошло. А дворяном нашым, как пошло, погон имати: ото князя по пяти кун, а от тиуна по две куны. А что мыт по Суздальской земли в вашей волости: от воза имати по две векши, и от лодьи, и от хмелна короба, и ото лняна. А дворяном вашым у купцов повоза не имати, разве ратные вести. А слобод и сел князи великие съступилися Великому Новугороду; на Новгородской земли сел не ставити. А на Имоложском погосте куны имати. А холоп или роба иметь на господу вадити, тому вам веры не яти. Ни на Низу новогородца не судити, ни дани роздавати, ни приставав вам не всылати во всю волость Новогородскую, с Низу не всылати; также нам, новогородцем, ваших, великих князей, торговцев изо всего великого княжения вашего в Новгороде не судити. А что вам, великие князи, гнев на владыку, и на посадника, и на тысяцкого, и на весь Новгороде, то вам, великие князи, нелюбие отложити. А хто почнет вам вадити, тому вам веры не яти. А про послы и про купци новогородцкие, тех вам не приимати. А в Немецком дворе торговати нашей братие новогородцом; а приставов вам не приставливати. А гостем гостити без рубежа, по цесареве грамоте. А судей слати по волостем на Петров день, как пошло. А вывода межи Суздальской земли и Новугородекой не чинити. А закладнеи вам, великие князи, и вашим княгиням, и вашим бояром в Торжку не держати, ни во всей волости Новугородскои: а купець поедет во сто, а смерд потянеть в свои потуг, как пошло, к Новугороду. А на том на всем, господин князь велики Иоанн Васильевич всея Руси и князь велики Иван Иванович всея Руси, целуит господень крест ко всему Великому Новугороду, безо всякого извета; также и мы, посадники, и тысяцкие, и весь Великии Новгород, целуем крест ко своей господе к великим князем, к великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и к великому князю Ивану Ивановичю всея Руси, по любви в правду, безо всякие хитрости». По другой грамоте за ущерб, причиненный новгородцами Москве, город обещал заплатить 15 500 рублей.
Сравните грамоты Казимира и Ивана Васильевича. И вопросов, кто гуманнее, у вас больше никогда не будет.
Заключив эту страшную сделку, новгородцы вернулись в опозоренный город, а Иван Васильевич, сразу получив часть денег, развернул войско и ушел на Москву. В Москве праздновали победу, в Новгороде хоронили убитых. Пришла и еще одна печальная весть: новгородские войска были разбиты в Двинской земле. Вся эта земля была выжжена и разорена московскими войсками. А когда пережидавший московское нашествие народ стал на судах возвращаться на свои пепелища, весь караван судов попал в сильнейшую бурю, суда были перевернуты ветром и волнами, а люди потонули. По свидетельству летописцев, тогда погибло в общей сложности 7000 человек. Церковную самостоятельность Новгород потерял точно так же, как и государственную: Феофил съездил к московскому митрополиту, повинился во всех грехах, снова был поставлен и вернулся домой осчастливленный. Пленников скоро отпустили из Москвы. Иван Васильевич делал вид, что был предельно деликатен с мятежным Новгородом. На самом деле он просто ждал удобного случая, чтобы полностью присоединить его к Москве и таким образом раз и навсегда решить вопрос о единстве московской территории.
1471 год Казнь посадника Дмитрия Борецкого и ссылка части новгородских бояр
Этому способствовали и события в Новгороде. Первое время после поражения литовская партия была непопулярна и подавлена. Но шло время, оно изменяет состояние умов. Через несколько лет посадником был избран один из яростных противников московского режима Василий Ананьин. При нем сторонники Литвы почувствовали некоторую уверенность в своих силах и… стали сводить счеты с изменниками и предателями, которых обвиняли в позорном договоре с Москвой. Начались новгородские междоусобицы — дело обычное. И прежде новгородские партии ходили бить друг друга и отнимали имущество. Теперь «литовцы» колотили «патриотов». Патриоты стали бояться, что их и вовсе убьют, и, как всякие правильные патриоты, отправились к великому князю просить управу на своих гонителей.
В 1475 году Иван Васильевич снова отправился с боярами в Новгород, намерений своих он не показывал. Князя хорошо встретили, аж за девяносто верст от города, снарядили пир, привезли две бочки лучшего вина. Князь пировал и делал вид, что ничего не знает о распрях патриотов с посадником и его людьми. Посадник сидел тут же, князь улыбался ему. Отпировав, очень довольные такой встречей новгородцы вернулись назад. А князя на его пути, но уже в двадцати пяти верстах от города, ждала другая встреча — там пир затеяли смещенные с должности посадники, были там и бояре, и городищенский староста. Угощение было скромнее — несколько мехов и бочка вина, 25 яблок и блюдо винных ягод. Когда же князь добрался до Городища, то сам устроил пир и позвал на него владыку, князя Шуйского, бояр, первых должностных лиц Новгорода. Сидели они и мирно пировали, как вдруг стали на Городище подходить разные просители, со всей что ни есть Новгородской земли, и все с разными жалобами. Этим событием, естественно, праздник был несколько омрачен, но Иван Васильевич обещал всех выслушать и во всем разобраться.
На другой день он выехал в город. Выезд князя всегда сопровождался большими торжествами. Князь посетил собор Святой Софии, поклонился иконам и гробам, был очень ласков с боярами и духовенством. А еще через день к нему заехал владыка с новгородской знатью. Только сели, вдруг явились новые челобитчики, те самые, которых сторонники посадника колотили в их родных домах. Изложили они свою печальную историю. Князь делал вид, что впервые о таком нарушении закона слышит. Якобы возмущенный до глубины души, он тут же позвал своих приставов и велел на другой день привести обидчиков, дабы судить их своим милостивым княжеским судом. Настал этот другой день. На суд явились две толпы — одна с обидчиками, другая — с обиженными. Князь всех выслушал и постановил обидчикам заплатить штраф в пользу обиженных. А нескольких человек тут же приказал арестовать. Феофил было вступился и хотел уговорить князя их отпустить, но князь тут же ему тихо припомнил литовскую историю. Владыка замолк.
Через три дня до него дошли, однако, слухи, что князь вовсе не желает ограничиться выплатой штрафа, он собирается примерно казнить обидчиков. Владыка еще раз попробовал вмешаться, но результата не было. Арестованных, среди них и последнего оставшегося в живых сына Марфы Борецкой, в цепях увезли в Москву. Понимая, что эти уже обречены, владыка стал просить за тех, кто был менее виновен в драках. Этих князь милостиво простил. И пока он пребывал в Новгороде, все время приходили черные люди и жаловались на своих бояр. Иван Васильевич слушал и все запоминал. Особенности новгородской политики князю были ясны: каждая из партий имела опору среди этого простого народа, подкупала его, и таким образом при необходимости как из-под земли являлись толпы обиженных. Первой запросила правого суда промосковская партия, но теперь опомнилась и пролитовская, новые жалобщики просили теперь защиты от патриотов. Хитрый и осторожный правитель превратил судебное разбирательство в показательный процесс над врагами простого народа.
В таких приятных занятиях между судами и пирами он прожил пару месяцев. В княжеский дом на Городище натащили множество даров, тут уж старались все — бояре и купцы особенно. Но несли свои дары и житые люди, и даже черные. В ответ князь великодушно отдаривался, чем тронул сердца дарителей. В это время великокняжеская свита занималась добычей подарков для себя — шарила по соседним посадам. Наконец, справив суд, напировавшись, отдохнув, князь отъехал из Новгорода. Новгородская знать проводила его до первого стана, устроила ему прощальный пир, а князь, нагруженный новгородским добром, двинулся к своей Москве.
Спустя какое-то время в Москву приехало новгородское посольство с владыкой во главе, они просили о снисхождении к арестантам. Князь всех выслушал, но пленников не отпустил. Так что владыка вернулся ни с чем. Князь очень хорошо изучил новгородский закон и знал, что если он провел первый суд на Городище, то потом на второй суд люди приедут к нему в Москву. По древнему новгородскому закону таковое запрещалось: судить можно было только в Новгороде, но в низовской земле. Однако существовал прецедент: один из посадников уже ездил судиться в Москву. Как-никак, но этот московский повелитель считался новгородским князем. Так что в Москву потянулись все, кто искал княжеского правосудия. Это был как раз такой народ, который был нужен Ивану Васильевичу для исполнения задуманного, народ, который не мог выиграть суд в Новгороде, то есть промосковски настроенный. Князь все время надеялся найти таких истцов, которые смогут помочь ему уничтожить остатки новгородской самостоятельности.
1475 год Восстание новгородцев против владычества Москвы; поездка Ивана III по Новгородской земле
1475 гол Торжественный въезд Иван III со свитой в Новгород
И такой замечательный момент наступил. Как-то в Москве среди новгородских челобитчиков явились и послы от владыки и Великого Новгорода. По московскому стандарту, челобитчики приносили присягу великому князю в определенной форме, именуя того государем. Когда дошел черед до послов, читая текст договора, они сбились и назвали великого князя государем, как и челобитчики, приносившие присягу. Эту обмолвку Иван Васильевич никак не мог не заметить, он к ней так и привязался. Тут же он снарядил в Новгород своих послов, которые явились на вече и спросили народ, какого государства он хочет. Народ был обескуражен. Народ ответил, что никакого. На что послы изумленно воскликнули, что Новгород прислал к великому князю от владыки и всего города послов, которые били челом и назвали князя государем. Новгородцы тоже изумились, услыхав такое. Они кричали, что никогда никакого князя государем не называли, называли только господином, как по старине ведется, и никого просить о государстве вече не посылало, а если кто говорит, что посылало, так это ложь.
Сами новгородские послы сидели в это время в Москве, назад они возвращаться боялись.
Народ меж тем любопытствовал, что изменится, если новгородцы назовут господина великого князя государем. Послы охотно объяснили: раз назвали государем, так отдались ему как государю, так что в Новгороде будут сидеть московские судьи, Ярославово дворище будет великокняжеским, и суд будет вести сам князь, и никто ему указывать и перечить не смеет.
От такой перспективы новгородцы впали в ярость. Стали тут же доискиваться, кто ездил к великому князю на суд в Москву, притащили пару таковых и обвинили их чуть не в измене. Особо досталось тому, кто устроил этот «прецедент». Бывшего посадника Василия Пенкова заставили объяснять вечу, что именно он говорил и кому крест целовал. Василий признался, что ради суда вынужден был дать присягу московскому князю, и в этой присяге вместо «господин» говорится «государь», но Новгороду он не изменял. Прижали второго челобитчика Захария Овинова, тот подтвердил: Василий целовал крест на Новгород. Значит, принимал московскую присягу? А принявший московскую присягу должен доносить московскому князю. Василия больше слушать не стали, забили камнями. Точно так же убили и Захара, потом пошли к дому выпущенного из плена и тоже присягнувшего князю Василия Ананьина, началась смута.
1477 год Восстание в Новгороде; убийство посадников Захария и Кузьмы Авиновых
Перепуганные новгородские бояре, тоже целовавшие московский крест, бежали из Новгорода в Москву. Слухи они принесли пугающие: будто бы новгородцы снова хотят Казимира, торопили князя побыстрее пойти и усмирить город. Послов же князя держали в городе полтора месяца, потом отправили назад с ответом. Ответ был резким: «Бьем челом господам своим великим князьям, а государями их не зовем; суд вашим наместникам по старине, на Городище, а у нас суда вашего княжеского не будет; и тиунам вашим у нас не быть; дворища Ярославова не дадим вам. Как мы с вами на Коростыне мир кончили и крест целовали, так на том докончании и хотим с вами жить; а с теми, что поступали без нашего ведома, ты, государь, сам разведайся, как хочешь, так их и казни; но и мы тоже, где которого поймаем, так и казним; а вам, своим господам, бьем челом, чтоб держали нас по старине, по крестному целованию».
Получив ответ, Иван стал готовиться к войне. Поскольку лето было мокрое, то на Новгород он двинулся к осенним холодам. Все это время до осени он жаловался на свою горькую участь выправлять судьбу заблудшего Новгорода боярам, архиереям, воеводам, таскался по церквям и молился, раздавал милостыню и чуть не плакал. В октябре, предварительно послав в Новгород объявление войны, он двинулся на город. Как и в первом походе, многочисленное войско он отправил на Новгород разными дорогами. Снова москвичи сжигали людей, дома и урожай, убивали и уводили в плен. На этот раз не было даже сопротивления, но от жестокости это князя не удерживало. Ближе к Новгороду, на Ильмени, к князю приехал владыка просить о мире. Следом за ним пришли другие представители духовенства, простые горожане, купцы. Все просили об одном: прекратить убийства и пожары. Они просили, чтобы князь послушался голоса разума и поручил своим боярам с ними переговорить. Князь согласился, устроил обед, новгородцы хотели одного — мира и чтобы выпустил захваченных раньше бояр, предлагали разумные решения, связанные с судом, — чтобы князь разбирал лишь те дела, которые не может разрешить наместник с посадником, предлагали даже за это выплачивать деньгами. Через бояр князь передал такой ответ: новгородцы сами послали Подвойского Захара и вечевого дьяка Назара, которые назвали его, князя, государем, а когда князь отправил послов узнать, какого г осударства хотят жители Новгорода, то им сказали, что никакого и никого не посылали, напротив, обвинили московского князя, что он чинит насилие, так что оказались обманщиками, поэтому князь и пошел походом на Новгород. Про бояр, отпустить которых просили горожане, князь сказал много злого и добавил, что и так уж помиловал их, не казнив. Последнее, что передали московские бояре от князя: если захочет Великий Новгород бить челом, то знает, как бить челом. Этой последней фразы новгородцы не поняли, с тем и ушли.
Скоро князь приказал захватить все монастыри вокруг Новгорода, чтобы горожане снова их не зажгли. В монастырях и селах встали войска. Поскольку монастыри и села окружали город кольцом, то город оказался в кольце московского войска. Из захваченных сел в город побежали люди. Новгородцы стали бояться голода. Торговая сторона одна была не захвачена, туда и бежал народ. Посадник с житыми людьми снова пошел на переговоры с князем и снова получили тот странный ответ: если захочет Великий Новгород бить челом, то знает, как бить челом. Теперь новгородцы поняли, какого челобитья ждет князь, — он желал, чтобы город сам, по собственному почину, отказался от своей свободы.
Войска все подходили и подходили, они обсели Новгород со всех сторон. Псковичей на этот раз пришлось понуждать Москве к походу чуть ли не силой: те тоже поняли, чего хочет этот князь.
В городе шла ожесточенная борьба между партиями: одни готовились умереть за Новгород, другие думали, как смягчить сердце московского деспота. Владыка не знал, что делать, он выбрал худший способ защиты. К великому князю явилась делегация от этой умеренной партии, и владыка взял на себя вину, что по его приказу отправлены были послы, которые назвали его государем. Князь велел передать, что если владыку интересует, какого государства в Великом Новгороде хочет он сам, то ответ прост — такого же, как в Москве. Вернувшись с таким ответом, тут же собрали вече и стали рассуждать, как умилостивить князя, чтобы не было так, как в их Москве. Предлагали разные формы откупа — и денежные выплаты, и постав наместников в пригородах, и оборону собственным войском (которого не было) рубежей вокруг Новгорода, только чтобы суд был по старине и не уводил князь в низовскую землю людей из города. Послали новую делегацию, доложили свое решение. Ответ князя был еще жестче: он хочет точно такого же государства в Новгороде, как и в Москве, а если новгородское государство указывает московскому, как жить, то что ж это за государство. Иными словами, князь открыто назвал Новгород врагом. Новгородцы растерялись. Они заговорили, что не знают московских обычаев и не желали обидеть москвичей. Вот тогда князь и объявил: «Наше государство таково: вечу и колоколу в Новгороде не быть, как в нашей вотчине того нет, посаднику не быть, государство свое нам держать, как держим мы свое государство в нашей низовской земле, и земли великих князей, что за вами, нам отдать, чтоб это наше было; а что вы бьете челом, чтоб не было вывода из Новгородской земли и чтоб мне не вступаться в боярские земли, так мы тем жалуем свою отчину, и суд будет по старине в Новгороде, как в земле суд стоит». Растерянный владыка вместе с делегацией отправился назад, в Новгород.
На протяжении шести дней горожане спорили и не знали, что выбрать. Спорили до хрипоты. Постепенно всем стало ясно, что, если новгородцы сами не отдадут аксессуаров своей свободы, князь возьмет силой — иначе зачем вокруг города стоит столько войска? Решили пожертвовать колоколом, вечем, посадником, чтобы спасти… что, собственно, тут спасать? Пусть останутся хоть боярские земли, свой суд и запрет на вывод в низовскую землю. С этим решением явились снова к князю. Тот пообещал, что земли, суд сохранит, а вывода не будет. По древнему обычаю следовало обменяться грамотами и целовать крест. Тут-то и оказалось, что князь креста целовать не станет и «боярам того не велит». Новгородцы растерялись. Они предложили, что, если князь не хочет креста целовать, пусть поцелует крест наместник. Ответ еще больше обескуражил: и наместник не будет. Послы попросили грамот, чтобы вернуться в Новгород, но князь не дал и грамот.
Не зная что делать, это все было совершенно против правил, посольство осталось в московском стане. Делал князь это неспроста: он решил как следует измучить город, чтобы в нем сдались и те, кто явно был не согласен. Князь-то знал, что несогласных там хоть отбавляй. Не выпустив послов, он заставил горожан терзаться сомнениями, ссориться, падать духом. Как пишет Костомаров, московский способ — волочить дело — действовал убийственнее, чем всякое неприязненное нападение. Новгород был уже готов, чтобы драться за свою свободу, но эта неизвестность, это ожидание стало настоящей пыткой. К тому же из-за скопления народа стало голодно, появились массовые болезни, люди стали умирать. Город был обложен, из него было не выйти, в него не попасть. Иван Васильевич проводил осаду собственного несчастного народа. Заметьте, его внук, тоже Иван Васильевич, даже еще не родился. Несчастный новгородский князь Шуйский-Гребенка, поняв, что тут больше некому служить, поклонился вечу и сложил с себя целование Новгороду. Он отправился к московскому князю, бить тому челом.
1477 год Признание новгородскими послами Ивана III своим государем
1477 год Начало похода Ивана III на Новгород
1478 год Сдача Новгорода войскам Ивана III; подчинение Новгорода Москве; окончательное присоединение Подвинья и Перми
Когда князь приехал к Ивану Васильевичу, тот сразу же затребовал к себе послов: теперь он точно знал, что Новгород дошел до нужной кондиции. Теперь он им имел объявить свое решение: суд останется по старине, выводить людей в низовскую землю не будут, службы в низовской земле не будет, имения и боярские вотчины останутся, гнева не будет. Послы так и не поняли, ради чего они в третий раз выслушивают одно и то же. Но тут им быстро все объяснили московские бояре: оказалось, что князь велел передать также, что им, боярам, полагается теперь выделить в Новгородской земле вотчины и села. Послы обещали передать это в Новгороде. Они ничего не понимали: пять минут назад князь обещал не трогать вотчин, а тут, оказывается, нужно московским боярам выделить такие вотчины. С ума сойти!
А дальше начался торг. Решив подальше держать московских бояр, новгородцы решили выделить им вотчины на границе с Литвой. Князь отказался. Тогда они предложили монастырские вотчины и новгородские землевладения в Торжковской земле. Князь опять отказался. Послы не знали, что предложить, предложили, чтобы сам выбирал. Князь выбрал: половину всех владычных и монастырских вотчин по всей Новгородской земле и всю землю Торжка. Что было делать? В городе был мор. Послы согласились. Но на этом мучения не закончились. У них стали выяснять, сколько будут платить дани. Новгородцы обещали по полугривне с сохи. Бояре московские стали интересоваться, что это у новгородцев означает: оказалось, что соха — это дань с трех лошадей (дань они считали с лошади, а не с человека, одна лошадь и один человек назывались обжой). Тут москвичи радостно потерли руки и заявили, что тогда дань будет по полугривне с обжи, то есть с человека. Владыка стал умолять князя, чтобы брали с сохи, то есть с трех обжей по полугривне. Князь смилостивился, но сказал, что тогда будут платить все, кто прежде не платил.
Послы перепугались, что эти московские, как монголы, пойдут переписывать население, просили разрешения самим вести учет дани. На это, конечно, ответ был положительный. Вот теперь через день со списком присяги для новгородцев и московским подьячим Одинцом послы наконец поехали назад, чтобы очистить для князя Ярославово дворище, а также приложить от пяти концов города печати на присягу. Спустя пару дней с большой группой сопровождающих они вернулись в стан московского князя, вручили ему скрепленную печатями присягу. Напутствуя новоприобретенный Новгород, князь приказал забыть о мести тем, кто верно служил московскому государю. После чего разрешил послам целовать крест по записи.
Еще через два дня в Новгород приехал посланный великим князем Иван Юрьич, который привел согнанных на Софийскую площадь новгородцев к присяге московскому государю. Эту присягу обязан был дать каждый новгородец, и была это не привычная договорная присяга, а присяга на подданство великому князю. Это была чудесная присяга: от новгородцев требовалось подчиняться любому приказу, исходящему из Москвы, доносить о любом худом слове, услышанном про великого князя, и давали эту присягу все взрослые люди — и мужчины, и женщины. Когда присягу у народа приняли, москвичи отправились на Ярославово дворище и сняли вечевой колокол, его увезли в московский стан. Тогда отворились новгородские ворота и жителям окрестных сел разрешили уходить из города. Они возвращались к своим домам, которые уже сожгли москвичи, к своим полям, которые сожгли москвичи, без запасов продовольствия, без теплой одежды, и очень многие умерли от голода и холода той зимой. Как пишет летописец, Новгородская волость обезлюдела совсем.
1478 год Конфискация Иваном III церковных земель Новгорода
1478 год Переселение новгородских бояр в Подмосковье
Но на присяге, колоколе, вече, посаднике беды Новгорода совсем не кончились. Бояре, которые думали, что ценой свободы купили личную безопасность, страшно ошиблись. С началом февраля по городу пошли аресты. Сначала взяли тех, кого считали неблагонадежными, то есть принявшими участие в литовской эпопее, — Марка Панфильева, Марфу Борецкую (вместе с внуком, отец которого успел уже умереть в московской тюрьме), потом стали брать патриотов — Арзубьева, Савелкова, Репьева, Иаканфа, их заковали в железа и увезли в Москву, а имущество конфисковали в пользу государя. Вместо веча теперь в Новгороде было сразу 4 наместника из Москвы. А новгородский колокол привезли в Москву и повесили среди других колоколов — в обиду новгородцам и во славу великорусскому народу.
В самом Новгороде присягу восприняли как указание к действию. И пошли доносы. Патриоты не преминули сообщить, что проклятые сторонники Литвы никак не могут смириться с потерей новгородской вольности и ждут Казимира. Казимир и вправду тяжело переживал судьбу Новгорода. Он осознавал собственную вину, что не смог помочь доверившемуся ему городу, собственно говоря — официально, уже литовскому городу. Он просил денег, чтобы отнять Новгород у Москвы, но литовцы денег не дали. Он обратился к папе, но и папа денег не дал. Вместо этого папа посоветовал дипломатическим путем натравить на Москву ордынского хана. От хана большого толка не было. Зато неожиданно появились союзники из великокняжеской московской семьи, братья «государя» Андрей и Борис, которые, увидев аппетиты и лицемерие Ивана, перепугалась за собственную судьбу. Эти два княжеских брата снеслись с новгородскими заговорщиками и обещали отбить город и вернуть ему его права. Насколько эти московские князья радели за Новгород — вопрос другой. Кажется, им больше хотелось отнять Новгород у братца и разделить его между собой. Но Иван об этом вовремя узнал: у него после присяги было столько ушей, что любое слово долетало до Москвы. К зиме 1479 года Иван стал вдруг готовиться к походу на немцев. К весне он выслал заставные полки, надеясь, что новгородцы ни о чем не проведают. Но новгородцы, однако, сразу же все сообразили. Они, дважды имевшие счастье поверить словам Ивана, поняли характер его хитрости. Соотнеся немцев и заставы, несложно было понять, куда направится княжеское войско. План у заговорщиков был такой: хан двинется на Москву и отвлечет Ивана, за это время подойдет Казимир, а новгородцы будут держать оборону.
Как только план был определен, в Новгороде вернули вече, изгнали наместников, выбрали тысяцкого, посадника, стали укреплять острог. Иван уже в пути на Новгород узнал, что город взбунтовался. Ему пришлось остановиться и подождать войска — его воинов было всего тысяча человек. Дождавшись подкрепления, он быстро пошел на север. Новгородцы не успели сжечь посады и монастыри, так что, как и год назад, войска князя их заняли. Только теперь с собой они привезли пушки. Пушки сделали в городе множество разрушений, согласие снова расстроилось. В конце концов новгородцы решили идти на переговоры: они еще не понимали, что переговоров государи со своими подданными не ведут. Иван пообещал, что невинных не тронет, тогда горожане и открыли ворота и допустили московское войско в город. Иван без всякого страха проследовал к собору Святой Софии, помолился, а потом обосновался в доме только что избранного посадника как хозяин, достал список из пятидесяти человек, которым его снабдили услужливые доносчики, и велел их взять. Начались пытки. Под пытками несчастные стали называть и многие другие имена. Среди названных был и Феофил, его тоже взяли, отвезли в Москву и заточили в Чудове монастыре, а имущество конфисковали в пользу князя. Первые пятьдесят человек показали еще на сто, те, тоже под пытками, — назвали еще новые имена.
Первые две партии схваченных казнили. Тысячу неблагонадежных купеческих семей и детей боярских расселили по разным городам — в Переяславль, в Муром, в Ростов, в Кострому, в Нижний Новгород, Юрьев, Владимир. Все имущество казненных, высланных, а также переселенных в Московскую землю было конфисковано в пользу князя. Не прошло и пары дней, как семь тысяч новгородских семей обнаружили, что их гонят, как скот, по страшному холоду, без поклажи, по дороге на Москву. С другой стороны на Москву в эту же зиму шел ордынский хан. Он немного опоздал. Новгород был уже разгромлен. Он несколько обезлюдел. Впрочем, разделавшись с ханом, Иван на место выбывших новгородцев прислал примерно то же количество московских людей. Это была опробованная практика: разбавлять мятежное население покорными московскими рабами. Она давала отличные плоды.
С новгородской церковью милостивый московский деспот обошелся так же гуманно: на место отрекшегося Феофила был поставлен московский Симеон, принявший имя Сергия, теперь это была чисто московская церковь. Но в Новгороде Сергию было плохо: там ему стали являться бесы, и скоро он помешался совсем. Его, конечно, сменили. Церковь теперь выполняла правильную миссию, такую же, как и в Москве, — она учила, как лучше и качественнее стать рабами.
1484 год Начало конфискации земель новгородских бояр Москвой; аресты и переселение жителей
Но и этот поход Ивана был не последним. Спустя четыре года Иван снова двинулся на Новгород. И опять стимулом был хороший донос. По этому доносу Иван разобрался с теми новгородскими боярами, которых прежде не тронул, — все их новгородские имения были отняты в пользу князя. Еще через три года поступил тоже неплохой донос от наместника Якова Захарьина. Иван переселил во Владимир пятьдесят богатых купцов. Еще спустя год тот же наместник придумал заговор против себя, схваченные новгородцы были казнены, а по указанию Ивана более семи тысяч житых людей (вот ведь любимое его число!) переселены в московские земли. На их место в новгородские земли отправились московские переселенцы. Спустя еще год, уже без всякого доноса, Иван выселил всех оставшихся житых людей в Нижний Новгород. Тех, которые жаловались на наместника, обвинили в заговоре против наместника и казнили.
В самом Новгороде практически не осталось коренных жителей. Иван переселил целый город, на место новгородцев прислал жителей своего дикого московского угла. Новгород остался стоять на прежнем месте, но это… это был уже не Новгород. Это был московский городок, который после этого средневекового геноцида стал постепенно хиреть и умирать. Таким он и добрел до времен Костомарова — серой провинциальной дырой. Сельские жители за время этого геноцида тоже значительно поредели, некоторые умерли от невыносимой бескормицы и под открытым небом, некоторые сумели бежать. Бежали они по точному адресу, к своему латинскому королю — в Литву. На запустевшие земли были переселены московские жители, дети той смешанной второй русской народности, привыкшие и к хану, и к московским порядкам. Постепенно они смешались с уцелевшими, новгородскими, и благополучно влились под государственное ярмо.
Костомаров к этому мрачному рассказу о событиях 1478–1489 годов добавляет такой вывод: Иван, как видно с задуманным заранее планом, хотел истребить враждебную Москве народность, преследуя свой политический план — соединить Русь в одно крепкое государственное тело. Как это присоединение происходило, вы только что имели счастье узнать. Так что, когда в учебниках по истории или книгах на эту тему вы читаете хоть что-то про добровольное присоединение, вспоминайте Новгород: таковыми были добровольные присоединения к Москве по всей нашей огромной стране. Сколько от таких добровольных присоединений погибло людей — этого никто не считал. Главной задачей историки ставили не рассказать, как это было на самом деле, а доказать, как правильно это было для улучшения крепкого государственного тела. Новгород в списке таких добровольных присоединений был не первым и не последним. После падения его пали все дальние новгородские владения, все они дали ту же присягу московскому князю, простите — государю.
Завершив новгородское уничтожение, Иван в том же 1489 году приступил к уничтожению Вятки. Вятка имела смелость противиться политике московского князя, когда и ее Новгорода-то больше уже не было, а ко всему прочему с церковью в Вятке по московским понятиям было не просто плохо, а очень плохо: никто не знал, откуда берутся в этой Вятке духовные пастыри стада и кто их ставит в этой Вятке и по каким канонам. Ивану доносили, что службы там совсем не московские, а что-то очень даже странное. Митрополит, в обиде на Вятку, даже перечислил ее пастырям все их грехи: и то, что обижают апостольскую церковь (читайте — московскую), и то, что грубят государю великому князю, и то, что воюют против князя с его недругами, и то, что их духовные чада крадут из церквей, женятся иногда и по пять — семь раз, и то, что соединяются даже с иноверцами! В Вятку шло послание за посланием, ответов на них митрополит так и не получил. Вот тогда Иван воспользовался моментом: это была война в защиту веры и церкви. Он послал на Вятку сильный отряд с воеводой Шестаком-Кутузовым, но вот беда — воевода вполне поладил с вятчанами. Пришлось собирать войско побольше да позлее. Иван отправил против Вятки северных соседей, у которых с вятчанами были старые и нехорошие счеты. Кроме того, с ними шло войско казанских татар. Летописец упоминает какую-то для того времени апокалиптическую цифру — 64 000 человек. Скажем так: войско было огромным. Когда это войско явилось под Хлыновым, вятчане поняли, что сопротивляться у них не хватит ни сил, ни людей. Так что после дня выжидания они вышли и просили о снисхождении. Воеводы им приказали целовать крест и выдать изменников. Вятчане попросили времени подумать. Им дали день, ожидая, когда горожане сдадутся. Горожане переговорщиков не высылали и с ответом тянули. Они его дали только на третий день. Ответ был — отказ. Стены Вятки были смешные стены. Получив отказ, воеводы велели тут же подтащить плетня, приставить к стенам и кидать в город зажженные смоляные факелы. Город был деревянный, так что начался пожар. Вятчане тут же открыли ворота и зачинщиков сопротивления Москве отдали. На этом их свобода и кончилась. Тут же вятчан поделили на партии и развели по разным городам.
1494 год Разгром Иваном III ганзейского подворья в Новгороде
1499 год Завершение конфискации Москвой земель новгородских бояр
Не надо только думать, что Иван Васильевич питал особенную нелюбовь лишь к Новгороду и всей Новгородской земле. Иван Васильевич, скорее, питал особенную нелюбовь к северо-западному типу мышления и государственного устройства. Очень уж были эти граждане свободомыслящими. Политика управлять северо-западом, ссоря два его крупнейших города, — это была обычная политика московских князей. Они были в курсе, что между городами есть свои несогласия и что Псков жаждет получить не только юридическую независимость от Новгорода, но и церковную. На этом игры с городами и строились: когда нужно было «образумить» Псков, включали недовольства Новгорода, когда нужно было надавить на Новгород, включали Псков.
Первоначально у Пскова не было права самому выбирать князей, они их просили у Новгорода, но Новгород рассматривал Псков только как свой пригород, и в конце концов соседний город стал сам принимать князей — Псков вышел из-под контроля Новгорода, последний вынужден был это признать. Дело осложнялось тем, что политическая ориентация Пскова и Новгорода в то время была различной: Новгород больше смотрел на великих владимирских князей, Псков — на Литву. У Новгорода на столе был тогда Ярослав, и при этом новгородском князе отношения так ухудшились, что тот пробовал водить новгородцев на псковичей, да те, подумав, не пошли. Ужиться с будущими хозяевами северо-востока псковичи не смогли, новгородцы смотрели только на выгоду, для Пскова, кроме выгоды материальной, всегда существовала опасность военных вторжений — город был приграничным, а его пригороды и вовсе находились вблизи Литвы.
Альтернативой владимирским князьям стали литовские. На псковском столе побывало, начиная с Довмонта. принявшего крестильное имя Тимофей, немало литовских князей. Гедимин вполне справедливо даже считал Псков частью своей Литовской земли — город отстаивал интересы Великого Литовского княжества (они тогда с псковскими совпадали), почему и ссорился с Новгородом, имевшим владимирскую ориентацию. К тому же псковичи имели несчастье принимать у себя кроме литовских еще и тверских князей — врагов Новгорода и Владимира. Тверской князь-изгнанник Александр был посажен на псковском столе не от Владимира и Новгорода, а от Гедимина, куда он бежал, потеряв свой стол в Твери. При Александре с помощью Гедимина была попытка дать Пскову самостоятельного владыку, который бы получил посвящение не от северо-восточного митрополита, а с Волыни. Попытка была неудачная. Но если бы тогда случилось отделение церковной власти от северо-восточной церкви, то Псков мог бы тоже иметь другую историю. Каким-то образом Новгороду удалось вмешаться, и попытка отложения церковного провалилась. Новгородцы тогда возмущались предпочтением Псковом литовских князей, но, когда они крупно рассорились с Москвой, и сами взяли литовского Наримунта. Но псковичи к тому времени к литовским князьям охладели: эта литовская часть псковской истории закончилась неудачей с семейством Ольгерда, с которым город рассорился. Ольгерда обвиняли в равнодушном отношении к защите Псковской земли: князь должен был защищать город от немцев, но с этим справился крайне плохо: сначала прислал своего воеводу, который сперва был разбит немцами, потом затворился в Изборске, и горожане ожидали, что немцы возьмут Псков. Они хотели послать помощь Изборску, вместо помощи Ольгерд, бывший тогда в городе вместе с братом Кейстутом и сыном Андреем, велел передать изборцам, чтобы те оборонялись, немцы постоят и отойдут. Так-то оно и вышло, но равнодушия к запертым в пригороде Изборске псковским воинам горожане князю не простили.
Началась еще и церковная проблема: псковичи хотели Ольгерда крестить в православие, но тот, будучи уже католиком, второго крещения принять не мог, так что крестили его сына Андрея, ему собирались и дать княжение. Но Андрей не желал сидеть в Пскове, он хотел управлять через наместника, вот этого ему и не позволили. Как только Андрей уехал из города в Полоцк, ему отписали, что возьмут другого князя. Ольгерд на псковичей рассердился, и вместо князя и союзника горожане получили неприятеля. Во времена Ольгерда Новгород с Литвой имел более чем прохладные отношения, так что с Новгородом заключили договор о дружбе — как два государства, хотя Псков в этом дружеском союзе именовался младшим братом Новгорода, то есть теперь должен был проводить новгородскую политику. Союзником старший брат оказался гадким, помощи от него в трудных случаях (а они в пограничном городе возникали часто) практически не было.
Не было и длительного княжеского управления в Пскове и хороших князей. Это и послужило причиной, почему псковичи перестали тянуться к Литве, теперь уже пролитовски настроенному Новгороду, не дающему помощи, а нашли себе другого сильного защитника — это, увы, была Москва.
В 1401 году псковичи приняли от Москвы князя, который считался наместником московским. Москва рассудила здраво: покровительствуя Пскову и давая ему князей по их воле, она тем удачнее поссорит Псков с Новгородом, так оно и вышло. Новгород тогда представлял для Москвы уже тот важный и приятный богатый кусочек, который очень хотелось прибрать к своим рукам. Так что московские князья старались помогать Пскову в его войнах и посылали войско, если это было необходимо. В это же время Литва вспомнила, что Псков практически литовский город, так что новый великий литовский князь Витовт начал против Пскова войну, надеясь вновь присоединить Псковскую землю к Литовской. Новгородцы сразу после тяжелой для псковичей литовской войны посадили у себя литовского князя. О какой дружбе после этого могла идти речь? Сплошные несогласия! Зато Москва как бы вступилась за Псков, Василий воевал со своим тестем Витовтом, и в результате заключили Угрешский мир в пользу Москвы: Витовт оставил притязания на Псков. Москва, конечно, этих притязаний не оставила, но вела очень осторожную политику, сначала желая разобраться с Новгородом, а потом уже и со Псковом. Витовт еще раз попробовал вернуть Псков, привел многонациональную армию в союзе с монголами, но потерпел страшное поражение под Опочкой: псковичи тогда, по словам Костомарова, отомстили монголам за все беды, которые принесла городу предыдущая война: они ловили монголов, убивали и засовывали им в рот отрезанные детородные части, а с ляхов, чехов и волохов сдирали живьем кожу. Такие вот были тогда нравы, и такова была озлобленность. Какая, к черту, Литва! Литва терпела такое сокрушительное поражение, что войско Витовта имело все возможности в полном составе остаться в Псковской земле.
Москва решила прекратить войну: московский князь предложил Витовту взять окуп в 1000 рублей и заключить мир с псковичами. Витовт согласился. Однако в этом мирном договоре была одна замечательная деталь: московский князь назвал Псков своей отчиной и дединой. Псковичи тогда на эту деталь большого внимания не обратили. А зря. Но отношения с новгородцами, которые ничем не помогли псковичам, отношения сделались еще напряжение. Неудивительно, что, когда спустя пару лет Витовт решил взять Новгород, псковичи им напомнили о прошлом. Новгородцы оскорбились, и между городами едва не дошло до войны. Эти трения и использовала Москва, когда в 1441 году в поход на Новгород пошел московский великий князь. Псковичи приняли участие в этом походе. С большим желанием или без — вопрос иной (между городами уже снова был заключен мир), но уж точно, что вопрос не решался на вече, а псковский князь, присланный из Москвы, просто приказал идти на войну.
В составе московского войска псковичи пустошили новгородские волости и вели себя крайне жестоко. Новгородцы, как всегда, поспешили купить мир с Москвой деньгами. С этого момента Псков использовался Москвой как средство уничтожения Новгорода. Но не все так просто. Псковичи после 1441 года испугались за собственную независимость: в годы правления противника Москвы князя Василия Васильевича они снова сблизились с Новгородом и даже смогли наладить теплые отношения с новгородским владыкой. Москве это очень не понравилось. Но она выжидала. Князь Василий после Пскова перешел на новгородский стол, а в Пскове его место занял литовский князь Александр Черторыжский, внук Ольгерда, тоже ненавидевший Москву. В 1456 году, когда на Новгород снова пошел московский князь, псковичи даже дали свое ополчение, они думали, что будет большая война. Однако новгородцы снова решили откупиться. По своей замечательной меркантильной политике, они подумали не платить весь откуп Москве целиком, а заставить псковичей выплатить и свою часть. Вот это псковичей возмутило: мало того что они помогли военной силой, теперь им предстояло и платить за новгородцев, хотя можно было воевать.
Псковичи не понимали Новгорода: они были куда как лучшими воинами. Они не понимали другого: если сами предложили платить, а Псков не спросили — при чем тут Псков? Никогда прежде Псков не платил московскому князю! В Пскове задумались и решили, что союз с Новгородом — штука опасная. Ко всему прочему как раз в эти годы у горожан осложнились отношения с немцами. И когда великий московский князь Василий Темный в 1460 году приехал в Новгород, псковичи послали туда посольство, чтобы этот князь, так сказать, утвердил их князя, взятого без всякого московского согласия. Почему они это сделали, имея пока что нейтральную Москву и собственного отважного князя? Скорее всего, как и в Новгороде, в Пскове была сильная промосковская партия, которая свой выбор сделала: Москва лучше союза с Новгородом. Василий Темный любезно принял это псковское посольство и предложил, чтобы псковский самостоятельный князь целовал крест московскому. Александр Черторыжский отказался с гневом на собранном по такому случаю вече. «Не стану я целовать креста московскому князю, — сказал он, — не слуга я великому князю, а если так, то пусть не будет вашего целования на мне, а моего на вас. Прощайте, псковичи! Я более вам не князь. А когда начнут вороны псковичей-соколов хватать, тогда и меня, Черторыжского, вспомяните!» Пророческие были слова. Псковичи перепугались, они уж готовы были отказаться от этой постановки Москвой, но князь был неумолим — выехал из города со всем своим рыцарским войском. И Псков, естественно, тут же обратился лицом к Москве.
В 1460 году псковичи вымолили себе из Москвы князя Ивана Васильевича, того самого, который и стал гробовщиком вечевых надежд. Через два года он стал великим князем, а псковичам с каждым годом все труднее было испросить себе князя по желанию. Сначала Иван Васильевич давал ограниченный выбор, а потом стал просто ставить в Псков тех князей, которых желал сам. Эти постановки князей на Псков год от года делались все хуже и хуже. Псковские посольства стали ездить в Москву постоянно, с жалобами на бесчинства московских князей-наместников, пару раз из-за княжеской гридни вспыхивали беспорядки. Московские ставленники были алчны, грубы, жестоки, не заботились о горожанах, притесняли самым мерзейшим образом, утесняли их свободы. Московский князь заставлял посольства высиживать в Москве, а бывало — ив чистом поле, но решения принимались в пользу наместников. После 1471 года, когда псковичи участвовали в походе на Новгород, наместники практически уже держали город в полном подчинении. Этому способствовали и обстоятельства: у псковичей были очень сильные трения с немцами. Новгород помогать не желал (а после 1471 года даже и не мог), единственная надежда была на Москву. Иван Васильевич это отлично использовал. Немецкая угроза была замечательным средством еще больше утеснить псковичей.
На все жалобы псковичей великий князь отвечал в своем обычном тоне: исполняйте то, что просит у вас наместник. Псковичи ссылались на древние договорные грамоты с князьями, но для московского деспота это и вовсе не были документы. Он так и сказал: ваши грамоты — не грамоты великих князей. Вот и весь разговор. Псковичи в обиде просили назначить суд, чтобы доказать вину одного такого князя-наместника Ярослава Васильевича. Стоит ли удивляться, что суд выиграл Ярослав? А псковичам было сказано заплатить князю за обиду. Они — заплатили. Ярослав продолжил свои поборы и притеснения. Псковичи стали посылать посольство за посольством, умоляя заменить Ярослава на кого-нибудь другого. Москва отказывала. Когда же княжеская гридь устроила в городе настоящее побоище, изувечив и ранив многих горожан, псковичи собрали вече и решили везти проклятого князя в Москву, чтобы там выпросить себе другого. По новому статусу они теперь не могли сами сгонять плохих князей, требовалось разрешение из Москвы. Но Ярослав уперся и ехать отказался, сказав, что будет ожидать нового назначенца в городе. Тут из Москвы приехали бояре по псковским еще прежним жалобам, но оказалось, что не только горожане были недовольны князем, но и князь слал по тому же адресу свои жалобы на псковичей. Напротив, князь требовал выдать головой недовольных. И московские бояре требовали того же. Псковичи отказались. Бояре, крайне недовольные, уехали. А к великому князю пошло новое посольство. Месяц промучив, князь его все же принял, но на просьбу держать город по старине, ответил так: «Наша отчина, Псков, находила на двор нашего наместника своего князя Ярослава Васильевича, этим она уже выступила из старины, она сама старину нарушила, а не я, князь великий». Послы ушли ни с чем. Ярослав какое-то еще время побыл псковским князем, потом Иван Васильевич его убрал — он-то хорошо понимал, что такое его наместник, наместника тоже нужно было держать в узде, чтобы не зарывался. А псковичей Иван переучивал понятиям: не по старине должно жить, а по милости. Захочет великий князь дать милость — даст, не захочет — терпите. В апреле 1477 года Ярослав выехал-таки из Пскова. Между тем нового князя, которого просили, он не давал. Жить без князя в граничном городе было тяжело, так что поехало новое посольство в Москву, князь обещал прислать своих бояр с ответом, но шли месяцы — бояр не было. Вместо бояр появились двое гонцов, чтобы приказать Пскову идти войной на Новгород и послать в Новгород объявление о войне. Псковичи потребовали подтверждений от великого князя. А тем временем послали в Новгород сказать, что случилось, и предложили отправить совместное посольство: новгородцы отказались. Они хотели военной помощи, псковичи боялись ее давать. Они теперь видели, что Новгород не выстоит. Из Новгорода стали уже бежать в Литву, некоторые новгородцы уехали и в Псков. В сентябре явился в Псков московский дьяк, звать псковичей на войну. Псковичи отговорились отсутствием князя. Тогда-то и было им сообщено, что будет у них князь, а пока назначен он в Псков воеводой. Псковичи тянули, как могли. Очень вовремя случился сильный городской пожар. К великому князю тут же послали сказать, что князя не назначено, город погорел, и воевать никак нельзя. Послов князь назад не выпустил, а в Псков отправил-таки князя Шуйского и приказ идти в поход на Новгород. Псковичам стало ясно: теперь великий князь будет поступать с городом только по своей воле, нет больше у Пскова права выбора — ни князя, ни закона, ни отечества. Они — пошли. На этот раз в войне они почти не участвовали — возили продовольствие и торговали в Ивановом стане.
После полного разгрома Новгорода возникла надежда, что московский князь решит хоть как-то отблагодарить горожан за участие в походе, вернет самостоятельность или хоть какие-то права по старине, ведь он сам им обещал в эти дни, что будет держать отчину по старине. Это было напрасной надеждой. Великий князь говорил, что держится псковской старины, но, по сути, Псковской землей управляли московские наместники, и никаких псковских законов они не держались. Они старались построить в этой земле подобие московского порядка. Но при Иване Васильевиче полного лишения самостоятельности Псков не увидел. Иван Васильевич просто этого не успел.
Великий князь Василий Иванович 1505–1533
Ему наследовал Василий Иванович, который и довел дело уничтожения свободомыслия в Пскове и во всей Северо-Западной Руси. Последним князем Псковской республики был назначенный царем Василием князь Иван Оболенский. При нем управление землей было таким, что, по словам Костомарова, псковичи с грустью вспоминали те дни, когда за небольшую провинность князя можно было просто выгнать из города. Назначенных Москвой князей выгнать было уже нельзя. Последний князь был особенно ненавистен горожанам. Костомаров даже предположил, что именно по причине полной профессиональной непригодности и множества плохих человеческих качеств он и был поставлен псковским князем. Псковичи писали, что «он был лют до людей». Князь был жаден и хотел везде посадить своих наместников, чтобы побольше ободрать людей.
Он желал управлять без веча и по своему разумению. Первое, что он сделал для города, — отправил в Москву донос на псковичей, обвиняя их в том, что его плохо содержат, не так, как прежде держали, не исполняют приказов государя, сами ведут суд, собирают оброки и налоги и творят москвичам насилие и бесчестье. Царь тут же послал своих бояр сказать горожанам, чтобы не вступались в княжеские дела и доходы.
Осень 1509 года Псковское посольство в Новгороде
Осенью 1509 года царь посетил Новгород, туда отправилось псковское посольство. Посольство ехало с челобитной на Оболенского. Царь выслушал и велел прислать в город двоих бояр для разбирательства. Но бояре успеха там не достигли: горожане были против князя, князь — против горожан. Бояре вернулись и доложили царю, что дело никак не решается. Царь предложил сам устроить для псковичей суд: пусть свои жалобы изложат обиженные и пусть свои жалобы изложит князь. За эту мысль ухватились посадники, они решили, что, чем больше будет жалоб от населения, тем успешнее и выигрышнее окажется само дело: ненавистного Оболенского сместят, а царь даст другого, может, не такого плохого, князя. Это было большой ошибкой.
Царь Василий поступил так неспроста. Жалоб было, действительно, огромное количество, только к царю решили обратиться за справедливостью не только обиженные на наместников и князя, народ повалил толпами, жалобы пошли и на богатых людей, и просто в связи с нерешенными когда-то конфликтами. Народ стекался в Новгород со всей окрестной Псковской земли. Когда царя спрашивали, сколько ждать справедливого суда, он отвечал: «Копитесь, копитесь, жалобники, придет Крещение Господне, тогда я вам всем дам управу». В этом ответе никто почему-то не усматривал угрозы.
Князя же ожидать Крещения он не заставил: принял тут же, выслушал и особенное внимание обратил на слова князя, что посадники и бояре чинят народу насилие, а богачи притесняют бедняков. Среди жалоб царь отбирал именно такие, сообщавшие о насилии богачей над бедняками. Недаром он не только не остановил поток жалоб, а сам предложил, чтобы их собрали побольше. Там же в Новгороде решалось и дело между двумя посадниками — Леонтием и Юрием Копылой. Как пишет «Повесть о Псковском взятии», тогда же «Юрий-посадник прислал грамоту из Великого Новгорода в Псков, а в грамоте было написано, что если не поедут посадники из Пскова свидетельствовать против князя Ивана Репни, то будет вся земля виновата. И уныли тогда сердца псковичей. А на четвертый день после получения той грамоты поехали в Новгород девять посадников и купеческие старосты всех рядов». Так что к Крещению весь цвет Пскова пребывал в Новгороде и ожидал справедливого суда. Псковская «Повесть» рассказывает, какой был это суд и каковы последствия:
«В то же время, месяца января в 6 день, на Крещение Господне, великий князь велел собраться всем нашим посадникам, а также боярам, купцам и купеческим старостам и идти на реку на освящение воды. А сам великий князь вышел со всеми боярами своими на реку Волхов, и вышли священники и дьяконы с крестами, ибо в тот день был праздник Крещения Господня. А владыки в то время не было в Новгороде, и святил воду владыка смоленский и священники. И, освятив воду, пошли все ко Святой Софии. А князь великий велел боярам своим делать все так, как они задумали. И те начали говорить нашим посадникам и остальным людям: „Посадники псковские, и бояре, и челобитчики, государь велел вам всем до единого собраться на государев двор; а если кто не пойдет, то пусть боится государева наказания, ибо государь хочет разобрать все ваши дела". И псковские посадники и бояре, все до единого, пошли после освящения воды на двор владыки. И спросили бояре посадников: „Все ли уже собрались?" И увели посадников, и бояр, и купцов в палату, а младшие люди остались на дворе. И вошли все в палату, и сказали бояре посадникам, и боярам, и купцам псковским: „Задержаны вы Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси“. И сидели тут посадники до прибытия своих жен, а младших людей переписали и распределили по улицам, приказав новгородцам стеречь и содержать их до суда. Известие о пленении своих псковичи получили от Филиппа Поповича, псковского купца. Он ехал в Новгород и остановился у Веряжи, и, услышав злую весть, помчался в Псков, оставив товар, и сказал псковичам, что великий князь посадников наших, и бояр, и всех челобитчиков схватил. И нашел на всех страх и трепет, и губы пересохли от скорби: много раз немцы приходили к Пскову, но такой беды и напасти не бывало. И, созвав вече, начали думать, выступить ли войной против государя или запереться в городе? Однако вспомнили крестное целование — нельзя поднимать руку на государя — и то, что посадники, и бояре, и все лучшие люди у него. И послали псковичи к великому князю своего гонца, сотского Евстафия, со слезами бить челом великому князю от всех псковичей — от мала и до велика, — чтобы: „ты, государь наш великий князь Василий Иванович, помиловал свою вотчину старинную". А у великого князя своя мысль; ради того он и приехал из Москвы в Великий Новгород, чтобы установить в Пскове свои порядки. И послал великий князь своего дьяка Третьяка Долматова, и псковичи обрадовались, ожидая подтверждения от государя старых порядков. А Третьяк им на вече передал просьбу великого князя, первое новое установление: „Если вы, вотчина моя, посадники псковские и псковичи, еще хотите по-старому пожить, то должны исполнить две мои воли: чтобы не было у вас веча, и колокол бы вечевой сняли долой, и чтобы в Пскове были два наместника, а в пригородах по наместнику, и тогда вы еще поживете по-старому. А если этих двух повелений государя не примете и не исполните, то будет так, как государю Бог на сердце положит; а у него много силы готовой, и тогда прольется кровь тех, кто государевой воли не исполнит. И еще государь наш великий князь хочет приехать на поклон к Святой Троице в Псков". И, проговорив это, сел на ступени. А псковичи поклонились до земли и не могли ничего ему ответить, ибо очи их полны были слез, как молоком грудь матери, и лишь те слез не пролили, кто был неразумен и молод; только ответили ему: „Посол государя, с Божьей помощью, утром, подумав между собой, мы тебе ответим на все“. И заплакали тут горько псковичи. Как не выплакали они глаз вместе со слезами, как не разорвалось их сердце! Наутро, когда наступил день воскресный, позвонили на вече, и пришел на вече Третьяк, и посадники псковские и псковичи начали ему говорить так: „Написано в наших летописцах, при прадедах его и дедах, и при отце его крест целовали великим князьям, что нам, псковичам, от государя своего великого князя, какой ни будет на Москве, не отходить ни к Литве, ни к Неметчине, а жить нам по старине по своей воле. А если мы, псковичи, отойдем от великого князя к Литве или к Неметчине или начнем жить сами по себе, без государя, то будет на нас гнев Божий, голод, и огонь, и потоп, и нашествие поганых. А если государь наш великий князь не сдержит то крестное целование и не станет нами править по старине, то и на него та же кара падет, что и на нас. А ныне Богу и государю дана воля над их вотчиной, градом Псковом, нами и колоколом нашим, а мы прежнего обещания своего и клятвы не хотим изменить и кровопролитие на себя взять и не хотим на государя своего руки поднимать и в городе запираться. А если государь наш великий князь хочет помолиться в Живоначальной Троице и побывать в своей вотчине Пскове, то мы своего государя рады принять всем сердцем, чтобы нас не погубил до конца". Месяца января в 13 день, на память святых мучеников Ермолая и Стратоника, спустили вечевой колокол со Святой Живоначальной Троицы, и начали псковичи, глядя на колокол, плакать по своей старине и прежней воле. И повезли его на Снётогорский двор, к церкви Иоанна Богослова, где ныне двор наместника; в ту же ночь повез Третьяк вечевой колокол к великому князю в Новгород. И в тот же месяц, за неделю до приезда великого князя, приехали воеводы великого князя с войском: князь Петр Великий, Иван Васильевич Хабаров, Иван Андреевич Челяднин — и повели псковичей к крестному целованию, а посадникам сказали, что великий князь будет в пятницу. Поехали посадники псковские, и бояре, и дети посадничьи, и купцы на Дубровно встречать государя великого князя. Месяца января в 24 день, на память преподобной матери нашей Аксиньи, в четверг, приехал государь наш великий Василий Иванович всея Руси в Псков. А утром того дня приехал коломенский владыка Вассиан Кривой, и хотели священноиноки, и священники, и дьяконы встретить великого князя у церкви Святого образа в Поле, но владыка сказал, что великий князь не велел встречать его далеко. И псковичи встретили его за три версты, и поклонились псковичи государю своему до земли, и государь поздоровался с ними, и псковичи ему молвили в ответ: „Ты, государь наш великий князь, царь всея Руси, здрав будь“. И поехал он во Псков; и владыка, что с ним приехал, и священноиноки, и священники, и дьяконы встретили его на торгу, где ныне площадь; а сам великий князь слез с коня у церкви всемилостивого Спаса, тут и благословил его владыка, и пошел он к Святой Живоначальной Троице. И отслужили молебен, и пели многолетие государю, и, благословляя его, владыка сказал: „Бог, государь, благословляет тебя, взявшего Псков“. И псковичи, которые были в церкви и это слышали, заплакали горько: „Бог волен и государь, мы были исстари вотчиной его отцов, и дедов, и прадедов его“. И велел великий князь быть у себя в воскресенье псковичам, старым псковским посадникам, и детям посадничьим, и боярам, и купцам, и житьим людям: „Я хочу пожаловать вас своим жалованьем“. И пошли псковичи от мала и до велика на двор великого князя. Посадники и бояре пошли в гридницу, а других бояр и купцов псковских князь Петр Васильевич начал выкликать по переписи, стоя на крыльце. А тех, кто вошел в гридницу, взяли под стражу, а псковичам, младшим людям, кто стоял на дворе, сказали: „До вас государю дела нет, а до которых государю дело есть, он тех к себе позовет, а вам государь пожалует грамоту, где сказано, как вам впредь жить“. И взяли под стражу тех, кто был в гриднице, и под стражей пошли они в свои дворы и в ту же ночь начали собираться с женами и детьми к отъезду в Москву, поклажу легкую взяв с собою, а остальное все бросили и поехали вскоре с плачем и рыданиями многими. И еще поехали жены тех, кто был посажен в Новгороде. И всего было взято триста псковских семей. И так прошла слава псковская!
1510 год Присоединение Пскова к Москве; упразднение псковского веча
О славнейший среди городов — великий Псков! О чем сетуешь, о чем плачешь?
И отвечал град Псков: „Как мне не сетовать, как мне не плакать! Налетел на меня многокрылый орёл, а крылья полны когтей, и вырвал у меня кедры ливанские. Бог наказал нас за грехи наши — и вот землю нашу опустошили, и город наш разорили, и людей в плен взяли, и торги наши с землею сровняли, а иные навозом конским забросали, а отцов и братьев наших развезли; где не бывали наши отцы, и деды, и прадеды наши, туда увезли отцов, и братьев наших, и друзей, а матерей и сестер наших на поругание отдалиа многие постриглись в монахи, а их жены в монахини и ушли в монастыри, не желая идти в плен из своего города в чужие города. Ныне, братья, зная об этом, убоимся этого страшного наказания, преклонимся перед Господом своим и признаемся в грехах своих, чтобы не вызвать большего гнева Господня, не навести на себя казни горше первой. Ждет он нашего покаяния и исправления, а мы не покаялись, но в больший грех впали — в злые и лихие поклепы и кричание на вече, когда голова не знает, что язык говорит, не умея в своем доме распорядиться, хотели городом управлять. После этого великий князь начал раздавать боярам деревни сведенных псковичей и посадил наместников в Пскове: Григория Федоровича и Ивана Андреевича Челядниных, а дьяком назначил Мисюря Мунехина, а другим дьяком ямским Андрея Волосатого, и двенадцать городничих, и московских старост двенадцать, и двенадцать псковских, и деревни им дал и велел им в суде сидеть с наместниками и их тиунами, хранить закон. А у наместников, и у их тиунов, и у дьяков великого князя правда их, крестное целование, взлетела на небо, а кривда начала ходить в них; и были несправедливы к псковичам, а псковичи, бедные, не знали правосудия московского.
И дал великий князь псковичам свою жалованную грамоту, и послал великий князь своих наместников по псковским городам, и велел им приводить жителей к крестному целованию. И начали наместники в псковских городах жителей притеснять. И послал великий князь в Москву Петра Яковлевича Захарьина поздравить всю Москву по случаю взятия великим князем Пскова. И послали в Псков из Москвы знатных людей, купцов устанавливать заново пошлины, потому что в Пскове не бывало пошлин; и прислали из Москвы казенных пищальников и караульных; и определили место, где быть новому торгу — за стеной, против Лужских ворот, за рвом, на огороде Юшкова-Насохина и на огороде посадника Григория Кротова.
И церковь Святой Аксиньи, в день памяти которой взял Псков, поставил великий князь на Пустой улице, на земле Ермолки Хлебникова, а потому та улица Пустой звалась, что шла меж огородов, а дворов на ней не было. И жил великий князь в Пскове четыре недели, а поехал из Пскова на второй неделе поста в понедельник и взял с собою второй колокол, а оставил здесь тысячу детей боярских и пятьсот пищальников новгородских. И начали наместники над псковичами чинить великие насилия, а приставы начали брать за поручительство по десять, семь и пять рублей. А если кто из псковичей скажет, что в грамоте великого князя написано, сколько им за поручительство, они того убивали и говорили: „Вот тебе, смерд, великого князя грамота И те наместники и их тиуны и люди выпили из псковичей много крови; иноземцы же, которые жили в Пскове, разошлись по своим землям, ибо нельзя было в Пскове жить, только одни псковичи и остались; ведь земля не расступится, а вверх не взлететь».
Вот так быстро и просто Василий Иванович покончил с последней русской республикой.
Больше не было никакого народоправства.
Последним хотя бы противоположным Москве оплотом инакомыслия была Рязань. Нои Рязань, которую столько раз жгли, уничтожали и разоряли и которая восстанавливалась и продолжала свою жизнь, погибла не от внешнего врага, а от все той же сильной московской руки, собирающей крепкое государственное тело. Через десятилетие после Пскова Рязанское княжество стало московской территорией. Москва практически собрала свое тело, сделав все, чего она касалась, московским. Для того чтобы все унифицировать и обезличить, и переселялись целые слои русского населения из края в край. На чужбине худо было не только жителям вольного северо-запада, точно так же там страдали и переселенные из московского мира люди.
Хорошая ведь идея: смешать народы так, чтобы они навсегда забыли, кто они такие, какая у них была история, чтобы они жили, зная только одну историю — историю Московской Руси.
А о Новгороде и его славе вспомнили только тогда, когда эта слава древних очень потребовалась для повышения рейтинга самой Москвы, точнее, тогда уже Российской империи. Это случилось как раз в тот знаменательный год, когда Костомаров читал свою лекцию о древнем Новгороде потомкам московских переселенцев, которые искренне считали, что они-то и есть наследники славы великого города.
Самодержавная реабилитация Новгорода
Это было бы печально, если бы не так смешно: в год 1862-й, тотчас после отмены сверху крепостного строя, в России был объявлен государственный праздник — Тысячелетие России. Как раз в преддверии этого самого торжества Николай Иванович Костомаров и читал свою знаменитую лекции о Господине Великом Новгороде, читал ее в Дворянском собрании этого давно уже не народоправческого Новгорода и был обласкан собравшейся публикой. Учитывая то, что я имела счастье изложить по работам Костомарова выше, лекция воистину была замечательная. Она так безжалостно раскрывала тайны московской политики далекого прошлого, что в живущей в празднике реформы 1861 года стране не могла не затронуть умы и чувства сограждан. Костомаров четко и просто объяснил, как убивали Новгород. Он назвал и имя убийцы. Но в зал, где он читал такую лекцию, не пришли почему-то жандармы, не арестовали профессора и не повели его под руки для пристрастного допроса. Почему? Забавно, но в тот волшебный год слава Новгорода сияла немеркнущими лучами! По случаю памятной даты город был объявлен чуть ли не колыбелью рево… извините, грядущей России и сердца ее Москвы, или, как в торжественной речи сказал проникновенно Александр Второй, — «колыбелью царства Всероссийского».
С него, с Новгорода, по тогдашним понятиям, и начиналась эта будущая великая империя. Ведь не куда-нибудь, а в Новгород княжить и володеть явился призванный легендарный Рюрик. Так что можно было стереть Новгород как слишком вольный город, заселить его чужим московским народом, а через четыреста лет устроить грандиозное празднование его далекой славы. Стертый и ничего более не значащий, он никакой угрозы для имперского сознания не представлял. И лекция Костомарова — тоже. Александр Второй, сменивший своего отца Николая, сам контролировал этот масштабный проект, в котором были задействованы и толпы народа, и открытие памятника Тысячелетию, и даже присутствие в захудалом Новгороде императора. Да и вправду-то — какой праздник без царя?
При батюшке тогдашнего императора призвание варягов в 862 году по Начальной летописи воспринималось точно по «Истории» Карамзина. Для тогдашних историков, во всяком случае — для большинства, это призвание было неоспоримым фактом, даже о дате его не следовало делать безосновательные предположения: сказано, что в 862, значит — так и есть, Николай даже издал специальное повеление «об утверждении 862 года началом Российского государства». Это было не завоевание норманнскими разбойниками разобщенных славянских племен, а, по словам Карамзина, добровольное уничтожение древнего народного правления, то есть того самого народоправства, о котором с такой теплотой писал Костомаров. Рупором этой официальной верноподданнической идеи был главный противник Костомарова историк Погодин. Погодин особо упирал на добровольную передачу власти и земли мудрому чужеземному князю. Это была, как он выражался, полюбовная сделка, и если на Западе все происходило от завоевания, то у нас происходит по призванию. Не только в Новгороде, даже и в Киеве, добавлял он, передача власти произошла совершенно мирным путем. Как пишет об этом наша современница О. Майорова, «отстаивая свою позицию, Погодин еще в 1840-е годы нашел остроумный выход из положения, прибегнув к сюжетной инверсии: о существе исходного события он судил по результатам. Погодин признавал: „Призвание и завоевание были в то грубое, дикое время, положим, очень близки, сходны между собою, разделялись очень тонкой чертою, — но разделялись!“ Доказательством служили отнюдь не летописные свидетельства, не вновь найденные источники, не сопоставление фактов, но последующая и текущая русская история — то есть плоды призвания: „Тонкое различие зерен, — писал Погодин, — обнаруживается разительно в цветах и плодах". Союз любви, соединяющий монарха с подданными на всем видимом пространстве русской истории, — неопровержимое и, пожалуй, главное свидетельство некогда заключенной „полюбовной сделки“… В России, утверждал Погодин, „самое завоевание не имело характера западного": „Наш народ подчинился спокойно первому пришедшему", поскольку наделен „двумя высочайшими христианскими добродетелями, коими украшается наша история", — „терпением и смирением". Отсюда оставался один шаг до благостной картины всего имперского нарратива русской истории, и Погодин этот шаг сделал: „Киев еще менее покорил себе древлян или радимичей, нежели Москва покорила Тверь или Россия — Финляндию… наш государь был званым мирным гостем, желанным защитником, а западный государь был ненавистным пришельцем, главным врагом, от которого народ напрасно искал защиты"». В духе полного счастья и единения и был проведен новгородский государственный праздник.
Сценарий этого грандиозного театрального действа предполагал ликующие толпы народа и явление главного героя — Рюрика. Роль Рюрика с энтузиазмом выполнял сам император. Как пишет Майорова, «открывался праздник прибытием в Новгород парохода с царем. Александр с семьей и огромной свитой плыл по реке Волхов от Соснинской пристани до Новгорода, где ему была подготовлена пышная встреча. Собственно, речное сообщение с Новгородом было тогда самым удобным, и можно было бы считать, что чисто прагматические соображения диктовали выбор этого пути, если бы на следующий день, под конец праздника, царь вновь не предпринял путешествия: он поплыл на катере от Новгорода до Рюрикова Городища — легендарного места обитания Рюрика. В обеих поездках Александра встречали ликующие толпы. Согласно замыслу, в ходе торжества разыгрывалась ситуация прихода правителя к народу. Когда царь только плыл в Новгород, берега близ деревень украшены были декорациями из зелени, вензелями их величеств и разноцветными флагами; народ собирался густыми толпами, приветствовал и провожал проходивший пароход громкими, Ура“».
Некто Василий Колохматов, автор посвященной празднику брошюры для народа, рассказывал, что в ожидании царя «все население Новгорода покрыло берега Волхова, мост, всю набережную до царской пристани и от нее до крепостной стены»: «Надо было видеть эту огромную массу народа, оставившего домы свои пустыми, чтобы взглянуть на своего державного Отца!» Наконец, по словам Валуева, организатора и официального интерпретатора торжества, «толпы народа уходили далеко от города по обоим берегам реки в надежде несколько ранее завидеть приближение парохода, на котором ожидалось прибытие государя… у пристани и в городском саду столпились еще более густые массы народа», а перед самым появлением парохода начался звон во всех церквах: «Была торжественная минута. Со всех сторон слышалось: „Царь едет! Царь едет!“ — и эти возгласы звучали необыкновенным умилением. Звон продолжался с лишком четверть часа, прежде чем мы ясно могли увидеть приближающиеся пароходы. Раздались громкие, затем уже не умолкавшие крики „ура“. Я был свидетелем всеобщего порывистого одушевления. Лица всех званий и возрастов ему одинаково поддавались…» Далее Александр следовал на Рюриково Городище, тут уж корреспонденты, захлебываясь от восторга, описывали и вовсе чудовищные проявления народного экстаза: люди бросали под ноги царю поддевки и платки, падали на колени, словом, был полнейший народный ор и визг. Это все должно было символизировать неразрывную связь императора с его народом. Даже вполне трезвые и спокойные люди вроде поэта Тютчева поддались всеобщему безумию: им, действительно, грезилось, что время обратилось вспять, — и это тот самый Новгород, и это тот самый Рюрик, который одновременно и Александр, и это миг вечной славы, лежащей за далеким прошлым. Маршрут царя был выверен безукоризненно, точно по летописям. С Городища он шел на молебен в Софийский собор, а народ, который весь вместиться туда не мог, стоял на коленях по всей Софийской площади. Потом начинался крестный ход: «митрополит Петербургский и Новгородский Исидор, архиереи, придворные певчие вышли на площадь и объединились здесь с местным духовенством, которое несло хоругви, кресты и иконы. Александр II, императрица, наследник престола и свита сопровождали церковное шествие, певчие пели „Спаси, Господи, люди Твоя", а в войсках музыканты играли „Коль славен наш Господь в Сионе". Затем последовало молебствие, подававшееся прессой как визуальное подтверждение мифологии „полюбовной сделки"».
Но самым интригующим мигом всей этой театральной композиции было открытие памятника, который должен был символизировать единение всех эпох, отразить лучшие черты всего русского Тысячелетия.
Когда идея памятника еще только обсуждалась, то думали просто открыть в Новгороде памятник Рюрику, однако в Комитете министров воспротивились такой простоте — памятник на Тысячелетие должен быть пышным и выразительным. Одинокий Рюрик? Какое же это Тысячелетие? Министры рекомендовали добавить также других монархов и обязательно — барельефы с картинками из русской истории. Словом, памятник Тысячелетию должен был стать чем-то сродни найденному археологами Збручскому идолу. Та же многоплановая композиция и разбитая на ярусы вертикаль. Наверху этого монумента по проекту помещалось изображение державы, то есть шар с крестом, на шаре под крестом располагались две фигуры — женщина в русском костюме на коленях и небесный вестник, принесший ей благое известие. Женщина держала щит с изображением двуглавого орла. Эта символика вызвала бурное обсуждение в печати: кому-то не нравилось, что государство — женщина, кому-то — что она на коленях (как это Россия на коленях?), кому-то, что не понять — при чем тут православие.
Столь же бурно обсуждали и нижние части памятника — кого туда включать, а кого не включать. В нижней части памятника располагались 109 самых знаменитых людей, прославивших Россию, условно они были разбиты на четыре градации — просветители, государственные деятели, воины и герои, писатели и художники. Эта идея очень понравилась самому императору, который боялся, что изобразят одних монархов. В этом соединении русского народа он видел необходимую стране сплоченность и соборность. Достойными изображения оказались самые разные люди — Хмельницкий, Сусанин, Дмитрий Донской, Сперанский, Ермак, Жуковский, Пушкин, Ломоносов, Александр Первый, Екатерина Великая, переводчик Гнедич… Изображены были не только великороссы, но и видные деятели из малых народов. А основной, центральный ярус состоял из шести скульптурных групп, знаменующих шесть эпох русской истории, в каждой группе свой ведущий самодержец — Рюрик, основатель государства, Владимир Святой, основоположник православия, Дмитрий Донской, освободитель от ига, Иван Третий, основатель самодержавного царства, Михаил Романов, восстановитель единодержавия, Петр Великий, основатель империи. Вся эта перегруженная деталями скульптура и была открыта торжественно императором Александром Вторым, считавшим, что с его реформы 1861 года начинается такая же новая эпоха, что и при Рюрике. Недаром по этому случаю была выпущена медаль, где были изображены Александр и Рюрик. А в брошюре, выпущенной по случаю торжества специально для народа, были такие слова: «19-го февраля 1861 года последовало освобождение крестьян — вот подвиг, за который век будет молить Бога Русская земля за Государя своего Александра II. Избавились мы от рабства татарам, отбились от иноземцев, теперь избавились и от домашнего рабства. Кончен расчет с прежним тысячелетием, в которое боролись мы за свободу свою с врагами внешними и внутренними. Добилась Русская земля своей свободы, и в новую жизнь вступает она с новым тысячелетием. Вперед же, братцы, в новую жизнь, на новые мирные гражданские подвиги!»
В этой замечательной брошюре специально для народа же объяснялась роль Господина Великого Новгорода (цитирую по Майоровой): «С тех пор как великие князья переехали на житье в Киев, Новгород стал управляться сам собою… Вече выбирало князей и прогоняло их, если народ был ими недоволен; словом, все, что ни делалось в Новгороде, делалось по воле мира… мир и согласие были в Новгородской земле, и грозен был Новгород для врагов своих». Поскольку во времена монгольского ига Новгород оставался свободным, то, как писал автор брошюры, «только в этом уголку уцелела вольная, независимая Русь, грозно каравшая врагов своих». Только в Новгороде уцелело и «древнее право»: «Правда в суде и выборное начальство не давали сильным и богатым обижать слабых. По воле народа на вечах шло все управление стороною».
В середине 19 века бояться вечевого уклада древнего Новгорода было смешно, так что на памятник попала даже сама противница Москвы Марфа Борецкая, правда, ее изобразили после поражения — с опущенной головой и руками, в слезах, с разбитым вечевым колоколом. В назидание что ли для того же народа, чтоб знал, как поступают с теми, кто не хочет, чтоб тело государства крепло? Нет, идея была совсем иной: связать эпохи, примирить державников и оппозиционеров, чтобы снова восторжествовал дух соборности. По сути, как это ни забавно, даже памятник многие воспринимали как очертания вечевого колокола, хотя его автор Микешин имел сначала в виду шапку Мономаха, желающие даже видели вверху, там где крест, «колокольное ушко». Реформа Александра как бы должна была примирить вечевое, то есть народное, начало и власть самодержца. По случаю праздника эти вечевые начала поминались постоянно. «Тот первый русский царь (Иван Васильевич, губитель Новгорода. — Авт.), — писал режиссер новгородского спектакля Валуев, — который носит историческое наименование собирателя Русской земли и в свое царствие сломил стародавние новгородские вольности, не предвидел, что именно в Новгороде должно было состояться празднование Тысячелетия Русской державы». Ясно, если бы предвидел, то не уничтожил бы город и его горожан. Это была такая странная нота примирения с прошлыми мерзостями самодержавия обещанием счастливого будущего без крепостного рабства.
Между тем все это грандиозное торжество шло под жестким контролем полиции, в толпе ликующего народа, без которой праздник терял бы всяческий смысл, сновали шпики и вслушивались в разговоры собравшихся граждан — вдруг будет какое вольнодумство? Вдруг кто-то захочет царя… да, место и время очень удобные! Нет, праздник прошел без эксцессов. Даже новгородское дворянство, по поводу которого так волновался Валуев перед праздником, не помнило о вольностях своего города, оно упивалось приездом царя. Да и кому было помнить? Разве что изображенной на монументе Марфе Борецкой. Но она была неживая и на царя совсем не глядела. Она глядела на колокол. Он был разбит.
А вечевые начала? Искать их надо было далеко от новгородского праздника, в тех уездах и губерниях, где над крестьянами проводили эксперимент под названием отмена крепостного права. Но и там эти вечевые начала показывали себя нечасто — в виде бунтов и небольших восстаний. А большей частью, приученный к рабскому состоянию народ молчал. В государстве, построенном северо-восточными князьями, у народа было всегда только две обязанности: молчать и терпеть или ликовать при виде царя, князя, начальника… Проявлять элементы народоправства северо-восток своему народу не позволял.
Часть вторая. Рабство и бунт
Самодержавный Северо-Восток
Не надо думать, что северо-восток был вовсе таким уж чужим для Южной и Северо-Западной Руси. Нет, Костомаров считал, что начиналась Северо-Восточная Русь с таких же вечевых приоритетов, что и другие земли. Этот народоправческий склад древности он относил ко всем русским землям без исключения. Колонизация северо-востока началась, собственно, совсем не с Юрия Долгорукого, отдельные части этой дикой тогда местности колонизовались с севера, из Новгорода, недаром новгородские владения лежали так близко к территории будущего Московского княжества, некоторые из важных факторий Новгорода постепенно стали совместными владениями с теми княжествами, которые лежали по границе Новгородской земли. Там, само собой, должен был существовать и вечевой порядок управления — по образу и подобию самого Новгорода. Да и жили там кроме местных народов выходцы все из того же Новгорода, и эти городки, само собой, не могли не иметь всех атрибутов новгородского права — веча и колокола. Дело было в ином — в характере княжеской власти на северо-востоке.
Пока земли северо-востока были дикими и дальними — там было все, как и по всей Руси. Славянские поселенцы в этой земле были свободными людьми. Но все менялось. «На востоке, — пояснял Костомаров, — напротив, личная свобода суживалась и, наконец, уничтожилась. Вечевое начало некогда и там существовало и проявлялось. Избрание князей также было господствующим способом установления власти, но там понятие об общественном порядке дало себе прочный залог твердости, а на помощь подоспели православные идеи. В этом деле как нельзя более высказывается различие племен. Православие было у нас едино и пришло к нам чрез одних лиц, из одного источника; класс духовный составлял одну корпорацию, независимую от местных особенностей политического порядка: церковь уравнивала различия; и если что, то — именно истекавшее из церковной сферы должно было приниматься одинаково во всем русском мире.
Не то, однако, вышло на деле. Православие внесло к нам идею монархизма, освящение власти свыше, окружило понятия о ней лучами верховного мироправления; православие указало, что в нашем земном жизненном течении есть Промысел, руководящий нашими поступками, указывающий нам будущность за гробом; породило мысль, что события совершаются около нас то с благословения Божия, то навлекают на нас гнев Божий; православие заставило обращаться к Богу при начале предприятия и приписывать успех Божию изволению. Таким образом, не только в непонятных, необыкновенных событиях, но и в обычных, совершающихся в круге общественной деятельности можно было видеть чудо. Все это внесено было повсюду, повсюду принялось до известной степени, применилось к историческому ходу, но нигде не победило до такой степени противоположных старых понятий, нигде не выразилось с такою приложимостью к практической жизни, как в Восточной Руси».
Иными словами, идея единодержавия и раболепия перед властью, которые так сильно проявились на северо-востоке, выросли на том же православии, которое исповедовали после Владимира все русские земли. Может, что-то «не то» было в этом православии северо-востока? Нет, это было точно такое же православие, поскольку северо-восток подчинялся Киеву. Конечно, в каждой географической части Руси того времени православие имело не только общие черты, но и различия — там были разные святыни, которые покровительствовали каждая своей местности: у киевлян — Десятинная церковь Богородицы и София, у новгородцев — Святая София, у черниговцев и тверичей — Святой Спас, у владимирцев при Андрее и после него — церковь Святой Богородицы с похищенной из Вышгорода иконой, которую позже так и стали именовать по месту ее нахождения — Владимирской Богоматерью. На ратные подвиги жители всех русских земель ходили как бы под покровительством своих святынь. Новгородцы бились с врагами и клялись, например, своей Святой Софией. Сам Новгород ассоциировался со Святой Софией. Изменить Святой Софии было равнозначно изменить Новгороду, и наоборот. Но только во Владимире, писал Костомаров, «святыня патрональнаго храма являлась с плодотворным чудодействущим значением». Только там «каждая победа, каждый успех, чуть не каждое сколько-нибудь замечательное событие, случавшееся в крае, называется чудом этой Богородицы». Конечно, искать причины такого мировосприятия стоит вообще в особенностях средневекового мышления. Но до появления иконы Богородицы во Владимире, а точнее до появления в этом городке Андрея Боголюбского, земля не могла похвастаться военными успехами.
Владимир князя Андрея Боголюбского 1169–1174
Владимир лежал на задворках тогдашней русской цивилизации, это была глухая дикая местность. Андрей принес в эту глушь святыню, Андрей сумел хорошо воевать, у Андрея была твердая рука и другой взгляд на роль князя для народа. Властный и жестокий, он требовал полного и безоговорочного подчинения. По сути, Андрей не был нормальным русским князем. Хотя он происходил из вполне южной княжеской семьи, но родился и вырос там, за пределами культурных земель, на окраине мира. Он был, скажем, патриотом своего Владимира. Он строил свой Владимир по образу и подобию Киева, чтобы перенести черты древней столицы на городок, который прежде не заслуживал ровно никакого внимания. В вольностях южных князей и тем более вольностях южного простого народа Андрей видел только большое неудобство для крепкой власти. Он желал править северо-востоком твердой рукой. Наследующие Владимир князья, хотя и не были в этом направлении столь прямолинейны, хотели того же самого, то есть чтобы только князь мог решать кому и как жить (или умереть). Это особенная черта всей ветки князей, происходивших от Юрия Долгорукого. Эти князья не хотели Киева как центра русского мира, они хотели сместить центр на свой северо-восток, потому что там управлять было легче, народ уже был более зависим от князя, чем на юге или северо-западе.
Древних городов было не так уж много. Новые строили князья, они же их и заселяли, так что и порядки в новых городах диктовали князья. Там, где в других землях было право выбора и следование каким-то древним законам передачи власти, на северо-востоке образовалось другое право, потому что традиции там на новых землях не было. К традиции, скажем, относилась Вышгородская икона, но она была перехвачена Андреем, чтобы положить начало новой традиции — от иконы и от Андрея. Неудивительно, что Владимир стал центром этой новой традиции, и северо-восток постепенно признавал эти нововведения, отдавая дань Владимиру за его успехи и… за его искоренение личной свободы.
«Возникает спор между старыми городами Ростовско-Суздальской земли и новыми — Владимиром, — пишет Костомаров, — Владимир успел в споре; он берет перевес: это — чудо Пресвятой Богородицы. Замечательно место в летописи, когда после признания, что ростовцы и суздальцы, как старейшие, действительно поступали по праву (хотяще свою правду поставити), после того как дело этих городов подводится под обычай всех земель русских, летописец говорит, что, противясь Владимиру, они не хотели правды Божией (не хотяху створити правды Божия) и противились Богородице. Те города хотели поставить своих избранных землею князей, а Владимир поставил против них Михаила, и летописец говорит, что сего же Михаила избра святая Богородица. Таким образом, Владимир требует себе первенства в земле на том основании, что в нем находилась святыня, которая творила чудеса и руководила успехом. Володимирцы, рассуждает тот же летописец, прославлены Богом по всей земле, за их правду Бог им помогает; при этом летописец объясняет, почему володимирцы так счастливы: его же бо человек просит у Бога всем сердцем, то Бог его не лишит. Таким образом, вместо права общественного, вместо обычая, освященного временем, является право предприятия с молитвою и Божиего соизволения на успех предприятия. С виду покажется, что здесь крайний мистицизм и отклонение от практической деятельности, но это только кажется: в самой сущности здесь полнейшая практичность, здесь открывается путь к устранению всякого страха пред тем, что колеблет волю, здесь полный простор воли; здесь и надежда на свою силу, здесь умение пользоваться обстоятельствами. Владимир, в противность старым обычаям, древнему порядку земли, делается верховным городом, потому что Богородица покровительствует ему, а ее покровительство видно из того, что он успевает. Он пользуется обстоятельствами; тогда как его противники держатся боярством, избранным высшим классом, Владимир поднимает знамя массы, народа, слабых против сильных; князья, избранные им, являются защитниками правосудия в пользу слабых».
Это, конечно, было сплошным лицемерием: принимая сторону слабых, то есть не имеющих влияния на власть князя, владимирские князья создали особую среду, особый тип управления. Всеволод Юрьевич был избран этими слабыми, то есть, по Костомарову, он получил власть из рук народного владимирского веча, но вече этим избранием обрекло себя впоследствии на быструю смерть, поскольку приговор владимирского веча был таков: горожане избрали на власть не одного какого-то князя Всеволода, но князя со всем его потомством — они приговорили наследную передачу власти. Наследная передача власти — это совсем не то, что избрание князя и заключение с ним ряда, это полная отдача под руку князя с его потомством, то есть то, что с успехом потом демонстрировали душители новгородских свобод, требуя полной власти над людьми: только князь должен решать, что и как ему делать, народ и права не имеет даже советовать князю, как тому поступить, князь имеет право отнять имущество или наградить имуществом, князь имеет право приказать идти на войну, даже если народ считает такую войну бессмысленной и вредной, народу остается только смиряться и молчать. Причем народ тут не только простолюдины, но и высокопоставленные лица — все, кто ниже конкретного князя. В такой ситуации вече становится ненужным: все решают те, кого князь облек доверием решать, кого он назначил. В такой ситуации вече не просто не нужно, оно опасно и вредно для власти князя. Оно и уходит, но не сразу, но постепенно, по мере роста новых городов на северо-востоке, где его попросту нет с самого начала. Старым городам остается, как и народу, смиряться и молчать.
«Известно, — объяснял Костомаров, — как ученые придавали у нас значение новым городам именно потому, что они новые. По нашему мнению, новость городов сама по себе еще ничего не значит. Возвышение новых городов не могло родить новых понятий, выработать нового порядка более того, сколько бы все это могло произойти и в старых. Новые города населялись из старых, следовательно, новопоселенцы невольно приносили с собой те понятия, те воззрения, какие образовались у них в прежнем месте жительства. Это в особенности должно было произойти в России, где новые города не теряли связи со старыми. Если новый город хочет быть независимым, освободиться от власти старого города, то все-таки он по одному этому будет искать сделаться тем, чем старый, не более. Для того чтобы новый город зародил и воспитал в себе новый порядок, нужно, чтоб или переселенцы из старого, положившие основание новому, вышли из прежнего вследствие каких-нибудь таких движений, которые были противны массе старого города, или чтоб они на новоселье отрезаны были от прикосновения со старым порядком и поставлены в условия, способствующие развитию нового. Переселенцы, как бы далеко они ни отбились от прежних жилищ, удерживают старый быт и старые коренные понятия сколько возможно, насколько не стирают их новые условия; изменяют их только вследствие неизбежности, при совершенной несовместимости их с новосельем, и притом изменяют не скоро: всегда с усилиями что-нибудь оставить из старого. Малороссияне двигались в своей колонизации на восток, дошли уже за Волгу, и все-таки они в сущности те же малороссияне, что в Киевской губернии, и если получили что-нибудь особенное в слове и понятиях и в своей физиогномии, то это произошло от условий, с которыми судьба судила им сжиться на новом месте, а не потому единственно, что они переселенцы. То же надобно сказать о сибирских русских переселенцах: они все русские, и отличия их зависят от тех неизбежных причин, которые понуждают их несколько измениться, применяя условия климата, почвы, произведений и соседства в свою пользу. Новые города в Древней России, возникая на расстоянии каких-нибудь десятков верст от старых, как Владимир от Суздаля и Ростова, не могли, по-видимому, иметь даже важных географических условий для развития в себе чего-нибудь совершенно нового. Даже и тогда, когда новый город отстоял от старого на сотни верст, главные, однако же, признаки географии условливали их сходство. В XII веке Владимир в исторической жизни является зерном Великороссии и вместе с тем Русского единодержавного государства; те начала, которые развили впоследствии целость русского мира, составили в зародыше отличительные черты этого города, его силу и прочность. Сплочение частей, стремление к присоединению других земель, предпринятое под знаменем религии, успех, освящаемый идеею Божиего соизволения, опора на массу, покорную силе, когда последняя протягивает к ней руку, чтоб ее охранять, пока нуждается в ней, а впоследствии отдача народного права в руки своих избранников — все это представляется в образе молодого побега, который вырос огромным деревом под влиянием последующих событий, давших сообразный способ его возрастанию. Татарское завоевание помогло ему. Без него, при влиянии старых начал личной свободы, господствовавших в других землях, свойства восточной русской натуры произвели бы иные явления, но завоеватели дали новую цель соединения разделенным землям Руси».
Возвышение Москвы
Вот эта черта, этот водораздел, который отделил новое от старого. Монголы. Монголам, в сущности, было совершенно безразлично, каким способом управляется завоеванная ими земля. Они никогда и нигде не претендовали переменить порядок управления. Этот порядок они оставляли на усмотрение самих завоеванных народов. Им было важно только одно: чтобы эти территории не выходили из-под контроля и исправно платили дань. Монголы не искореняли ни народоправства, ни даже религии местных народов. Они катком прошись по всей Руси, уничтожили возможные очаги сопротивления, а дальше — дальше им нужно было наладить постоянное поступление дани. Для этого они выбирали на покоренной земле доверенное лицо, приказчика, как называет это лицо Костомаров, «это единое лицо, этот приказчик приготовлен был русскою историею заранее в особе великого князя, главы князей, и, следовательно, управления землями». Но на завоеванной территории сложились запутанные права передачи власти, эта власть передавалась по старшинству. Из-за этого права на власть велись междоусобные войны. Фактически к времени нашествия земля уже разделилась на юг и северо-восток, в ней было два великих князя — киевский и владимирский. Монголам это пришлось понять и разделить сбор дани по территориальному признаку, разделив, по сути, юг и северо-восток на долгие столетия.
Идея передачи власти по старшинству и право избрания князя с приходом монголов уступили место другому принципу права — «воле государя всех земель, государя законного, ибо завоевание есть фактический закон выше всяких прав, не подлежащий рассуждению». Но кто был государем всех земель? Великий князь владимирский? Увы, нет. Таким государем был монгольский хан. Он завоевал — он и государь. Так что неудивительно, что на сохранившихся монетах монгольского времени можно прочитать «царь Тохтамыш». Легче всего с появлением такого «русского» государя смирились на северо-востоке, по словам Костомарова, «ничего не было естественнее, как возникнуть этому ханскому приказчику в той земле, где существовали готовые семена, которые оставалось только поливать, чтоб они созрели». «Государь» назначал «приказчика» для этой территории по своему усмотрению, но нарекался этот приказчик великим князем владимирским, хотя постепенно на это звание стали претендовать московские князья. Они оказались, так сказать, самыми предприимчивыми и самыми верными приказчиками ханов.
Но тут очень помогла монголам не только политика сначала владимирских, потом московских князей, но и северо-восточная русская церковь. Эта церковь уже хорошо привыкла нести народу идею терпения и послушания, в этом контексте монгольское нашествие рассматривалось церковью как благое испытание, посланное народу за его грехи. Тогда было принято, что завоевание не происходит без причины, оно — гнев Божий, оно дается за грехи всей завоеванной земли, и искупить эти грехи, пострадать — главная задача для хорошего и правильного верующего. Поскольку вне веры средневекового мира не существует, то народ жил под завоеванием по вере своей — то есть под властью завоевателей, смиряясь и терпя, искупляя грехи. Князья, которые в вопросах веры ничем от всего прочего народа не отличались, тоже «смирялись и терпели», то есть даже и не пробовали на своем северо-востоке сопротивляться после поражения. Церковь приложила к этому делу немало усилий — на каждой проповеди покоренному народу внушалось, что только смирение и страдание даруют путешествие в рай. Церковь не призывала ни к восстаниям, ни к сопротивлению, она сама посылала своих северо-восточных митрополитов в Орду за своими церковными ярлыками. Недаром позже многие церковные деятели с огромным стыдом признавали страницы такой русской истории. Государь всея завоеванной Руси — хан, великий владимирский князь — наместник хана, митрополит владимирский — наместник Бога, получивший утверждение в должности от хана. Чудесная картина, не правда ли?
Но почему в конце концов не Владимир стал центром северо-востока, а Москва? Тут тоже нужно искать причины не только в хорошем географическом положении этого городка, а в политике его князей, составе населения и роли церкви. Последняя причина была, по сути, наиважнейшей. «Над Москвою почиет благословение Церкви: туда переезжает митрополит Петр; святой муж своими руками приготовляет себе там могилу, долженствующую стать историческою святынею местности; строится другой храм Богородицы, и, вместо права, освященного стариною, вместо народного сознания, парализованного теперь произволом завоевания, берет верх и торжествует идея Божиего соизволения к успеху». Конечно, московский князь приложил немало усилий, чтобы этот митрополит Петр остался и умер в Москве, для этого митрополита долго и очень успешно привечали в будущей столице, для него там даже выстроили митрополичий городок, митрополит не знал отказа ни в чем, почему бы и не соблазниться мирскими благами? А кости его, то есть святые мощи, стали увеличивать значение Москвы, в конце концов она и победила.
Немалое значение имел и особый состав населения. «Заметим, однако, — пишет Костомаров, — что Москва, точно как Древний Рим, имела сбродное население и долго поддерживалась новыми приливами жителей с разных концов русского мира. В особенности это можно заметить в высшем слое народа — боярах и в то время многочисленных дружинах. Они получали от великих князей земли в Московской земле, следовательно, та же смесь населения касалась не только города, но и земли, которая тянула к нему непосредственно. При такой смеси различные старые начала, принесенные переселенцами из прежних мест жительства, сталкиваясь между собою на новоселье, естественно должны были произвести что-то новое, своеобразное, не похожее в особенности ни на что, из чего оно составилось. Новгородец, суздалец, полочанин, киевлянин, волынец приходили в Москву каждый со своими понятиями, с преданиями своей местной родины, сообщали их друг другу; но они уже переставали быть тем, чем были и у первого, и у второго, и у третьего, а стали тем, чем не были они у каждого из них в отдельности. Такое смешанное население всегда скорее показывает склонность к расширению своей территории, к приобретательности на чужой счет, к поглощению соседей, к хитрой политике, к завоеванию, и, положив зародыш у себя в тесной сфере, дает ему возрасти в более широкой — той сфере деятельности, которая возникнет впоследствии от расширения пределов». То есть смешение народа в Москве и помогло приказчикам хана московским князьям проводить излюбленную ими политику — расширять владения, укрепляться и порабощать. Ни о какой освободительной борьбе Москвы с ханами и речи нет. Все просто: за счет ханской силы Москва стала присоединять к себе чужие земли, а стоило присоединяемым «добровольно» возмутиться, то есть дать Москве военный отпор, это сопротивление Москве обрисовывалось в Орде как посягновение на власть самого хана, так что монголы с большой охотой давали Москве свои войска, чтобы этот хороший приказчик и дальше столь же рачительно управлял подведомственной территорией. Кто же хорошую собаку бьет плеткой? Для Москвы, для ее князей не казалось противоестественным даже то, что ханы стали исповедовать ислам, — все равно это были государи русские, пусть и иноверцы. И митрополиты ездили к ханам-мусульманам за своими ярлыками на управление Русской церковью! Конечно, на таких христиан ханы с исламом в голове могли смотреть только с добродушием…
Именно при ханах эта северо-восточная церковь приобрела огромную силу — власть и земли. С северо-восточной церковью происходило то же, что и с северо-восточными князьями, — она укреплялась. «С церковью, — делал вывод Костомаров, — случилось в великорусском мире обратное тому, что было в южнорусском. В южнорусском, хотя она имела нравственное могущество, но не довела своей силы до того, чтоб бездоказательно освящать успех факта; на востоке она необходимо, в лице своих представителей — духовных сановников, должна была сделаться органом верховного конечного суда; ибо для того, чтоб дело приняло характер Божиего соизволения, необходимо было признание его таким от тех, кто обладал правом решать это. Поэтому церковные власти на востоке стояли несравненно выше над массою и имели гораздо более возможности действовать самовластно».
Но эта власть церкви зависела не только от ханских милостей, но и от северо-восточных князей, князья, по правде-то, и приготовили церковь к тому, что она так легко научилась служить любому господину: «Духовенство поддерживало князей в их стремлении к единовластию; князья также ласкали духовенство и содействовали ему силою; но при каждом случае, когда духовная власть переставала идти рука об руку с единодержавною светскою, последняя сейчас давала почувствовать духовной власти, что светская необходима. Это взаимное противовесие вело так успешно к делу. Власть светская, подчинившись духовной, допустивши теократический принцип, не могла бы идти прямым путем, не могла бы приобретать освящения своим предприятиям; тогда родились бы сами собою права, которые бы ее связывали. Но коль скоро духовная пользовалась могуществом, которое, однако, всегда могла от нее отнять светская, тогда, для поддержания себя, духовная должна была идти рядом со светской и вести ее к той цели, какую избирает последняя».
Светская власть избрала для себя путь пресмыкания перед ханом, духовная с завидной легкостью последовала дурному примеру. И замечательная формулировка «нет власти кроме как от Бога» способствовала тому, что наше иго растянулось на 250 лет под монголами и на всю оставшуюся историю под всеми остальными деспотами. Церковь одобряла все, что совершала власть светская, какие бы формы беззакония поступки «государей» ни принимали. И в то же время, говорит Костомаров, если возникала оппозиция с церковной стороны, она тут же «государями» пресекалась: «Митрополит Филипп заплатил жизнью за обличение душегубств и кощунств того же Иоанна Грознаго; а царь Алексей Михайлович не затруднился пожертвовать любимцем Никоном, когда тот поднял слишком независимо голову, защищая самобытность и достоинство правителя Церкви. Зато при обоюдном согласии властей, когда как светская не требовала от духовной признания явно противного Церкви, так духовная не думала стать выше светской, Церковь фактически обладала всею жизнью — и политической и общественной, и власть была могущественна потому, что принимала посвящение от Церкви. Так-то философия великорусская, сознав необходимость общественного единства и практического пожертвования личностью, как условием всякого общего дела, доверила волю народа воле своих избранных, предоставила освящение успеха высшему выражению мудрости, и так дошла она в свое время до формулы: Бог да царь во всем! — знаменующей крайнее торжество господства общности над личностью». Сама северо-восточная церковная догматика резко отличается от южнорусской. Если там споры заходили, по существу, не о том, как веруешь, а о том, во что веруешь, то на северо-востоке они вертелись вокруг других вопросов — обрядов и формул, то есть внешней оболочки религии. Поэтому юг был толерантным к чужой вере, а северовосток выбрал другую позицию — нетерпимость.
В монгольские времена, когда митрополитам приходилось пресмыкаться перед завоевателями, а народ учили, что послушание — благо, этого еще так незаметно, но, как только уходит монгольская опасность и начинается великорусский период — эта нетерпимость ко всему чужому становится главной догмой православия.
«Образовалась нетерпимость к чужим верам, презрение к чужим народностям, высокомерное мнение о себе, — говорит Костомаров. — Все иностранцы, посещавшие Московщину в XV, XVI, XVII столетиях, одногласно говорят, что москвитяне презирают чужие веры и народности; сами цари, которые в этом отношении стояли впереди массы, омывали свои руки после прикосновения иноземных послов христианских вероисповеданий. Немцы, допущенные жить в Москве, подвергались презрению от русских; духовенство вопияло против общения с ними; патриарх, неосторожно благословивши их, требовал, чтоб они отличались порезче от православных наружным видом, чтоб вперед не получить нечаянно благословения. Латинская и лютерская, армянская и другая всякая вера, чуть только отличная от православной, считались у великоруссов проклятою. Русские московские считали себя единственным избранным народом в вере, и даже не вполне были расположены к единоверным народам — к грекам и малороссиянам: чуть только что-нибудь было несходно с их народностию, то заслуживало презрения, считалось ересью; на все не-свое они смотрели свысока. Образованию такого взгляда неизбежно способствовало татарское порабощение. Долгое унижение под властью чужеверцев и иноплеменников выражалось теперь высокомерием и унижением других. Освобожденный раб способнее всего отличаться надменностью». Но тут, пожалуй, историк немного отступил от правды. Освобожденный раб, поколениями воспитанный в рабстве, остается рабом. Не было бы монголов, московские князья нашли бы другой устрашающий фактор, чтобы создать из свободного населения покорные орудия для комфортабельной княжеской жизни. Они, собственно, начали это делать еще до монголов, во владимирский период истории.
Политика Москвы при Иване III и Василии Ивановиче 1462–1533
А московские князья для управления своими территориями избрали уже оптимальную политику: «это переселение жителей городов и даже целых волостей и размещение на покоренных землях военного сословия, долженствующего служить орудием ассимилирования местных народностей и сплочения частей воедино. Такую политику показала резко Москва при Иване III и Василии, его сыне, когда из Новгорода и его волости, из Пскова, из Вятки, из Рязани выводились жители и разводились по разным другим русским землям, а из других переводимы были служилые люди и получали земли, оставшиеся после тех, которые подверглись экспроприации». Таким образом легко ломались древние связи, которые обычно складываются, когда народ живет на своей собственной земле, ломались традиции, образовался особый народ — не имеющий исторической памяти. А таким народом управлять легко, он живет только по милости государя.
Но почему не Владимир, а Москва? Именно потому, что это было особенное место, не имеющее традиций. Владимир возник еще при другом праве, в нем, пусть и в смягченной форме, еще существовали — по Костомарову — вечевые и федеративные начала, но «теперь, под влиянием завоевания и развития в народном духе уничтожающих их противоположных начал, — первые задушены страхом вознесенной власти, вторые ослабели вслед за первыми. Князья все более и более переставали зависеть от избрания и не стали, вследствие этого, переходить с места на место; утверждались на одних местах, начали смотреть на себя как на владетелей, а не как на правителей, стали прикрепляться, так сказать, к земле и тем самым содействовать прикреплению народа к земле. Москва, порабощая их и подчиняя себе, тем самым возрождала идею общего отечества, только уже в другой форме, не в прежней федеративной, а в единодержавной. Так составилась монархия московская; так из нее образовалось государственное русское тело. Ее гражданственная стихия есть общинность, поглощение личности, так как в южнорусском элементе, как на юге, так и в Новгороде, развитие личности врывалось в общинное начало и не давало ему сформироваться… племя южнорусское имело отличительным своим характером перевес личной свободы, великорусское — перевес общинности.
По коренному понятию первых, связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их несогласию; вторые стремились установить необходимость и неразрывность раз установленной связи и самую причину установления отнести к Божией воле и, следовательно, изъять от человеческой критики. В одинаких стихиях общественной жизни первые усвоивали более дух, вторые стремились дать ему тело; в политической сфере первые способны были создавать внутри себя добровольные компании, связанные настолько, насколько к тому побуждала насущная необходимость, и прочные настолько, насколько существование их не мешало неизменному праву личной свободы; вторые стремились образовать прочное общинное тело на вековых началах, проникнутое единым духом. Первое вело к федерации, но не сумело вполне образовать ее; второе повело к единовластию и крепкому государству: довело до первого, создало второе. Первое оказалось много раз неспособным к единодержавной государственной жизни. В древности оно было господствующим на русском материке и, когда пришла неизбежная пора или погибнуть, или сплотиться, должно было невольно сойти со сцены и уступить первенство другому. В великорусском элементе есть что-то громадное, созидательное, дух стройности, сознание единства, господство практического рассудка, умеющего выстоять трудные обстоятельства, уловить время, когда следует действовать, и воспользоваться им насколько нужно…»
Вот и северорусские князья сумели уловить дух времени, воспользовались своим моментом — когда создавшая этот народ монгольская стихия отступила, они переняли главное ордынское достижение — единодержавие и создали государство… по образу и подобию ордынское, но с русским самовластцем во главе. Таковое устройство государства Костомаров рассматривал как противоестественное для южноруса и привычное для великоруса: «Все общество отдает свою судьбу олицетворению своей власти, тому лицу, которое поставляет над обществом Бог, и, следовательно, все обязано ему повиновением. Таким образом, все принадлежит ему безусловно, как наместнику Божию; отсюда понятие, что все Божье да царское. И пред царем, как и пред Богом, все равны. Но как Бог одного возвышает, награждает, а другого карает, унижает, так поступает и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это выражается прекрасно пословицею: воля Божья, суд царев. Отсюда народ безропотно сносил даже и то, что, казалось, превосходило меры человеческого терпения, как, например, душегубства Иоанна Грозного. Царь делал несправедливо, жестоко, но, тем не менее, он был орудием Божией воли. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит, противиться Богу: и грешно, и неполезно, потому что Бог пошлет еще худшие беды. Имея безусловную власть над обществом, царь есть государь, то есть полный владетель, собственник всего государства. Слово государь именно означало собственника, имеющего право безусловно, по своему усмотрению, распорядиться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Оттого-то древние новгородцы, воспитавшие себя под иными началами, различные притом от великорусов по народности, так взволновались, когда Иван III задумал изменить древний титул господина на титул государя. Понятие о господине выражало лицо, облеченное властью и уважением; господ могло быть много: и владыка был господин, и посадник — господин; но государь был лицо, о власти которого не могло быть и рассуждения: он был един, как един собственник вещи; Иван домогался быть государем в Новгороде, хотел заменить собою Великий Новгород, который был до того времени государем; так же точно, как в Великороссии великий князь заменил общественную волю всей нации. Будучи самодержавным творцом общественных условий, государь делал все и, между прочим, жаловал за службу себе землями. Таким образом, земля принадлежала, по первоначальному понятию, миру, то есть всему обществу; по передаче этого права — лицу государя, давалась от последнего в пользование отдельным лицам, которых угодно было государю возвысить и наделить. Мы говорим пользование, ибо в точном значении собственников не было. То, что давалось от царя, всегда могло быть отнято и отдано другому, что беспрестанно и случалось. Коль скоро образовалось отношение рабочих к такому землевладельцу, то землевладелец, естественным порядком, получил значение олицетворенного мира, так же как царь в значении олицетворенной нации. Крепостной человек соединял свою судьбу с достоинством господина: воля барина стала для него заменять собственную волю, точно так же, как там, где не было барина, эту собственную личную волю поглощал мир».
Мир — это понятие чисто северо-восточное, в южных землях был аналог — громада, но они не идентичны. Общинные отношения в Южной Руси начинали уже разваливаться, поэтому земли там принадлежали семьям, а не общине, на северо-востоке закрепощение пошло по пути попятного движения — снова к общине, так куда как удобнее управлять. Поэтому во времена Костомарова у крепостного крестьянина не было личной земельной собственности, вся земля принадлежала общине, этому искусственно созданному миру, вовсе не такому древнему русскому понятию, как это принято многими считать. Это было, если хотите, искусственное возвращение к «старине» еще Ярославовой Русской Правды, то есть страшной древности в период создания единодержавного северо-восточного государства. Таковая особенность и породила особо тяжелые условия крепостничества и такую его непонятную для цивилизованного мира длительность с отменой в 1861 году, да еще и неполной, экономически бессмысленной.
Так что великорусский народ с искусственно созданным для него миром, по сути, оказался в чудовищном рабстве. «В Южной Руси, — писал Костомаров, — которой историческая жизнь текла иначе, не составилось такого понятия о мире. Там прежние древние удельно-вечевые понятия продолжали развиваться и встретились с польскими, которые, в основе своей, имели много общего с первыми и если изменились, то вследствие западноевропейских понятий. Древнее право личной свободы не было поглощено перевесом общественного могущества, и понятие об общей поземельной собственности не выработалось. Польские идеи произвели в старорусских только тот переворот, что регулировали последние. Каждый земледелец был независимым собственником своего достояния; польское влияние только обезопасило его от произвола народной воли, и прежде выражавшегося самодействием общества в смысле соединения свободных личностей, и облекло его владение de facto правом. Таким образом, оно возвысило богатых и влиятельных, образовало высший класс, а массу бедного народа повергло в порабощение. Но там магнат владелец не представлял собою выражения царской, а чрез нее и барской воли; он владел по праву; в переводе на более простой язык — право это выражало силу, торжество обстоятельств и давность происхождения. Там крестьянин не мог дать своему господину никакого значения священной воли, ибо он отвлеченного права не понимал, потому что сам им пользовался, а олицетворения он не видал, ибо его господин был свободный человек. Естественно, и раб, при первой возможности, желал сделаться свободным; тогда как в Великороссии он не мог этого желать, ибо находил своего господина зависевшим от другой высшей воли, так же как он сам зависел от него.
У южнорусов редко были случаи, чтоб крепостной был искренно расположен к своему господину, чтоб так был связан с ним бескорыстно, будто сыновней, любовью, как это нередко мы видели в мире отношений господ к крестьянам и слугам в Великороссии. У великороссиян встречаются примеры трогательной привязанности такого рода. Крепостной человек, слуга, раб нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое; радуется, когда честолюбивый барин его получает почет». Неудивительно, что и особенности правлений уже русских государей (не ханов) точно соответствовали рабскому сознанию воспитанного поколениями северо-восточных князей народа, не столь важно, крестьянин это был, дворянин, купец или вельможа. В единодержавном Русском государстве все равно не имелось граждан, то есть свободных людей, все они были крепостные рабы своего государя. А уж хорошие или дурные им доставались государи — дело другое. Чаще — дурные.
Московские нравы
К началу царствования одного из самых жестоких русских самодержцев, ведущих род от Рюрика, Ивана Васильевича Грозного, к московским землям были присоединены все возможные из бывших самостоятельных: при Иване Третьем — Новгород, при Василии — Псков и Рязань; Москва распространилась на эти территории, жители которых, представляющие опасность, были расселены, а на их место перевезены жители московские, к рабству привычные. Так первые цари сразу же сломали возможность противостояния. Эпоха народоправства должна была отойти в прошлое. Настала другая эпоха — единогласного подчинения электо… извините, народа. Но народ-то видел, что собой представляют московские бояре и московская церковь. Так что первая при самодержавном режиме оппозиция возникла уже не в городах, не среди вечевого самоуправления, а в среде наиболее отдаленной от всего мирского — в монастырях и Церкви. Хотя русская московская церковь и служила целиком и полностью своим государям, тем не менее Церковь тоже состоит из людей, причем в те времена — людей книжных, то есть живущих по Писанию, и некоторые из таких церковных людей сравнивали слова своего Иисуса с тем, что видели вокруг, и сравнение было не в пользу Москвы. Внимательно читая древние тексты, они неожиданно осознали, что то, чему учил Иисус, и то, что творят церковные и мирские сановники, — это два разных учения. Желая, чтобы мирская и церковная жизнь стала воистину христианской, они не понимали, какую беду призывают на свою голову.
Обличитель неправды Нил Сорский 1433–1508
Нил Сорский (в миру Николай Майков) (1433, Москва, — 1508). Нил Сорский принял участие в двух важнейших вопросах своего времени: об отношении к «новгородским еретикам» и о монастырских имениях. Ревностным Борцом за идею Нила Сорского выступил его Ближайший «ученик», инок Вассиан Патрикеев (Вассиан Патрикеев Косой, до монашества — князь Василий Иванович Патрикеев)
Еще при Иване Васильевиче, деде Ивана Грозного, в Белозерском крае появился обличитель неправды Нил Сорский. Этот человек, мечтавший об иноческих подвигах, оказался в Кирилло-Белозерском монастыре, но не смог там ужиться: нравы монастырские, от которых он ожидал строгости и чистоты, оказались куда как более обращены в мирскую сторону, так что Нил ушел из монастыря и поселился в скиту. Там он и начал великий труд — сочинение обличительных текстов, которые, по его мысли, должны были заставить иноков вспомнить о предназначении церковного служения.
К Нилу потянулись люди, настроенные соответствующим образом, скоро из отшельнического жилья Нила образовался небольшой монастырь, своего рода монашеское товарищество, которое строилось совсем на иных принципах, чем все существующие на той Руси монастыри. До той поры такие скитские обители в Московии были неизвестны. Хотя происхождение их терялось в глубочайшей древности. Нил считал, что мир — это обитель греха, мир его практически не интересовал. Чистоту веры и души можно было, по его мнению, обрести только полностью отойдя от мирских проблем. «Мир, — говорил он, — ласкает нас сладкими вещами, после которых бывает горько. Блага мира только кажутся благами, а внутри исполнены зла. Те, которые искали в мире наслаждения, все потеряли: богатство, честь, слава — все минет, все опадет как цвет. Того Бог возлюбил, кого изъял от мира». Он верил, что полностью проникнуть в Божий промысел и стать ближе к Богу можно, только путем постоянного труда переработав свою душу, возвысив ее от низменных желаний и прельщений к полному христианскому идеалу. Размышляя по этому поводу, он вспоминал слова святого Варсонофия, что если внутреннее делание (то есть переработка души) не помогает человеку стать лучше и чище, то не поможет ему никакое внешнее делание — то самое, что так любили русские цари: раздача милостыни, хождение по храмам, изнурение своего тела постом и молитвой. «Напрасно, — объяснял он, — думают, что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, метание, бдение, псалмопение, на земле лежание, — он только согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Чтение молитв и всякое прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания». Это внутреннее делание, по сути, предлагали и тогдашние алхимики, но многие из них, не понимая предмета, искали свой философский камень в посторонних предметах, пытаясь заниматься не усовершенствованием своей души, а усовершенствованием мирских материалов, которые к душе имеют ровно столько же отношения, как гранит к мысли. В результате алхимики сосредоточили свои усилия на получении золота, наиболее пагубного металла для развития внутреннего чистого человека. Монахи, которые философского камня не искали, тоже отклонились, по его мнению, от правильно пути, сосредоточившись целиком на внешней, обрядовой церковной догматике. «Тот не только не погубляет своего правила, кто оставит всякие псалмопения, каноны и тропари и все свое внимание обращает на умственную молитву; тот еще более умножает его», — пояснял Нил. Умственная молитва — достояние еще более глубокого временного пласта, первыми среди христиан греческой веры ее стали пропагандировать исихасты, тогда был еще жив Константинополь. Умственная молитва вообще предполагала, что не столь важно, где человек предается молитве — в храме или в уединении, при иконах или без оных, важен факт соединения человека с Богом, прямой разговор со своим создателем. И неважно, соблюдает при этом верующий строгий пост (обязательное условие в тогдашнем религиозном контексте), можно говорить с Богом, не предаваясь строгому посту, если твоя душа чиста и открыта. «Лучше, — говорил он, — с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если человек замечает, что та или другая пища, утучняя его тело, возбуждает в нем дурные наклонности, воспитывает в нем сластолюбие, он должен удаляться от нее; а если тело его требует поддержки, то он должен принимать всякую пищу и питье, как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны… Но безмерный пост и безмерное воздержание приносят еще более вреда, чем ядение до сытости». На вопрос, что же необходимо для достижения заветного состояния чистоты, он отвечал просто: избавиться от восьми человеческих грехов — чревообъедения, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия и гордости. Только полностью очищенный от мирской суеты человек достигнет Царствия Небесного. Вся беда от дурных помыслов. Сначала этот помысел незаметно вкрадывается в душу, потом человек незаметно к нему склоняется, потом начинает воплощать дурные мысли, а затем эти мысли полностью им овладевают и начинают им управлять.
Поскольку немногие люди готовы отказаться от владеющих ими желаний, то и для уединенной жизни в скиту годятся немногие. Вот почему он считал, что в монастырях, где люди вынуждены жить в отрыве от мира, не только не достигается искомый идеал, напротив, он извращается. Вдали от мира монахи лелеют свои дурные помыслы, взращивают их и становятся опасны для простого мирянина, который такими сложными вопросами не задается. «Аспид ядовитый и лютый зверь, — говорил Нил, — укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему, но он не делается добронравным оттого, что в пустынном и безлюдном месте не допускают его делать зла: как только придет время, он тотчас выльет свой сокровенный яд и покажет свою злобу. Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет, но злобу свою изливает над бездушными вещами: над тростью, зачем она толста или тонка, на тупое орудие, на кремень, не скоро дающий искру. Уединение требует ангельского жития, а неискусных убивает». Скитское общежитие, которое создал сам Нил, разительно отличалось от быта монастырей: собравшиеся ради спасения своей души иноки своим трудом добывали себе хлеб и только в крайнем случае принимали подаяние. Это была жизнь подвижников. Скитская церковь была крайне бедной: в ней не было ни золотых или серебряных сосудов или украшений, только бедные обычные вещи. Даже камень для строительства церкви он считал слишком богатым, его церковка была самой простой — деревянной.
Но Иван Васильевич, который на словах очень уважал Нила, легко сумел обвести старца вокруг пальца. Его проповедь нестяжания он использовал для захвата монастырских богатств. Естественно, когда этот жестокий вопрос был вынесен на церковный собор, присутствовавшие там настоятели монастырей и архиереи (их богатства тоже следовали упразднению) очень возмутились. На соборе они стали припоминать, что монастыри раздают милостыню, содержат нищих, поминают умерших, им для полноценной работы нужны свечки, ладан и мука для просфор — как не быть монастырским землевладениям? И вообще — так повелось еще при первых князьях. Иван, побоявшись церковной оппозиции, вопрос замял, тут его жадность вынуждена была отступить перед сплочением Церкви. Нил, ничего в царской политике не понимающий, возмутился. Он ополчился против Церкви, не желающей быть нищей. Так что в Московии появились жесткие и находившие отклик у простолюдинов сочинения, в которых Нил обличал монахов. Он рассказывал сатирически, как монахи требуют милостыни, а игумены выпрашивают крупные вклады, обещая настоящим злодеям Царствие Небесное.
Инок Вассиан 1470–1532
После смерти Нила его обличения продолжил ученик — насильно постриженный царем Иваном боярин Василий Косой, в иночестве Вассиан. Как писал Костомаров, «Вассиан за исходную точку зрения на монашеское благочестие принимает то правило, что для разумеющих истину благочестие познается не в церковном пении, не в быстром чтении, не в седальнях, тропарях и гласах, а в умилении молящихся, в изучении божественных пророков, евангелистов, апостолов, творений святых отцов и в согласном с учением Христа образом жизни. Обладание селами влечет монахов к порокам, противным духу евангельскому».
Вассиан Патрикеев (ок. 1470–1532), по прозванию Косой (в миру — Василий Иванович Патрикеев), — князь, монах, публицист, один из лидеров «нестяжателей». Происходил из знатного литовского рода Гедиминовичей. участвовал в войне с Литвой, был воеводой во время русско-шведском войны 1495–1497 гг., участвовал в высшем государственном суде. В династической борьве в конце XV в. отец и сын Патрикеевы поддержали Дмитрия Ивановича — внука. За это в 1499 г. оба попали в опалу и выли пострижены в монахи
«Входя в монастырь, — обличал Вассиан, — мы не перестаем всяким образом присваивать себе чужое имущество. Вместо того чтобы питаться от своего рукоделия и труда, мы шатаемся по городам и заглядываем в руки богачей, раболепно угождаем им, чтоб выпросить у них село или деревеньку, серебро или какую-нибудь скотинку. Господь повелел раздавать неимущим, а мы, побеждаемые сребролюбием и алчностию, оскорбляем различными способами убогих братий наших, живущих в селах, налагаем на них лихву на лихву, без милосердия отнимаем у них имущество, забираем у поселянина коровку или лошадку, истязуем братий наших бичами или прогоняем их с женами и детьми из наших владений, а иногда предаем княжеской власти на конечное разорение. Иноки, уже поседелые, шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги, даваемые в лихву, или с соседями за межи сел и мест, тогда как апостол Павел укорял коринфян, людей мирских, а не иноков, за то, что они ведут между собой тяжбы, поучал их, что лучше было бы им самим сносить обиды и лишения, чем причинять обиды и лишения своим братьям. Вы говорите, что благоверные князья дали вклады в монастыри ради спасения душ своих и памяти родителей и что, давши, сами они уже не могут взять обратно данное из рук Божиих. Но какая польза может быть благочестивым князьям, принесшим Богу дар, когда вы неправедно устраиваете их приношение: часть годовых сборов с ваших имений превращаете в деньги и отдаете в рост, а часть сберегаете для того, чтобы во времена скудости земных произведений продать по высокой цене? Сами богатеете, обжираетесь, а работающие вам крестьяне, братья ваши, живут в последней нищете, не в силах удовлетворить вас тягостной службой, изнемогают от лихвы вашей и изгоняются вами из сел ваших, нагие и избитые! Хорошее воздаяние даете вы благочестивым князьям, принесшим дар Богу! Хорошо исполняете вы заповедь Христову не заботиться об утреннем дне!» Его оппонент Иосиф Волоцкий, чтобы не вызывать кривотолков, тут же распорядился вывести из своего монастыря управление и расправу над монастырскими служащими, это только подлило масла в огонь.
Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин) родился в семье вотчинника, владельца села Язвище Волоколамского княжества. Точная дата рождения не установлена, но большинство источников указывает 1439–1440 гг. 13 февраля 1460 г. постригся в иноки с именем Иосиф. умер на 76-м году жизни 9 октября 1515 г.
Вассиан тут же откликнулся: «Отвергаюсь страха Божия и своего спасения, повелевают нещадно мучить и истязать неотдающих монастырские долги, только не внутри монастыря, а где-нибудь за стенами, перед воротами!.. По-ихнему казнить христианина вне монастыря не грех!» Иосифу оставалось только умолкнуть. Но на этом процесс разоблачения не остановился. Вассиан обратил свое внимание на богатство церковных иерархов: «Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах, о христианах же, братиях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения; дают бедным и богатым в лихву церковное серебро, а если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку — а до конца его разорят. Вот сколько нарядных батогоносных слуг стоят перед ними, готовые на мановение владык своих! Они бьют, мучат и всячески терзают священников и мирян, ищущих суда перед владыками». Само собой, такое обличение не могло понравиться тем, у кого была действительная церковная власть!
Но Вассиан не сдавался: он упорно клеймил сановников Церкви за излишнее богатство, призывал сделать монастыри своего рода духовными трудовыми коммунами, отобрать церковные имения и все лишние деньги раздать тем, кто в них больше нуждается, — калекам, сиротам, вдовам и пленным, которых никто не собирался выкупать, потому что на это не было средств. Он даже нашел древний свод церковных правил, переложил его на современный ему лад и преподнес Василию Ивановичу. Но тот почему-то не спешил руководствоваться этой книгой, где и вправду ничего не было о церковных владениях. Василий просто боялся начать церковную реформу: настроить против себя все духовенство и врагу не пожелаешь. Этого ему было не нужно, тем более что на очереди встал очень сложный вопрос о разводе с бесплодной женой. Иосифляне этот развод одобрили и даже обосновали. Но когда с тем же вопросом Василий обратился к Вассиану, тот ответил в другом ключе: «Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в Священном Писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Этим было все сказано, причем жестко. Царь сразу не отомстил, но все запомнил. Когда у него от нового брака на греческой царевне Зое (Софье) родился сын Иван, Вассиан тут же был предан церковному суду. Само собой, судили его как раз иосифляне.
«Ты, — говорил митрополит, — в своих сотворениях написал, что в правилах есть противное Евангелию, Апостолу и святых отцов жительству; ты писал и говорил, что правила писаны от дьявола, а не от Святого Духа, называл правило — кривилом, а чудотворцев — смутотворцами за то, что они дозволяли монастырям владеть селами и людьми».
«Я, — отвечал Вассиан, — писал о селах: в Евангелии не велено держать сел монастырям».
«Ты, — говорил митрополит, — оболгал тем Божественное Писание и священные правила».
«Я писал себе, на воспоминание своей душе, — отвечал Вассиан, — но тех не похваливаю, что села держат».
Понимая, что на обличениях против монастырских владений далеко не уедешь, митрополит искал ошибки Вассиана в толковании текстов. Он их нашел. За эти ошибки, тут же поименованные ересью, Вассиан отправился в заточение в Иосифо-Волоколамский монастырь — то есть как раз к тем, кого он так страстно обличал. По мнению князя Курбского, настоятелю монастыря было велено Вассиана уморить. Его и уморили. Заказ на смерть исходил от Василия Ивановича.
Страдания Максима Грека 1470–1556
Максим Грек (в миру Триволис Михаил). Дата рождения: около 1470 г. Максим Грек выл послан в Италию, чтобы изучить древние языки, подружился с Олдусом Манутиусом и Константином Ласкари, увлекся идеями Савонаролы. В 1515 г. великий князь Василий III попросил прислать переводчика духовных книг. Монахи решили послать энергичного Максима Грека. Собор 1525 г. обвинил Максима Грека в нонконформизме и ереси, основанной на его взглядах и переводах духовных книг. Дата смерти: 21.01.1556 г.
Так же печально сложилась в той Москве и судьба вовсе пришлого, чужого ей человека, не подданного русского царя — монаха Максима Грека. Максим был выписан русским царем для приведения в порядок старинных церковных текстов. Он был искренне верующим, очень честным, но увлекающимся человеком. В свое время, пребывая в Италии, он слушал проповеди Савонаролы, влюбился в этого человека и очень тяжело переживал его страшный конец на костре инквизиции. Тогдашние итальянские нравы были ему несимпатичны, не столько из-за того, что вера там была латинская, а из-за того, что наступила эпоха Возрождения и античные тексты стали для европейцев значить больше, чем церковные. Неудивительно, что в современном ему Риме он видел лишь разврат, неверие и обилие прочих пороков. На его родине в Греции и вовсе было худо: там хозяевами жизни стали турки. Так что, когда потребовался ученый человек, чтобы ехать в Московию, Максим согласился. Он надеялся, что именно там, на неведомом ему севере, греческая вера осталась в чистоте. Однако, поближе познакомившись с бытом и русской действительностью, Максим был потрясен. Искренний, открытый, не умеющий солгать устами, он стал обличать то, что видел, и здесь — в Москве.
Начал он с обличения некоторых отреченных (то есть запрещенных Церковью) книг, которые ходили по стране, а кончил обличением того режима, который имел несчастье наблюдать. Он был потрясен, вдруг осознав, что за глушь эта страна, в которую он попал. Он вдруг столкнулся с массой суеверий, которые разделяли не только мирские простолюдины, но и вполне облеченные властью люди. Тогда, например, по Руси ходила вера в то, что умершие насильственным путем и утопленники вызывают неурожаи, так что могилы раскапывались и кости выбрасывали в поле, верили также в сновидения, приметы, гадания и ворожбу. «Наши властители и судьи, — писал он, — отринувши праведное Божие повеление, не внимают свидетельству целого города против обидчика, а приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным, и, кто у них победит, тот и прав; решают оружием тяжбу: обе стороны выбирают хорошего драчуна-полевщика; обидчик находит еще чародея и ворожея, который бы мог пособить его полевщику… О беспримерное беззаконие и неправда! И у неверных мы не слыхали и не видали такого безумного обычая». Но больше всего Максим был в ужасе от русского духовенства. «Кто может достойно оплакать мрак, постигший род наш! — восклицал он. — Нечестивые ходят как скимны рыкающие и удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри бесчувственнее камней; они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти… Нет ни одного, кто бы прилежно поучал и вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обличал противящихся слову благочестия, запрещал бесстыдным, обращал уклонявшихся от истины и честного образа христианской жизни. Никто по смиренномудрию не откажется от священнического сана, никто и не ищет его по божественной ревности, чтобы исправлять беззаконных и бесчинствующих людей; напротив того, все готовы купить его за большие дары, чтобы прожить в почете, в удовольствии».
О монастырях и Русской церкви он писал так: «Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретенный собственными трудами, а не питайся кровью убогих, среброрезоимством… Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу; ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, противясь божественному закону, посылаешь на человекогубительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишь вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуясь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережешь их от осквернения лихоимством. За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему тебя! Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Молитвы твои и черные ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божьи… Аты, треокаянная, напиваясь кровью убогих, приобретая в изобилии все тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, разъезжаешь по городам на породистых конях, с толпой людей, из которых одни следуют за тобой сзади, а другие впереди и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и черной власяницей, когда в то же время собираешь неправильным лихоимством жидовское богатство, наполняешь свои амбары съестными запасами и дорогими напитками, накопляешь в своих селах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена голода?»
В другом сочинении, уже арестованный после пожара в Твери, он обличал своих тюремщиков и из-под замка: «Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того чтобы быть образцами честного жития, — вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете; во дни божественных праздников моих, вместо того чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству… Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям».
Но, в отличие от Нила и Вассиана, следуя по стопам своего кумира Савонаролы, Максим сказал все, что думает о правосудии и власти в Москве: «Страсть иудейского сребролюбия и лихоимания до такой степени овладела судьями и начальниками, посылаемыми от благоверных царей по городам, что они приказывают слугам своим вымышлять разные вины на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи; или: притащат труп человека и бросят на улице, а потом, как будто отмщая за убитого, начнут истязать не только одну улицу, но всю часть города по поводу этого убийства и собирают себе деньги таким неправедным и богомерзким способом. Слышан ли когда-нибудь у неверных язычников такой гнусный способ лихоимания? Разжигаемые неистовством несытого сребролюбия, они обижают, лихоимствуют: расхищают имущества вдовиц и сирот, вымышляют всякие обвинения на невинных, не боятся Бога, страшного мстителя обиженных, не срамятся людей, окрест их живущих, ляхов и немцев, которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими с правосудием и человеколюбием». Это был плевок в физиономию Москвы. Самого московского государя он рисовал в образе ненасытного стяжателя, мздоимца и сребролюбца, и вряд ли такой портрет мог государю понравиться. Дальше — больше.
В следующем своем обличительном сочинении Максим изобразил Русское государство в виде женщины, сидящей на развилке дорог, эта женщина вся в слезах и печали, а вокруг нее ходят хищные звери и летают вороны. Максим сперва ее не узнает и спрашивает, кто же она такая и почему так страдает. На что женщина говорит ему: «Мою горькую судьбу нельзя передать словами, и люди не исцелят ее; не спрашивай, не будет тебе пользы: если услышишь, только навлечешь на себя беду». Максим просит открыть ему тайну имени, и тогда она признается, что зовут ее Василия, или государство. «Меня, — рыдает она, — дщерь Царя и Создателя, стараются подчинить люди, которые все славолюбцы и властолюбцы; и слишком мало таких, которые были бы моими рачителями и украсителями, которые устраивали бы, сообразно с волей Отца моего, судьбу живущих на земле людей; но большая часть их, одолеваемая сребролюбием и лихоимством, мучат своих подданных всякими истязаниями, денежными поборами, отяготительными постройками пышных домов, вовсе ненужных к утверждению их державы и только служащих к угоде и веселью их развратных душ… Нет более мудрых царей и ревнителей Отца моего Небесного. Все только живут для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга враждебно ополчаются, друг друга обижают и льют кровь верных народов, а о Церкви Христа Спасителя, терзаемой и оскорбляемой от неверных, нимало не пекутся! Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороге, а меня — бедной вдове, окруженной дикими зверями: более всего меня ввергает в крайнюю печаль то, что некому заступиться за меня по Божьей ревности и вразумить моих бесчинствующих обручников. Нет великого Самуила, ополчившегося против преступного Саула; нет Нафана, исцелившего остроумной притчей царя Давида, нет Амвросия чудного, не убоявшегося царственной высоты Феодосия: нет Василия Великого, мудрым поучением ужаснувшего гонителя Валента; нет Иоанна Златоуста, изобличившего корыстолюбивую Евдоксию за горячие слезы бедной вдовицы. И вот, подобно вдовствующей жене, сижу я на пустынном распутье, лишенная поборников и ревнителей. О прохожий, безгодна и плачевна судьба моя».
Вполне понятно, что после Василии, обличающей неуважающих ее царей, Максиму на свободе было жить заказано. Василий это обличение принял близко к сердцу. Так родилось на свет политическое дело Максима Грека, Ивана Беклемешева-Берсеня и Федора Жареного. Двое последних были в царской опале, так что Максима присоединить к ним было очень мудрым решением. Начались допросы, на них сам Максим вел себя вовсе не геройским образом, он запираться не стал и полностью донес суть своих уединенных бесед с Берсенем: тот и о Софье отзывался нехорошо, и о самом государе, и о войнах, которые тот ведет вместо того, чтобы стремиться к христианской любви и миру. О своих же размышлениях он сказал так: «То, что у меня на сердце, о том я ни от кого не слыхал и ни с кем не говаривал; а только держал себе в сердце такую думу: идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют! Я молил Бога за государя и просил, чтобы Бог положил ему на сердце и показал над ним свою милость». Само собой, показания Максима оказались весьма ценными для судей: Берсеня и Федора Жареного после таких Максимовых слов пытали и затем казнили, а сам Максим попал в дальнейшую разработку: теперь его уже обвинили в связях с турецким послом и желании натравить турок на Москву, были ему припомнены слова, что Василий — гонитель и мучитель, который «предал землю свою татарскому хану на расхищение», и что Грек предсказывал, «если на Москву пойдут турки, то московский государь из трусости обяжется или платить дань, или убежит».
Не удовольствовавшись мирским судом, Василий отдал его духовному суду, после чего несчастный попал все в тот же Иосифо-Волоколамский монастырь в монахи. И хотя Максиму было запрещено переписываться хоть с кем-то, он все равно строгие правила нарушал. Так что состоялся еще один суд, теперь Максима обвиняли прямо — в ереси. И даже не просто в ереси — а в колдовстве, будто бы он ворожил на государя, чтобы свести того со света. «Если в этом суде было что-нибудь справедливого, — писал Костомаров, — то разве то, что Максим действительно укорял монастыри в любостяжании, порицал русское духовенство, выбросил из Символа Веры выражение „истинного" о Св. Духе (чего действительно не было в греческом подлиннике, хотя Максим в этом на первый раз и заперся от страха), и, наконец, то, что Максим находил нужным, чтобы русские митрополиты ставились с патриаршего благословения. По поводу последнего вопроса Максим объяснил: „Я спрашивал, зачем митрополиты русские не ставятся по-прежнему патриархами? Мне сказали, что патриарх дал благословенную грамоту на то, чтоб русский митрополит ставился по избранию своих епископов, но я этой грамоты не видал". И здесь Максим был опять-таки прав. Несмотря на сознание своей правоты, Максим думал покорностью смягчить свою судьбу; он, по собственному выражению, „падал трижды ниц перед собором" и признавал себя виновным, но не более как в „неких малых описях". Самоунижение не помогло ему. Его отослали в оковах в новое заточение, в тверской Отрочь-монастырь. Несчастный узник находился там двадцать два года». Он просил снисхождения, писал к сменявшим друг друга боярам, писал к подросшему, а потом и возмужавшему новому царю Ивану, но все было без толку. В 1533 году его перевели из тверского монастыря в Троицкую лавру, там этот греческий монашек и умер, так и не увидев своего Афонского монастыря, куда так рвался вернуться. Почему? За что? Да просто по самой примитивной причине: а вдруг начнет в своем Афоне рассказывать о темных сторонах московской жизни? Слишком много успел увидеть, почувствовать и понять. Его не сожгли, как Савонаролу, на костре, его просто отправили в пожизненное заключение.
Московское общество XVII века
Максим как иностранец даже не предполагал, что окажется в своем рабском состоянии, но страна, в которую его занесла судьба, была просто пропитана духом рабства.
В своем исследовании домашнего быта и нравов Московского государства в XVI–XVII веках Костомаров особо касается признаков этого духа рабства, на котором и строилось все русское общество от верха до самого низа. Что поражало иностранцев, если им удавалось заглянуть в тайны русской жизни, так это какое-то удивительное сочетание страшной нищеты и непомерного богатства, истасканных и драных одежд даже у богатых людей в повседневной жизни и изобилие дорогих нарядов и украшений, если приходилось встречать иностранное посольство, страшной угодливости и уничижения перед вышестоящими людьми и грубости со стоящими на ступень ниже.
«В распорядках домашнего быта у домохозяев, — писал историк, — соблюдались такие же обычаи, как в царской придворной жизни: главный хозяин в своем дворе играл роль государя и в самом деле назывался государем: слово это означало домовладыку; другие члены семейства находились у него в таком же отношении, как родственники царя; слуги были то же, что служилые у царя, и потому-то все, служащие царю, начиная от бояр до последних ратных людей, так как и слуги частного домохозяина, назывались холопами.
Господин, как царь, окружал себя церемониями; например, когда он ложился спать, то один из слуг стоял у дверей комнаты и охранял его особу. Господин награждал слуг и оказывал им свое благоволение, точно так же, как поступал царь со своими служилыми: жаловал им шубы и кафтаны со своего плеча или лошадей и скотину, посылал им от своего стола подачу, что означало милость. То же делала госпожа с женщинами: одних примолвляла, то есть награждала ласковым словом, других дарила или посылала им подачу со своего стола. При дворе частных домохозяев, как и при дворе царском, сохранялся обычай отличать заслуги и достоинство слуг большим количеством пищи. При огромном количестве слуг во дворе богатого господина существовали приказы, такие точно, как в царском управлении государством, под главным контролем ключника и дворецкого…
Прислуга вообще разделялась, как служилые царские люди, на статьи: большую, среднюю и меньшую. Принадлежавшие к большей статье получали большее содержание; некоторые получали сверх одежды денежное жалованье от двух до десяти рублей в год, другие же одежду, некоторые одно содержание… По большей части, прислуга содержалась дурно, даже и там, где хозяин имел благие намерения в отношении своей дворни, потому что ключники и дворецкие, выбранные господином из них же, заведуя их содержанием, старались половину положить в свой карман. Во многих боярских домах многочисленную дворню кормили дурно испеченным хлебом и тухлою рыбою, мясо редко они видели, и сам квас давался им только по праздникам. Голодные и оборванные и при этом ничем не занятые, они шатались по городу, братались с нищими, просили милостыни и часто по ночам нападали на прохожих с топорами и ножами или запускали в голову им кистени, производили пожары, чтоб во время суматохи расхищать чужое достояние. Господа смотрели на такие поступки своих рабов сквозь пальцы…
Нередко случалось, что господин насиловал своих рабынь, не обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось, что убивал до смерти людей из своей дворни, все ему сходило с рук. Сами слуги не имели понятия, чтоб могло быть иначе, и не оскорблялись побоями и увечьями: за всяким тычком не угоняешься, гласит пословица; рабу все равно было, справедливо или несправедливо его били: господин сыщет вину, коли захочет ударить, говорили они. Те слуги, которые не составляли достояния господ, кои присуждены были к работе за деньги или же отдавши себя во временную кабалу, не только не пользовались особенными льготами от безусловной воли господ, но даже подвергались более других побоям и всякого рода стеснениям. У русских было понятие, что служить следует хорошо тогда только, когда к этому побуждает страх, — понятие общее у всех классов, ибо и знатный господин служил верою и правдою царю, потому что боялся побоев; нравственное убеждение вымыслило пословицу: за битого двух небитых дают. Самые милосердные господа должны были прибегать к палкам, чтобы заставить слуг хорошо исправлять их обязанности: без того слуги стали бы служить скверно. Произвол господина удерживался только тем, что слуги могли от него разбежаться, притом обокравши его…
Русские не ценили свободы и охотно шли в холопы. В XVII веке иные отдавали себя рубля за три на целую жизнь. Получив деньги, новый холоп обыкновенно пропивал их и проматывал и потом оставался служить хозяину до смерти. Иные же, соблазнившись деньгами, продавали себя с женами, с детьми и со всем потомством. Иногда же бравшие деньги закладывали заимодавцу сыновей и дочерей, и дети жили в неволе за родителей. Были и такие, которые поступали в холопы насильно: еще до воспрещения перехода крестьянам помещик нередко обращал их в холопов… Раб в полном нравственном смысле этого слова, русский холоп готов был на все отважиться, все терпеть за своего господина и в то же время готов был обмануть его и даже погубить…
Очень часто холопы обкрадывали господ и убегали; иные молодцы тем и промышляли, что, давши на себя кабалы, проживали несколько времени у тех, кому их давали, потом обкрадывали своих хозяев, убегали от них, приставали таким образом к другим, к третьим. Правительство приказывало господам не принимать никого в холопы без отпускных, но этого приказания не все слушались; притом же многие молодцы являлись с нарядными (фальшивыми) отпускными. Нередко тем дело не оканчивалось, что кабальный обкрадет хозяина да уйдет от него; удальцы сталкивались с подобными себе приятелями, поджигали дома и дворы своих господ, иногда убивали или сожигали их самих с женами и детьми, а потом бежали на Дон или на Волгу. Когда помещик отправлялся на войну и оставлял управление своего дома старикам и женщинам, тут своевольство дворни не находило пределов; часто, воротившись на родину, помещик их находил весь свой дом в разорении и запустении…
Сами бояре и знатные люди не так были богаты, как то казалось. Для них не было никакого ручательства против произвола. Грозный у многих богатых вельмож отнимал родовые имения, чтоб искоренить в них чувство предковского права, и взамен давал поместья в отдаленных провинциях, где владельцы не могли уже получать прежних доходов. Кроме воли царя, всемогущей, как воля Неба, всегда существовали обстоятельства, неблагоприятные для упрочения состояния. Дворяне и дети боярские беспрестанно жаловались на тягость службы и разорения своих имений…
Интерес казенный, или царский, поглощал все интересы». И это лишь мужская часть общества. Женщина благодаря особым установкам Православной московской церкви вообще и человеком-то не считалась. Как говорил историк, по русским законам тогдашнего времени, «порожденным византийским аскетизмом и глубокою татарскою ревностью», с женщиной нельзя было даже затеять безобидный разговор — с вещью ведь не говорят, а жена при муже была своего рода вещью, рабыней, пусть даже знатного происхождения. «Что есть жена? — вопрошало одно старинное русское сочинение. — Сеть утворена прельщающи человека во властех, светлым лицем убо и высокими очима намизающи, ногама играющи, делы убивающи, многы бы уязвивши низложи, темже в доброти женстей мнози прельщаются и от того любы яко огнь возгорается…
Что есть жена? святым обложница, покоище змиино, диавол увет, без увета болезнь, поднечающая сковрада, спасаемым соблазн, безисцельная злоба, купница бесовская».
С таким добрым отношением к жене неудивительно, что ее жизнь становилась совершенно рабской, причем это рабство начиналось еще в самые юные годы, в отцовской семье, и, чем знатнее был род, тем мучительнее была там жизнь девочки, а потом девушки: ей оставалось только плакать над вышивкой в златоверхих теремах и ждать избавления от неволи — замужества, только это оказывалась еще большая неволя. Жена не имела права буквально ни на что — ни на ведение хозяйства (хоть какое-то развлечение!), ни на прогулки (она была заперта в женской половине дома, как у восточных народов в гареме), ни на общение с другими людьми, ни на воспитание собственных детей, ни даже на их кормление грудью (детей тут же отдавали кормилицам), ни даже на то, чтобы поесть, когда ее хозяина нет дома. А хозяину наставлениями Церкви вменялось в обязанность систематически «учить» свою жену, то есть бить. И избиения были такие жестокие, что часто доводили эту женскую половину семьи до смерти или увечий, почему «гуманный» русский «Домострой» советовал мужьям «учить» жену так, чтобы хотя бы не убивать и не калечить, но самого «учения» никак не отменял! По этому человеколюбивому документу не следовало бить жену кулаком по лицу или глазам, а также железными или деревянными предметами, как лучшее средство женского воспитания предлагалась плетка или розги… Это называлось на православном московском языке «держать жену в покорности», это чудесное правило внушалось даже царям во время церковного венчания с невестой!
В семьях вообще царил дух того же рабства, что и в государстве. Дети в семьях до возмужания считались рабами, они получали мало любви и много «учения». Некий старинный текст гласил, что для того, чтобы вырос настоящий человек, сызмальства требуется его бить, причем бить так, чтобы ребра трещали. Отношения между старшими и младшими в семье и складывались на этой благодатной основе, и чего ж удивляться, что и старший над всеми младшими — царь — тоже использовал этот рецепт физического воздействия: провинившемуся боярину, какой бы знатности он ни был, просто спускали штаны и давали какое-то количество розог. Все правильно: не только детей и женщин, но вообще всех, кто ниже рангом, нужно держать в покорности и трепете перед наказанием! Ничего подобного в эти века на Западе давно уж не существовало. Во всяком случае, если бы польский король попробовал применить розгу для учения своих подданных, он бы быстро перестал быть королем.
Да и женская судьба там была гораздо счастливее. Недаром женская судьба на Руси всегда называлась печальным словом доля. Это в рыцарской поэтике существовала прекрасная дама, в русской прозе была только рабыня женского пола. И рабы мужского пола. И что тут досталось от тяжелого монгольского наследия, что пришло из особенностей православного миросозерцания — отделить трудно.
Иными словами, общество было прекрасным образом приучено жить в полнейшем рабстве, но не чувствовать, что это рабство. Взгляду иностранца, которым был Максим, это казалось диким и противоестественным. Так что, начав с нравоучений в недрах Церкви, он не мог не перейти на более широкий общественный пласт, договорившись и до нелицеприятных слов самому государю. Учить самого государя? Обвинять государя? Как можно! Это уже считалось вещью политической. За нее-то инок и поплатился.
Государь Иоанн Грозный 1533–1584
При Василии, впрочем, порядки были жестокие, общество страшное и полудикое, но в будущем Московию ожидали перемены в гораздо худшую сторону. Новую и печальную страницу в русскую историю вписал его сын Иван, известный как Грозный.
1533 год Назначение Василием III «седьмочисленной комиссии» — опекунского совета для малолетнего Ивана IV
С одной стороны, этого правителя можно только пожалеть — детские годы ему выпали отвратительнейшие: рано оставшись сиротой, он испытал все мучения и унижения, которые вряд ли могли сформировать из него достойного и просвещенного царя. С другой стороны, зная дальнейшее развитие событий, можно пожалеть, что бояре не удавили его в детстве. Московия не славилась добродушием и гуманностью своих повелителей, но такового она еще не имела. Наш современник священник Немнонов задается вопросом: можно ли верить рассказам о тех зверствах, которыми изобилует царствование этого монарха, ведь подавляющее большинство сведений об этих зверствах получено историками из сочинений иностранцев, и сам отвечает на этот вопрос так: «Но и к рассказам иностранцев о Грозном нужно относиться не без рассуждения. Штаден, немецкий проходимец на русской службе, врет через слово, это видно. Но это вранье очень симптоматично — сколько можно украсть, как обогатиться на государевой службе, кого надо опасаться, на кого начхать. В составленном им русско-немецком словарике слово „опричник" (записано латинскими буквами — „apriishnik") означает человека, которому можно все! В перечне опричных похождений Штаден явно преувеличивает, хвастает, старается показать себя значительней, чем он был на самом деле, но в чем?! В своей причастности к убийствам, грабежам, беспределу. И недоучка Штаден, и предшественник барона Мюнхгаузена Горсей, и образованный, утонченный Флетчер пишут, в принципе, об одних вещах, разными словами только. И вот что интересно: начиная с Ивана Великого иностранцев на русской службе хватает. Иностранные архитекторы Кремль строили, инженеры пушки лили, офицеры из них стреляли. Отец Ивана Грозного, Василий Третий, приказывал, в случае опасности, бросать орудия, но спасать иностранного специалиста. Будут они в Москве и после: французы, немцы, итальянцы. Очень многие из них писали — и здесь, у нас, и вернувшись на родину. Но таких ужасов, что написаны о Грозном, больше нет ни о ком из русских властителей. Иван Третий Великий объединил Русь, создал православное государство, раздавил новгородскую „демократию", решительно отверг унию с католицизмом. На Западе должны бы его сильно не любить, но ему отдают должное! Василий Третий очень успешно продолжал дело отца, но и его уважают. Алексей Михайлович Тишайший положил основание православной империи, расколол Речь Посполитую, дал отпор католической экспансии. Вот уж кого бы не любить, на кого клеветать — так нет, отдают должное! Почему же для Ивана Грозного делается исключение? Не логично ли предположить, что и немцы иногда пишут правду?»
Опирался на иностранные источники и Николай Иванович Костомаров. Впрочем, кроме иностранных источников имелись и вполне отечественные — летописные. И летописные источники ничуть не противоречат иностранным — зверское это было правление.
Детство Ивана
Да, детство ему досталось — не позавидуешь.
1533 год Мятеж Юрия Дмитровского, брата Василия ІІІ
1533 год Арест Юрия Дмитровского
1537 год Мятеж в Новгороде Андрея Старицкого, брата Василия III; начало репрессий Елены Глинской против бояр
1538 год Смерть Елены Глинской и дворцовый переворот; убийство князя Овчины-Телепнева-Оволенского
Об этом детстве, объясняя свои дальнейшие нехорошие поступки с теми, кто в этом детстве его изводил, сам царь так писал бывшему другу, ставшему врагом и изменником, умнейшему человеку своего времени, князю Андрею Курбскому: «Помню, как бывало мы с братом Юрием играем по-детски, а князь Иван Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель отца нашего, да еще ногу на нее положит, а с нами не то по-родительски, а по-властелински обращается, как с рабами. Ни в одежде, ни в пище не было нам воли; а сколько-то казны отца нашего и деда они перебрали, да на наш счет сосуды себе золотые и серебряные поделали и на них имена родителей своих подписали, будто это их родительское достояние! Всем людям ведомо, как, при матери нашей, у князя Ивана Шуйского была шуба кунья, покрыта зеленым мухояром, да и та ветха: если бы у них было прежде столько богатств, чтобы сделать сосуды, так лучше было шубу переменить!» Въелась ему эта шуба в память, в мельчайших деталях он ее ненавидел. Так что, когда Иван достиг тринадцатилетия, то первым его государевым приказом стало взять Андрея Шуйского и отдать на растерзание псарям, то есть загрызли князя псы на государевой псарне, по сведениям, несчастный был задушен. Остальных Шуйских и из рода их Иван велел отправить в ссылку.
1543 год Отстранение Иваном IV от власти Шуйских; задушен Андрей Шуйский
Он жаловался, что всех, кого он в детстве любил или к кому привязывался, гадкие бояре тотчас изгоняли или убивали: привязался к любовнику матери князю Телепневу-Овчине, того убили, привязался к кормилице — ее отослали, нашел понимание в боярине Воронцове — того прямо на его глазах хотели убить, насилу упросил, но все равно, хоть и не убили, — сослали. Вполне понятно, столь нездоровое детство открыло в отроке странные наклонности: он то кошек швырял с высокого крыльца и вышек, наблюдая агонию животных, то, уже став старше, носился со знатными отроками на конях по Москве и избивал встречный народ. Став постарше, с той же компанией носился уже не по Москве, а по лежащей к северу земле, ввергая в ужас ее обитателей. Бояре, боясь, что их неодобрение может привести на плаху, хвалили юного царя: грозным будет.
Грозным он и стал, когда достаточно повзрослел. Хорошо бы грозным для неприятеля, нет, грозным он стал для собственного отечества. В то же время его тянуло к чтению (образования-то царь никакого не получил, так что сам себя образовывал — по книгам), а читать, кроме как религиозной литературы, было нечего, он и читал, привыкая к сладкой мысли, что он — избранник Божий, что ему Бог поручил устроить свою землю и показать свое могущество. Пока что это могущество он показывал только на тех, кто не обладал силой, — пришли к нему челобитчики из Новгорода, а Иван был занят важным делом — охотой, так что четырнадцатилетний царь рассердился и велел несчастных бить, чтобы не мешали. Пищальники дали отпор, это еще больше возмутило царя, он велел сыскать, по чьему наущению эти пищальники действуют. Бояре быстро сыскали виноватых, среди них значился прежде любезный Ивану Воронцов, Иван, который недавно еще просил не убивать Воронцова, теперь распорядился — всех виноватых обезглавить. Так и пропал Воронцов от руки обласканного им юноши. Даже его приятели по диким забавам не избежали смерти: вчера еще топтали московский народ конями, а спустя год головы лишились некоторые его друзья по играм. Жалости он не знал. С детства.
Венчание на царство (1547)
В 1547 году, когда Ивану было уже семнадцать лет, его торжественно венчали на царство. К тому времени уже существовал обряд такого венчания, но митрополит Макарий внес большую торжественность и большую значимость в него.
Митрополит Макарий (к миру Михаил) родился в Москве в 1482 г. С его именем связана целая эпоха. Он выл духовный иконописец, книжник, талантливый организатор, патриот, дипломат. В мае 1497 г. ушел в обитель преподобного Пафнутия Боровского, а в начале 16 в. постригся в монахи в честь преподобного Макария Великого. Умер 30 декабря 1563 г.
Еще при его отце к прежнему, почти ханскому образцу получения высшей самодержавной власти добавилась, так сказать, византийская составляющая: страна могла претендовать не только на «единовластие по ханскому подобию», но и на истинное единовластие, исходя из византийского наследства, — его якобы, приехав в Москву, передала на вечные времена от Константинополя Москве греческая царевна Софья. Однако царевна появилась слишком уж поздно, византийское происхождение русской власти нужно было удревнить. Что было сделано? Была рождена замечательно наивная сказка про то, что, когда Владимир Мономах стал великим князем киевским, на него были возложены эфесским митрополитом венец, цепь и бармы — императорские византийские знаки отличия. И возложить их на какого-то киевского князя велел не кто-нибудь, а сам дед этого князя Константин Мономах. Дополнительно, для того чтобы и тени сомнения не возникало, была пущена в обиход и очень полезная легенда: русский царский род, ведущий начало от Рюрика, на самом деле изначально обладает царственным происхождением: Рюрик, по этой легенде, происходил от самого Октавиана Августа, римского императора! Как раз в Литве эта легенда пользовалась большим спросом, поскольку там тоже сочиняли свою древнюю историю. Литовцы придумали своему Октавиану Августу брата, который переселился из Рима в Литву, положив начало литовским династиям и первым, совершенно сказочным приглашенным князьям. Рюрик, Трувор и Синеус, по этой интересной версии, как раз и оказались потомками литовского брата Августа. Как Литва искала себе хороших предков, так и Москва.
Между прочим, используя нюансы этой легенды, Костомаров и вывел в противовес норманнской версии версию литовскую. По его представлениям, обе были достойны друг друга, то есть обе были сказками. Ученый и считал, что этот сказочный подлог древних текстов произошел именно при Макарии и с его легкой руки. Очень уж нужно было дать новому русскому самодержцу прекрасную древнюю биографию. Потомок августейшего цезарского рода Рюрик был куда как благопристойнее и достойнее, чем не столь знатный, пусть отважный, морской разбойник, которого прежде имели в основателях Киевского государства южные князья. Макарий в этом плане был личностью особенной — он мало обращал внимания на подлинность древних легенд, из огромного количества изученных, скорее — прочтенных, им текстов, он отбирал лишь те, что могут принести пользу для государства. Составленный им сборник древностей для чтения по месяцам получил название Четьи минеи, в нем множество несообразностей, которые, однако, самого митрополита умиляли. К реальной истории это нравоучительное чтение не имеет ни малейшего отношения.
Женитьба (1547)
Благостно возведя Ивана в царское достоинство, митрополит занялся и вторым немаловажным предметом — теперь государя требовалось женить. Для столь важного события был произведен смотр всем русским девицам брачного возраста и приличного происхождения. Выбор пал на Анастасию Захарьину, дочку умершего окольничего Романа Юрьевича. В тот же год сыграли и свадьбу.
Первое время государственными делами Иван вовсе не занимался: он, как проводил время в развлечениях, так и продолжал это делать, а если ему мешали, так мог и осерчать. Как-то явились псковские люди искать правды и жаловаться на притеснения, так, недовольный тем, что его оторвали от занятий, Иван велел раздеть челобитчиков догола, а затем лить им на головы горячее вино и палить волосы и бороды свечами. Так бы он несчастных и уходил, да тех спас вдруг появившийся гонец, который донес Ивану, что в Москве колокол упал. Падение колокола, по приметам, предвещало беду. Царь бросил отеческое прижигание и отправился в Москву, смотреть на упавший колокол. Хорошее правление, да? На самом деле за Ивана управляли родственники его матери, Глинские. Правили они, наверно, не хуже других, но, тем не менее, этим правлением слишком многие были очень недовольны.
Это недовольство рано или поздно должно было вырваться наружу. Оно и вырвалось. Летом того же года очень сильно погорела Москва, сгорели не только дома простых людей, но и часть кремлевских сооружений, сам митрополит едва успел спастись из горящего и задымленного Благовещенского собора, а потом огонь добрался до пороховых складов, и начались взрывы. Заживо сгорели вместе с домами и церквями и около 2000 человек. Ивана это московское бедствие мало волновало: он проводил за городом счастливое время со своей Анастасией, так что единственное, что он сделал, — приказал отстроить погоревшие кремлевские палаты и восстановить церкви. Многие москвичи разом превратились в нищих. Само собой, в голодном и разрушенном городе пошли слухи, что Москва сгорела не случайно, а ее сожгли при помощи колдовства. Конечно, современному человеку не нужно объяснять, что Москва, в основном деревянная, с домами, стоявшими впритык друг к другу, была просто замечательным топливом для малейшего открытого огня. Но тогда люди верили, что просто так столица сгореть не может. Когда слухи дошли до Ивана, тот тоже поверил, что причина в колдовстве, и приказал начать розыск. Тут-то московский пожар и свалили на родственников царя Глинских, а точнее — на старую княгиню Анну, которую бояре прямо объявили ведьмой.
Народ, услышав о ходе розыска, сразу в это поверил. И — началось. С пожара прошло пять дней, когда перед Успенским собором стала собираться толпа, толпа кричала страшные слова: «Княгиня Анна Глинская со своими детьми и со своими людьми вынимала сердца человеческие и клала в воду, да тою водою, ездячи по Москве, кропила, и оттого Москва выгорела». Один из братьев Глинских, Юрий, был тогда как раз около Успенского собора вкупе со своими недоброжелателями. Когда народ стал орать обвинения, Юрий предпочел спрятаться в храме, но храм ничего для толпы уже не значил — Юрия выволокли на площадь и забили до смерти. После этого возмездия колдунам народ бросился искать новые жертвы: были убиты люди Глинских, были убиты и вовсе даже не Глинские, а просто выходцы из Северской земли, которые говорили с тем же акцентом, что и Глинские. Кошмар смертоубийства длился два дня, когда толпа сообразила, что Иван, наверно, укрывает старую княгиню в селе Воробьеве, где он проводил лето. Народ бросился в Воробьево. Иван, который прежде мнил себя самовластным государем, страшно растерялся и перепугался. Тут-то и явился некто Сильвестр, одетый как священник, но больше о нем ничего не было известно, разве то, что он житель Новгорода. Сильвестр стал проповедовать царю, что земля оскудела, всюду беды и разорение, что те, кто за царя правили, правили бесчестно, что теперь пришло время Ивана, но сперва нужно помолиться и покаяться. Иван — каялся. Толпу тем временем разогнали — хватило пары выстрелов. А Иван приблизил к себе столь вовремя явившегося Сильвестра, а также некоторых других, которым доверял еще ранее.
Круг реформаторов
Среди них оказался и Алексей Адашев (1530–1561), человек и на самом деле умный. Недаром много позже реформы Московского государства Иван вел точно в соответствии с разработанным Адашевым планом, только тогда уже имя Адашева не упоминалось, он был враг. Кроме Адашева в ближний круг попали также Андрей Курбский, Дмитрий Курлятов, Воротынский, Одоевский, Серебряный, Горбатый, Шереметевы — все князья.
1547 год Начало формирования Избранной рады
Первое, что эта молодая компания реформаторов сделала, стала приближать к себе и царю людей незнатного или недостаточно знатного происхождения, но умных и знающих. Адашева, поминая спустя годы тому свои милости, Иван «поднял из батожников, от гноища учинил наравне с вельможами». На самом деле, конечно, было не так. Адашевы были хоть и не столь знатного, но вполне приличного рода, и ни из какого гноища Иван братьев Адашевых не поднимал. Но суть не в поздних царских обидах, требовавших отмщения. Суть в том, что из этих молодых людей сложился скоро совещательный орган при царе — Избранная рада. Иван без своей Рады никаких решений не принимал, прежде их обсуждали и разбирали. Раде с Иваном приходилось нелегко: царю нельзя было дать почувствовать, что решения он принимает не как самодержец. И долго такое манипулирование царем продолжаться не могло.
В обличительных письмах Курбскому Иван, который называет себя не иначе как «мы», позднее писал с обидой на Раду: «Они отняли у нас данную нам от прародителей власть возвышать вас, бояр, по нашему изволению, но все положили в свою и вашу власть; как вам нравилось, так и делалось; вы утвердились между собою дружбою, чтобы всё содержать в своей воле; у нас же ни о чем не спрашивали, как будто нас на свете не было; всякое устроение и утверждение совершалось по воле их и их советников. Мы, бывало, если что-нибудь и доброе посоветуем, то они считают это ни к чему не нужным, а сами хоть что-нибудь неудобное и развращенное выдумают, так ихнее все хорошо! Во всех малых и ничтожных вещах, до обувания и до спанья, мне не было воли, а все по их хотению делалось. Что же тут неразумного, если мы не захотели остаться в младенчестве, будучи в совершенном разуме?» Планы у Рады были иными: она желала ввести гораздо более широкий круг совещателей, создав нечто вроде постоянного Земского собора.
Два Собора (1550, 1551)
Это была попытка возвратить элементы старинного народоправства. И первый такой собор удался. «Явление было новое в истории, — пишет Костомаров. — В старину существовали веча в землях поодиночке, но никто не додумался до великой мысли образовать одно вече всех русских земель, вече веч. Раздоры между землями и князьями не допускали до этого. Теперь, когда уже столько русских земель собрано было воедино, естественно было явиться такому учреждению. К большому сожалению, мы не знаем не только подробностей, но даже главных черт этого знаменитого события. Мы не знаем, как избирали выборных, кого выбирали, с каким полномочием посылали, — все это для нас остается безответным; перед нами только блестящая картина народа, собранного на площади, и образ царя посреди этого народа. Было это в один из воскресных дней. После обедни царь с митрополитом и духовенством вышел на площадь, кланялся народу, каялся в том, что правление его было дурно, приписывал это боярам и вельможам, пользовавшимся его юностью, и говорил: „Люди Божии, дарованные нам Богом! Умоляю вас ради веры к Богу и любви к нам! Знаю, что нельзя уже исправить тех обид и разорений, которые вы понесли во время моей юности, и пустоты и беспомощества моего, от неправедных властей, неправосудия, лихоимства и сребролюбия; но умоляю вас: оставьте друг к другу вражды и взаимные неудовольствия, кроме самых больших дел: а в этом, как и во всем прочем, я вам буду, как есть моя обязанность, судьею и обороною". Тогда Иван пожаловал в окольничьи Адашева и повелел ему принимать и рассматривать челобитные, сказавши (вероятно, по мысли других): „Не бойся сильных и славных, насилующих бедняков и погубляющих немощных. Но не верь и ложным слезам бедного, который напрасно клевещет на богатого. Все рассматривай с испытанием и доноси мне истину". Тогда были избраны и „судьи правдивые": вероятно, под этим следует разуметь составителей будущего Судебника. Мы, к сожалению, не знаем: как и кем составлялись последовавшие за этим Земским собором законоположения. Нам остались только редакция Судебника (собрания светских законоположений), Стоглав и Уставные грамоты — плод законодательной деятельности этого славного времени».
1549 год Созыв первого Земского собора; декларация Иваном IV подготовки реформ
1550 год Судебник Ивана IV
1551 год Начало работы Стоглавого церковного собора русской церкви
Следом за Земским был собран церковный собор 1551 года. На его открытии Иван сказал проникновенную речь, призывая людей разных сословий сплотиться и сделать все, чтобы государство стало справедливым и процветающим, сам он смиренно передавал на рассмотрение Церкви даже земские дела и юридические акты.
Тут вскрылись на соборе и разные церковные неустройства и нарушения правил, так что неудивительно, что относительно своей собственной жизни церковь приняла постановления, которые должны были поднять ее авторитет (очевидно, с авторитетом было вовсе не так хорошо, как рисуют историки православия): запретить благочинным являться в храм Божий пьяными, ругаться там и драться, торговать во время службы пирогами, яйцами, калачами, печеной рыбой, курами, блинами, караваями, вносить эти яства в алтарь и ставить на жертвенник, не пропускать служб, отпраздновав церковный праздник, запретить держать в церквях и монастырях сильные алкогольные напитки, кроме легких красных вин, которые называли фряжскими (итальянскими), селить совместно монахов и монашек, не создавать новых незначительных пустынь и монастырьков, не покупать новых земель, не принимать в виде земель поминков по душе, а также вернуть все пожертвованные или отобранные за долги после царствования Василия боярские земли их хозяевам.
Последнее тем любопытнее, что инициатива исходила как бы снизу, не от царя.
Казанская кампания
1545 год Первый неудачный поход на Казань; присоединение к России чувашей и марийцев
1547 год Начало нового неудачного похода Ивана IV на Казань
1548 год Окончательный провал второго похода год Ивана IV на Казань
1550 год Провал третьего похода Ивана IV на Казань; основание Свияжска
1551 год Участие Адашева Д. Ф. в отвоевании правого берега Волги от Казани к Москве
Следом за соборами Иван, а точнее посланный им в Казань Адашев, стал уговаривать тогдашнего татарского хана склониться на русскую сторону. Хан этот сидел в Казани только благодаря Москве, но сидел неуверенно, так что ему приходилось искать московской помощи. Но на сей раз Иван хотел прибрать Казань к своим рукам мирным путем, присоединив «добровольно» хана и заставив того ввести в город русские войска. Аан шел на все, но от ввода русского войска отказался: он был все-таки мусульманином и понимал, что после такой «помощи» не сидеть ему в Казани. Очевидно, «работа» велась не только с ханом, но и с его врагами. Как действовала Москва, вполне понятно, если вспомнить присоединение при Иване и Василии северных республик. Только безрезультатно кончились переговоры Адашева с ханом, как в Москву пожаловали враждебные тому князья и стали просить себе русского наместника. Адашев снова явился в Казань, хана сместил, взял в плен 84 человека и объявил, что вместо хана будет им русский воевода. Само собой, тут же отправили в Казань воеводу Микулинского.
Но казанцы этого не потерпели: они заперли ворота и никакого воеводу в город не допустили. Оказалось, что вера в крайние опасные моменты сплачивает, вмиг улетучились внутренние распри, татары оказались столь же враждебными, как когда-то Новгород к Москве, только, в отличие от Новгорода, татарам еще проще было сплотиться против Москвы — они были мусульманами. Даже мирные чуваши, которые уже давно «ходили» под рукой Москвы, и те вспомнили, что они мусульмане. А из Ногайской Орды в Казань тут же явился призванный горожанами монгольский хан, один из последних в своем роде. Стало ясно, что больше охотников отдать веру и Казань врагу не будет. Москва спешно собирала войско. Так началась Казанская кампания.
1552 год Сосредоточение русских войск накануне штурма Казани под Свняжском
1552 год Начало осады Казани
1552 год Взятие Казани и присоединение Казанского ханства
Войско по тем временам было огромное — 100 000 человек, единственный, кто не был готов к войне, — так сам Иван. Его пришлось насильно тащить на корабль и везти, чтобы затем он возглавил войско. Иван трусил. К Казани подошли в конце августа. Бросившегося было на помощь крымского хана удалось отбить. Надеяться казанцам было не на кого, они решили держать осаду. Русские войска вокруг города сомкнули кольцо, отрываясь лишь на мелкие стычки с мирными прежде чувашами и воинственными и до того черемисами. Казанцы надеялись только на Аллаха и на колдовство. Как рассказывал князь Курбский, тоже участник похода, «бывало, солнце восходит, день ясный; мы и видим: взойдут на стены старики и старухи, машут одеждами, произносят какие-то сатанические слова и неблагочинно вертятся; вдруг поднимется ветер и прольется такой дождь, что самые сухие места обратятся в болото». Москвичи, которые оказались чуть ли не суевернее казанцев, послали в Москву за чудодейственным крестом, в который, как рассказывали, была вделана частичка настоящего Животворящего Креста из Иерусалима. Только когда этот волшебный Крест, способный изгнать бесов, появился в войске, войско воспряло духом. Но, по сути, помог войску не Животворящий Крест, а немецкий инженер, грамотно сделавший закладку под стену Казани пороховых зарядов. Стена развалилась, а русские вошли в город. Очевидно, резня там была не меньше, чем в Иерусалиме, потому что, когда Иван торжественно въехал в Казань, город был заполнен трупами защитников. Плененный ногайский хан вынужден был склониться перед московским царем.
В Казани забрали находившихся там русских пленных, их оказалось несколько тысяч. Так мы добровольно присоединили Казань и наложили дань (ясак) на местные племена. Иван был доволен победой, но рвался из Казани домой, в Москву. Никакие Адашевы и Сильвестры не могли его удержать в этом богопротивном крае! Бояре очень надеялись уговорить Ивана всю зиму прожить в покоренной стране. Не удалось. Не помогли ни уговоры, ни даже лесть, ни воздействие священников. Царь просто приказал ехать, и войско пошло с Волги по ставшей почти непроходимой дороге на Москву. Там его ожидала беременная царица. Ей скоро предстояло родить наследника.
Вскоре после его возвращения появился на свет первенец царя — Дмитрий. Ногайский хан и казанские князьки вынуждены были креститься в православие. Насколько им этого хотелось — вопрос другой, но только крещение могло им позволить не ощущать себя при московском дворе изгоями, они — крестились. Ради такого случая Иван пожаловал их землями и признал их титулы. А в Москве ради славной победы заложили храм, это всем известный собор Василия Блаженного. На самом деле он торжественно именовался храмом Покрова Богородицы на Красной площади. По одной из старинных легенд, архитектору, создавшему храм, Иван после завершения работ приказал выколоть глаза — чтобы нигде и никогда он не смог повторить такой красоты. А Казань стала превращаться в русский город, по излюбленному московскому плану с ней поступили так же, как и с ранее «добровольно» присоединенными городами.
Правда, по татарской земле еще долго полыхали восстания и мятежи, так что завоевание состоялось, но русские укрепились в земле татар, черемисов и чувашей не так уж и прочно. Дабы пресечь эти выступления и еще больше связать бывший мусульманский город с православной Москвой, тут же была учреждена Казанская епархия. Церковь отправилась обращать иноверцев в православие. Далось ей это, скажем, частично, народы все же держались своей веры. Да и сегодня Казань чуть ли не столица ислама в Поволжье.
Перед лицом смерти
Через год после взятия Казани Иван слег с тяжелейшей горячкой. Он думал, что вовсе умрет, так что даже занялся составлением духовной грамоты — то есть завещанием. Своим наследником он назвал младенца Дмитрия. Но когда бояр было велено приводить к присяге младенцу, бояре возмутились. Отец реформатора Адашева так и сказал, что рад служить Ивану, рад служить потом его сыну, но служить Захарьиным не желает. Все боялись, что после смерти царя власть возьмут эти Захарьины. Отказался принять присягу младенцу и двоюродный брат Ивана Владимир Андреевич Старицкий. Царь все эти споры слышал, и ему становилось еще хуже. Он снова страшно испугался, но теперь не за себя — а за жену и сына. Призвав присягнувших первыми Воротынского и Мстиславского, он просил их, что, если будет хоть тень опасности, брать дитя и бежать на чужбину, — одна эта просьба Ивана говорит о многом, даже заставляет задуматься, на самом ли деле он ощущал себя самовластным государем? Бояре сами перепугались такого царского поручения, и теперь уж стали присягать все. Присягнул и Владимир — что ему еще оставалось? Но теперь уж присягнувшие первыми стали держать Владимира за изменника, только стараниями все того же Сильвестра его допустили к больному царю. Другого «несогласного», князя Ростовского, бояре поймали и приговорили к смерти.
Иван не умер, и он ничего не забыл, как никогда и ничего не забывал. Оправившись, он сразу счетов сводить не стал. Но имена «крамольников» он запомнил: в этот коллектив непослушных он вписал также имена Сильвестра и Адашевых. Князя Ростовского, однако, он по случаю выздоровления помиловал, правда, сослал в Белозерск.
1553 год Политический кризис, вызванный тяжелой болезнью царя; отказ Сильвестра присягнуть царю
Но радость Ивана была недолгой. Началось с того, что сразу после болезни Иван отправился на богомолье в далекий Кирилло-Белозерский монастырь, взяв с собой жену с малолетним ребенком. По пути он заехал в Троицкий монастырь, где жил тогда Максим Грек. Максим искренне посоветовал царю не ездить по монастырям, а лучше заниматься делами государства, помочь людям, которые потеряли имущество или кормильцев после казанского похода. По какой-то глупости, чтобы не дать царю встретиться с противниками кроткого Максима, Курбский и Адашев придумали страшилку для него: будто бы Максим им открыл, что если Иван будет ездить по монастырям, то сын у него умрет. Иван рассердился, но затеи не оставил. И буквально в следующем монастыре он встретился с врагом Максима Вассианом. Тот, поглядев на Ивана, воскликнул льстиво: «Если хочешь быть настоящим самодержцем, не держи около себя никого мудрее тебя самого; ты всех лучше. Если так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве, и все у тебя в руках будет, а если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться». Слова как нельзя лучше попали на благодатную почву, Иван и сам уже тяготился опекой Избранной рады. Он бы ездил и дольше, но сын в дороге занемог и умер. Иван расценил это как сбывшееся предсказание. Он был напуган и безутешен, но с той поры еще больше возненавидел Адашева, теперь в число ненавистных вошел и Андрей Курбский. Но время действовать пока не настало. Иван выжидал.
Крымская война
Он занимался делами государства — «добровольно» присоединил мелкие татарские народы — осколки Золотой Орды в Поволжье и Астраханское царство. Вся Волга таким образом вошла в Московское государство. Хотел Иван взять и Крым, может быть, если бы вокруг царя было согласие, эта затея бы и удалась. Крым был вовсе уж и не таким сильным противником. Другое дело, что захватить — это захватить, а удержать — это удержать. Пока земли Южной Руси принадлежали польско-литовскому государству, удержать Крым было проблематично. По поводу Крыма и поссорился Иван со своей Избранной радой. Сильвестр, Адашев и Курбский полагали, что Крым — задача первоочередная. Другая боярская группировка желала начать не с Крыма, а с Ливонии. Эта нездоровая идея преследовала московских правителей еще тогда, когда даже северо-запад не входил в ее состав. Иван раздумывал, раздумывал и решил начать решать обе задачи одновременно. Это был наихудший из возможных сценариев. Уже воюя с Крымом, он открыл второй, Ливонский фронт. Затея с Крымом была такова: в союз с Москвой против хана вошел казачий предводитель князь Дмитрий Вишневецкий, потомок Гедимина, — хан периодически приносил проблемы для теперешних польских, а прежде южнорусских земель. Официально в Польше было запрещено воевать с крымским ханом, но король смотрел на вылазки своего подданного сквозь пальцы.
Если бы Иван сосредоточил силы на Крыме, то все бы и обошлось. Москвичи с казаками дружно били хана, этому помогали и природные причины — очень холодная зима, голод, болезни, падеж лошадей в Крыму не способствовали ханскому счастью. Если свернуть действия в Ливонии, то хан бы не выдержал. Но Иван никак не желал прекращать войны за Ливонию, он ссылался на то, что орден совсем ослаб, и теперь легко его будет добить. Действия в Ливонии велись с немыслимой, нечеловеческой жестокостью. Туда вместе с русским войском были посланы недавно завоеванные татары. О ливонских событиях с ужасом писали иностранцы. Такая слава чести русскому оружию вовсе не делала. Избранная рада умоляла Ивана прекратить в Ливонии хотя бы зверства. Царь молчал. Но вместо того, чтобы закончить ливонский кошмар, он его продолжал.
Как говорит Костомаров, Иван отделался полумерами: «Царь принял в свою службу Вишневецкого, подарил ему город Велев, но приказал ему сдать королю Черкассы и Канев, не желая принимать в подданство Украины и ссориться с королем. Он отправил брата Адашева Данила с 5000 чел. на Днепр против крымцев для содействия Вишневецкому, отправленному на Дон, но сам не двинулся с места и не посылал более войска. Между тем обстоятельства стали еще более благоприятствовать Москве. Черкесские князья, отдавшиеся московскому государю после завоевания Астрахани, собрались громить владения Девлет-Гирея с востока. В Крыму, в довершение всех несчастий, поднялось междоусобие. Недовольные Девлет-Гиреем мурзы хотели его низвергнуть и возвести на престол Тохтамыш-Гирея. Покушение это не удалось. Тохтамыш бежал в Москву. Удобно было московскому государю покровительствовать этому претенденту и найти для себя партию в Крыму. Царь Иван этим не воспользовался. Данило Адашев спустился на судах по Псёлу, потом по Днепру, вошел в море и опустошил западный берег Крыма, а черкесские князья завоевали Таманский полуостров. Весь Крым был поражен ужасом. Но так как новых московских сил не было против него послано, то дело этим и ограничилось. Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе со стороны врага мщение на будущее время. Самая удобная минута к покорению Крыма была пропущена. Надобно заметить, что для удержания Крыма в русской власти в те времена представлялось более удобства, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла еще из христиан, которые естественно были бы довольны поступлением под власть христианского государя. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар». В конце концов Крымская война для Москвы завершилась полной неудачей.
1558 год Начало Ливонской войны; начало осады Нарвы и Дерпта
А события в Ливонии пошли вовсе не так легко и просто, как надеялся Иван. Когда рыцарям стало ясно, что сил против Москвы у них нет, когда они увидели истинное лицо Москвы, ее «азиатскую рожу», орден обратился за помощью к соседней Польше, он уступал Сигизмунду-Августу часть своих владений, зато обретал союзника. А царь обретал очень сильного противника и к тому же прекращение казачьих военных действий в Крыму — война Москвы с Польшей исключала войну казаков на стороне Москвы с ханом.
Смерть царицы (1560)
В окружении Ивана давно уж не было никакого согласия: бояре разделились на две партии. Победили те, кто занял сторону Захарьиных. Сама царица взяла на себя роль агитатора против ненавистных этой партии членов Избранной рады. О Сильвестре стали распространять слухи, что тот только с виду благочестив, а на самом деле заключил союз с дьяволом. Царь к таким слухам стал прислушиваться, они соответствовали его растущей неприязни к Сильвестру, самому горячему стороннику вывода войска из Ливонии. Но конец всяким отношениям с Сильвестром положила начавшаяся и очень странная болезнь царицы. Сильвестр был отстранен, а царь отправился с больной Анастасией по монастырям.
1559 год Начало Болезни первой жены царя Анастасии Романовны Захарьиной; повод для разгона Избранной рады
Адашеву и Сильвестру оставалось лишь скромно удалиться. Будущего своим планам они больше не видели. А на следующий год — 1560 — Анастасии стало вдруг хуже, и она умерла. Царь был безутешен. Использовавшие момент «верные» бояре пустили слух, что царицу извели чарами. Царь знал, кто навел эти чары. Он расправился с теми, с кем недавно обсуждал государственную политику. Сильвестр был сослан в заточение на Соловки. Адашев был отправлен в Дерпт и посажен в тюрьму, там он, как писали современники, скончался через два месяца от внезапно открывшейся горячки. Правда, другие современники с той же страстью доказывали, что эту горячку иначе зовут удавкой. Третьи, ненавидевшие Адашева, говорили, что он не вынес своего позора и от страха перед карой государя отравился ядом.
1560 год Обвинение Адашева в колдовстве и заключение в тюрьму; уход в монастырь Сильвестра; распад Избранной рады
1560 год Умерла Анастасия Романовна — первая жена Ивана IV
После смерти Анастасии и уничтожения Избранной рады Иван резко переменился. Точнее, наружу вышли те черты его личности, которые он вынужден был прятать, имея рядом сильное боярское окружение. Иван обратил взоры к постоянным кутежам, а одновременно начал уничтожать всех, кто мог проявить хотя бы незначительное недовольство.
Костомаров дал ему в своих «Жизнеописаниях» убийственную характеристику:
«Как всегда бывает с ему подобными натурами, он был до крайности труслив в то время, когда ему представлялась опасность, и без удержу смел и нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности: самая трусость нередко подвигает таких людей на поступки, на которые не решились бы другие, более рассудительные… когда вполне почувствовал, что он сильнее и могущественнее своих опекунов, им овладела мысль поставить свою царскую власть выше всего на свете, выше всяких нравственных законов. Его мучил стыд, что он, самодержец по рождению, был долго игрушкою хитрого попа и бояр, что с правом на полную власть он не имел никакой власти, что все делалось не по его воле; в нем загорелась свирепая злоба не только против тех, которые прежде успели стеснить его произвол, но и против всего, что вперед могло иметь вид покушения на стеснение самодержавной власти и на противодействие ее произволу. Иван начал мстить тем, которые держали его в неволе, как он выражался, а потом подозревал в других лицах такие же стремления, боялся измены, создавал в своем воображении небывалые преступления и, смотря по расположению духа, то мучил и казнил одних, то странным образом оставлял целыми других после обвинения. Мучительные казни стали доставлять ему удовольствие: у Ивана они часто имели значение театральных зрелищ; кровь разлакомила самовластителя: он долго лил ее с наслаждением, не встречая противодействия, и лил до тех пор, пока ему не приелось этого рода развлечение. Иван не был безусловно глуп, но, однако, не отличался ни здравыми суждениями, ни благоразумием, ни глубиной и широтой взгляда. Воображение, как всегда бывает с нервными натурами, брало у него верх над всеми способностями души. Напрасно старались бы мы объяснить его злодеяния какими-нибудь руководящими целями и желанием ограничить произвол высшего сословия; напрасно пытались бы мы создать из него образ демократического государя. С одной стороны, люди высшего звания в Московском государстве совсем не стояли к низшим слоям общества так враждебно, чтобы нужно было из-за народных интересов начать против них истребительный поход; напротив, в период правления Сильвестра, Адашева и людей их партии, большею частью принадлежавших к высшему званию, мы видим мудрую заботливость о народном благосостоянии. С другой стороны, свирепость Ивана Васильевича постигала не одно высшее сословие, но и народные массы, как показывает бойня в Новгороде, травля народа медведями для забавы, отдача опричникам на расхищение целых волостей и т. п. Иван был человек в высшей степени бессердечный: во всех его действиях мы не видим ни чувства любви, ни привязанности, ни сострадания; если, среди совершаемых злодеяний, по-видимому, находили на него порывы раскаяния, и он отправлял в монастыри милостыни на поминовение своих жертв, то это делалось из того же, скорее суеверного, чем благочестивого, страха Божьего наказания, которым, между прочим, пользовался и Сильвестр для обуздания его диких наклонностей. Будучи вполне человеком злым, Иван представлял собою также образец чрезмерной лживости, как бы в подтверждение того, что злость и ложь идут рука об руку».
Наши современники эти слова, к несчастью, забыли. И сегодня вполне просвещенные граждане почему-то пытаются обелить Ивана, отмыть его от пролитой крови. Это, к счастью, еще со стыдом осознавал Александр Второй, когда из проекта памятника Тысячелетию России Иван был исключен как некая страшная и черная страница истории. Царь был против того, чтобы Ивана изобразили хотя бы не в скульптурной группе, а просто на барельефе. Сегодня же имя Ивана с урапатриотическим завыванием провозглашают как имя демократического государя, великого государя и — что вообще непонятно каким образом укладывается в этих головах — милостивого государя, в церковных кругах. Два века назад даже в Русской церкви при этом имени было принято стыдливо потуплять взгляд. Сегодня взор горит восторгом. Действительно, сбылась погодинская мечта: судить не по зернам, а по плодам. Но тут нужно просто немного лучше знать историю. Плоды после 1560 года — это печальные плоды. Проигранная Ливонская война, разоренная опричниной страна, тысячи замученных и казненных. Пожалуй, нужно быть искренними перед самими собой, чтобы такие плоды считать успешными. Иван Васильевич, может, и хотел окружить себя достойными людьми, но достойных он точно по указанию Вассиана прогнал, остались «лучшие из худших», как говорит кардинал Мазарини в мультфильме режиссера Гамбурга про собак-мушкетеров. Но даже при таком небогатом выборе он предпочитал «худших из худших». И совсем не просто так в силу климатических неполадок и боярских дрязг его страна пришла к XVII столетию в состоянии Смуты. Причина этой необъяснимой нестабильности не в Годунове, не в Шуйском, не в нескольких самозванцах, а в том безумном правлении на протяжении двадцати лет, которое довело и землю, и людей до полного истощения.
Начало террора (1564)
Начало этому новому витку укрепления государственности и борьбы со своим народом положило одно зимнее утро 1564 года. Но прежде рядом с царем, буквально сразу после смерти любимой жены (в чем Костомаров вообще сильно сомневался, справедливо считая, что убитый горем вдовец вряд ли начнет искать себе новую жену через неделю после похорон умершей), появились новые лица: он приблизил к себе этих «лучших из худших» — боярина Алексея Басманова, его сына Федора, князя Афанасия Вяземского, Малюту Скуратова, Бельского, Василия Грязного и чудовского архимандрита Левкия. Сразу же были казнены все родственники Адашева и даже какая-то его добрая знакомая Мария. Причем казнены были не только взрослые родственники, но и их дети. Это были первые жертвы нового Ивана Васильевича.
Спустя незначительное время по смерти Анастасии Иван женился на черкесской княжне, которую крестили под именем Марии, а в народе называли Марией Темрюковной. Вместе с новой женой Ивану достался и ее братец Михаил — необузданный, жестокий и сластолюбивый. Впрочем, и новая царица отличалась не менее жестоким и злым характером.
При новом дворе время текло в пьянках и разврате. По словам Костомарова, Иван Васильевич предавался блуду со своим любимчиком Федей Басмановым. Такое поведение христианнейшего монарха многим не нравилось, но против Феди имел выступить только один боярин — Дмитрий Овчина-Оболенский. Он прямо упрекнул Федю в содомском грехе. Федя тут, же пожаловался своему Ивану Васильевичу. Результат легко предсказуем: на пиру Иван поднес Овчине огромную чашу вина, Овчина выпить ее не смог, тогда, попеняв Дмитрию, что он сам слаб, а других упрекать смеет, того отвели в погреб, где и задавили. А на другой день, как бы ничего не ведая, Иван послал к жене Овчины с приглашением во дворец и был как бы очень удивлен, что Овчина вчера еще туда отбыл. Где ж это он, а? Михаила Репнина, воспротивившегося нацепить «паскудную рожу», то есть маску на каком-то из Ивановых пиров, тоже сразу убили. Членов Рады одного за другим с семьями сослали подальше от Москвы, кого-то умертвили, кого-то держали в заточении, только один Воротынский был возвращен спустя некоторое время из своей ссылки.
Между пирами и истязаниями Иван находил время выезжать в войско, которое уже воевало на Литовской земле. Несчастные полочане долго еще поминали Ивана недобрыми словами. Полоцк, понимая, что против русских воевод ему не выстоять, решил добровольно сдаться. И все бы ничего. Польские граждане были из города выпущены и даже одарены царем. Зато литовский князь, епископ и прочие литовцы вместо собольих шуб получили кандалы и этап на Москву. Торжественно въехав в город и объявив себя полоцким князем, Иван Васильевич тут же приказал топить всех евреев в Двине, а своих татар послал перебить всех бернардинских монахов и ограбить латинские церкви. После этой победы с потоплением и перерезанием горла христианнейший государь тут же потребовал у литовцев отдать Киев, Волынь, Галич, а когда те не согласились — так взятый Полоцк со всей Ливонией, причем он свои претензии обосновывал точно по домыслам Макария, именуя себя наследником брата Октавиана Августа Пруса! Само собой, переговоры зашли в тупик… Это царя только раздражало еще больше. Он стал задумываться, а что, если его бояре могут легко изменить и передаться на сторону крымского хана или же литовцев? Так что теперь несчастным приходилось давать царю поручные записи, то есть расписки, что они сами и все их наследники обещают верно служить Ивану и его детям и клянутся не бежать из Москвы к хану или в Литву. Поручными такие записи назывались потому, что при составлении грамоты имелись поручители, обязавшиеся выплатить определенную сумму денег, если их протеже все-таки сбежит. Иван, видимо, использовал этот прием, чтобы обобрать поручителей.
Когда боярин Бельский был уличен в сношениях с польским королем, сам он был прощен, зато поручителям пришлось заплатить 10 000 рублей. Так Иван Васильевич грамотно пополнял прохудившуюся государственную казну.
Но по мере ухудшения обстановки в стране появились уже не мнимые, а вполне реальные перебежчики: бежал Вишневецкий, бежали князья Черкасские, но самой большой обидой для Ивана было бегство Курбского. Еще большей обидой было то, что Курбский не замолчал, а стал вести с царем переписку. Курбский писал Ивану исполненные яда послания, а оскорбленный Иван на них отвечал. В историю эти бесценные свидетельства того времени вошли как «Переписка князя Андрея Курбского с Иваном Грозным». Обвинения Андрея были справедливы… и царю приходилось оправдываться. Само собой, если бы Андрей находился рядом, а не за далекой границей, не сносить бы ему головы и без всякой переписки. Но князь был далек, при польском дворе его ценили — и это вызывало еще больше злобы у нашего московского царя. Далек был Курбский, никак не достанешь. На Курбском бегства не прекратились, они усилились, причем бежать стали уже даже не только бояре, но и люди вполне простого звания: бежал из Ивановой Москвы первопечатник Иван Федорович (у нас известный как Федоров) и Петр Мстиславец, бежали дворяне, бежали даже люди черного сословия. Военное положение ухудшалось, дошли слухи о движении польского войска на Полоцк и что воеводой в этом войске беглый князь Андрей.
В то же время с юга на Москву двинулся крымский хан. Время было непростое, и Иван придумал замечательный трюк: он решил так испугать народ, чтобы тот сам разрешил царю все прелести деспотии — казни и пытки.
Опричнина
В конце 1564 года царь повелел прибыть в Москву со всеми семьями боярам, дворянам и приказным людям, имена которых были занесены в особые списки. Когда вызванные прибыли в Москву, Иван разыграл целый спектакль. Он сказал, что поскольку стал нелюб своему народу, то решил сложить с себя бразды правления, — с этими словами он снял с себя венец и бармы и положил скипетр. Следующие несколько дней он посвятил блужданиям по церквям и монастырям, где со слезами молился и молился. Во дворец привезли собранные по Москве иконы, которые царь лобызал. 3 декабря перед дворцом появилось множество саней, туда стали сносить утварь, предметы обихода, одежду, посуду, иконы и прочее. Царь велел ехать с ним всем приглашенным в Москву, а также нескольким выбранным московским боярам и дворянам. Весь этот огромный санный поезд двинулся к Успенскому собору, там его уже ждал митрополит, сменивший Макария, — Афанасий. Царь выстоял обедню, принял благословение, разрешил боярам и дворянам поцеловать свою руку, сел с сыновьями в сани, и поезд тронулся. Куда едет царь, зачем — никто не знал. На самом деле царь отправился из Москвы в любимое загородное село Александровскую слободу.
1564 год Отъезд Ивана IV на Богомолье в Александровскую слободу
1564 год Воззвания Ивана IV к духовенству, служилым и посадским людям
Месяц о нем не было известий. 3 января из слободы прибыл гонец с грамотой митрополиту. По словам Костомарова: «Иван объявлял, что он положил гнев свой на богомольцев своих, архиепископов, епископов и все духовенство, на бояр, окольничих, дворецкого, казначея, конюшего, дьяков, детей боярских, приказных людей; припоминал, какие злоупотребления расхищения казны и убытки причиняли они государству во время его малолетства; жаловался, что бояре и воеводы разобрали себе, своим родственникам и друзьям государевы земли, собрали себе великие богатства, поместья, вотчины, не радят о государе и государстве, притесняют христиан, убегают от службы; а когда царь захочет своих бояр, дворян, служилых и приказных людей понаказать, архиепископы и епископы заступаются за виновных; они заодно с боярами, дворянами и приказными людьми покрывают их перед государем. Поэтому государь, от великой жалости, не хочет более терпеть их изменных дел и поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит». Одновременно гонец привез и другую грамоту — к простым людям и купцам, в ней — напротив — говорилось о том, что зла на них царь не держит и опале не подвергает.
В Москве начался кошмар. Государство вдруг разом осталось без царя.
Бояре посовещались и поняли, что нужно посылать к царю, бить челом и разрешить все, чего он ни захочет: казнить — так пусть казнит, миловать — так пусть милует, только вернулся бы поскорее. Народ же ждал лишь указаний царя, чтобы собственными руками извести крамолу и измену. По Москве уже стали бунтоваться толпы, которые искали, кто подходит под статью об измене, кого убить. Митрополит в такой ситуации ехать не решился, вместо него под водительством новгородского архиепископа Пимена поехало духовенство, среди которого затесался Левкий, царский стукач. Поехали также бояре, дворяне, дети боярские. Решение было ясным: умолять.
Царь посольство принял и попросил несколько дней на размышления. Все этого момента ждали со страхом и нетерпением. Наконец, царь обещал все взвесить и еще раз посетить Москву. Тем временем прошел еще месяц. В Москву Иван прибыл 2 февраля. Мучение жителей уже достигло верха. Но стоило только глянуть на лицо Ивана, чтобы отшатнуться в дрожи. Царь с последней с ним встречи разительно изменился. Глаза его блуждали, волосы вылезли и на голове, и в бороде, черты были перекошены. Вот этим перекошенным ртом он и дал согласие снова попробовать взять управление страной, однако — по своему собственному рецепту Этот рецепт и именовался опричниной.
1565 год Начало опричнины Ивана IV
«Иван предложил устав опричнины, придуманный им или, быть может, его любимцами, — поясняет историк. — Он состоял в следующем: государь поставит себе особый двор и учинит в нем особый приход, выберет себе бояр, окольничих, дворецкого, казначея, дьяков, приказных людей, отберет себе особых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих, жильцов: поставит в царских службах (во дворцах — Сытном, Кормовом и Хлебенном) всякого рода мастеров и приспешников, которым он может доверять, а также особых стрельцов. Затем все владения Московского государства раздвоились: государь выбирал себе и своим сыновьям города с волостями, которые должны были покрывать издержки на царский обиход и на жалованье служилым людям, отобранным в опричнину. В волостях этих городов поместья исключительно раздавались тем дворянам и детям боярским, которые были записаны в опричнину, числом 1000: те из них, которых царь выберет в иных городах, переводятся в опричные города, а все вотчинники и помещики, имевшие владения в этих опричных волостях, но не выбранные в опричнину, переводятся в города и волости за пределами опричнины.
Царь сделал оговорку, что если доходы с отделенных в опричнину городов и волостей будут недостаточны, то он будет брать еще другие города и волости в опричнину. В самой Москве взяты были в опричнину некоторые улицы и слободы, из которых жители, не выбранные в опричнину, выводились прочь. Вместо Кремля царь приказал строить себе другой двор за Неглинной (между Арбатской и Никитской улицами), но главное местопребывание свое назначал он в Александровской слободе, где приказал также ставить дворы для своих выбранных в опричнину бояр, князей и дворян.
Вся затем остальная Русь называлась земщиной, поверялась земским боярам: Бельскому, Мстиславскому и другим. В ней были старые чины, таких же названий, как в опричнине: конюший, дворецкий, казначей, дьяки, приказные и служилые люди, бояре, окольничий, стольники, дворяне, дети боярские, стрельцы и пр. По всем земским делам в земщине относились к боярскому совету, а бояре в важнейших случаях докладывали государю. Земщина имела значение опальной земли, постигнутой царским гневом.
За подъем свой государь назначил 100 000 рублей, которые надлежало взять из Земского приказа, а у бояр, воевод и приказных людей, заслуживших за измену гнев царский или опалу, определено было отбирать имения в казну. Царь уселся в Александровской слободе, во дворце, обведенном валом и рвом. Никто не смел ни выехать, ни въехать без ведома Иванова: для этого в трех верстах от слободы стояла воинская стража. Иван жил тут, окруженный своими любимцами, в числе которых Басмановы, Малюта Скуратов и Афанасий Вяземский занимали первое место. Любимцы набирали в опричнину дворян и детей боярских, и вместо 1000 человек вскоре наверстали их до 6000, которым раздавались поместья и вотчины, отнимаемые у прежних владельцев, долженствовавших терпеть разорение и переселяться со своего пепелища. У последних отнимали не только земли, но даже дома и все движимое имущество; случалось, что их в зимнее время высылали пешком на пустые земли. Таких несчастных было более 12 000 семейств; многие погибали на дороге. Новые землевладельцы, опираясь на особенную милость царя, дозволяли себе всякие наглости и произвол над крестьянами, жившими на их землях, и вскоре привели их в такое нищенское положение, что казалось, как будто неприятель посетил эти земли. Опричники давали царю особую присягу, которой обязывались не только доносить обо всем, что они услышат дурного о царе, но не иметь никакого дружеского сообщения, не есть и не пить с земскими людьми. Им даже вменялось в долг, как говорят летописцы, насиловать, предавать смерти земских людей и грабить их дома.
Современники иноземцы пишут, что символом опричников было изображение собачьей головы и метла в знак того, что они кусаются как собаки, оберегая царское здравие, и выметают всех лиходеев. Самые наглые выходки дозволяли они себе против земских. Так, например, подошлет опричник своего холопа или молодца к какому-нибудь земскому дворянину или посадскому: подосланный определится к земскому хозяину в слуги и подкинет ему какую-нибудь ценную вещь; опричник нагрянет в дом с приставом, схватит своего мнимо беглого раба, отыщет подкинутую вещь и заявит, что его холоп вместе с этою вещью украл у него большую сумму. Обманутый хозяин безответен, потому что у него найдено поличное. Холоп опричника, которому для вида прежний господин обещает жизнь, если он искренно сознается, показывает, что он украл у своего господина столько-то и столько и передал новому хозяину. Суд изрекает приговор в пользу опричника; обвиненного ведут на правеж на площадь и бьют по ногам палкой до тех пор, пока не заплатит долга, или же, в противном случае, выдают головою опричнику. Таким или подобным образом многие теряли свои дома, земли и бывали обобраны до ниточки; а иные отдавали жен и детей в кабалу и сами шли в холопы. Всякому доносу опричника на земского давали веру; чтобы угодить царю, опричник должен был отличаться свирепостью и бессердечием к земским людям; за всякий признак сострадания к их судьбе опричник был в опасности от царя потерять свое поместье, подвергнуться пожизненному заключению, а иногда и смерти. Случалось, едет опричник по Москве и завернет в лавку; там боятся его как чумы; он подбросит что-нибудь, потом придет с приставом и подвергнет конечному разорению купца. Случалось, заведет опричник с земским на улице разговор, вдруг схватит его и начнет обвинять, что земский ему сказал поносное слово; опричнику верят. Обидеть царского опричника было смертельным преступлением; у бедного земского отнимают все имущество и отдают обвинителю, а нередко сажают на всю жизнь в тюрьму, иногда же казнят смертью. Если опричник везде и во всем был высшим существом, которому надобно угождать, земский был — существо низшее, лишенное царской милости, которое можно как угодно обижать. Так стояли друг к другу служилые, приказные и торговые люди на одной стороне в опричнине, на другой в земщине. Что касается до массы народа, до крестьян, то в опричнине они страдали от произвола новопоселенных помещиков: состояние рабочего народа в земщине было во многих отношениях еще хуже, так как при всяких опалах владельцев разорение постигало массу людей, связанных с опальными условиями жизни, и мы видим примеры, что мучитель, казнивши своих бояр, посылал разорять их вотчины.
При таком новом состоянии дел на Руси чувство законности должно было исчезнуть. И в этот-то печальный период потеряли свою живую силу начатки общинного самоуправления и народной льготы, недавно установленные правительством Сильвестра и Адашева: правда, многие формы в этом роде оставались и после; но дух, оживлявший их, испарился под тиранством царя Ивана. Учреждение опричнины, очевидно, было таким чудовищным орудием деморализации народа русского, с которым едва ли что-нибудь другое в его истории могло сравниться, и глядевшие на это иноземцы справедливо замечают:
„Если бы Сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее». Таковым было устройство идеального государства, которое придумал для своего народа Иван Васильевич Грозный, которого многие и сегодня держат за демократа.
Александровская слобода
Казни пошли сразу же. В Александровской слободе была своя тюрьма, где содержали наиболее опасных людей, обвиненных в крамоле или измене. Там были все необходимые орудия для пыток. Дознание проводил лично Малюта Скуратов, а нередко пытать узников ходил и сам Иван Васильевич. Ему это нравилось, хотя царь и отговаривался, что занятие неприятное, но на неприятное занятие он ходил как клерк на службу. «Царский образ жизни стал вполне достоин полупомешанного, — замечает Костомаров, — Иван завел у себя в Александровской слободе подобие монастыря, отобрал 300 опричников, надел на них черные рясы сверх вышитых золотом кафтанов, на головы тафьи или шапочки; сам себя назвал игуменом, Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова пономарем, сам сочинил для братии монашеский устав и сам лично с сыновьями ходил звонить на колокольню. В двенадцать часов ночи все должны были вставать и идти к продолжительной полунощнице. В четыре часа утра ежедневно по царскому звону вся братия собиралась к заутрене к богослужению, и, кто не являлся, того наказывали восьмидневной епитимией. Утреннее богослужение, отправляемое священниками, длилось по царскому приказанию от четырех до семи часов утра. Сам царь так усердно клал земные поклоны, что у него на лбу образовались шишки. В восемь часов шли к обедне. Вся братия обедала в трапезной; Иван, как игумен, не садился с нею за стол, читал перед всеми житие дневного святого, а обедал уже после один. Все наедались и напивались досыта; остатки выносились нищим на площадь. Нередко, после обеда, царь Иван ездил пытать и мучить опальных; в них у него никогда не было недостатка. Их приводили целыми сотнями, и многих из них перед глазами царя замучивали до смерти. То было любимое развлечение Ивана: после кровавых сцен он казался особенно веселым. Современники говорят, что он всегда дико смеялся, когда смотрел на мучения своих жертв. Сама монашествующая братия его служила ему палачами, и у каждого под рясою был для этой цели длинный нож. В назначенное время отправлялась вечерня, затем братия собиралась на вечернюю трапезу, отправлялось повечерие, и царь ложился в постель, а слепцы попеременно рассказывали ему сказки». В этом диком монастыре и дела творились дикие. Периодически царю доставляли чужих красивых жен, которых тот с удовольствием насиловал, а потом отдавал на насилие и своей опричной братии, некоторых поруганных мужьям возвращали, некоторых, очевидно строптивых, топили прямо в Александровском пруду, откуда ловили для царского стола хорошую упитанную рыбу. Насилию подвергались не только жены знатных людей, но и несчастные крестьянки или посадские девушки, которых опричники раздевали донага и заставляли ловить кур, а потом методично расстреливали. Это было так же весело, как травить зайцев или лис. Князей же и более знатных людей за это время полегло очень много, всех имен никто не сочтет, известны лишь те, что Иван заносил в свои «святцы», чтобы знать, за сколько душ он должен молиться, — теперь ведь они нашли упокоение и больше никому не навредят. Земщина же, другая половина страны, представляла и вовсе безрадостное зрелище. С земщиной Иван вел себя так, точно это была завоеванная, а не родная страна. Опричные отряды налетали на земские города и села, и это было хуже монголов, которых народ уже век как не вспоминал.
Митрополит Филипп (1568)
В то же время христианнейший монарх сумел поссориться даже и с такой мягкотелой и принимающий все злодеяния Ивана Церковью. Макарий, сменивший его Афанасий, не допущенный к избранию Герман — все они уже умерли. Место митрополита занял бывший соловецкий игумен Филипп. Он считался даже по тем подвижническим временам среди духовенства мужем благочестивым и в то же время наделенным отличным практическим умом. Из холодного и неприютного соловецкого края он сумел сделать райский уголок, где монахи умудрялись выращивать даже южные растения. Филипп не хотел становиться митрополитом, но в Москву ему ехать пришлось. Впервые, наверно, за все царствование Ивана Филипп стал прямо церковным иерархам говорить в глаза, что за царя они имеют, и обвинять их, как те смели такое безобразие допустить. Иерархи едва не поседели от такой чужой смелости, они только молчали… Были и недовольные: те считали, что такой митрополит погубит всю Церковь. Но делать нечего — он вроде бы был избран.
Первым делом Филипп отправился к царю и открыто высказал ему свои обвинения прямо в глаза. От царя он потребовал отступиться от опричнины и снова собрать страну в единое государство. Иван рассердился, но тоже потребовал, чтобы Филиппа сделали митрополитом. Однако Филиппу пришлось сделать уступку: не трогать опричных дел. Костомаров не понимал, почему этот человек, не побоявшийся сказать царю правду в глаза, все же принял сан. Он предполагал, что эту уступку Иван вытащил из Филиппа обещанием (как всегда лицемерным) все исправить. Но если Иван думал, что после этого митрополит не будет вмешиваться в дела царя, то ошибся. Филипп снова и снова ходил к Ивану и просил за новых и новых заключенных. В конце концов отношения между ними накалились до того, что царь перестал его пускать к себе в слободу. Опричная братия его просто ненавидела.
1568 год Публичный отказ игумена Филиппа в Успенском соборе в благословении царю (весна)
1568 год Начало суда над митрополитом Филиппом (Колычевым С. Ф.)
1568 год Завершение суда над митрополитом Филиппом; его ссылка в Отрочь-монастырь
Однажды, 31 марта 1568 года, царь решил поехать с опричным войском к обедне в Успенский собор. После обедни царь подошел к Филиппу за благословением. Но Филипп молчал. Царь еще пару раз обратился к Филиппу, но Филипп молчал. Наконец не выдержали перепуганные бояре, они стали просить митрополита дать царю благословение. Филипп не дал. Напротив, он припомнил царю все его опричные подвиги. Иван рассердился и стал грозить Филиппу. Тот спокойно ответил, что служит только Богу, а лютой смерти не боится, ибо «мы на земле всего лишь насельники». Царь уехал в слободу в ярости, в этот же вечер он замучил князя Пронского.
Другой раз царь и митрополит столкнулись в Новодевичьем монастыре, где Филипп был по случаю храмового праздника. На этот праздник после разорения боярских вотчин приехали и царь со своей вечной свитой. Все были пьяны. Увидав, что кто-то из опричных стоит в шапке, Филипп оскорбился — это было нарушение правил. Он тут же обратился к царю: «Царь, разве прилично благочестивому держать агарянский закон?» Иван не понял и стал кричать только: «Как? что? кто?» «Один из ополчения твоего, из лика сатанинского», — сказал всенародно Филипп.
Иван вернулся в слободу в ярости. Он решил извести неуживчивого митрополита.
Составился заговор между царем и послушными ему иерархами. Стали собирать на Филиппа компромат, с большим трудом нашли готовых солгать, собрали собор, тогда царь и стал укорять митрополита неправыми обвинениями. Митрополит это выслушал и сказал, что смерти не боится, за должность не держится, так что готов хоть сейчас сложить с себя сан — и положил свой жезл, мантию и белый клобук (отличительные знаки сана). Повернулся и пошел к дверям. Царь впал в неистовство, он пообещал, что так легко Филипп не отделается, и приказал тому служить обедню на Михайлов день. Митрополит все понял. Он готовился к смерти.
Во время обедни в храм вошли опричники во главе с Басмановым. Они вытащили митрополита из алтаря, сорвали митру и облачение, надели на него драную рясу и повезли в Богоявленский монастырь. Народ бежал следом, митрополит благословлял, опричники били его и ругались, так и доехали. Через пару дней ему зачитали обвинительный приговор. В монастыре Святого Николая его посадили в колодки и морили голодом. Затем сослали в заточение в Отрочский тверской монастырь. На его место было немало желающих. Наибольшие старания по смещению Филиппа приложил Пимен, но сначала сан достался Кириллу. Царь успокоился тем, что приказал умертвить своего двоюродного брата Владимира с женой, дабы не передались в Польшу.
Тут некстати умерла Мария Темрюковна, Иван решил, что ее отравили, как Анастасию. Он стал подозревать, что к этому причастны его опричники. Он стал еще мнительнее и опасливее, даже писал к английской королеве Елизавете, прося на всякий случай убежища от злодеев в Англии. Еще ему в голову запала светлая мысль жениться на англичанке, хорошо бы — на королеве. Правда, Елизавета на этот счет думала иначе.
Рассуждая, откуда бы может идти крамола, которую он старательно искореняет и искореняет, а ее становится больше и больше, Иван вдруг понял — из Новгорода, вот где корень зла. Не додавили. Город уж столетие как был московский. От прежнего вольного духа там остались разве архитектурные напоминания. Однако Иван Васильевич совсем забыл, что всех, кто мог в Новгороде передаться Литве, давно вывели под корень. Он стал ждать удобного случая, чтобы навсегда отомстить новгородцам.
1569 год Заговор части новгородских бояр с целью сдать ряд завоеванных городов в Ливонии
История с предлогом к этой мести темная и очень путаная. Вроде бы вдруг в Москве объявился некий человек с Волыни, который донес, будто новгородские священники готовятся перейти в латинство, а город сдать польскому королю и будто бы письмо к королю со всеми подписями горожан и самого архиепископа Пимена лежит прямо в Софийском соборе за образом Богородицы. Иван тут же снарядил туда своих людей. Письмо нашли. Теперь у Ивана были все доказательства измены. Начался страшный поход на север.
Новгородский поход (1570)
Сначала Иван двинул опричное войско на Тверь, где сидел в заточении прежний митрополит Филипп. Иван знал, что новгородцы ощущают его к ним ненависть и попросили Филиппа предстоять за них перед царем. Еще до истории с непонятной грамоткой Иван стал проводить хорошо нам знакомую политику — выселять наиболее уважаемые семейства из Новгорода и Пскова: из первого было взято 150 семейств, из второго — 500. Города пребывали в страхе. Слухи об измене могли быть и относительной правдой: тогда, действительно, рассуждали, не лучше ли соединиться с Литвой, чем ждать уничтожения, но реальных шагов к этому сделано не было.
Итак, двинувшись на Тверь, Иван прежде всего отправил Малюту Скуратова в монастырь, где тот собственными руками задушил бывшего митрополита, затем пожжению, разграблению, насилию и прочим мерзостям была предана как Тверь, так и вся Тверская земля — Иван почему-то считал, что тверичи, так же как и новгородцы, с охотой пойдут под Литву. Окружив город, Иван стоял под ним пять дней, чтобы как следует испугать жителей, затем вошел в Тверь. Сначала опричники уничтожили все, что только можно было уничтожить. Жители с этим даже смирились, думая, что на этом гнев и утихнет. Не тут-то было! После уничтожения имущества началось уничтожение людей без разбора возраста и пола, тела убитых кидали в Волгу, разрубали на части и отправляли под лед. Погибли не только жители Твери, но и содержавшиеся в тюрьмах пленники из Полоцка и Ливонии, всего почти 1500 душ. Число 1490 записано в помяннике самого Ивана. Впрочем, это неточное число, оно могло оказаться и больше, считали наспех.
За Тверью наступила очередь Торжка. Там опричное войско начало с башен, где находились заключенные немцы и татары. Немцы, увидев убийц, даже не сопротивлялись. Иван смотрел и наслаждался их мучениями. Когда же дошла очередь до татар, то обреченные бросились на мучителей, и мурзам удалось ранить Малюту и едва не схватиться с царем. Двое опричников в этой битве с татарами в тюремной башне погибли, но царь остался цел. В этот раз Иван меньше насладился полученными впечатлениями. Участь Торжка разделили все города по пути к Новгороду — Вышний Волочек, Валдай, Яжелбицы и все окрестные села. За собой опричники оставляли сожженные дома и мертвые тела.
1570 год Поход опричников на Новгород; рлзорение Клина и Твери
В Новгород царь сначала послал свой авангард. Задача этого осадного полка была простой: обложить город со всех сторон и закрыть все дороги к нему, чтобы никто не мог бежать из города. Опричники захватили все окрестные и новгородские монастыри, взяли, извините, в плен, иного слова не подобрать, монахов и поставили их на правеж, то есть стали монахов бить. Били их пять дней и требовали выкуп по 20 рублей с человека. Тем временем опричные бояре вошли в детинец, велели туда идти всем знатным новгородским семействам, надели на них цепи и поставили стражу, а дома опечатали. Скоро на Городище приехал и сам государь с полуторатысячным стрелецким войском.
На другой же день после прибытия государь велел перебить дубинами всех захваченных монахов и тела развезти по монастырям, откуда их забирали на правеж. Затем он объявил, что придет в воскресенье к обедне в Святую Софию. «По давнему обычаю, — говорит Костомаров, — архиепископ Пимен со всем собором, с крестами и иконами стал на Волховском мосту у часовни Чудного Креста встречать государя. Царь шел вместе с сыном Иваном, не целовал креста из рук архиепископа и сказал так: „Ты, злочестивец, в руке держишь не Крест Животворящий, а вместо креста оружие; ты, со своими злыми соумышленниками, жителями сего города, хочешь этим оружием уязвить наше царское сердце; вы хотите отчину нашей царской державы Великий Новгород отдать иноплеменнику, польскому королю Жигимонту-Августу; с этих пор ты уже не назовешься пастырем и сопрестольником Св. Софии, а назовешься ты волк, хищник, губитель, изменник нашему царскому венцу и багру досадитель!"
Затем, не подходя к кресту, царь приказал архиепископу служить обедню. Иван отслушал обедню со всеми своими людьми, а из церкви пошел в столовую палату. Там был приготовлен обед для высокого гостя. Едва уселся Иван за стол и отведал пищи, как вдруг завопил. Это был условный знак (ясак): архиепископ Пимен был схвачен; опричники бросились грабить его владычную казну; дворецкий Салтыков и царский духовник Евстафий с царскими боярами овладели ризницею церкви Св. Софии, а отсюда отправились по всем монастырям и церквам забирать в пользу царя церковную казну и утварь.
Царь уехал в Городище. Вслед за тем Иван приказал привести к себе в Городище тех новгородцев, которые до его прибытия были взяты под стражу. Это были владычные бояре, новгородские дети боярские, выборные городские и приказные люди и знатнейшие торговцы. С ними вместе привезли их жен и детей. Собравши всю эту толпу перед собою, Иван приказал своим детям боярским раздевать их и терзать „неисповедимыми “, как говорит современник, муками, между прочим поджигать их каким-то изобретенным им составом, который у него назывался поджар („некоею составною мудростью огненною,), потом он велел измученных, опаленных привязывать сзади к саням, шибко везти вслед за собою в Новгород, волоча по замерзшей земле, и метать в Волхов с моста. За ними везли их жен и детей; женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним младенцев и в таком виде бросали в Волхов; по реке ездили царские слуги с баграми и топорами и добивали тех, которые всплывали.
„Пять недель продолжалась неукротимая ярость царева", — говорит современник. Когда наконец царю надоела такая потеха на Волхове, он начал ездить по монастырям и приказал перед своими глазами истреблять огнем хлеб в скирдах и в зерне, рубить лошадей, коров и всякий скот. Осталось предание, что, приехавши в Антониев монастырь, царь отслушал обедню, потом вошел в трапезную и приказал побить все живое в монастыре. Расправившись таким образом с иноческими обителями, Иван начал прогулку по мирскому жительству Новгорода, приказал истреблять купеческие товары, разметывать лавки, ломать дворы и хоромы, выбивать окна, двери в домах, истреблять домашние запасы и все достояние жителей. В то же самое время царские люди ездили отрядами по окрестностям Новгорода, по селам, деревням и боярским усадьбам разорять жилища, истреблять запасы, убивать скот и домашнюю птицу.
Наконец, 13 февраля, в понедельник на второй неделе поста, созвал государь оставшихся в живых новгородцев; ожидали они своей гибели, как вдруг царь окинул их милостивым взглядом и ласково сказал: „Жители Великого Новгорода, молите всемилостивого, всещедрого человеколюбивого Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детях наших и о всем христолюбивом нашем воинстве, чтоб Господь подаровал нам свыше победу и одоление на видимых и невидимых врагов! Судит Бог изменнику моему и вашему архиепискому Пимену и его злым советникам и единомышленникам; на них, изменниках, взыщется вся пролитая кровь; и вы об этом не скорбите: живите в городе сем с благодарностью; я вам оставляю наместника князя Пронского“».
Самого Пимена Иван отправил в оковах в Москву. Иностранные известия говорят, что он предавал его поруганию, сажал на белую кобылу и приказывал водить, окруженного скоморохами, игравшими на своих инструментах. «Тебе пляшущих медведей водить, а не сидеть владыкою», — говорил ему Иван. Несчастный Пимен был отправлен в Венев в заточение и жил там под вечным страхом смерти. Число истребленных показывается современниками различно, и, вероятно, преувеличенно. Псковской летописец говорит, что Волхов был запружен телами. В народе до сих пор осталось предание, что Иван Грозный запрудил убитыми новгородцами Волхов, и с тех пор, как бы в память этого события, от обилия пролитой тогда человеческой крови, река никогда не замерзает около моста, как бы ни были велики морозы.
Последствия царского погрома еще долго отзывались в Новгороде. Истребление хлебных запасов и домашнего скота произвело страшный голод и болезни не только в городе, но в окрестностях его; доходило до того, что люди поедали друг друга и вырывали мертвых из могил. Все лето 1570 года свозили кучами умерших к церкви Рождества в Поле вместе с телами утопленных, выплывавших на поверхность воды, и нищий старец Иван Жегальцо погребал их.
Иван покинул Новгород и нацелился на другой оплот инакомыслия — Псков. Беда, кажется, миновала. Древний город, из которого выступило царское войско, больше напоминал разоренный жестоким врагом. Новгородцы дрожали, что Иван Васильевич передумает и вернется добивать уцелевших. Они надеялись лишь на то, что он вычистил всю измену и доволен результатом. Им повезло. Иван Васильевич не вернулся. За всякой крамолой в покинутом городе теперь следил назначенный им наместником боярин Петр Данилович Пронский. Свою работу этот боярин выполнял хорошо, точно по царскому слову, блюдя Новгород от измены и «видимых и невидимых» врагов, которые мнились Ивану Васильевичу по всей русской земле.
Боярину вменялось содержать новгородцев в благодарности царю, то есть — в страхе полного истребления. В Александровскую слободу из Новгорода повезли пленных — это был несчастный Пимен, мечтавший совсем недавно стать митрополитом, священники и дьяконы, которые уцелели после правежа, но не откупились от наказания, и некоторые новгородские семейства. А основное войско двинулось на Псков.
В Пскове была паника. Воевода велел к царскому прибытию прямо на улицах поставить перед домами столы с хлебом-солью, а всем жителям выйти вместе с детьми и кланяться государю до земли. Горожане все так и сделали, но прежде они сходили в церковь, помолились, причастились — так вот приготовились к смерти. Иван появился под Псковом вечером, ему был отлично слышен звон колоколов, он все понял: боятся. Это радовало. Утром он въехал со стороны Любятова в город. При его приближении люди падали ниц как подкошенные. Это Ивана развеселило. Но больше всего Ивану понравился псковский дурачок Николка, тот выбежал в непотребном виде прямо к Ивану и протянул ему кусок сырого мяса. Иван дурачков любил, в них он видел смысл неизреченных слов. «На что мне сырое мясо, — спросил он у дурачка, — сейчас ведь пост, я христианин и мяса в пост не ем». Николка широко улыбнулся: «Ты хуже делаешь, ты человеческое мясо ешь», — ответил он. Иван не знал, что делать — гневаться или простить, решил, что простить вернее. Так что города он не тронул. Точнее — не тронул жителей. А вот всякие ценности псковские он велел погрузить и везти в Москву, особенно это касалось церковных реликвий, книг и утвари. Псковичи и на том были рады: хоть в живых оставил. Недаром в одной из Псковских летописей поминается благая мысль, может, этот государь не до конца разорит русские земли. Если ему так хочется в Англию — пусть туда и бежит. Но из Пскова Иван отправился вовсе не в Англию, а в Москву. Ему еще предстояло разобраться с Пименом. Иностранцы, которые видели его возвращающимся из новгородского похода рисуют зрелище дикое: Иван ехал верхом, за спиной у него торчал лук, спереди была отрубленная собачья голова, а рядом ехал шут на быке. Иностранцы, что оставили такое описание, были литовскими послами. Для их радости Иван устроил им показательные казни — топил пленных татар. Послы были в шоке.
В Москве Ивану пришло в голову, что новгородцы сами по себе ничего бы придумать не смогли. Ими руководили. Он быстро сыскал руководителей: конечно же, Вяземский и Басмановы. Но троих заговорщиков ему показалось мало. Скоро в следственный процесс влились новые фигуры — князь Петр Оболенский-Серебряный, Висковатый, Фуников, Очин-Плещеев, Иван Воронцов и другие.
В конце июля на Красную площадь, где заранее установили 18 виселиц, вывели 300 приговоренных к смерти. Поскольку прежде их хорошо пытали, то несчастные еле могли передвигаться. Народ, увидев орудия казни и полуживых обвиняемых, бежал с площади куда глаза глядят. К тому моменту, когда опричники въехали во главе с царем, площадь была как пустыня, ни единой живой души, никакого тебе показательного процесса! Так что было велено сгонять народ, предварительно пообещав, что тому ничего не будет. Кое-как толпу удалось собрать. Тогда царь спросил эту дрожащую от ужаса толпу, правильно ли он карает изменников и не люто ли поступает. Народ кричал, что, конечно же, правильно. Царь улыбнулся и приказал тут же отделить от приготовленных к клещам, сковородкам и крючьям преступников 180 человек — он им милостиво даровал свое высочайшее прощение. Остальные 120 были на этой площади преданы самым разнообразным видам умерщвления.
Фантазия у государя на этот предмет была изрядная: казни практически все отличались одна от другой. Скоро площадь заполнилась телами и кусками мертвых тел. А следом, почти незаметно, прошли казни жен преступников. Они не были публичными. Женщин, как правило, просто топили, предварительно пропустив через опричное братство. Пимену удалось спастись: его не казнили, только сослали в Венев.
Ивановы войны
Государственные дела Ивана шли гораздо хуже, чем борьба с собственным народом.
С Польшей ему пришлось заключить крайне невыгодный мир, отдав все завоеванные ливонские города. Пришлось бы отдать куда как больше, если бы от позора его не спас в 1581 году благодарный за сохранение «живота» Псков. Город выстоял тяжелую осаду войсками Стефана Батория и не был взят, после чего Баторий понял, что еще одна такая осада — и можно лишиться всего войска.
С Крымом обстояло еще неприятнее: обозленный московскими нападениями хан стал наносить быстрые как кинжал удары, используя хорошо зарекомендовавшую тактику набега, которой пользовались степняки, начиная с печенегов. В 1571 году, весной, то есть практически сразу после новгородского похода, хану удалось не просто удачно уколоть московского царя, но и уколоть его как нельзя болезненнее: хан дошел до Москвы, а Иван, едва увидев всадников, тут же перепугался и бежал — впрочем, как и все его предшественники, это была семейная черта — трусость. За пару часов Москва из красивого города превратилась в груду дымящихся развалин. Людей погибло немыслимое количество, по некоторым сведениям (скорее всего, преувеличенным), едва ли не 80 000 человек, кто сгорел, кто задохнулся, кого затоптали во время бегства. Хан, увидав, что все имущество погибло в огне и поживиться нечем, повернулся и отправился восвояси. Хан перед отбытием оставил Ивану Васильевичу письмецо на память: «Жгу и пустошу все за Казань и за Астрахань. Будешь помнить. Я богатство сего света применяю к праху, надеюсь на величество Божье, на милость для веры ислама. Пришел я на твои земли с войсками, все пожег, людей побил; пришла весть, что ты в Серпухове, я пошел на Серпухов, а ты из Серпухова убежал; я думал, что ты в своем государстве, в Москве, и пошел туда; ты и оттуда убежал. Я в Москве посады сжег и город сжег и опустошил, много людей саблей побил, а других в полон взял, все хотел венца твоего и головы; а ты не пришел и не стал против меня. А еще хвалишься, что ты московский государь! Когда бы у тебя был стыд и способность (дородство), ты бы против нас стоял! Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь, так я в государстве твоем дороги видел и узнал: и опять меня в готовности увидишь».
Таков вот был военный гений Ивана Васильевича. Такая вот благодаря Ивану получилась крымская война. Повезло хоть, что на другой год, когда хан снова решил поколоть Москву, его войско сильно потрепал Воротынский и снова к Москве не допустил. Впрочем, неуспех крымского предприятия Иван видел вовсе не в своей политике, а снова в измене. Теперь он стал искать тех, кто сносился с крымским ханом, дабы тому передаться. Он буквально заставил своих воевод, не сумевших отразить хана, дать на себя обвинительные показания, что, дескать, они изменили Ивану Васильевичу и передались хану. Правда, казней не последовало. Воеводы остались на своих местах, а кто-то пошел и на повышение. Эти личные признания вины нужны были Ивану просто для душевного комфорта, чтобы не вспоминать, как он драпал с поля боя и от обреченной Москвы. На этот несчастный московский пожар, измену воевод и даже на то, что он якобы не был поставлен в известность о случившемся, он ссылался потом в переписке с другими странами, объясняя все случившиеся казни просто борьбой с изменниками. Очень удобная позиция. «Изменников ведь и у вас казнят?» — так он вопрошал своих корреспондентов. И что им было на это ответить?
Но пострадавшей Москве от измышлений Ивана легче не было. Впрочем, какие-то выводы были сделаны: с южной опасной стороны стали ставиться засеки и строиться сторожевые городки, а на южных от Москвы землях поселили вольных людей — совершенно сбродное население из самых разных сословий. Их задача была охранять южное направление. Лучше позже, чем никогда.
Государственные и семейные устроения
Личная жизнь Ивана не складывалась, да и с такими отклонениями в психике сложиться не могла. Намеченная в жены Марфа Собакина занемогла как раз в канун брачной ночи. За это, конечно, последовал розыск и скорый суд: на кол отправился братец прежней супруги Михаил, Василий Грязной и еще пара человек. Их обвинили, само собой, в колдовстве и отравлении невесты. Свадьбу сыграли, но Марфа скоро умерла. По церковному закону Иван больше не имел права жениться, но тут уж Церкви пришлось уступить: Иван вынудил церковный собор признать законным и четвертый брак. Выбор пал на Дарью Колтовскую. Через год она отправилась в монастырь. Пятым браком он женился на Марье Долгорукой, через пару дней по его приказу ее утопили в пруду. Шестым браком он женился на Анне Васильчиковой — что с нею случилось, историкам неизвестно, седьмым браком он взял Василису Мелентьеву — куда исчезла эта жена, неизвестно. Восьмой женой (и последней) стала Мария Федоровна Нагая — мать несчастного царевича Дмитрия, подарившего свое имя целому сонму самозванцев.
1575 год Второе «отречение» Ивана IV от престола; назначение великим князем Симеона Бекбулатовича
1575 год Попытка Ивана IV возродить опричнину
В эти годы такая странная «семейная» жизнь сочеталась у царя со странными устроениями в государстве. Иван вдруг решил, что его боярам в земщине нужен царь, на роль царя Иван назначил послушного ему крещеного татарина Симеона Бекбулатовича. С этим назначенным царем он переписывался в униженной подобострастной форме, как бы считая его над собой настоящим государем. Впрочем, этого развлечения и приятного уничижения Ивану хватило всего на пару лет. Скоро он, так сказать, вернулся к власти, а Симеона отправил в ссылку в Тверь, даже такого безобидного «великого князя» он боялся — вдруг почувствовал вкус власти и отравит, он ведь — татарин?
Другая приключившаяся с Иваном напасть — желание присоединить к Москве Литву, где умер правообладатель престола, а после смерти польского короля и все связанное унией польско-литовское государство. И неважно, что поляки хотели на свой стол его сына Федора, царь не желал уступать даже Федору, подозревая, что и сын может оказаться врагом и изменником. Иван, думается, нашел прекрасную возможность закончить Ливонскую войну естественным путем — заняв польский трон. Но своих сил не рассчитал. Для того чтобы стать польским королем и (так могло бы быть) объединить несколько славянских народов (великороссов, малороссов, белорусов, поляков и часть иноплеменных — в польских владениях), Ивану следовало получить голоса сейма и перейти в католичество. Последнее было нереально, первое оказалось невыполнимым. Если поляки согласились бы на Федора, они бы не захотели получить Ивана Васильевича — уж им-то было известно, что это за милостивый государь. В конце концов поляки избрали себе французского принца, а когда тот бросил польский трон, Стефана Батория. Этот король успешными военными действиями и заставил в конце концов Ивана пойти на заключение мира.
Для Ивана это был безрадостный мир, потратив все правление на ливонскую авантюру, упустив все шансы и полностью развалив экономику Московии, он остался ровно ни с чем. Мало того что потерял все, что успел захватить ценой положенных на это многих человеческих жизней, так еще и вынужден был пойти на позорный мир, поскольку воевать уже стало некем и не на что. Иван вытряс деньги даже с монастырей, отобрал все, что смог, у Церкви — все равно это была бездонная яма.
1576 год Отставка Симеона Бекбулатовича; возвращение на престол Ивана IV
Баторий, который был хоть и не царского рода, а княжеского, зная об особенностях Ивановой внутренней политики, недаром как-то написал ему необычайно злое письмо: «Как смел ты попрекать нас басурманством (Иван кичливо обвинил Батория, что его родина находится под вассалитетом Турции), ты, который кровью своей породнился с басурманами, твои предки, как конюхи, служили подножками царям татарским, когда те садились на коней, лизали кобылье молоко, капавшее на гривы татарских кляч! Ты себя выводишь не только от Пруса, брата Цезаря Августа, но еще производишь от племени греческого; если ты действительно из греков, то разве — от Тиэста, тирана, который кормил своего гостя телом его ребенка! Ты — не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, начиная от старших до наименьших, губил, разорял, уничтожал, подобно тому, как и предок твой предательски жителей этого же города перемучил, изгубил или взял в неволю… Где твой брат Владимир? Где множество бояр и людей? Побил! Ты не государь своему народу, а палач; ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не так, как над людьми! Самая величайшая мудрость: познать самого себя; и, чтобы ты лучше узнал самого себя, посылаю тебе книги, которые во всем свете о тебе написаны; а если хочешь, еще других пришлю: чтобы ты в них, как в зеркале, увидел и себя, и род свой…
Ты довольно почувствовал нашу силу; даст Бог, почувствуешь еще! Ты думаешь: везде так управляют, как в Москве? Каждый король христианский, при помазании на царство, должен присягать в том, что будет управлять не без разума, как ты. Правосудные и богобоязненные государи привыкли сноситься во всем со своими подданными и с их согласия ведут войны, заключают договоры; вот и мы велели созвать со всей земли нашей послов, чтоб охраняли совесть нашу и учинили бы с тобою прочное установление; но ты этих вещей не понимаешь». Кажется, столкнувшись на войне с русскими, Баторий не мог взять в толк — как они терпят у себя такого деспота. Ради сохранения человеческих жизней он даже предлагал Ивану своего рода поединок — сойтись в схватке один на один. Иван, конечно, самим предложением «поля» был крайне возмущен.
Единственное, что он умел делать хорошо, — это казнить, казнить и казнить. Причем смерть от его руки могли получить люди, которые попросту не вызывали подозрений. Достаточно было государю в чем-то усомниться, а на это он был отличный мастер — и судьба мученика обеспечена. Когда Иван, возвращаясь из вполне успешного и кровавого ливонского похода, заглянул в Псково-Печерский монастырь и увидел мощные укрепления, то мысль об измене и возможности передачи монахов (!) чужому королю так его потрясла, что он туг же убил своим железным посохом тамошнего настоятеля Корнилия. Когда он заподозрил недавно любимого им врача Бомелия, английского подданного, то несчастному сперва вывернули все суставы, потом жарили на огне и резали спину и уж затем отправили в тюрьму — туда он доехал уже трупом. Сколько за время его правления было уничтожено людей, сказать невозможно. Проще записать, как в летописях, когда количество жертв неизвестно, — бещисла, то есть много.
Не пощадил он и своего собственного сына Ивана, дерзнувшего вступиться за свою третью жену (первых двух разными способами извел отец): в ярости Иван набросился на него, ударил по голове тем же знаменитым посохом и пробил, очевидно, череп около виска. Царевич и наследник умер.
1581 год Ссора Ивана IV с сыном Иваном Ивановичем по поводу третьей жены сына, смерть Ивана Ивановича
Это событие царя потрясло: младший Федор плохо годился на роль государя, он был добрый человек (в отличие от Ивана), но жил в мечтах и, как говорили, слаб умом.
Федор Иванович (Федор Иоаннович) (1557–1598) — в 1584–1598 гг. царь Федор I, последний из рода Рюриковичей, сын Ивана Грозного от царицы Анастасии Романовны
Младший Дмитрий еще не родился. Иван метался, он даже созвал бояр и потребовал, чтобы они выбрали царя из своей среды. Но бояре, наученные горьким опытом, только пали в ноги, умоляя не оставлять их, — очевидно, думали, что царь собирается подыскать новые жертвы. Ивану было тогда не до жертв. Он даже стал составлять свои знаменитые поименные записи — учет всем погубленным, чтобы поминать их: он верил, что смерть Ивана была наказанием за его собственные грехи. А главный грех Ивана был один: любовь к истязаниям и мучениям себе подобных. Но даже эта смерть, воспринятая как воздаяние за грехи, со временем забылась.
Немного отойдя от душевной травмы, царь снова принялся за старое: припомнил, что в Ливонской (уже законченной) войне не все его воины вели себя смело и некоторые даже сдавались в плен, он казнил этих сдавшихся общим числом до 2300 человек. Ливонских пленников, которых он считал причиной всех бед, то есть напоминанием о проигранной войне, он приказал затравить медведями — и наблюдал из окна, как звери рвут на части человеческие тела. Даже справедливость его была в высшей мере ужасна: когда на любимца царя Бориса Годунова его тесть Нагой донес, будто бы Борис не хочет являться ко двору, поскольку не может простить царю убийства сына, царь лично посетил Бориса и увидел, что он изранен и врачи наложили ему повязки, тогда царь попросту приказал и доносчику нанести точно такие же раны, а затем наложить повязки. К своей последней жене он совсем охладел, даже подумывал постричь ее или избавиться другим образом, хотя она уже носила его ребенка, а самому жениться на англичанке. Эта мысль о далекой Британии как-то маячила на горизонте во всю вторую половину его жизни — сначала как об убежище, потом как о земле, где рождаются настоящие невесты, не чета Марии. Нашлась даже кандидатка, но тут вмешалась английская королева — и мечта Ивана рухнула. А Мария, уже родившая наследника, трепетала, все время пребывая между жизнью и смертью. Ее от собственной смерти спасла только смерть царя. В тот, последний год его жизни здоровье Ивана стало истощаться. Да и неудивительно, такое количество злобы, страха и ненависти не обещает долгой и счастливой жизни.
К весне 1584 года ему стало совсем худо. Он уже не мог и ходить, его переносили в кресле.
За пару дней до смерти он потребовал, чтобы его отнесли в сокровищницу, там он недолго наслаждался сиянием драгоценных изделий и камней, на другой день настроение стало мрачным, и он уверил себя, что его кто-то околдовал, тело вдруг все покрылось ранами и язвами, от него исходил смрадный дух, в последний день его жизни, 17 марта, царя отнесли в баню, он с удовольствием освежился, слушая песни, его переодели в чистую одежду и посадили на постель. Царь велел принести шахматы, свою любимую игру, стал расставлять фигуры и никак не мог этого сделать, а потом вдруг упал. Перепуганные бояре бросились звать врачей и священника.
Пришли и те и тот.
Врачам тут уже ничего делать не оставалось. Работа их кончилась.
Священнику, напротив, работа нашлась: он постриг царя, совершил над ним обряд и нарек Ионой. Если есть загробная жизнь, то там обязательно должен существовать библейский кит, который постоянно глотает этого московского Иону, жует и выплевывает, жует и выплевывает, и мучению этому нет конца.
Смутные годы
Царь Федор Иоаннович 1584–1598
Та страна, которую получил Иван даже после не слишком рачительного управления Глинских, и та страна, которую он оставил своему не весьма разумному сыну Федору, — были, как бы точнее сказать, две совершенно разные страны.
1584 год Назначение Боярина Никиты Романовича главой регентского совета
1584 год Отправка Марин Нагой с сыном Димитрием в Углич
1584 год Изгнание Бельских после неудачной попытки переворота; выдвижение на первый план Никиты Романовича
1584 год Венчание Федора Ивановича на царство
К насилию в этом государстве привыкли изначально. Но к деспотизму маниакальному, ни на чем не основанному — нет. Даже монгольские ханы худо-бедно имели основания для мести чужому тогда народу, они были завоевателями. Царь Иван переплюнул монголов: своими войнами и опричными походами он так разорил свои земли, что, как рассказывали иностранцы, иногда на десятки, а то и сотни километров не встречалось по проезжим прежде дорогам ни единой живой души, а кругом лежали одни пепелища. Уже спустя годы, в Смуту, двигаясь по этим снова оживленным дорогам, иностранцы видели странную картину: то здесь, то там вставали молодые леса. Это на местах Ивановых пепелищ возобновилась новая жизнь, правда — растительная.
С человеческим ресурсом было куда хуже: он так быстро не возобновляется. И если считать итогом правления Ивана полную победу государства над человеком, то да, она была, она его, человека, победила полностью, вогнав в гроб, как посредством уничтожения физического, так и посредством прочих сопутствующих условий истребления — неурожаев, болезней, голода, то есть на человека после Ивана пошел мор. Остановить этот народный мор не мог ни слабоумный сын Ивана, женившийся на сестре Бориса Годунова, в свою очередь возвысившегося благодаря браку с дочкой любимца Ивана, уже покойного Малюты Скуратова, ни сам Борис, получивший трон в результате очень странного всенародного избрания, ни боярское управление с Шуйским во главе, ни тем более череда претендентов на престол, ни польский король, ни шведский король — никто. Единственный, поименованный самим Иваном спаситель, германский император, которому почему-то наш душегуб доверял и даже завещал регентство при своем Федоре (а вовсе не Борису), этот император так русской власти и не получил — завещание после смерти Ивана тут же было уничтожено. А то ведь могло случиться весьма забавное продолжение банкета: к власти пришли бы Габсбурги с их немецкими порядками, на столетие ранее Петра открыв для московитов окно в Европу.
Но этого не случилось: рядом с законной властью жил и «думал» о народном благе Борис Федорович Годунов (1552–1605), тот самый человек из «худого народа», то есть не боярин, добравшийся до власти благодаря Ивановой опричнине. Регентства Габсбургов он никак не мог допустить. Борис был патриотом. Он считал, что управлять страной позволено только русским. Русские к этому времени в Московии уже давно перестали быть исключительно славянами, теперь это было весьма смешанное этнографически понятие. Туземные выходцы из Поволжья и даже Заволжья считали себя русскими, а точнее, московскими — под какой властью ляжешь, тот национальный колорит и получишь.
1597 год Умер Федор Иванович; конец династии Рюриковичей
1598 год Пострижение Ирины, вдовы Федора Ивановича, в монахини
1598 год Согласие Бориса Годунова занять царский престол
1598 год Избрание Земским сопором на царство Годунова Б. Ф.
1598 год Венчание Бориса Годунова на царство
Борис Федорович тоже был московский, то есть, простите, русский. Он для увечного царства оказался не самым плохим царем. При Федоре он мог спокойно управлять страной от имени этого царя, так что в ночь после смерти Ивана малолетний царевич отправился вместе со своей несчастной матерью в глухой удел — Углич, чтобы бояре — которые были «за» Дмитрия, не успели устроить заговор и переворот. Но пока оставался истинный наследник старого царского дома Дмитрий, Борис за свою власть спокойным быть не мог.
Царь Борис Годунов 1598–1605
Он отлично знал, как легко может перемениться судьба. Законный наследник, пусть и малолетний, — это законный наследник, а он — не такой законный. Так что исходя из нравов и реалий того времени малолетнего царевича нужно было уничтожить. Правда, Бориса пугала, наверно, не столько передача власти Дмитрию, сколько передача власти такому Дмитрию: о царевиче рассказывали гадкие сплетни, будто бы он любит жестокость и даже уничтожает вылепленные из снега фигуры врагов. Зная, как это делал его папенька с живыми фигурами, было от чего прийти в задумчивость. Даже такой рабский народ, каким стали в то время московиты, и такой рабский царь, как Борис, боялись появления второго Ивана. По сути, видеть Дмитрия Ивановича на престоле бояре не желали, за небольшим, конечно, исключением — семейства Нагих и симпатизирующей им части бояр, желающих получше устроить собственную судьбу и получить царские ласки и власть. Дмитрий был не столько «законным царевичем», сколько знаменем недовольных бояр. Таков был расклад сил на 1591 год, когда царевич не то был убит, не то сам убился.
Дело это настолько темное, что до сих пор по поводу смерти или выживания Дмитрия ведутся споры. Они начались сразу же после известия о странной смерти царевича, слухи обрастали такими опасными для Бориса Федоровича деталями, что пришлось сразу же — дабы избежать кривотолков — назначить следственную комиссию. Часть документов средневекового расследования сохранилась, так что в русскую историю они вошли под названием: «Следственное дело по поводу убиения царевича Дмитрия». Руководить расследованием Борис поручил Шуйскому. Так бы это дело и осело где-нибудь среди государственных бумаг, если бы последующие события не заставили это дело ворошить и изучать снова и снова. И виноват в этом глава следственной комиссии Василий Шуйский.
1591 год Гибель царевича Дмитрия в Угличе
1591 год Работа следственной комиссии Шуйского по делу о гибели Дмитрия
1591 год Восстание в Угличе и других городах в связи со смертью Дмитрия
1591 год Доклад митрополита Геласия на заседании Освященного собора результатов «угличского дела»
«Василий Иванович Шуйский, — писал Костомаров, — два раза различным образом отрекался от тех выводов, которые вытекали непосредственно из его следствия, два раза обличал самого себя в неправильном производстве этого следствия. Первый раз — он признал самозванца настоящим Димитрием, следовательно, даже уничтожал факт смерти, постигшей царевича в Угличе; другой раз — он, уже низвергнувши и погубивши названого Димитрия, заявлял всему русскому народу, что настоящий Димитрий был умерщвлен убийцами по повелению Бориса, а не сам себя убил, как значилось в следственном деле. С тех пор утвердилось и стало господствовать мнение, основанное на последнем из трех показаний Шуйского, который во всяком случае знал истину этого события лучше всякого другого. Понятно, что следственное дело для нас имеет значение не более как одного из трех показаний того же Шуйского, и притом такого показания, которого сила уничтожена была дважды им же самим…
Главнейшая ошибка защитников Бориса состоит в том, что они верят этому делу, опираются на приводимые из него показания, допускают тот или другой факт единственно на том основании, что находят об нем известие в следственном деле, тогда как если что-нибудь можно признавать в этом деле достоверным, то разве по согласию с чем-нибудь другим, более имеющим право на вероятие. Находя в следственном деле показание того или другого лица, защитник принимает его прямо за свободно произнесенный голос того лица, кому оно приписывается в следственном деле, забывая, что тот, кто сообщил нам показания в следственном деле, сам же признал их лживость или поддельность». Но что ж было в самом деле, какие выводы Василий то принимал, то опровергал, то снова принимал? А он то признавал, что царевич случайно убился, то прямо говорил, что его зарезали, то соглашался с выводами своей же комиссии, то напрочь их отрицал — как было на текущий момент выгоднее. При Годунове было выгоднее признать несчастный случай, потом — признать насильственную смерть. Вот и вертелся.
В самом деле было столько несоответствий в показаниях, то ли выбитых, то ли взятых под угрозой пыток (после Ивана-то все знали, как ведется следствие), что толковать этот замечательный документ можно было как захочется. Вот кусочки из этих показаний свидетелей XVI столетия:
Расспросные речи Михаила Нагого
И тово ж дни, майя в 19 день, в вечеру, приехали на Углеч князь Василей, и Ондрей, и Елизарей и [расе]прашивали Михаила Нагово: которым об[ыча]ем царевича Дмитрея не стало, и что его болезнь была, и для чево он велел убити Михаила Битяговского, и Михайлова сына Данила, и Микиту Качалова, и Данила Третьякова, и Осипа Волохова, и посадских людей, и Михайловых людей Битяговского, и Осиновых Волохова, и для чево он велел во вторник збирати ножи и пищали, и палицу железную, и сабли, и класти на убитых людей; и посацских из сел многих людей для кого збирал, и почему городового приказщика Русина Ракова приводил к целованью, что ему стояти с ним за один, и против было ково им стояти?
И Михаиле Нагой сказал: «Деялося нынешнего 99 [1591]-го году, майя в 15 день, в субботу, в шестом часу дни зазвонили в городе у Спаса в колокол, а он, Михаиле, в те поры был у себя на подворье и чаял он того, что горит… бежал он к царевичу на двор, а царевича зарез[али] Осип Волохов, да Микита Качалов, да Данило Битяговской, и пришли на двор многие посадские люди, а Михаиле Битяговской приехал туто ж на двор, и Михаила Битяговского, и сына ево Данила, и тех всех людей, которые побиты, побили чернье, а он, Михаиле Нагой, посадцким всяким людей побита их не веливал, а был он все у царицы, а посадцкие люди збежалися на звон; а ножей он, и пищалей, и палки железные, и сабель городовому приказщику Русину Ракову збирати и класти на побитых людей не веливал, а збирал ножи, и пищали, и сабли, и палку железную и клал на побитых людей городовой приказщик Русин Раков; и городового он приказщика к целованью не приваживал; то на него городовой приказщик взводит».
Расспросные речи Григория Нагого
И Григорий Федоров сын Нагово в розпросе сказал, «что деялось тем обычьем, майя в 15 день, в субботу, поехали они, Михайло, брат ево, да он, Григорей, к себе на подворье обедать; и только они пришли на подворье, ажио зазвонили в колокола, и они чаели, что загорелося, и прибежали на двор, ажио царевич Дмитрей лежит, набрушился сам ножем в падучей болезни, что и преж того на него болезнь была; а как они пришли, а царевич ещо жив был и при них преставился. А Михаиле Битяговской был у собя на подворье и прискакал к царице на двор, и на двор прибежали многие люди посадцкие и посошные и почали говорить, неведомо хто, что будто зарезали царевича Дмитрея Михайлов сын Битяговского Данило, да Осип Волохов, да Микита Качалов; а Михаиле Битяговской учал разговаривать, и посадцкие люди кинулися за Михаилом Битяговским, и Михаиле убежал в Брусеную избу на дворе, и посадцкие люди выломали двери и Михаила выволокли, и тут ево убили до смерти, а Данила Третьякова тут же с Михаилом убили вместе; а сына Михайлова Данила Битяговского и Микиту Качалова убили в Дьячьей в Розрядной избе; а Осипа Волохова привели к царице в верх, к церкве к Спасу, и тут ево перед царицею убили до смерти; а людей Михайловых Битяговского четырех человек, и Осиповых Волохова дву человек, и посадцких людей трех человек, где ково изымали, убили чернью, неведомо где, и тово он не ведает, про что тех людей побили. А людей они посадцких забирали для князя Василья Ивановича Шуйского, да для Ондрея Петровича Клешнина, да Елизарья Вылузгина, а блюлись от государя опалы, чтоб хто царевича тела не украл; а в колокол, де, и звонить учал понамарь, Огурцом зовут. А вчерась, де, во фторник, майя в 19 день, брат ево, Михаиле Нагой, велел городовому приказщику Русину Ракову забирати ножи, и велел курячью кровью кровавити; да велел палицу железную добыть. И те ножи и палицу велел брат ево Михаиле Нагой покласти на те люди, которые побиты: на Осипа Волохова, да на
Данила на Михайлова сына Битяговского, да на Микиту на Качалова, да на Данила на Третьякова для того, что, де, будто се те люди царевича Дмитрея зарезали».
Расспросные речи мамки царевича Василисы Волоховой
И вдова Василиса Волохова в разпросе сказала, «что разболелся царевич Дмитрей в середу нынешнего 99-го году, майя в 12 день, падучею болезнью, и в пятницу, деи, ему маленко стало полехче, и царица, деи, его Марья взяла с собою к обедне и, от обедни пришетчи, велела ему на дворе погулять; а на завтрее, в суботу, пришотчи от обедни, царица велела царевичу на двор итить гулять; а с царевичем были: она, Василиса, да кормилица Орина, да маленькие ребятки жилцы, да постелница Марья Самойлова; а играл царевич ножиком, и тут на царевича пришла опять та ж чорная болезнь, и бросило его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго, да туто его не стало. А и преж того, сего году в великое говенье та ж над ним болезнь была — падучей недуг, и он поколол сваею и матерь свою, царицу Марью; а в другоряд на него была та ж болезнь перед Великим днем, и царевич обеел руки Ондрееве дочке Нагово, одва у него Ондрееву дочь Нагово отнели; и как царевич в болезни в чорной покололся ножом, и царица Марья забежала на двор и почала ее, Василису, царица Марья бита сама поленом, и голову ей пробила во многих местех, и почала ей, Василисе, приговаривать, что будто се сын ее, Василисин, Осип с Михайловым сыном Битяговского, да Микита Качалов царевича Дмитрея зарезали; и она, Василиса почала ей бить челом, чтоб велела царица дата сыск праведной, а сын ее и на дворе не бывал; и царица, де, велела ее тем же поленом бита по боком Григорью Нагово, и тут ее толко чють живу покинули замертва. И почали звонита у Спаса в колокола, и многие люди посадцкие и всякие люди прибежали на двор; и царица, де, Марья велела ее, Василису, взята посадцким людем, и мужики, де, ее взяли и ее ободрали и простоволосу ее держали перед царицею. И прибежал, де, на двор Михаиле Битяговской и почал был разговаривать посадцким людем и Михаилу Нагому, и царица, де, Марья и Михайло Нагой велели убита Михаила Битяговского и Михайлова сына, и Микиту Качалова, и Данила Третьякова. А говорила, де, царица миру: то, де, душегубцы царевичю. А сын ее, Осип, в те поры был у себя; и как почал шум быта великой, и сын ее, Осип, прибежал к Михайлове жене Битяговского, и тут его и поймали посадцкие люди и привели его ещо жива перед царицу, и Михайлову жену Битяговского з дочерми перед царицу ж привели; и царица, де, миру молыла: то, де, и убойца царевичю сын ее, Осип Волохов, и сына ее, Осипа, тут до смерти и убили, а убив, и прохолкали, что над зайцем. А человечек сына его, Васкою звали, и он кинулся и пал на сыне ее, на Осипе, чтоб его не убили до смерти, и человека его, Васку, туто ж над сыном ее убили; а другово человека Василисина убили, что увидел Василису, что она простоволоса стоит, и он на нее положил свою шапку, и посадцкие люди за то его убили до смерти ж.
Да была жоночка уродливая у Михаила у Битяговского, и хаживала от Михаила к Ондрею к Нагому; и сказали про нее царице Марье, и царица ей велела приходить для потехи, и та жоночка приходила к царице; и как царевичю смерть сталася, и царица и ту жонку, после того два дни спустя, велела добыть и велела ее убита ж, что будто сь та жонка царевича портила».
Расспросные речи Андрея Нагого
И Ондрей Олександров сын Нагово сказал в разпросе, «что царевич ходил на заднем дворе и тешился с робяты, играл через черту ножом, и закричали на дворе, что царевича не стало, и збежала царица сверху; а он, Ондрей, в те поры сидел у ествы и прибежал туто ж к царице, а царевич лежит у кормилицы на руках мертв; а сказывают, что его зарезали, а он тово не видал, хто его зарезал; а на царевиче бывала болезнь падучая; да ныне в великое говенье у дочери его руки переел да и у него, у Ондрея, царевич руки едал же в болезни, и у жилцов, и у постелниц, как на него болезнь придет и царевича как станут держать, и он в те поры ест в нецывенье, за што попадетца; а как побили Михаила Битяговского и тех всех, которые побиты, того он не ведает, хто их велел побить, а побила их чернь, посадцкие люди; а он был у царевича тела безотступно, и тело он царевичево внес в церковь».
Приговор Освященного собора о рассмотрении следственного дела и государев указ об этом деле
«(1591) — го года, июня в 2 день, государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии, слушав угалицкова обыску, что обыскивал на Углече боярин князь Василей Иванович Шуйской, да околничей Ондрей Петрович Клешнин, да дьяк Елизарей Вылузгин, и приказал бояром и дьяком с углицким обыском итить на собор к Иеву патриярху всеа Русии, и к митрополитом, и к архиепискупом, и ко владыкам, и ко всему освещенному собору, и велел государь перед патриярхом на соборе тот обыск прочесть.
И по государеву приказу бояре, пришед к патриярху, велели дьяку Василью Щелкалову углеткоя дело на соборе честь.
И как, по государеву приказу, Иеву патриярху всеа Русии и всему собору углетцкое дело прочли, и туто ж на соборе Иеву патриярху Сарский и Подонский Галасея митрополит говорил: „Извещаю тебе, Иеву патриярху и всему освященному собору, которого дни ехати мне с Углича к Москве, и царица Марья, призвав меня к себе, говорила мне с великим прошеньем, как Михаила Битяговского с сыном и жилцов побили, и то дело учинилось грешное, виноватое, чтоб мне челобитье ее донести до государя царя и великого князя, чтоб государь тем бедным червем, Михаилу з братьею, в их вине милость показал".
Да митрополит же Галасея на соборе Иеву патриярху подал челобитную, а ему тое челобитную дал на Углече городовой приказщик Русин Раков, и в той Русинове челобитной пишет: „Великому господину пресветейшему митрополиту Галасею Сарскому и Падонскому и Крутицкому биет челом и плачеца угляцкой городовой приказщик Русинец Раков. В нынешнем, государь, в 99 году, мая в 15 день, в субботу, на шестом часу дни тешился, государь, царевич у себя на дворе з жилцы своими с робятки, тыкал, государь, ножем; и в те поры на него пришла падучая немочь, и зашибло, государь, его о землю и учало ево бита; да как, де, ево било, и в те поры он покололся ножем сам и отого, государь, и умер. И учюл, государь, яз в городе звон и яз, государь, прибежал на звон, ажио в городе многие люди и на дворе на царевичеве; а Михайло Битяговской, да сын ево Данило, да Микита Качалов, да Осип Волохов, да Данило Третьяков, да их люди лежат побиты, и я, государь, прибежал к Спасу, и меня, государь, Михайло да Григорей Нагие изымали, а Михайло, государь, Нагой мертьво пиян, и привели, государь, меня к цолованью и одново, государь, дни велели мне крест шестья цоловать, буде ты наш. А Михаила Битяговского да и сына ево велел убить яз, а Микиту Качалова, да Осипа Волохова, да Данила Третьякова, да и людей их велел побито я же для тово, что они у меня отымали Михаила Битяговскаво сыном. И после, государь, тово в первой вторник, вечеру, приказал Михаиле человеку своему Тимохе, велел принести куря живой, в другом часу ночи вшол в Дьячью избу, а меня послал в ряд — ножов имать, и я собою взял посадцково человека Кондрату Оловянишника и взял в ряду два ножа, у Фили, у дехтярника, нож, а другой нож у посадцково ж человека у Василия у Ильина, а нож мне дал да саблю Григорей Нагой; и послал меня Михаиле Нагой на Михайлов двор Битяговсково, да со мною послал Спасково соборново попа Степана, да посадцких людей: Третьяка Ворожейкина да Кондрашю Оловянишника; а велел мне искати в Михайлове повалуше палицы железной, и яз нашел и к нему привес; и он, государь, меня послал в Дьячью избу и велел мне взять сторожа Овдокима; да взял яз посацково человека Ваську Малафеева; да мне ж велел из Диячьи избы в чюлане курицу зарежать и кровь в таз выпустить, и ножи и палицу кровью измазали; и Михаиле мне Нагой приказал класти к Михаилу Битяговскому нож, сыну ево — нож, Миките Качалову — нож, Осипу Волохову — палицу, Данилу Третьякова — саблю, Михайлову человеку Битяговскому Ивану Кузмину — самопал, Михайлову ж человеку Павлу — нож, Василисину человеку Васке — самопал; а велел, государь, убити Михаиле Нагой Михаила Битяговсково и сыном по недружьбе: многажды с ним бранивался про государево дело, и в тот день с ним бранился о посохе, что велел, государь, с них взять посохи пядесят человек, под город под Гуляй, и он, государь, посохи не дал; и Михаиле, государь, Нагой напился пьян, да велел убити Михаила Битяговсково и сыном; а Микита Качалов, да Осип Волохов, да Даниле Третьяков, да и их люди учали отимать, и он их велел побита туте ж.
Пресветейший государь митрополит! Сам пожалуй, а государю буди печалник, чтобы мне, холопу государеву, подле виноватых в опале не быть, в казни. Государь, пресветейший митрополит! Смилуйся, пожалуй!“
И патриярх Иев, со всем Освященным собором, слушав углетцково дела и сказу митрополита Галасеи и челобитные городового приказщика Русина Ракова, говорил на соборе: „В том во всем воля государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии; а преже сего такова лихова дела и такие убойства остались и крови пролитье от Михаила от Нагово и от мужиков николи не было. А перед государем царем и великим князем Федором Ивановичем всеа Русии Михаила и Григорья Нагих и углетцких посадцких людей измена явная, что царевичю Дмитрею смерть учинилась Божьим судом, а он, Михаиле Нагой, государевых приказных людей дияка Михаила Битяговского с сыном и Микиту Кочалова и иных дворян и жилцов и посадцких людей, которые стояли за правду и розговаривали посадцким людем, что они такую измену зделали, велел побита напрасно умышленьем за то, что Михаиле Битяговской с ним, с Михаилом с Нагим, бранился почасту за государя, что он Михаиле Нагой держал у себя ведуна Ондрюшу Мочалова и иных многих ведунов, и за тое великое изменное дело Михаиле Нагой з братьею и мужики углечане по своим винам дошли до всякого наказанья. А то дело земское, градцкое, в том ведает Бог да государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии; все в его царьской руке: и казнь, и опала, и милость, о том государю, как Бог известит; а наша должная молити Господа Бога и Пречистую Богородицу и великих русских чюдотворцов Петра, и Алексея, и Иону и всех святых о государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии и о государыне царице и великой княгине Ирине, о их государьском многолетном здравие и о тишине межусобной брани.
И того же дни бояре, быв у патриярха, государю царю и великому князю Федору Ивановичу всеа Русии сказывали патриярховы речи и скаску митрополита Галасеи, и челобитную городового приказщика государю чли.
И государь царь и великий князь приказал бояром и велел углетцкое дело по договору вершити, а по тех людей, которые в деле объявилися, велел государь посылати».
Народное сказание об убиении царевича Дмитрия, которое официальной версии о несчастном случае не верило, передавало эту историю иначе: «И того дни (15 мая), царевич по утру встал дряхл с постели своей, и голова у него, государя, с плеч покатилася, и в четвертом часу дни царевич пошел к обедне и после Евангелия у старцев Кириллова монастыря образы принял, и после обедни пришел к себе в хоромы, и платьицо переменил, и в ту пору с кушаньем взошли и скатерть постлали и Богородицын хлебец священник вынул, и кушал государь царевич по единожды днем, а обычай у него государя царевича был таков: по вся дни причащался хлебу Богородичну; и после того похотел испити, и ему государю поднесли испити; и испивши пошел с кормилицею погуляги; и в седмой час дни, как будет царевич противу церкви царя Константина, и по повелению изменника злодея Бориса Годунова, приспевши душегубцы ненавистники царскому кореню Никитка Качалов да Данилка Битяговский кормилицу его палицею ушибли, и она обмертвев пала на землю, и ему государю царевичу в ту пору киняся перерезали горло ножем, а сами злодеи душегубцы вскричали великим гласом. И услыша шум мати его государя царевича и великая княгиня Мария Федоровна прибегла, и видя царевича мертва и взяла тело его в руки, и они злодеи душегубцы стоят над телом государя царевича, обмертвели, аки псы безгласны, против его государевой матери не могли проглаголати ничтоже; а дяди его государевы в те поры разъехалися по домам кушати, того греха не ведая. И взяв она государыня тело сына своего царевича Димитрия Ивановича и отнесла к церкви Преображения Господня, и повелела государыня ударити звоном великим по всему граду, и услыхал народ звон велик и страшен яко николи не бысть такова, и стекошася вси народы от мала до велика, видя государя своего царевича мертва, и возопи гласом велиим мати его государева Мария Федоровна плачася убиваяся, говорила всему народу, чтоб те окаянные злодеи душегубцы царскому корени живы не были, и крикнули вси народы, тех окаянных кровоядцев камением побили».
Так и жили обе версии с 1591 года до середины правления самого Бориса, когда условия жизни вдруг ухудшились, — погода помогла, сгубила урожай. Костомаров больше склонялся к тому, что Дмитрия убили, пусть и не по прямому приказу Бориса, а по тем опасениям, которые он высказывал: «Быть может, даже они и по собственному соображению решились на убийство, достаточно убеждаясь, что это дело угодно будет правителю и полезно государству. Могла их к этому подстрекать и вражда, возникшая у них с Нагими. Во всяком случае, они совершили то, что было в видах Бориса: без сомнения, для Бориса казалось лучше, чтоб Димитрия не было на свете. Раздраженное чувство матери, лишившейся таким образом сына, не дало убийцам совершить своего дела так, чтоб и им после того пришлось пожить в добре, и Бориса не подвергать подозрению. Убийцы получили за свое злодеяние кару от народа, смерть царевича осталась без свидетелей, за неимением их набрали и подставили таких, которые вовсе ничего не видали; но все жители Углича знали истину, видевши тело убитого, вполне остались убеждены, что царевич не зарезался, а зарезан. Жестоко был наказан Углич за это убеждение; много было казненных, еще более сосланных; угличан, видевших своими глазами зарезанного Димитрия, не оставалось, но зато повсюду на Руси шепотом говорили, что царевич вовсе не убил себя сам, а был зарезан». Но в народе, от Углича более далеком, родилась третья версия, царевич остался чудом жив, его спрятали и спасли, а зарезали совсем другого мальчика. Так родился очень выгодный для борьбы за престол миф.
1601–1602 год Появление в Польше Лжедмитрия I
1604 год Перехват письма одного иноземца из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков находится чудом спасшийся Дмитрий
1591 год Выступление под именем Дмитрия нескольких самозванцев
1591 год Выступление Лжедмитрия в поход на Россию
Доведенный всеми бедами в стране, народ хватался за любую соломинку, спасенный Дмитрий казался ему спасенным ангелами законным наследником. То есть право на престол он имел полнейшее. Если первоначально борьба за власть под руководством «спасенного» Дмитрия была больше делом политическим, то есть зависящим от борьбы партий, то потом она стала делом народным: только борясь за истинного царевича, этот рабский несчастный народ, наконец, мог действовать по своему усмотрению. Конечно, народ использовали. Но тут он впервые, пожалуй, показал свое лицо и отворил свои уста. В армию первого Дмитрия, счастливым образом обнаружившего себя не где-нибудь в Угличе, а в Польше и пришедшего поднимать на священный поход южную часть страны, населенную вольными людьми, которых, как и живущих на юго-востоке Польши, то есть в бывших землях Киевской Руси, называли казаками, пошли самые разные люди и самые разные социальные слои.
Слух о спасшемся царевиче, говорит Костомаров, мог пройти сам собою, как случается с такими слухами. «Так было бы и при царе Борисе Годунове, если б этот царь не испугался слуха о Димитрии; а то он вообразил, что ему устраивают втайне что-то дурное; быть может, он и впрямь подозревал, не жив ли Димитрий и не хочет ли отнять у него престол; а может быть, он боялся, что враги его подучают кого-нибудь назваться Димитрием. Так ли он думал или иначе, только он начал доискиваться тайных врагов, приказал хватать людей, отдавать на муки в пытку, резать языки, кидать в тюрьмы, ссылать в пустыни. Таким образом много знатных родов потерпело безвинно, и в том числе семья Романовых, любимая народом. Тяжело стало жить людям: соберутся ли в гости или на улице сойдутся между собою — сейчас подозрение, лихие люди доносят; оговоренных пытают и мучат ни за что ни про что. Народ, прежде любивший Бориса, стал его ненавидеть за жестокости. Тут, на беду Борису и Русской земле, наступил ужасный голод, и народ начал думать, что Борисово царство не благословляется Богом; что он царь не законный, а хищник, и через него на всю Русь посылается такая кара. Димитрия меж тем Борис все искал, да не находил; а слух об нем расходился все больше и больше». То есть Борис собственными действиями только подтверждал, что воскресший Дмитрий не миф, а истина в последней инстанции. В таких условиях должен был победить миф.
Костомаров, в отличие от многих исследователей, был убежден, что Дмитрия не спрятали, не спасли, а как и было сказано — зарезали, и что открывшийся у польского магната Юрия Мнишека царевич — лицо подложное. «Русские поверили, — пишет он в исследовании „Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание на царство Михаила Романова“, — что к ним идет настоящий Димитрий, думали, что Бог, из милости к Русской стране, чудесно сохранил ее законного государя. Много стало приставать к нему сразу. Жива была мать настоящего Димитрия. Если б ее поставили перед народом и она бы сказала всем, что сын ее подлинно убит и тот, который идет на Москву, ей не сын, то народ бы, конечно, не поверил обману, стал бы грудью за царя Бориса. Но Борис не смел этого сделать; он держал мать в заточении в дальнем монастыре и боялся, что если ее поставить перед народом, так она нарочно из мести за смерть своего сына и за свое горе скажет народу такое, что пойдет не к добру Борису и его роду. Борис умер скоропостижно 13 апреля 1603 года.
1605 год Свержение династии Годуновых в Москве; присяга горожан Лжедмитрию I; отправка в ссылку патриарха Иова
Сын его Феодор нарекся царем.
Годунов Федор Борисович (1589–1605) — с 13 апреля по 1 июня 1605 г. царь Федор ІІ, сын Бориса Федоровича Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской
Но тут все войско, которое воевало против названого Димитрия, под городом Кромами передалось ему.
Царствование Лжедмитрия 1605–1606
Московские люди низвели Федора Борисовича с престола, а потом 10 июня 1605 г., как говорят, по тайному приказанию названого Димитрия, умертвили вместе с его матерью. Названый Димитрий сел на престол. Мать настоящего Димитрия признала его сыном пред всем народом, из мести к Годунову за убиение ее сына.
1605 год Венчание Лжедмитрия I на царство в успенском соборе
1605 год Смертный приговор Василию Шуйскому за заговор против Лжедмитрия I; помилование Лжедмитрием I
1605 год Обручение Лжедмитрия I с Мариной Мнишек
1606 год Прибытие в Москву из Польши Марины Мнишек
Названый Димитрий должен был исполнить слово, которое дал в Польше пану Юрию Мнишеку, и жениться на дочери его, Марине. По этому поводу Мнишек с дочерью и с роднёю в мае 1606 г. приехал в Москву, а с ним прибыло туда тысячи две с лишком поляков. Здесь, во время свадебных праздников, поляки стали вести себя нагло, оскорблять народ, не оказывали должного уважения к вере и русским обычаям. Народ негодовал. Пользуясь этим, бояре составили заговор, заманили в него кое-каких служилых и торговых людей и 17 мая 1606 года возбудили народ бить поляков, разгостившихся в Москве, сами напали на дворец и убили самозванца, называвшего себя Димитрием». Он не разбирает ни странностей в поведении Дмитрия, ни его особых черт — ему важен только ход самих событий.
В «Жизнеописаниях» Смутному времени и его героям — самозваным Дмитриям, красавице Марине и ее отцу Юрию Мнишекам, Василию Шуйскому, его родственнику юному полководцу Скопину-Шуйскому, патрираху Гермогену, дворянам братьям Ляпуновым, Филарету и прочим действующим лицам этого кошмара — посвящено гораздо больше внимания. К первому из самозванцев, Дмитрию, он даже питает симпатию. Пусть это был и не юноша царского рода (в этом историк был убежден), но он сам свято верил в то, что он спасшийся сын Ивана Грозного. Как это получилось и почему — вопрос другой. По словам ученого, Дмитрий по психологическим особенностям не умел лгать и изворачиваться, следовательно, когда-то и кем-то он планомерно готовился к этой роли. Но имен «заказчиков» Смуты Костомаров не знал. Он знал только ответ, почему Дмитрий мог появиться именно со стороны Польши и Литвы. «Первое появление личности, игравшей такую важную роль под именем царя Димитрия, — писал он, — и оставшейся в нашей истории с именем первого самозванца, остается до сих пор темным. Есть много разноречивых сведений в источниках того времени, но нельзя остановиться ни на одном из них с полной уверенностью. Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что перед тем в польской Украине казаки, вместе с польскими удальцами, помогали уже нескольким самозванцам, стремившимся овладеть молдавским престолом…
Украинские удальцы постоянно искали личности, около которой могли собраться; давать приют самозванцам и вообще помогать смелым искателям приключений у казаков сделалось как бы обычаем. Король Сигизмунд III, для обуздания казацких своевольств, наложил на казаков обязательство не принимать к себе разных „господарчиков“. Когда на Московской земле стал ходить слух, что царевич Димитрий жив, и этот слух дошел на Украину, ничего не могло быть естественнее, как явиться такому Димитрию. Представился удобный случай перенести на Московскую землю украинское своевольство под тем знаменем, под которым оно привыкло разгуливать по молдавской земле». Понятно, что и время и место появления были подходящими, только… неподходящей оказалась сама личность будущего русского царя. Современники писали, что впервые он вроде бы появился в Киеве и был одет как монашек, каким-то образом он оказался потом в Гоще на Волыни, где учился в школе у панов Гойских, последователей арианской церкви (считавшейся за ересь, потому что ее «основания состояли в следующем: признание единого Бога, но не Троицы, признание Иисуса Христа не Богом, а боговдохновенным человеком, иносказательное понимание христианских догматов и таинств и вообще стремление поставить свободное мышление выше обязательной веры в невидимое и непостижимое»), тут-то он, по словам историка, и получил те основы свободомыслия и веротерпимости, которые не смогли стереть впоследствии даже задушевные беседы с иезуитами. Здесь его и нашел Адам Вишневецкий, принявший к себе на службу, передавший брату Константину, а тот — в свою очередь — Юрию Мнишеку. Этот Юрий был ловкий придворный и необыкновенно жадный пан. Деньги он ценил превыше всего. Так что, узнав случайно, что юноша считает себя царевичем, и заметив, что тот пялится на его дочку Марину, Юрий сразу понял, каким образом следует действовать.
Мнишек Марина (ок. 1588–1614) — незамужняя дочь Богатого пана, воеводы Юрия Мнишека (? — 1613)
По словам Костомарова, Марина «была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста; глаза ее блистали отвагою, а тонкие сжатые губы и узкий подбородок придавали что-то сухое и хитрое всей физиономии». Юноша не видел в этом лице ни сухости, ни хитрости: он влюбился. Учитывая прежнюю ряску и полное неведение относительно противоположного пола, можно понять, что он обречен был влюбиться. Вероятно, он плохо соображал, зачем его обхаживают паны, и имел одно желание — жениться на предмете своей страсти. Паны даже и не возражали, они только поставили условия: Дмитрий должен вернуть «отцовский» трон и сделать Марину царицей. Ясно, что «царевич» готов был на любые подвиги! Тут-то его и показали королю Сигизмунду и затем — иезуитам, с которыми король был очень дружен, началось ускоренное обучение по курсу «как стать русским царем и что потом сделать, получив власть».
Король обещал помощь, если Дмитрий «по восшествии на престол, возвратит польской короне Смоленск и Северскую землю, дозволит сооружать в своем королевстве костелы, впустит иезуитов, поможет Сигизмунду в приобретении шведской короны и содействует на будущее время соединению Московского государства с Польшей». Мнишек потребовал иного: «по восшествии на престол он непременно женится на Марине, заплатит долги Мнишека, даст ему пособие на поездку в Москву, запишет своей жене Новгород и Псков, с правом раздавать там своим служилым людям поместья и строить костелы, наконец самому Мнишеку даст в удельное владение Смоленск и Северскую землю». Дмитрий обещал, причем и королю и Мнишеку одни и те же северские земли со Смоленском — «в надежде (по Костомарову), как оказалось впоследствии, не дать их ни тому ни другому». Точно такие же двусмысленные обещания он дал и папе по поводу введения в Московском государстве латинской веры. Из Сандомирского воеводства, то есть из дома Мнишека, он отправил две грамоты — одну в Московию, другую казакам — с сообщением, что он чудом спасшийся царевич и готов идти отвоевывать свой законный трон. Казаки тут же приняли Дмитрия как родного. Московские люди, услышав, что объявился «тот самый» царевич, тоже колебались недолго. Города падали к ногам «царевича» как спелые груши. Скоро он оказался уже в Туле, откуда послал известить москвичей о своем прибытии и отправил форму присяги на верность. Когда он прибыл в Москву, народ встречал его неимоверным восторгом.
«Он был статно сложен, — рассказывает Костомаров, — но лицо его не было красиво, нос широкий, рыжеватые волосы; зато у него был прекрасный лоб и умные, выразительные глаза. Он ехал верхом, в золотном платье, с богатым ожерельем, на превосходном коне, убранном драгоценной сбруей, посреди бояр и думных людей, которые старались перещеголять один другого своими нарядами. На кремлевской площади ожидало его духовенство с образами и хоругвями, но здесь русским показалось кое-что не совсем ладным: польские музыканты во время церковного пения играли на трубах и били в литавры; а монахи заметили, что молодой пан прикладывался к образам не совсем так, как бы это делал природный русский человек. Народ на этот раз извинил своего новообретенного царя. „Что делать, — говорили русские, — он был долго на чужой земле. Въехавши в Кремль, Димитрий молился сначала в Успенском соборе, а потом в Архангельском, где, припавши к гробу Грозного, так плакал, что никто не мог допустить сомнения в том, что это не истинный сын Ивана. Строгим ревнителям православного благочестия тогда же не совсем понравилось то, что вслед за Димитрием входили в церковь иноземцы. Первым делом нового царя было послать за матерью, инокинею Марфой: выбран был князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, которого Димитрий наименовал мечником. Царь отложил свое царское венчание до приезда матери…
18 июля прибыла царица, инокиня Марфа. Царь встретил ее в селе Тайнинском. Бесчисленное множество народа побежало смотреть на такое зрелище. Когда карета, где сидела царица, остановилась, царь быстро соскочил с лошади. Марфа отдернула занавес, покрывавший окно кареты. Димитрий бросился к ней в объятия. Оба рыдали. Так прошло несколько минут на виду всего народа». После такого признания матерью все были убеждены: царевич истинный. Конечно, не обошлось и без некоторых эксцессов: Василий Шуйский, хоть и присягнул новому царю, сразу стал готовить против него заговор, учитывая главой какой комиссии прежде был Шуйский, можно его понять. Но на этот раз заговор был раскрыт, все семейство Шуйских ожидало скорой смерти, однако… новый царь милостиво Шуйских простил, хотя и сослал, впрочем, и то ненадолго — всего на 12 дней, до своего венчания на царство. Это была его роковая ошибка.
«Есть два способа царствовать, — говорил Димитрий, — милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных и исполню его». Он еще не знал своих подданных. 30 июля он торжественно был венчан как государь в Успенском соборе. Сразу же после воцарения он стал пересматривать способы управления своим государством: служилым удвоил содержание, помещикам удвоил земельные наделы, сделал судопроизводство бесплатным, прекратил злоупотребления при сборе податей, сделав процесс прямым, без посредников, запретил потомственную кабалу, сделал свободным перемещение через границы, даже ввел закон, по которому нерадивые помещики, которые не заботились о своих крестьянах, вынуждены были отпускать их на свободу, а право сыска беглых ограничил пятью годами, Боярскую думу он преобразовал в сенат и сам заседал в сенате ежедневно, разбирая жалобы, кроме всего прочего, пытался он ввести и свободу совести. Последнее послужило первым сигналом, что с царем что-то «очень неправильно». Однако «обращения» Московии в латинскую веру, которого ожидали в Риме, тоже не произошло: Дмитрий любезно обращался к папе, но видел в нем лишь отличного союзника в затевавшийся им войне с турками.
Напоминая будущего царя Петра, Дмитрий живо интересовался подготовкой к походу против Крыма: он лично отслеживал изготовление пушек и прочего оружия на пушечном дворе, сам пробовал это оружие, устраивал военные маневры, трудился вместе с ремесленниками, гулял по Москве, говорил с народом — то есть вел себя так, как цари себе никогда не позволяли. Ко всему прочему новый царь «не преследовал народных забав, как это бывало прежде: веселые „скоморохи" с волынками, домрами и накрами свободно тешили народ и представляли свои „действа"; не преследовались ни карты, ни шахматы, ни пляска, ни песни. Димитрий говорил, что желает, чтобы все кругом его веселилось. Свобода торговли и обращения в каких-нибудь полгода произвела то, что в Москве все подешевело и небогатым людям стали доступны такие предметы житейских удобств, какими прежде пользовались только богатые люди и бояре…
Кто бы ни был этот названый Димитрий и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев, и для выезжавших из него русских, объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести: все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им иную жизнь. Его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже подготовлялась именно этой свободой. Объявлена была война старой житейской обрядности. Царь собственным примером открыл эту борьбу, как поступил впоследствии и Петр, но названый Димитрий поступал без того принуждения, с которым соединялись преобразовательные стремления последнего. Царь одевался в иноземное платье, царь танцевал, тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности; царь беспрестанно порицал русское невежество, выхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем: что бы впоследствии ни вышло из Димитрия — все-таки он был человек нового, зачинающегося русского общества». Естественно, что Василия Шуйского трясло от ярости.
Шуйский Василий Иванович (Василий IV Шуйский) (1552–1612), псковский воевода, князь
В отличие от Дмитрия это был человек совсем другого склада. «Трудно найти лицо, — выносит приговор ему Костомаров, — в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нем видим мы отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага, но в то же время терпение и стойкость — качества, которыми русские приводили в изумление иноземцев; он гнул шею пред силою, покорно служил власти, пока она была могуча для него, прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедою, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был неспособен давать почин, избирать пути, вести других за собою. Ряд поступков его, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблять святыню для своих целей. Мелочной, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобресть любовь подвластных, находясь в сане государя. Его стало только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны».
Именно Шуйский и начал плести нити заговора, посчитав прощение царя за его слабость и недальновидность. Основные проблемы Дмитрия начались после приезда к нему из Польши невесты Марины. Вместе с ней Москву наводнили польские паны, шляхтичи, их многочисленная челядь. Москвичам очень понравилась молодая невеста, въехавшая в столицу под звон колоколов «в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колесами, обитой внутри красным бархатом, сидя на подушке, унизанной жемчугом, одетая в белое атласное платье, вся осыпанная драгоценными каменьями». Но, так торжественно въехав, будущая царица была помещена не в построенный для Дмитрия дворец, а в монастырь, что и ее, и сопровождавших ее дам страшно испугало: монастырь был схизматическим и православным. Народ поговаривал, что царь собирается обратить невесту в истинную веру, сама Марина содрогалась от ужаса и обиды. Ко всему прочему церковные иерархи стали требовать как обязательное условие брака принятия Мариной православия. Если патриарх Игнатий спокойно смотрел на «Маринины недостатки», то казанский митрополит Гермоген (будущий патриарх) разве что не плевался от ярости.
Гермоген, ок. 1530 г., первые сведения о жизни относятся к 1589 г., умер в результате голодовки в 1611 г.
«Историческая деятельность Гермогена, — сообщает Костомаров, — начинается с 1589 г., когда, при учреждении патриаршества, он был поставлен казанским митрополитом. Находясь в этом сане, Гермоген заявил себя ревностию с татарами, чувашами, черемисами, которые жили по-язычески, не приглашали священников в случае рождения младенцев, не обращались к духовенству при погребениях, а их новобрачные, обвенчиваясь в церкви, совершали еще другой брачный обряд по-своему. Другие жили в незаконном супружестве с немецкими пленницами, которые для Гермогена казались ничем не отличавшимися от некрещеных. Гермоген собирал и призывал таких плохих православных к себе для поучения, но поучения его не действовали, и митрополит в 1593 г. обратился к правительству с просьбою принять со своей стороны понудительные меры. Вместе с тем его возмущало еще и то, что в Казани стали строить татарские мечети, тогда как в продолжение сорока лет, после завоевания Казани, там не было ни одной мечети.
Последствием жалоб Гермогена было приказание собрать со всего Казанского уезда новокрещеных, населить ими слободу, устроить церковь, поставить над слободою начальником надежного боярского сына и смотреть накрепко, чтобы новокрещеные соблюдали православные обряды, держали посты, крестили своих пленниц немецких и слушали бы от митрополита поучения, а непокорных следовало сажать в тюрьму, держать в цепях и бить. Суровый и деятельный характер Гермогена проявляется уже в этом деле».
Дмитрий не дал ему проявить себя в деле отмены бракосочетания — просто выслал прочь из столицы. В Казань. Свадьба состоялась. Но до свадьбы Марина была коронована по русскому обычаю. «Неизвестно, — замечает по этому поводу историк, — было ли это желание самого царя из любви к своей невесте или же, что вероятнее, следствие честолюбия Марины и ее родителя, видевших в этом обряде ручательство в силе титула: если Марина приобретет его не по бракосочетанию с царем, подобно многим царицам, из которых уже не одну цари спроваживали, по ненадобности, в монастырь, а вступит в брак с царем уже со званием московской царицы. После коронования Марина была помазана на царство и причастилась Св. Тайн». После коронации началась свадьба — тоже по русскому обычаю. Марине пришлось из удобного платья переодеться в московское — очень роскошное, но очень неудобное, но делать было нечего. Единственное, что ей разрешили, — оставить привычную прическу в виде повязки, сплетенной с волосами. После свадьбы пошли пиры за пирами. Марине это жизнь не облегчило. Стоило ей заикнуться о латинской вере, как Дмитрий ей объяснил, что следует соблюдать местные законы: верить она может во что угодно, но при народе московском должна себя вести, как и положено русской царице. Вряд ли это ее обрадовало. Сам Дмитрий радовался и веселился, «по целым дням играли 68 музыкантов, а пришельцы скакали по улицам на лошадях, стреляли из ружей на воздух, пели песни, танцевали и безмерно хвастались своим превосходством над москвичами». Москвичей православные паны раздражали, они шептались, что и православие там, у поляков, совсем неправильное. Это было лучшее время для планирования, устройства и проведения заговора. Василий Шуйский первый заговор сумел провалить. Он знал, что второго шанса может и не быть. Так и составился майский заговор 1606 года.
1606 год Брак Лжедмитрия I и Марины Мнишек
1606 год Восстание в Москве; убийство Лжедмитрия
Шуйский предложил прекрасный план: сделать вид, что поляки собираются убить царя, переполошить охрану, ворваться во дворец и убить Дмитрия, пока взбудораженный народ станет убивать поляков. Для полного успеха в ночь заговора Шуйский выпустил из тюрем преступников и вооружил их топорами и мечами — прием, проверенный многочисленными заговорщиками как до князя, так и много столетий спустя.
План удался. Он не мог не удасться.
В царском дворце люди были застигнуты врасплох. Сам Дмитрий, пытаясь спастись, выпрыгнул из окна, но неудачно — сорвался с лесов для иллюминации и сильно разбился, потеряв сознание. Его пытались спасти стрельцы, но заговорщики пообещали тем перерезать их семьи, так что стрельцы сдали Дмитрия тем, кто жаждал его смерти. «Тело умерщвленного царя, — пишет историк, — положили на Красной площади на маленьком столике. К ногам его приволокли тело Басманова. На грудь мертвому Димитрию положили маску, а в рот воткнули дудку. В продолжение двух дней москвичи ругались над его телом, кололи и пачкали всякой дрянью, а в понедельник свезли в „убогий дом“ (кладбище для бедных и безродных) и бросили в яму, куда складывали замерзших и опившихся. Но вдруг по Москве стал ходить слух, что мертвый ходит; тогда снова вырыли тело, вывезли за Серпуховские ворота, сожгли, пепел всыпали в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда названый Димитрий пришел в Москву».
Марине удалось спастись, она заползла под юбку одной из фрейлин. С ужасом она наблюдала, как дикая толпа вооруженных людей насилует польских дам. Только появление бояр остановило эту вакханалию. Но Марина в результате оказалась под стражей. Она даже не видела тела своего убитого мужа. Ее тюремщиком был лично Василий Шуйский. «Из венчанной повелительницы народа, — замечает Костомаров, — так недавно еще встречавшего ее с восторгом, она стала невольницею; честное имя супруги великого монарха заменилось позорным именем вдовы обманщика, соучастницы его преступления».
Царь Василий Шуйский 1552–1612
Так вот пришел звездный час Василия Шуйского. Маленький, сгорбленный, тощий, некрасивый, большеносый старик наконец-то получил то, к чему он рвался всю свою жизнь, — русский трон.
1606 год Начало правления Василия Шуйского
1606 год Перезахоронение останков царевича Дмитрия в Архангельском соборе
Однако он хорошо понимал, как можно перехватить власть у «неправильного царя» (поскольку он видел труп мальчика Дмитрия в Угличе, то знал, что Дмитрий — не тот Дмитрий, он не знал лишь — кто этот Дмитрий), но он оказался никудышным царем. «Выбрали царем князя Василия Ивановича Шуйского, — пишет в „Деле" Костомаров, — уверившись, что прежний убитый названый Димитрий был не настоящий Димитрий, а Гришка Отрепьев, дьякон-расстрига, и притом затевал ввести в Московском государстве латинскую веру. Но народ был недоволен тем, что Василий сел на престол неправильно: не вся земля через своих выборных людей избрала его на царство, а прокричали его царем и посадили на престол благоприятели его и нахлебники в Москве. Начались смуты, бунты. Появились бродяги, называвшие себя царскими именами, и волновали народ. В Польше, в доме Мнишека (а сам Мнишек сидел тогда в плену в Ярославле), стали опять творить Димитрия, распространили слух, что тот, который недавно царствовал в Москве этим именем, не убит, а спасся от смерти. Вслед за тем в Северщине (нынешняя Черниговская, Орловская и Курская губернии) появился новый вор, назвавший себя Димитрием. Около него столпились поляки, казаки и разные русские бродяги. Стали сдаваться ему города. Он дошел до Москвы и стоял станом в подмосковном селе Тушине целых полтора года, держал столицу в осаде, а взять ее не мог. Другое его полчище стояло под Сергеевым монастырем Св. Троицы и также не могло взять монастыря. Тем временем Московское государство пришло в ужаснейший беспорядок. Одни стояли за Димитрия, другие за Василия».
Шуйский, действительно, был избран, так сказать, только благодарными ему московскими сторонниками и обманутым московским народом. Остальная страна вовсе его не выбирала и была приведена к присяге «постфактум», и она не была уверена, что Дмитрий убит. Если однажды ему удалось спастись — может, и второй раз тоже удалось? Не подействовала даже разосланная по всей земле грамота от царицы Марфы, которая признавалась, что ее сын погиб давным-давно в Угличе, а тот, кого она принародно целовала, заставил так поступить под страхом смерти. Ходили слухи, что Марфу держат в монастыре и морят голодом. Так оно и было: Марфу сразу заперли в монастыре, и она потом жаловалась, что голодом — морили. Позже она об этом же сообщала и польскому королю (уже после низложения царя Василия). Шуйскому удалось взбунтовать толпу, но остановить бунт оказалось гораздо труднее. Пока толпа не насытилась кровью и не перерезала больше 400 поляков в столице, она не успокоилась. Народ роптал, что истинный Дмитрий жив, а Василий не царь. В этой ситуации пришлось тому везти тело погребенного в Угличе мальчика и выставлять гроб для всеобщего обозрения. Правда, об этих мощах царевича слухи ходили странные, были даже свидетели, которые видели, что там не мощи, а совсем свежее детское тело. Это дело еще больше запутывало. Василий нашел способ вернуть страну в привычные рамки: он отстранил патриарха Игнатия и поставил на его место Гермогена. Сам же он решил на старости лет устроить личную жизнь, которую так и не довелось устроить в молодости: при Борисе Федоровиче князем так помыкали, что Борис запретил ему даже жениться. Теперь Василий вступил в брак. Но личная жизнь не устроила жизни государственной — новый Дмитрий шел уже на Москву.
1606–1607 год Восстание И. И. Болотникова
1606 год Избрание патриархом Гермогена
1606 год Появление в Стародубе Лжедмитрия II (лето)
Провалился и план по высылке из Московии Марины с ее отцом. Заключив с Польшей перемирие, Василий отправил Марину с отцом домой через Смоленск. Но случилось непредвиденное: из-за вооруженных толп ехать прямой дорогой было нельзя, поехали в Углич, оттуда на Тверь, а из Твери на Белую, Мнишеку как-то удалось отправить весточку в Тушино, где уже стоял новый самозванец. Оттуда явился Сапега и повез Мнишеков в стан нового самозванца, причем Марине он говорил, что это чудом спасшийся ее муж. Поскольку Марина мертвого Дмитрия не видела, да если б и увидела, то не узнала бы его в обезображенном трупе, то она даже радовалась будущему свиданию. Она предвкушала встречу и пела.
Эту радость быстро развеял более человечный пан, князь Мосальский, он подъехал к Марининой карете и сказал ей: «Вы, Марина Юрьевна, песенки распеваете, оно бы кстати было, если бы вы в Тушине нашли вашего мужа; на беду, там уже не тот Димитрий, а другой». Марина перешла от песен к рыданиям. Она решилась бежать, но ее таки силком привезли в Тушино. Уговаривали несчастную пять дней. Лучшим средством образумить дочь Юрий нашел одно — поставить в условия, когда она вынуждена будет играть по правилам свою роль — жены царя, кто бы он ни был. Юрий объявил, что за это признание Мнишеки получат 300 000 рублей и Северскую землю с четырнадцатью городами. Марина вовсе не так легко «признала» самозванца мужем. Когда он явился в первый раз, она от него отшатнулась. Пришлось посадить ее под стражу и прибегнуть к отцовским увещеваниям. Вместе с Мнишеком над Мариной работал также какой-то иезуит, который объяснял ей, что это подвиг ради веры. Тут Марина сдалась, только попросила об одном — не спать хотя бы с этим… «Дмитрием», пока он не станет царем. Это ей разрешили.
«На другой день Сапега с распущенными знаменами повез Марину в воровской табор, — пишет Костомаров, — и там, посреди многочисленного войска, мнимые супруги бросились друг другу в объятия и благодарили Бога за то, что дал им соединиться вновь. Жена первого бродяги, Марина Мнишек, признала нового Димитрия за одно лицо с прежним своим мужем, и это много расположило к нему народ. „Стало быть, — говорили, — он и впрямь тот, кто царствовал и кому мы присягали". Были такие, которые не верили, чтоб он был Димитрий, а стояли за него оттого, что не любили царя Василия; и не хотели, чтобы он, неправильно севший на престол, утвердился на нем своим родом. Они хотели через Димитрия свалить с престола Шуйского, а потом извести самого вора, что назывался Димитрием, и выбрать нового царя всею землей. Сперва Димитриева сторона брала верх над Васильевой, но скоро поляки, которые разослали из тушинского стана по разным городам и уездам сбирать продовольствие для войска, наделали народу русскому оскорблений и насилий и так его озлобили, что он повсеместно поднялся и стал приставать к Шуйскому. Тогда царь Василий Шуйский пригласил на помощь шведов. Молодой боярин Михайло Васильевич Скопин-Шуйский, человек необычного дарования, вместе со шведами победил поляков и русских воров, которые держались Димитрия, и освободил Троицкий монастырь от осады. Король польский Сигизмунд III поднялся на Московское государство как будто за то, что во время убийства того царя, что назывался Димитрием, в Москве перебили его подданных, поляков. Сигизмунд осадил Смоленск и послал под Москву, в Тушино, звать к себе тех поляков, которые служили Димитрию. Тогда те московские бояре, что были в Тушине и служили вору, увидали иной способ низложить Василия Шуйского, отстали от вора и заявили, что хотят на московский престол сына Сигизмундова, королевича Владислава. Вор, называвший себя Димитрием, увидал, что ему плохо, и с казаками 7 января 1610 г. убежал в Калугу. За ним побежала и жена его. Весь тушинский табор разошелся. Москва освободилась от осады».
1608 год Выход войск Лжедмитрия II к р. Москве
1609 год Объявление Польшей войны России (лето); начало открытой польско-шведской интервенции
1609 год Начало обороны Смоленска
1609 год Бегство Лжедмитрия II в Калугу
1610 год Вступление Делагарди Я. П. в Москву
Первым из Тушина бежал «Дмитрий» — ему пришлось переодеться в крестьянское платье. Самозванец осел в Калуге, откуда стал посылать письма с призывом бить поляков, а награбленное имущество свозить в Калугу, к нему, истинному царю. С Мариной стали вести переговоры посланцы короля, предлагая ей уехать домой, в Сандомирское воеводство. Но Марина считала себя настоящей царицей, она ведь была венчана на царство. Никуда она ехать не желала.
«Если кем на свете играла судьба, то, конечно, мною; из шляхетского звания она возвела меня на высоту московского престола только для того, чтобы бросить в ужасное заключение; только лишь проглянула обманчивая свобода, как судьба ввергнула меня в неволю, на самом деле еще злополучнейшую, и теперь привела меня в такое положение, в котором я не могу жить спокойно, сообразно своему сану. Все отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронацией, утвержденное признанием за мною титула московской царицы, укрепленное двойною присягою всех сословий Московского государства. Я уверена, что ваше величество, по мудрости своей, щедро вознаградите и меня, и мое семейство, которое достигало этой цели с потерею прав и большими издержками, а это неминуемо будет важною причиною к возвращению мне моего государства в союзе с вашим королевским величеством», — писала она Сигизмунду.
Но Сигизмунд уже вел другие переговоры — с боярами, которые хотели «свалить» Шуйского. Перепуганные бояре, когда Тушинский вор им грозил уничтожением, просили польского короля дать им в цари своего сына — с претендентами из своей среды разобраться не могли. Король милостиво согласился. В самом тушинском лагере после ухода «Дмитрия» началась неразбериха — часть тушинцев требовала идти в Калугу, к «царю», часть — к польскому королю. Марина увещевала их не бросать ее и помочь бороться за московский престол. Дело кончилось большой битвой между сторонниками «вора» и сторонниками короля. Марину потом упрекали, что она стала причиной гибели 2000 человек. Марина решила бежать в Калугу. В своем шатре она оставила письмо, в котором писала среди прочего: «Гонимая отовсюду, свидетельствуюсь Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство. Бывши раз московскою царицею, повелительницею многих народов, не могу возвратиться в звание польской шляхтянки, никогда не захочу этого. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому. Надеюсь, оно будет помнить свою присягу и те дары, которых от меня ожидают». По дороге в Калугу она сбилась с дороги и попала… все к тому же Сапеге. Он стоял в Дмитрове. Сапега был холоден, но вежлив. Ему было не до Марины: на Дмитров шел посланный Скопиным-Шуйским Куракин. Марина предпочла отправиться все же в Калугу. Там вместе с «Дмитрием» она прожила совсем недолго, скоро пришли известия, что поляки разбили войско Шуйского. Это была радостная новость: «вор» с Мариной и отрядом Сапеги снова пошли к Москве. Москва пребывала в недовольстве.
Новгородцы, которые тоже больше потери национальной независимости боялись грабежей и смерти (Иван навсегда их перепугал), тоже просили царя, только у шведов. И получилось, что существует несколько вариантов развития событий: на московский престол садится Владислав, вся Новгородская земля признает (а она признала!) королем наследника шведского престола, царем становится второй самозванец, царем остается Василий Шуйский, либо же бояре прогоняют с народной помощью иностранцев и выбирают царя из своей среды. Запутанная история. Может быть, она развивалась бы и с королевичем (тогда бояре были на все согласны), но Сигизмунд захотел власти для себя — как некогда Иван Грозный (для себя — польской). Польское войско вошло в Москву. Переговоры о Владиславе между панами и русскими послами (среди них был патриарх Филарет, отец Михаила Романова) зашли в тупик: королевич не желал креститься повторно, в греческую веру, Сигизмунд требовал, чтоб ему вернули Смоленск и желал править от имени сына. Патриотам это понравиться никак не могло. Они уже присягали Дмитрию до его мнимой гибели и чудесного воскрешения в другом воплощении. Нравы Дмитрия им не понравились. Слишком свободно вели себя эти поляки. Патриотический интерес подогревала и Русская церковь. Агитатором против поляков стал Гермоген. «Сигизмунд был всею душою католик, — писал Костомаров, — и в своем польско-литовском государстве паче всего о том старается, чтоб весь православный народ, ему подвластный, подчинить власти римского папы. Справедливо было опасаться, чтоб и в Московском государстве, если он им овладеет, не началось того же. Тогдашний глава духовенства патриарх Гермоген, как ему и подобало яко верховному пастырю, стал возбуждать народ на защиту веры. Старик он был крутой, суровый, неподатлив ни на какие прельщения. Поляки никак не могли его обойти и обмануть. С самого начала, как послы русские с ними вошли в согласие, Гермоген один им не верил, не терпел латинства, был против выбора Владислава; притихнул было на время, а как польские хитрости стали выдаваться на явь, так начал писать грамоты и призывал православный русский народ на оборону своей веры. Его воззвание кстати пришлось рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову.
Ляпунов Прокопии Петрович (? — 1611), дворянский сын
Этот человек уже прежде такую силу приобрел в Рязанской земле, что стоило ему слово сказать — и все за ним пойдут. Человек он был горячий, живой, поспешный, поборник по правде, сам был бесхитростен, оттого очень доверчив; но зато, как только становилось ему заметно, что делается не так, как прежде казалось, он тотчас изменялся. Бориса он не любил за его неправды; когда шел против него первый названый Димитрий, Ляпунов искренно поверил, что явился настоящий царевич русский, и все войско склонил на передачу Димитрию; после смерти названого Димитрия не хотел покориться Шуйскому, сначала пошел на него с его врагами, думал, что царствовавший в Москве под именем Димитрия и впрямь спасся от смерти, но потом, уверясь, что обман, отстал от воров, служил Шуйскому, но только по нужде, затем, что надобно под какое-нибудь начальство стать против Смуты; не любил царя Василия, не мог простить ему, что он сел на престол не по закону, не по избранию всей земли Русской, как следовало; затевал было устроить новое избрание волею всей земли, думал посадить на престол боярина Михаила Скопина-Шуйского, но это не удалось — Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610) скоро умер, и, когда пошла ходить весть, что его извели, Ляпунов начал возбуждать народ против Василия, послал брата своего Захара в Москву, и при его содействии Шуйского заставили сложить царский венец».
1610 год Окончание правления Василия Шуйского; пострижение его в монахи; присяга бояр Владиславу
1610 год Подписание договора о признании царевича Владислава Сигизмундовича русским царем; начало правления «Седьмочисленной комиссии»
Василий Шуйский очень не хотел лишаться этого венца. Но тут между враждующими русскими возникло понимание: сторонники «вора» сказали прямо: «сведите Шуйского, а мы своего Димитрия свяжем и приведем в Москву». Предложение москвичам понравилось. Ляпунов отправился со своими людьми прямо к царю Василию и так же прямо спросил того: доколе будет христианская кровь литься? Василий бросился на Ляпунова с ножом.
Сцена, наверно, была уморительная: маленький, сгорбленный Шуйский с ножом и плечистый Ляпунов. Шуйского скрутили, а толпа двинулась вместе с Ляпуновым на Красную площадь, и там Захарий объявил, чтобы собирался совет, кого звать на царство после сведения Шуйского.
К царю Василию отправили боярскую делегацию, и Воротынский, переживший многих, сказал тому: «Вся земля бьет тебе челом; оставь свое государство ради междуусобной брани, затем что тебя не любят и служить тебе не хотят». Шуйский повиновался. Из царских палат он переместился в свой собственный княжеский дом. Во главе нового правительства встал Мстиславский. На другой день в Коломенское тоже отправили делегацию с сообщением, что Василия свели, пора выдавать «вора». Однако за тот бурный день сторонники «вора» решение переменили: они наотрез отказались того выдавать! Москвичи смутились и хотели было снова вернуть власть Шуйскому, даже Гермоген вступился за него. Тогда Ляпунов повел своих людей прямо в дом Василия. Шуйского разлучили с женой и развезли по разным монастырям. Там их постригли, разумеется насильно. Василий сопротивлялся до последнего и кричал, что не хочет в монахи. Его жена в другом монастыре говорила то же самое и просилась к мужу. Гермоген от такого беззакония был в ярости и говорил, что теперь иноком стал тот, кто произносил за Василия слова обета. Но дело было сделано. Василий остался отбывать свою «схиму» в Пудовом монастыре. Гермоген, который царя не любил, теперь агитировал за него, поскольку то, как пострижение произошло и как Василий был сведен с трона, оставило в нем неприятный привкус насилия. Тем временем подошли поляки с гетманом Жолкевским. По другую сторону Москвы стояли войска самозванца. Снова начались переговоры.
Присяга королевичу Владиславу
Марина с «Дмитрием» пыталась договориться с гетманом — то есть отдать северские города и Ливонию взамен на помощь при взятии Москвы, на что гетман только рассмеялся. Он и так уже был в Москве. Переговоры с боярами шли гораздо успешнее. Марине с «Дмитрием» и Заруцким снова пришлось бежать в Калугу: поляки из сторонников «вора» перебежали на сторону своего короля.
Заруцкий Иван Мартынович (? — 1614) — казачий атаман
За три недели были обсуждены особенности нового управления: «Владислав не имел права изменять народных обычаев, отнимать имущества, казнить и ссылать без боярского приговора, обязан был держать на должностях только русских, не должен был раздавать по польским обычаям полякам и литовцам старост, но мог жаловать их деньгами и поместьями наравне с иноземцами, не мог строить костелов и не должен был дозволять насилием и хитростью совращать русских в латинство, обязывался оказывать уважение к греческой вере, не отнимать церковных имений и отнюдь не впускать жидов в Московское государство», — а также запретить переход крестьян от владельца к владельцу. Жолкевский забрал с собой сверженного царя с женой и двинулся к Сигизмунду, стоявшему под Смоленском. Когда король узнал о ходе переговоров, он сказал, что не даст своего сына на московский трон. В Москве об этом не догадывались. В Москве обсуждали опасность появления иноземного королевича. Гермоген сказал так: «Пусть король даст своего сына на Московское государство и выведет своих людей из Москвы, а королевич пусть примет греческую веру. Если вы напишете такое письмо, то я к нему свою руку приложу. А чтоб так писать, что нам всем положиться на королевскую волю, то я этого никогда не сделаю и другим не приказываю так делать. Если же меня не послушаете, то я наложу на вас клятву. Явное дело, что, после такого письма, нам придется целовать крест польскому королю. Скажу вам прямо: буду писать по городам — если королевич примет греческую веру и воцарится над нами, я им подам благословение; если же воцарится, да не будет с нами единой веры, и людей королевских из города не выведут, то я всех тех, которые ему крест целовали, благословлю идти на Москву и страдать до смерти». Бояре понимали, что на таких условиях польский королевич вряд ли станет русским царем. На следующий день, когда Гермоген читал проповедь в соборной церкви, он стал призывать к борьбе за православие, поляки стали бояться восстания, а к патриарху приставили стражу. Весть об этих событиях дошла до второго Ляпунова, Прокопия.
«Прокопий Ляпунов искренно присягнул Владиславу, — писал Костомаров, — думал, что польский королевич примет русскую веру, станет русским человеком и Московское государство усилится, а Польша будет жить с Москвою в дружбе, союзе и согласии, через то, что в одном государстве будет государем отец, а в другом — сын; и оттого Ляпунов скоро привел к присяге всю Рязанскую землю, велел возить припасы польскому войску, стоящему в Москве; но, как только получил Ляпунов от патриарха грамоту да проведал, что делается под Смоленском, тотчас уразумел, что поляки русских дурачат, написал грамоты и разослал в разные города; писал, что вера в опасности, просил, чтобы везде собирались ополчения и выходили по дороге к Москве, а на дороге ополчения сходились бы вместе, как кому пригоднее по пути, и все бы дружно и единомышленно шли выручать от иноверцев и иноземцев царствующий град и его святыню — Божьи церкви, честные образа и многоцелебные мощи. По голосу Ляпунова поднялась земля Рязанская; за нею поднялись Нижний Новгород, Кострома, Галич, Вологда, Ярославль, Владимир и другие города. Ляпунов не разбирал людей, лишь бы шли к нему; всех готов был принимать: он одно конечное дело видел впереди и хотел совершить его как можно скорее». Так родилось первое русское ополчение.
1610 год Новая попытка Лжедмитрия II захватить Москву
1610 год Вступление в Москву польского войска
1610 год Призыв патриарха Гермогена к борьбе против интервентов
Когда об этом ополчении узнал Сигизмунд, он решил, что это проделки русских послов, так что он не нашел ничего лучше, чем этих послов арестовать. Среди арестованных оказался и отец будущего царя Филарет, в миру Федор Никитич Романов. Единственное, что Филарет мог предложить Сигизмунду, — отойти от Смоленска и дать королевича на трон, тогда, обещал он, сразу ляпуновское ополчение от Москвы отойдет. Единственное, чего не желал делать Сигизмунд, — дать королевича и отойти от Смоленска. Он потребовал, чтобы Филарет написал Шеину приказ сдать город, а ополчению — очистить подходы к Москве. Филарет отказался. Он уже многое на своем веку испытал — и опалу Годунова, и пребывание против воли в тушинском лагере, теперь вот — арест у польского короля. Так что он не удивился, когда Сапега ему объявил, что следующим утром его с другими послами отправят в Польшу. Теперь Филарет становился пленником. На долгие, как оказалось, годы.
Междуцарствие
Зимой 1610 года, когда вместо королевича Владислава Москва получила польскую войну с Сигизмундом и ополчение Ляпунова, случилось радикальное событие и в жизни Марины. Неожиданно ее «Дмитрий» был убит.
1610 год Убийство Лжедмитрия II
Случилось так, что сын касимовского царя Уруз-Махмета пристал к самозванцу и не желал уходить из Калуги. Отец поехал его уговаривать, уговоры ни к чему не приводили, но нервировали «Дмитрия». Пригласив Уруз-Махмета на охоту, самозванец там его и убил, а всем сообщил, что царь куда-то пропал. Но неожиданно явился мститель — друг Уруз-Махмета, крещеный татарин Петр Урусов. Сначала «Дмитрий» посадил его в тюрьму, потом поддался на просьбы Марины и выпустил, даже пробовал обласкать, но мститель выжидал удобного случая. Однажды «Дмитрий» поехал с ним и другими татарами на прогулку, Петр Урусов снес ему саблей голову и вместе с татарами бежал. Марина тогда была уже почти на сносях, она отправилась разыскивать тело «мужа», нашла, привезла в Калугу на санях, рыдала и просила об одном: отплатить убийцам.
Татарам отплатили казаки Заруцкого. Теперь они стали охраной и судьбой Марины. Через несколько дней она родила сына, которого нарекла Иваном. Заруцкий, лишившись самозванца, обрел наследника. Марину он не выпускал из виду. Из Калуги, принужденной сдаться Сапеге, он увез ее в Тулу. А сам отправился в лагерь Ляпунова. Тот ради благой идеи войны с иноземцами принимал к себе всех. Принял и Заруцкого с Трубецким.
Заруцкий вынашивал свои планы — он желал перехватить власть у Ляпунова — так что между ними был видимый мир и скрытая ненависть. Когда ополчение осадило Москву и никак не могло ее взять, среди осаждающих распространилась грамотка, что Ляпунов хочет войти в столицу, а потом всех казаков перевешать. Ляпунов ничего такого не желал, но с казаками он поступал жестоко, особенно с теми, которые прежде служили у «вора», — некоторых за неповиновение он и на самом деле поубивал, так что навету легко и быстро поверили. В начавшейся сваре Ляпунова зарубили саблями.
Теперь Москву осаждали уже ополченцы во главе с казаками. Этого испугалась часть ополчения и просто сбежала, испугались этого и в Москве. Там казаков иначе чем разбойников не воспринимали. Но для Марины и Заруцкого после смерти Ляпунова открылся просвет в будущее: Марина тут же объявила своего Ивана законным царевичем. Казаки присягнули младенцу. На это откликнулся из своего заточения Гермоген: «Проклят от святого собора и от нас» — таков был его приговор.
По всей земле шли нестроения: самозванцев появилось множество — в каждой земле свой и все чудом спасшиеся. Московское государство, как говорит Костомаров, дошло до последнего конца.
1611 год Формирование в Рязани первого ополчения; начало продвижения к Москве
1611 год Восстание в Москве против поляков
1611 год Распад первого ополчения
Люди были добычей для всевозможных бандитских шаек, наводнивших страну. По рассказам очевидца, «некоторые были все испечены огнем; у иных вырваны на голове волосы; множество калек валялось по дорогам, у иных были вырезаны полосы кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у кого были следы обжогов на теле от распаленных камней». Добавьте к этому голод, болезни и мор — картина будет полной. И снова спасителем отечества выступила Церковь — теперь уже грамоты рассылали из Троицко-Сергиева монастыря. Собралось второе ополчение под водительством мясника Минина и князя Пожарского. Этому ополчению удалось дойти до Москвы, соединиться с частью казаков (куда ж без них?) и взять город. Заруцкий с Мариной и ее сыном бежали сначала в Лебедянь, потом в Воронеж, потом на Дон. Шел уже 1612 год.
1612 год Начало формирования второго ополчения Минина и Пожарского
1612 год Разгром вторым ополчением гетмана Хоткевича под Москвой
1612 год Освобождение вторым ополчением Москвы
Поляки и часть сочувствующих им бояр затворились в Кремле. Русские послали им письмо, чтобы они сдались, и обещали свободный выход в Польшу. Поляки этому «свободному выходу» не верили. Они стали держать оборону. Отважный польский пан Струсь, руководивший обороной, отписал осаждающим гордую грамотку: «Вы, москвитяне, самый подлейший в свете народ, похожи на сурков, только в ямах умеете прятаться, а мы такие храбрецы, что вам никогда не одолеть нас. Мы не закрываем перед вами стен, берите их, коли вам надобно. Вот король придет, так он покарает вас, а тебя, архибунтовщик Пожарский, паче всех».
Продовольствия в Кремле почти не было. Начался голод, да такой, что ели человеческое мясо. Сил стоять на стенах у осажденных не осталось. Только тогда они наконец, 24 октября, открыли ворота и сначала выпустили укрывшихся там горожан, а через день вышли сами с теми боярами, которые им сочувствовали.
Казаки хотели бояр тут же и порешить, спасло лишь заступничество князя Пожарского. Пленных поляков по традиции развели по городам, многих по дороге перебили. Сигизмунд, вступивший было в пределы Московии, повернул назад. Так кончилась эпопея с приглашением королевича и принесенной ему присягой жителями Московского царства. Был еще шведский королевич, узнав о московских событиях, шведы послали сказать, что готовы его прислать для возведения на престол, но тут уж Москва ответила, что не хочет никакого шведского королевича. Стали готовиться к созыву Земского собора 1613 года.
Царь Михаил Федорович Романов 1613–1645
Михаил Федорович (1596–1645) — первый русский царь из новой династии бояр Романовых. Михаил — сын боярина Федора Никитича Романова (после пострижения патриарх Филарет) и Ксении Ивановны, урожденной Шестовой. Родился в июне 1596 г.; умер от водянки в возрасте 49 лет
По поводу этого собора осталось такое сказание:
«По взятии царствующаго града Москвы многих литовских людей посекоша, а больших панов по темницам разсадиша и по городом розвозиша, но мысль имеяше с Литвою мирнаго времени. Донских же и польских казаков въехаше в Москву тогда сорок тысящ, а поборники по царствующему граду Москве и по православной вере християнской. И хожаху казаки в Москве толпами, где ни двигнутся гулять в базарь — человек 20 или 30, а все вооруженны, самовластны, а меньши человек 15 или десяти никако же не двигнутся. От боярска же чина нихто же с ними глаголети не смеюще и на пути встретающе и бояр же в сторону воротяще от них, но токмо им главы своя поклоняюще.
Князи ж и боляра московские мысляще на Росию царя из вельмож боярских и изобравше седмь вельмож боярских: первый князь Феодор Ивановичь Мстиславской, вторый князь Иван Михайловичь Воротынской, третей князь Дмитрей Тимофиевичь Трубецкой, четвертой Иван Никитин Романов, пятый князь Иван Борисовичь Черкаской, шестый Феодор Ивановичь Шереметев, седьмый князь Дмитрей Михайловичь Пожарской, осмый причитается князь Петр Ивановичь Пронской, но да ис тех по Божии воли да хто будет царь и да жеребеют. А с казаки совету бояра не имеющи, но особь от них. А ожидающи бояра, чтобы казаки из Москвы вон отеехали, втаи мысляще. Казаки же о том к бояром никако же не глаголете, в молчании пребывая, но токмо ждуще у боляр, кто от них прославится царь быти. Князь же Дмитрей Тимофиевичь Трубецкой учрежаше столы честныя и пиры многая на казаков и в полтора месяца всех казаков, сорок тысящ, зазывая к собе на двор по вся дни, чествуя, кормя и поя честно и моля их, чтоб быти ему на Росии царем и от них бы казаков похвален же был. Казаки же честь от него приимающе, ядяще и пиюще и хваляще его лестию, а прочь от него отходяще в свои полки и браняще его и смеющеся его безумию такову.
Князь же Дмитрей Трубецкой не ведаше лести их казачей. Казаки же не можаху дождати от боляр совету их, хто у них будет царь на Росии. И советовав всем казачьим воинством и приступиша казаков до пяти сот и больше ко двору крутицкаго митрополита, и врата выломали, и всыпали во двор, и глаголеша з грубными словесы митрополиту: „Дай нам, митрополит, царя государя на Росию кому нам поклонитися и служити и у ково жалованья просити, до чево нам гладною смертию измирати!"
Митрополит же страхом одержим и бежа через хоромы тайными пути к бояром и сказа все по ряду боляром: „Казаки хотят мя жива разторгнути, а протают на Росию царя“.
Князи же и боляра, и дворяне, и дети боярские возвестиша друг друга и собрався на соборное место, и повестиша казаков на собор. И приидоша атаманы казачьи и глаголеша к бояром: „Дайте нам на Росию царя государя, кому нам служитиБоляра же глаголеху: „Царския роды минушася, но на Бога жива упование возложим, и по вашей мысли, атаманы и все войско казачье, кому быти подобает царем, но толико из вельмож боярских, каков князь Федор Ивановичь Мстиславской, каков князь Иван Михайловичь Воротынской, каков князь Дмитрей Тимофиевичь Трубецкой". И всех по имени и восьмаго Пронскаго.
Казаки же слушая словес их, изочтоша же всех. Казаки же утвержая боляр: „Толико ли ис тех вельмож по вашему умышлению изобран будет?" Боляра же глаголеша: „Да ис тех изберем и жеребьяем, да кому Бог подаст". Атамань же казачей глагола на соборе: „Князи и боляра и все московские вельможи, но не по Божии воли, но по самовластию и по своей воли вы избираете самодержавнаго. Но по Божии воли и по благословению благовернаго и благочестиваго, и христолюбиваго царя государя и великого князя Феодора Ивановича всея Русии при блаженной его памяти, кому он, государь, благословил посох свой царской и державствовать на Росии князю Феодору Никитичи) Романову. И тот ныне в Литве полонен, и от благодобраго корене и отрасль добрая и честь, сын его князь Михайло Федорович. Да подобает по Божии воли на царствующим граде Москве и всея Русии да будет царь государь и великий князь Михайло Федоровичь и всея Русии". И многолетствовали ему, государю.
Бояра же в то время все страхом одержими и трепетни трясущеся, и лица их кровию пременяющеся, и ни единаго никако же возможе что изрещи, но токмо един Иван Никитичь Романов проглагола: „Тот князь Михайло Федоровичь еще млад и не в полнем разуме, кому державствовати?" Казаки же глаголеша: „Но ты, Иван Никитичь, стар полне разуме, а ему, государю, ты по плоти дядюшка прироженный и ты ему крепкий потпор будеши". И изобравше посланных от вельмож и посылая ко граду Костроме ко государю князю Михаилу Федоровичи). Боляра же разыдошася вси восвояси. Князь же Дмитрей Трубецкой, лицо у него ту с кручины почерне, и паде в недуг, и лежа три месяца, не выходя из двора своего. Боляра же умыслише казаком за государя крест целовать и из Москвы бы им вон выехать, а самим бы им креста не целовати. Казаки же ведяще их злое лукавство и принужающе прежде, при себе, их, бояров крест целовати. Целовав же [боля]ра крест, та же потом и казаки крест целовав, на Лобное место вынесоша шесть крестов, поставиша казаком на целование. И приехав государь от Костромы к Москве и поклонишася ему вси, и утвердиша на царствующий град Москву и всея Русин государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии. Казаки же вси, выехав из Москвы, сташа в поле».
Так общим приговором на царство был избран несовершеннолетний Михаил Романов и началась новая династия — Романовы. Новгородцам в конце концов удалось избавиться от своего королевича и вернуться в лоно Москвы. А Марина? Марина с казаками Заруцкого была в Астрахани. Она стала заложницей. Из Астрахани Заруцкий пытался поднять на новую войну донских и волжских казаков, но этого не удалось. Астраханцы же целовали крест новому царю Михаилу, и Заруцкому пришлось снова бежать — теперь на Яик. Там на одном из островов стоял казачий военный лагерь, только теперь командовал в нем уже не Заруцкий, а новый атаман — Треня Ус. Этот новый атаман держал и Марину, и Заруцкого точно в плену, а «знамя» их — Ивана — отобрал и к матери не допускал. Стрельцы, окружив казаков, вынудили тех сдаться, и казаки присягнули Михаилу, Заруцкого, Марину и ее сына отвезли в Москву.
Судьба всех этих людей была кошмарной: Заруцкого посадили на кол, сына Марины, «воренка» как возможного претендента на престол повесили за Серпуховскими воротами при стечении толпы (несчастному было четыре годочка), а Марина от горя и страданий, выпавших вместо русской короны, умерла в каземате. В памяти народной эта венчанная на царство польская панна осталась как «Маринка-безбожница и еретица».
1613 год Согласие бояр на избрание царем 16-летнего Михаила Романова
1613 год Избрание Земским собором Михаила Федоровича Романова царем
1613 год Венчание на царство Михаила Федоровича
1613 год Бегство Марины Мнишек и атамана 1613 год Заруцкого И. М. в Астрахань, а затем на Яик
1614 год Подавление мятежа Заруцкого И. М.; восстание против него его сторонников
1614 год Умер Заруцкий Иван Мартынович
1614 год Умерла Марина Мнишек
Смутное время на самом-то деле вовсе не завершилось избранием на царство Михаила Романова. Избранный государь был шестнадцатилетним мальчиком (не везло с царским возрастом этой стране и впоследствии), окружавшие его бояре правили от имени малолетнего Мишеньки.
«Внутри государства многие города были сожжены дотла, — пишет об этом времени Костомаров, — и самая Москва находилась в развалинах. Повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, сжигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутренние области сильно обезлюдели. Поселяне еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета: в казне не было денег, и трудно было собрать их с разоренных подданных. Одна беда вела за собою другие, но самая величайшая беда состояла в том, что московские люди, по меткому выражению матери царя, „измалодушествовались". Всякий думал только о себе; мало было чувства чести и законности. Все лица, которым поверялось управление и правосудие, были склонны для своих выгод грабить и утеснять подчиненных не лучше казаков, наживаться за счет крови бедного народа, вытягивать из него последние соки, зажиливать общественное достояние в то время, когда необходимо было для спасения отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчас окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себе как можно более земель и присваивали даже государевы дворцовые села. В особенности родственники его матери, Салтыковы, стали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя, между тем как лучшие, наиболее честные деятели Смутного времени, оставались в тени зауряд с другими. Князь Дмитрий Пожарский, за нежелание объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову, выдан был ему головою. Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией: все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды. Мучительства Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смуты и полное расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При новом шестнадцатилетнем царе не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава, не одарен блестящими способностями, но не лишен ума; зато не получил никакого воспитания и, как говорят, вступивши на престол, едва умел читать». По сравнению с убитым первым Дмитрием Мишенька был ничтожеством. Единственное, что могло радовать, — способ избрания вроде бы как демократический. Радовала немного и данная Михаилом по восшествии на престол запись, то есть обещание — никого без суда не казнить и все дела делать сообща с боярами и думными людьми. Чем не отблеск введенного Дмитрием сената? Но на самом деле так было только первые годы его правления. Да, царь собирал земские думы из выборных от всей земли людей и стремился решать важные государственные дела боярским приговором. Решались дела гадко, земская дума оказалась неспособной к управлению. Всюду чинилось то же насилие, что и прежде, точно так же воровали и обманывали, народу при новом царе жилось ничуть не проще, чем вовсе без всякого царя. Разбойники бродили по всему государству, к этим разбойникам добавились теперь еще и служилые люди, которым царь не мог ничего заплатить из казны, потому как казна была пустая. Служилые этих разбойных склонностей даже и не скрывали: они так и писали царю, что будут грабить, пока им не станут платить. Иностранцы, тогда посещавшие Московское царство, рассказывали, что постоянно проезжали мимо пустых горелых деревень, где в избах лежали мертвые тела. Так чем же тогда это начало правления отличается от предшествовашей ему Смуты? Да ровно ничем! Ко всему прочему на фоне этой всеобщей разрухи в земле и в мозгах на Москву собрался идти повзрослевший Владислав, отлично помнившии, что ему целовали крест. Ь> такой ситуации было чудом, что нищий, голодный и ежедневно пребывающей в кошмаре народ смог выставить войско, которое хоть как-то пыталось воевать с Владиславом. Эти военные действия были скорее эпизодические, чем постоянные, между такими действиями все время велись и велись переговоры. Уже известный нам Сапега восклицал, что Москва-то присягала Владиславу, следовательно, Михаил незаконно занял трон. Московские послы напоминали: «Вы нам не дали королевича, когда мы его избрали; и мы его долго ждали; потом — от вас произошло кровопролитие, и мы выбрали себе другого государя, целовали ему крест; он венчан царским венцом, и мы от него не отступим. Если вы о королевиче не перестанете говорить, то нечего нам с вами и толковать».
В конце концов между Польшей и Москвой было подписано мирное соглашение. Владислав отказался от претензий на престол, а Москва несколько потеряла в территории. Соглашение подписали в декабре 1618 года, а в июле Польша вернула Москве «потерянное посольство» во главе с Филаретом. На этом, собственно, правление Мишеньки завершилось, началось правление Филарета. Михаил Федорович даже и не скрывал причастности к государственным делам своего отца, правление было столь же замечательным, как двуглавый орел, даже более того, хотя считалось, что Филарет представляет власть сугубо духовную, а Михаил светскую, светская голова этого орла ровно ничего не значила, власть была целиком в руках патриарха. Встреча светской и духовной властей была обставлена в лучшей христианской традиции: Михаил «встретил его за городом при бесчисленном множестве народа и поклонился ему в ноги, а Филарет поклонился в ноги царю, и оба лежали на земле, проливая слезы». На лице безмолвного свидетеля этой встречи — народа — читалось умиление.
«До сих пор царь Михаил, человек очень кроткого характера, мягкосердечный, был только по имени самодержцем, — пишет Костомаров. — Окружавшие его бояре дозволяли себе своевольства. Все управление государством зависело от них. Но Филарет, человек с твердым характером, тотчас захватил в свои руки власть и имел большое влияние не только на духовные, но и на светские дела. Без его воли ничего не делалось. Иностранные послы являлись к нему как к государю. Сам он, как и сын, носил титул великого государя. В его личности было что-то повелительное, царственный сын боялся его и ничего не смел делать без его воли и благословения. Бояре и все думные и близкие к царю люди находились у него в повиновении; правдивый и милостивый с покорными, он был грозен для тех, кто решался идти против него, и тотчас отправлял в ссылку строптивых. Во всей патриаршей епархии, которая обнимала большую часть Московского государства, кроме Казани и Новгорода, все монастыри со всеми их имениями отданы были его управлению, исключая уголовных дел. Все важные указы царя писались не иначе как с совета отца его. Одним из первых дел периода власти Филарета в области светского управления было собрание земской думы, которая должна была представить полное изображение разоренного состояния государства, сообщить меры, „чем Московскому государству полнится, и устроить Московское государство так, чтобы пришли все в достоинство“, а государь при содействии отца своего обещал „промышлять, чтобы во всем поправить и как лучше“.
Тогда, по настоянию Филарета, были посланы в те города Московского государства, которые уцелели от разорения, писцы, а в разоренные города „дозорщики", привести в известность состояние государства и возвратить разбежавшихся посадских и волостных людей на прежние места жительства, чтобы они правильно платили государству подати. В духовном управлении Филарет был строг, старался водворить благочиние как в богослужении, так и в образе жизни духовенства, преследовал кулачные бои и разные народные игры, отличавшиеся непристойностью, наказывал как безнравственность, так и вольнодумство». Так вот послушный Михаил твердой рукой своего отца был превращен в истинного самодержца. Но даже Филарет не смог полностью преодолеть последствий Смутного времени. Его страшно боялись, однако воровали и обманывали ничуть не меньше, чем при молодом царе. Особый надзор Филарет, однако, ввел за употреблением спиртных напитков, но вовсе не потому, что пьянство нехорошая вещь, а именно потому, что она неискоренимая.
С легкой руки Филарета, государство стало держать алкогольную монополию. Во всех приграничных городах были введены таможенные головы, которые сперва отсматривали приходящий из-за границы товар, потом отбирали наиболее ценное в казну (вина, редкие товары), казна далее занималась продажей на своих условиях. Доход был прекрасный. Кабаков по Русской земле развелось огромное количество. Казна весьма старалась, чтобы народ пил побольше, поскольку выгоды от этого предприятия были огромные. Раб, пристрастившийся к бутылке, — многажды раб. Благодарите за это патриарха Филарета и сына его Михаила, первого из Романовых. Ввел Филарет и некоторые особые торговые черты московского быта. Он предоставил право беспошлинной торговли иноземцам, а своих, местных, ограничил. Теперь самые лучшие товары по твердой московской цене скупали торговцы из Москвы. И посмели бы вы московскому купцу, присланному в провинцию от самого царя, не продать товара по установленной государством цене. Провинциалы сердились и жаловались — результат был все равно один. Всю важную торговлю Москва забрала в свои руки.
«Тогда, — жаловался летописец. — было много насилия и грабежа: деньги дают дурные, цены невольные, купля нелюбовная, и во всем скорбь великая, вражда несказанная, ни купить, ни продать никто не смеет мимо гостя, присланного из Москвы». Государство то брало себе монополию на лен, то на селитру, то даже на золу, из которой делали селитру, и… государство богатело понемногу, а народ нищал — стремительно. Последствия Смуты имели место быть и во время Филарета, и после смерти Филарета, и при единоличном уже управлении самого заматеревшего Михаила. Но христолюбивого государя, избранного всем народом, народ интересовал только как средство пополнения казны. Только для этого он и был нужен. Так что не стоит обольщаться, что первая пара Романовых хоть как-то улучшила положение простого человека и покончила со Смутой.
Между прочим, в конце правления Михаила отголосок Смутного времени предстал даже не в народной жизни, воистину печальной, а скорее — в жизни политической. Вдруг Михаилу стало известно, что где-то в государстве Польском живет себе поживает некий юноша по имени Луба, которого много лет тому назад, когда еще была жива Марина и ее сын Иван, Заруцкий готовил для спасения претендента на русский престол: мальчика тогда собирались подменить этим его сверстником — сиротой Лубом. Затея не удалась. Ивана повесили, а Луба остался в живых. Но само существование Лубы никак не давало покоя Михаилу Федоровичу, почему-то он вдруг решил, что даже этот Луба опасен для его монархической самодостаточности. Так что между Москвой и Польшей начались переговоры о выдаче Лубы, чтобы… да, конечно, умертвить. Несчастный Луба, который сперва (при Владиславе) именовал себя не иначе чем царевичем русским, давно уже служил писарем у поляка Осиновского и забыл о своем «царском» имени. Но Михаил Федорович вцепился в него мертвой хваткой, Лубу затребовали в Москву. За несчастного вступились польские ксендзы, которые твердили русскому самодержцу, что Луба неопасен и вообще собирается стать монахом, на что получили ответ: и первый Дмитрий тоже был вроде как монахом. Только смерть Михаила спасла этого бедного Лубу от виселицы. А теперь подумайте: насколько должна быть слаба, труслива, мнительна и осторожна абсолютная самодержавная власть, если она собирается казнить совсем не опасного интригана и претендента на ее престол, а беззащитного человека, некогда избежавшего — почти что чудом — смерти от веревки у Серпуховских ворот почти что целую жизнь назад? Неудивительно, что цари, с таким страхом глядящие в будущее, не могли править этой страной иначе чем все больше огрничивая права своего народа. Впрочем, о каких это я правах? Где вы видели права у рабов? Некому пока что было показать, что такое вольный народ и что такое права свободного человека. Эта надежда на свободу блеснула кратко во времена Смуты, блеснула — и тотчас угасла. Носители этой свободы очень уж не понравились москвичам. Не понравились… но запомнились.
Казачья вольница
Стоявшие за Дмитрия, а потом за Владислава, а потом за Москву, а потом изгнанные прочь, казаки во всем великолепии были продемонстрированы московскому народу именно в начале XVII века. Это были южнорусы, то есть потомки жителей Киевского государства. В силу расхождения путей государственности они тогда оказались в объединенном польсколитовском королевстве. Предтеч казаков Костомаров видел еще в бежавших на окраины Киевской Руси людей, желавших жить по собственной правде и собственному закону — то есть по собственной, а не княжеской правде.
«Козачество началось в XII–XIII веках, — писал он, — к сожалению, история Южной, Киевской, Руси, как-будто проваливается после татар. Народная жизнь XIV и XV веков нам мало известна; но элементы, составлявшие начало того, что явилось в XVII веке ощутительно, в форме казачества, не угасали, а развивались. Литовское владычество обновило одряхлевший, разложившийся порядок, так точно, как некогда прибытие Литовской Руси на берега Днепра обновило и поддержало упавшие силы, разложившиеся под напорами чуждых народов. Но жизнь пошла по-прежнему. Князьки не Рюрикова, но уже нового, Гедиминова дома, обрусев скоро, как и прежние, стали, как эти прежние, играть своею судьбою. До какой степени было здесь участие народа, за скудостию источников нельзя определительно сказать; несомненно, что в сущности было продолжение прежнего: те же дружины, те же воинственные толпы помогали князьям, возводили их, вооружали одних против других. Соединение с Польшею собрало живучие элементы Руси и дало им другое направление: из неоседлых правителей, предводителей шаек, оно сделало поземельных владетелей; является направление заменить правом личные побуждения, оставляя в сущности прежнюю ее свободу — соединить с гражданскими понятиями и умерить необузданность личности.
Народ, до того времени вращавшийся в омуте всеобщего произвола, то порабощенный сильными, то, в свою очередь, сбрасывающий этих сильных для того, чтоб возвести других, теперь подчиняется и порабощается правильно, то есть с признанием до некоторой степени законности, справедливости такого порабощения. Но тут старорусские элементы, развитые, до известной степени, еще в XII веке и долго крывшиеся в народе, выступают блестящим метеором в форме казачества. Но это казачество, как возрождение старого, носит в себе уже зародыш разрушения. Оно обращается к тем идеям, которые уже не находили пищи в современном ходе исторических судеб. Казачество XVI и XVII и удельность в XII и XIII веках гораздо более сходны между собою, чем сколько можно предположить: если черты сходства внешнего слабы в сравнении с чертами внешнего несходства, зато существенно внутреннее сходство. Казачество тоже разнородного типа, как древние киевские дружины; так же в нем есть примесь тюркского элемента, так же в нем господствует личный произвол, то же стремление к известной цели, само себя парализующее и уничтожающее, та же неопределительность, то же непостоянство, то же возведение и низложение предводителей, те же драки во имя их. Может быть, важным покажется то, что в древности обращалось внимание на род предводителей, их происхождение служило правом, а в казачестве, напротив, предводители избирались из равных. Но скоро уже казачество доходило до прежнего удельного порядка и конечно бы дошло, если бы случайные обстоятельства, часто мимо всяких предполагавшихся законов поворачивающие ход жизненного течения, не помешали этому».
Казачество, честно говоря, не понравилось не только русскому боярству, не понравилось оно и местному простому народу. Слишком мужик был воспитан в рабстве и нежном отношении к тому, кто его наказывает, чтобы вдруг осознать, что могут существовать люди, которые в противовес рабству ставят личную свободу, пусть это свобода принимать неправую (с московской точки зрения) сторону. В казаках москвичам не понравилось все — от их образа жизни, скажем так, протекающего между пьянкой и грабежом, до их стихийной демократичности. Не одним москвичам в XVII столетии это очень не нравилось. Казаков не любили и польские паны, хотя эти странные «вольные» люди автоматически входили в состав Польского униатского государства. Казаки тоже ненавидели своих панов. К тому времени русские князья и дворяне уже вовсе не столь сильно держались за свое православие. Многим стало понятно, что верящим по латинскому образцу живется легче и прибыльнее. Меньше всего эти греческой веры господа желали, чтобы кто-то их держал за людей второго сорта. Так что мало-помалу, но русские аристократы Литвы и Польши благополучно становились настоящими аристократами — они успешно переходили в католицизм или униатскую церковь, возникшую на свободных от московской косности землях после Флорентийской унии.
После этого польско-литовское общество делилось больше не по религиозному признаку, а по признаку происхождения: русские князья стали такими же панами, ровно с такой же католической верой, а русские простолюдины остались со своим православием. Так и говорили: паны католики, а православные — мужики. По складу характера, по быту, по невыносимости подчиниться силе, эти русские южные люди стояли гораздо ближе к полякам, чем к москвитянам. «Но зато, при такой близости, есть бездна, разделяющая эти два народа, — объяснял Костомаров, для которого это были не слова, а полученные опытом жизни в малоросской среде ощущения, — и притом — бездна, через которую построить мост не видно возможности. Поляки и южнорусы — это как бы две близкие ветви, развившиеся совершенно противно: одни воспитали в себе и утвердили начала панства, другие — мужицства, или, выражаясь словами общепринятыми, один народ — глубоко аристократический, другой — глубоко демократический.
Но эти термины не вполне подходят под условия нашей истории и нашего быта; ибо как польская аристократия слишком демократическая, так, наоборот, аристократична южнорусская демократия. Там панство ищет уравнения в своем сословии; здесь народ, равный по праву и положению, выпускает из своей массы обособляющиеся личности и потом стремится поглотить их в своей массе. В польской аристократии не могло никак приняться феодальное устройство; шляхетство не допускало, чтоб из его сословия одни были по правам выше других. С своей стороны, южнорусский народ, устанавливая свое общество на началах полнейшего равенства, не мог удержать его и утвердить так, чтоб не выступали лица и семьи, стремившиеся сделаться родами с правом преимущества и власти над массою народа. В свою очередь, масса восставала против них то глухим негодованием, то открытым противодействием. Вглядитесь в историю Новгорода на севере и в историю Гетманщины на юге. Демократический принцип народного равенства служит подкладкою; но на ней беспрестанно приподнимаются из народа высшие слои, и масса волнуется и принуждает их уложиться снова. Там несколько раз толпа черни, под возбудительные звуки вечевого колокола, разоряет и сжигает дотла Прусскую улицу — гнездо боярское; тут несколько раз черная, или чернейшая, рада истребляет значных кармазинников; и не исчезает, однако, Прусская улица в Великом Новгороде, не переводятся значные в Украине обеих сторон Днепра. И там и здесь эта борьба губит общественное здание и отдает его в добычу более спокойной, яснее сознающей необходимость прочной общины народности.
Замечательно, как народ долго и везде сохраняет заветные привычки и свойства своих прародителей: в Черноморье, на Запорожском новоселье, по разрушении Сечи, совершалось то же, что некогда в Малороссии. Из общин, составлявших курени, выделились личности, заводившие себе особые хутора. В южнорусском сельском быту совершается почти подобное в своей сфере. Зажиточные семьи возвышаются над массою и ищут над нею преимущества, и за то масса их ненавидит; но у массы нет понятия, чтоб человек лишался самодеятельности, нет начал поглощения личности общинностию. Каждый ненавидит богача, знатного, не потому чтоб он имел в голове какую-нибудь утопию о равенстве, а, завидуя ему, досадует, почему он сам не таков.
Судьба южнорусского племени устроилась так, что те, которые выдвигались из массы, обыкновенно теряли и народность; в старину они делались поляками, теперь делаются великороссиянами: народность южнорусская постоянно была и теперь остается достоянием простой массы. Если же судьба оставит выдвинувшихся в сфере прадедовской народности, то она как-то их поглощает снова в массу и лишает приобретенных преимуществ».
Константин Острожский
Если обратиться к польским событиям конца XVI века, то понятно, почему народ отшатнулся от готовящейся тогда унии: между самими церковными деятелями не было согласия, это вносило в умы такую путаницу, что не приведи бог. «Где-то была опасность, измена, — говорил Костомаров, — но где — неизвестно; владыки друг друга подозревают, каждый себя оправдывает, каждый порознь — блюститель православия и каждый другого боится. Казалось, можно ли было чему-нибудь составиться в таком хаосе!.. Владыки увидели необходимость во что бы то ни стало еще раз попытаться расположить к делу важнейших панов. Митрополит обратился к литовскому пану Федору Скумину-Тишкевичу, а Поцей к южнорусскому, Константину Острожскому.
Константин Константинович Острожский (1526–1608) — князь из рода Острожских, киевский воевода, покровитель православной веры, основал острожскую типографию, защищал православие во время введения Брестской унии; заботился о развитии просвещения, издавая книги, учреждая школы, оказывая покровительство ученым. В 1602 г. принимал у себя будущего царя Лжедмитрия I.
Митрополит отправил к Скумину-Тишкевичу копию с согласия епископов, где не было его имени; и прикидывался православным и неповинным, поставил, как сказано, на письме ложно из Новогрудка, жаловался, что все это настроил Кирилл Терлецкий, которому хочется быть митрополитом, и уверял, что сам он, митрополит, не приступит ни к чему решительному без воли и согласия пана воеводы. Поцей, снова взявши на себя склонить Острожского, поступал с ним так же, как митрополит со Скуминым-Тишкевичем: начал с того, что выставлял себя православнее своих товарищей, роптал, что на него сочиняют небылицы — будто он хочет ввести в православное богослужение римские опресноки, и вообще перетолковывают в дурную сторону съезды епископов. Он прислал князю копию с предложения об унии и припомнил, что Острожский еще прежде духовных особ подавал мысль о соединении церквей, и если кто первый поднял речь об унии, так это он сам…
Острожский, вооружая своими посланиями Русь против замышляемой унии, грозил даже употребить силу, если б нужно было, а у него была в распоряжении вооруженная сила; могло дойти до междоусобной войны: на стороне Острожского было политическое право; не только православные, но и дворяне других вер могли обвинять способ действия владык, потому что решать важные дела церковные, гражданские и политические можно было только общим согласием…
Между тем еще до приезда Поцея в Краков король, узнавши, что все епископы подписали письмо к папе, издал универсал от 31 июля, извещающий о правах и преимуществах русских иерархов; кроме подтверждения старых прав в нем предоставлялось русскому духовенству пользоваться такими же знаками уважения, какие составляли отличие римско-католического духовенства в Речи Посполитой; учреждались при владыках капитулы, подобно как они находились при римскокатолических епископах, запрещалось всем светским властям вмешиваться в церковные суды и церковное управление и повелевалось светским властям оказывать епископам всякое содействие по их востребованию. Король был уверен, что после подписи епископов дело слажено. Но когда Поцей и Терлецкий явились к королю и известили его, что Острожский слышать не хочет об унии иначе как при посредстве собора, и притом такого собора, где бы наравне с духовными имели голоса и светские, то Сигизмунд пришел в раздумье.
С одной стороны, дозволить делу совершаться без собора — значило раздражить Острожского, а за ним и все южнорусское дворянство, на которое Острожский имел громадное влияние: подан был бы чрез то повод к ропоту на стеснение прав свободы убеждений, которыми еще так дорожило все шляхетское сословие; это могло бы поставить против унии не одних православных, но и все вообще шляхетство, даже горячих католиков, потому что и те были столько же католики, сколько свободные граждане польской Речи Посполитой. С другой стороны, дозволить собраться собору — значило дозволить светским обсуждать дело унии, а это значило подвергнуть дело это неизбежному разрыву: тогда начались бы нескончаемые толки; они бы отдаляли только возможность окончания; надобно было ожидать, что Острожский потребует, чтобы прежде сношений с папой снестись с восточными патриархами и с московским, а это могло бы пробудить усыпленные временем недоумения; к церковным вопросам приметались бы и политические, и вместо соединения произошли бы новые раздоры. Но Острожский сам дал повод Сигизмунду выйти из затруднения. Готовясь к созванию собора, Острожский отправил своего дворянина Лушковского в Торн на протестантский собор пригласить диссидентов к совместному противодействию католичеству. Послание, которое повез от князя Лушковский, написано в духе чрезвычайно благосклонном к протестантству и чрезвычайно враждебном к католичеству…
Острожский даже не пренебрегал указывать в случае нужды и на возможность действовать оружием…
Теперь во всяком случае королю должно было казаться невозможным согласиться на собор, когда светские члены этого собора готовятся явиться туда с вооруженным войском; это значило допустить в государстве междоусобие».
Уния была все-таки принята. Скажем, иерархами Православной церкви она была принята на «ура»: «Ревнители православия в то время соболезновали о состоянии Церкви, сознавали недостаточность ее управления и не находили возможности обновить ее влиянием Востока. Между тем высшие духовные сановники Русской церкви, находясь в стране, соединенной политически с католическою страною, принимали такие черты, которые были обычны в средневековой истории западной церкви, но чужды и соблазнительны для православия».
Первоначально никаких ущемлений православных не было. Но русское польское дворянство больше было заинтересовано в сближении с Западом, чем в сохранении веры отцов. Народ этого не понял. Роптал не только народ, роптало и духовенство на местах: «Состояние низшего духовенства было плачевно. Владыки обращались с ним грубо, облагали налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями, не давая никому отчета. Из монастырей, приписанных к архиерейским кафедрам, владыки поделали себе хутора и содержали там псарни. Духовные терпели от произвола старост и владельцев тех имений, где были их приходы. Пан заставляет приходского священника ехать с подводами, берет в услужение его сына, забавляется над ним и над его семьею и по произволу угнетает налогами наравне со своим хлопом. В особенности состояние духовных было подвержено лишениям там, где пан был католик или протестант».
Неудивительно, что начались казачьи бунты. Тогда существовало три разряда казаков — панские, реестровые и нереестровые. Первые имели над собой владычного пана, вроде того Вишневецкого, который с казачеством отправился воевать крымского хана. Реестровые стояли на службе государства. Нереестровые жили вообще даже и не в пределах Польши, многие — на Московской Руси, иные в Сечи, но не подчинялись своему начальству (положение редкостное!), их еще называли «воровскими казками», то есть, грубо говоря, — разбойниками, чем они и были.
В Сечь бежали разные люди — мужики, шляхтичи, горожане и даже священники. Это было демократичное сообщество, в Сечь принимали всех, спрашивая только, какой ты веры. Если греческой, то принимали, если католик… ох, ему не позавидуешь! Естественно, польское правительство попробовало было бороться.
«Вообще, о казацком устройстве состоялось на сейме такое строгое постановление. Казаки ограничиваются шеститысячным числом реестровых и находятся в зависимости от коронного гетмана. Их начальники и сотники должны быть непременно из шляхты. Без позволения гетмана они не смеют переходить через границы королевства ни водою, ни землею, не должны принимать в свое товарищество никого без воли своего старшого, а их старшой — без воли коронного гетмана, а если б казак оставил службу, то другой на его место может поступать только тогда, когда старшой сообщит об этой перемене коронному гетману, у которого должен находиться письменный реестр всех казаков. Не следует принимать в казаки ни в каком случае людей осужденных и к смерти приговоренных. Казаки не должны быть допускаемы в местечки иначе как с позволения старшого или сотника, и притом с письменным от него свидетельством. Чтобы преградить путь своевольным людям наполнять казацкие ряды и составлять шайки, постановлено, чтобы старосты и державцы (т. е. князья и паны в своих родовых имениях) имели урядников, которых бы должность состояла в том, чтобы не пускать никого из городов и местечек и сел на низ и за границу, и, если кто убежит и возвратится с добычею, у того добычу отнимать, а самого бродягу казнить; следует им наблюдать, чтобы никто из казаков никому не продавал пороха, селитры, оружия и живности без позволения старшого, а добычи отнюдь. Непослушные и нестарательные урядники подвергаются наказанию наравне с своевольниками; также и владельцы, если бы против воли гетманской ходили в поле с войском, делали набеги на соседние земли и нарушали мир с соседями, подвергаются наказанию. Сейм учреждал дозорцев, двух числом, которые каждый в своем участке должны наблюдать, чтобы не начиналось какого-либо своевольства, о низовых казаках доносить гетману, а о тех, которые жительствуют в панских владениях, уведомлять владельцев, и паны без всяких проволочек должны карать смертью как своих подданных, так и безземельную шляхту, состоящую у них на службе».
Но меры эти ни к чему хорошему не привели. У казаков появлялся то один, то другой гетман, который водил грабить шляхтичей. В 1593 году таким был Кшиштоф Косиньский, который водил своих казаков грабить имения и сжигать документы дворян: «Вместе с золотом и серебром они забирали непременно пергаменные документы дворян и истребляли их; казаки всегда были враги всякого писаного закона, всякого исторического и родового права. На то у них вольность, равенство, общий приговор; они ненавидели то, что поддерживалось привилегиями, — происхождение и право дворянской власти над людьми. В панских имениях и староствах рабы, почуяв, что можно сбросить с себя ярмо, помогали казакам нападать на панов». Потом был гетман Лобода, который разорил Дунай. В 1594 году появился Северин Наливайко, «он был предводителем вольницы, а не реестровых казаков, но был в ладах с Лободою, гетманом реестровых, как показывает их совместный поход в Молдавию». Интересно, что его родной брат в это же время сражался против казаков, потом помирился с ними, и уже оба брата совместными усилиями громили панов. Меры воздействия на простой народ были тоже просты: кто не присоединялся к войску казаков, того грабили. Наливайко так сумел убедить людей в своей правоте, что к нему приставали даже шляхтичи. Даже после разгрома этого атамана правительство так боялось нового казачьего бунта, что вынуждено было отпустить всех присоединившихся к нему в Сечь, казнили только самого атамана и нескольких предводителей.
В отличие от Московии, где бунты и мятежи было делом почти неслыханным, в Польше это стало явлением обыденным. В целом эти бунты возникали и шли на религиозной основе (то есть, даже если цели были совершенно прагматические, все равно для завлечения желающих выдвигалось религиозное обоснование). После подписания унии вроде бы ничего не изменилось… кроме самих князей и дворян. Они тоже захотели стать настоящей шляхтой.
Так что, когда паны, происходившие из русинов, стали терять православную веру, народ, не желавший веры терять, обратил взоры на Москву. Первая попытка московского контакта была еще при Грозном, когда два войска громили крымского хана — московское и казацкое. Вторая — во время Смуты, когда казаки хотели посадить «истинного царя», ребенка Марины и второго Дмитрия, если тот был его отцом (в чем тоже есть сомнения). Любые попытки контакта никак не удались. В самом Польском государстве становилось тоже очень неспокойно, это неспокойствие как раз и исходило от казаков. Ни паны, ни русские князья не знали, что с этим народом делать. Народ удалился туда, откуда достать его было сложно, — за днепровские пороги, создав там свое собственное казачье государство Запорожскую Сечь. Эта Сечь волком глядела на панов и искала понимания у Москвы. Москва — не понимала. Понять это ей пришлось уже при Алексее Михайловиче Романове. Появился Богдан Хмельницкий.
Богдан Хмельницкий 1595–1657
8 января 1654 г. на Переяславской Раде Богдан (Зиновий) Михайлович Хмельницкий провозгласил воссоединение Украины с Россией
Обличитель польского шляхетства того времени писал о панах так: «Никто не хочет жить трудом, а всякий норовит захватить чужое; легко достается оно и легко спускается. Заработки убогих подданных, содранные иногда с их слезами, а иногда со шкурой, потребляются господами, как гарпиями. Одна особа в один день пожирает столько, сколько зарабатывает много бедняков в долгое время. Все идет в один дырявый мешок — брюхо. Верно, пух у поляков имеет такое свойство, что они могут на нем спать спокойно, не мучась совестью». Хмельницкий, какие бы собственные интересы он ни преследовал, вдруг оказался на стороне южнорусского обездоленного народа, этих убогих, которые потребляются гарпиями. Любой, кто оказался бы против панов, оказался бы на стороне малороссов. Такое вот странное было время.
Была и еще одна деталь единения: и казаки, и мужики из самых простых одинаково ненавидели евреев (вот они, начала украинского антисемитизма!), поскольку Польское государство было устроено так, что на откуп евреям было отдано управление имениями (те просто с таким делом справлялись лучше), само собой, евреи стали врагами казаков, они стояли в этой ненависти рядом с владельцами-панами. Восстаний было множество, всех не перечтешь. Как-то унять казаков Польша тоже не очень хотела — именно казаки защищали земли с крайнего юга, где здравствовал крымский хан. Так что приходилось мириться с необходимым злом.
Но с каждым годом несогласие между казаками и панами становилось все серьезнее. Наиболее латинизированные паны видели корень зла в православии, если получалось, они ловили бунтовщиков, отрезали им носы и губы, то есть действовали так примерно, как Иван Васильевич Третий с новгородцами. Само собой, ни мужикам, ни казакам такое поведение не нравилось. Паны жаловались на казаков, казаки на панов, и так преуспели, что для разбора казачьих жалоб пришлось создать комитет. Впрочем, задачи комитета были просты: вернуть казаков их панам. Это вызвало яростное сопротивление. Началось еще одно восстание. Его подавили, а казаки оказались вдруг в совершенно холопском состоянии.
Хмельницкий в те годы занимал должность сотника в городе Чигирин.
В это время в Польшу приехал венецианский посланник, дабы вместе с польским королем идти бить турок. Король не афишировал своего участия, действовал тайно, но в стане знали, что Владислав собирается поддержать венецианца, иначе бы не снабдил его всеми нужными для переговоров с казачьими атаманами бумагами. Казакам эта турецкая тема была необычайно близка. Посланник имел при себе документы, разрешающие ему вербовку в Сечи. Но когда речь о войне с турками была заведена на польском сейме, сейм почти единогласно проголосовал против войны. Шляхтичи страшно перепугались, что под видом начала военных действий король ликвидирует шляхетские вольности. Поговаривали даже о грядущей польской Варфоломеевской ночи! Завербованные и уже видевшие все прелести нового положения казаки возмутились. У них имелись документы на увеличение реестрового казачества и постройку «чаек» — их под каким-то предлогом удалось заполучить Богдану Хмельницкому.
С документами на руках он и стал вождем недовольных. Тем более что из-за неблаговидного присвоения бумаг у него с новым Чигиринским старостой возникли трения, превратившиеся во вражду: этот Чаплинский (такова была фамилия старосты) увел у Богдана женщину, с которой Хмельницкий жил вне брака, и засек насмерть его сына от первой жены. Такую обиду, как говорят горцы, можно смыть только кровью. Но сперва Богдан о крови не думал, он действовал через суд.
Суд оказался на стороне Чаплинского. Тогда-то Хмельницкий и пошел бунтовать казаков. Сначала это было тридцать человек, которым он поведал о скрытых от них привилегиях, потом — больше. Тем временем Богдан отправился в Крым и предъявил документы хану, чтобы доказать тому, что король затевает войну. Хан рассердился. Он уже и так не имел с Польши никакой дани, а теперь еще и война. Так что Богдану были выданы несколько военных отрядов с мурзами во главе, с ними он и отправился в Сечь. Он решил использовать хана как средство влияния на сейм и короля. И действительно, стоило только сейму узнать, что ханские мурзы готовятся в набег на Польшу, пацифистской шляхте срочно пришлось набирать войска. Но теперь король был по одну сторону войны, Богдан — по другую. Он агитировал казаков в Сечи и видел, что дело движется. К весне 1648 года у него было уж до 8000 сабель.
Шляхта послала к Богдану на переговоры послов, но Богдан велел их просто утопить. А в битве при Желтых Водах он победил шляхетское войско и взял много пленных. Союзниками казаков выступали отряды крымского хана. Они победили поляков и во второй битве при Корсуне, хотя шляхетское войско было значительнее. Польский король обещал казакам некоторые привилегии, Богдан стоял на своем — свободу и земли, король не соглашался, но в конце концов был готов даровать почти все возможное из возможного.
Тут Богдану катастрофически не повезло: Владислав умер, место короля на время занял шляхетский сейм. Тогда, дабы не терять преимущества, он решил пугать шляхту переговорами с Москвой. Москве он предлагал передаться со всеми казаками, если царь поможет войском и объявит Польше войну. «Наяснийший, велможний и преславний цару московский, а нам велце милостивий пане и добродию, — писал Богдан в Москву. — Подобно с презреня Божого тое ся стало, чого ми сами соби зичили и старалися о тое, абихмо часу теперишного могли чрез посланцов своих доброго здоровья вашей царской велможности навидити и найнижший поклун свой от дата. Ажно Бог всемогущий здарив нам от твоего царского величества посланцув, хоч не до нас, до пана Киселя посланих в потребах его, которих товарищи наши козаки в дорози натрафивши, до нас, до войска завернули. Чрез которих радостно пришло нам твою царскую велможност видомим учинити оповоженю вири нашое старожитной греческой, за которую з давних часов и за волности свои криваве заслужоние, от королей давних надание помир[ем] и до тих час от безбожних ариян покою не маем. [Тв]орець избавитель наш Исус Христос, ужаловавшис кривд убогих людей и кривавих слез сирот бидних, ласкою и милосердем своим святим оглянувшися на нас, подобно, пославши слово Свое святое, ратовати нас рачил. Которую яму под нами били викопали, сами в ню ся обвалили, же дви войска з великими таборами их помог нам Господь Бог опановати и трох гетманов живцем взята з иншими их санаторами: перший на Жолтой Води, в полю посеред дороги запорозкои, комисар Шемберк и син пана краковского ни з одною душею не втекли. Потом сам гетман великий пан краковский из невинним добрим чоловиком паном Мартином Калиновским, гетманом полним коронним, под Корсуном городом попали обадва в неволю, и войско все их квартянное до щадку ест розбито; ми их не брали, але тие люди брали их, которие нам служили [в той м]ире от царя кримского. Здалося тем нам и о том вашому [царскому] величеству ознаймита, же певная нас видомост зайш[ла от] князя Доминика Заславского, которий до нас присылал о мир просячи, и от пана Киселя, воевода браславского, же певне короля, пана нашего, смерть взяла, так розумием, же с причини тих же незбожних неприятелей это и наших, которих ест много королями в земли нашой, за ним земля тепер власне пуста. Зичили бихмо соби самодержца господаря такого в своей земли, яко ваша царская велможност православний хрестиянский цар, азали би предвичное пророчество от Христа Бога нашего исполнилося, што все в руках Его святое милости. В чом упевняем ваше царское величество, если би била на то воля Божая, а поспех твуй царский зараз, не бавячися, на панство тое наступати, а ми зо всим Войском Запорозким услужить вашой царской велможности готовисмо, до которогосмо з найнижшими услугами своими яко найпилне ся отдаемо. А меновите будет то вашому царскому величеству слишно, если ляхи знову на нас схотят наступати, в тот же час чим боржей поспешайся и з своей сторони на их наступати, а ми их за Божею помощу отсул возмем. И да исправит Бог з давних виков ознаймленное пророчество, которому ми сами себе полецевши, до милостивих нуг вашему царскому величеству, яко найуниженей, покорне отдаемо. Дат с Черкас, июня 8, 1648. Вашему царскому величеству найнизши слуги. Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозким». Русскому царю война с Польшей была сейчас менее всего желанной. Царь отмолчался.
Царь Алексей Михайлович 1645–1676
Алексей Михайлович (1629–1676) Сын царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Родился 10 марта 1629 г.; воспитывался под руководством боярина Морозова, вступил на престол в 16 лет, 14 июля 1645 г., скончался 28 января 1676 г. в возрасте 47 лет
Московский царь Алексей Михайлович был несколько труслив. «Тридцатилетнее царствование Алексея Михайловича, — писал Костомаров, — принадлежит далеко не к светлым эпохам русской истории как по внутренним нестроениям, так и по неудачам во внешних сношениях. Между тем причиною того и другого были не какие-нибудь потрясения, наносимые государству извне, а неумение правительства впору отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться кстати стечением обстоятельств, которые именно в эту эпоху были самыми счастливыми. Царь Алексей Михайлович имел наружность довольно привлекательную: белый, румяный, с красивою окладистою бородою, хотя с низким лбом, крепкого телосложения и с кротким выражением глаз. От природы он отличался самыми достохвальными личными свойствами, был добродушен в такой степени, что заслужил прозвище „тишайшего", хотя по вспыльчивости нрава позволял себе грубые выходки с придворными, сообразно веку и своему воспитанию…
Он был чрезвычайно благочестив, любил читать священные книги, ссылаться на них и руководиться ими; никто не мог превзойти его в соблюдении постов: в Великую четыредесятницу этот государь стоял каждый день часов по пяти в церкви и клал тысячами поклоны, а по понедельникам, средам и пятницам ел один ржаной хлеб. Даже в прочие дни года, когда церковный устав разрешал мясо или рыбу, царь отличался трезвостью и умеренностью, хотя к столу его и подавалось до семидесяти блюд, которые он приказывал рассылать в виде царской подачи другим. Каждый день посещал он богослужение, хотя в этом случае и не был вовсе чужд ханжества, которое неизбежно проявится при сильной преданности букве благочестия; так, считая большим грехом пропустить обедню, царь, однако, во время богослужения разговаривал о мирских делах со своими боярами. Чистота нравов его была безупречна: самый заклятый враг не смел бы заподозрить его в распущенности: он был примерный семьянин. Вместе с тем он был превосходный хозяин, любил природу и был проникнут поэтическим чувством, которое проглядывает как в многочисленных письмах его, так и в некоторых поступках.
…Алексей Михайлович принадлежал к тем благодушным натурам, которые более всего хотят, чтоб у них на душе и вокруг них было светло; он неспособен был к затаенной злобе, продолжительной ненависти и потому, рассердившись на кого-нибудь, по вспыльчивости мог легко наделать ему оскорблений, но скоро успокаивался и старался примириться с тем, кого оскорбил в припадке гнева. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душе и не находившее иного выхода, пристрастило его к церковной и придворной обрядности.
…Никогда еще обряды не отправлялись с такою точностью и торжественностью; вся жизнь царя была подчинена обряду, не только потому, что так установилось в обычае, но и потому, что царь любил обряд: он удовлетворял его натуре, искавшей изящества, художественной красоты, нравственного идеала, который, при его воспитании, только и мог состоять для него в образе строгого, но вместе с тем любящего исполнителя приемов православного благочестия. Незначительные подробности обряда занимали его как важные государственные дела. Все время его жизни было размерено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. В четыре часа утра он был на ногах, и тотчас начиналось моление, чтение полунощницы, утренних молитв, поклонение иконе того святого, чья память праздновалась в тот день, чтение из какого-нибудь рукописного сборника назидательного слова, потом церемонное свидание с царицею, шествие к заутрене. После заутрени сходились бояре, били челом пред государем; время для такого челобитья нужно было достаточное, потому что, чем более боярин клал пред государем земных поклонов, тем сильнее выражал свою рабскую преданность. Начинался разговор о делах; царь сидит в шапке; бояре стоят перед ним; потом — все за царем идут к обедне; все равно, в будний день или в праздник, всегда идет царь к обедне, с тою только разницею, что в праздник царский выход был пышнее и с признаками, соответствующими празднику; на всякий праздник были свои обряды для царского выхода: в такой-то праздник, сообразно относительной важности этого праздника, царь должен был одеться так-то, например в золотное платье, в другой — в бархатное и т. п.
…После обедни в будни царь занимался делами: бояре, начальствовавшие приказами, читали свои доклады; затем дьяки читали челобитные. В известные дни, по царскому приказанию, собиралась Боярская дума с приличными обрядами; здесь бояре уже сидели. По полудни дела оканчивались. Бояре разъезжались; начинался царский обед, всегда более или менее продолжительный; после обеда царь, как всякий русский человек того времени, должен был спать до вечерни: этот сон входил как бы в чин благочестивой, честной жизни. После сна царь шел к вечерне, а после вечерни проводил время в своем семейном или дружеском кругy, забавлялся игрою в шахматы или слушал кого-нибудь из дряхлых, бывалых стариков, которых нарочно держали при дворце для царского утешения.
…Алексей Михайлович особенно являлся во всем своем царственном великолепии в большие праздники Православной церкви, блиставшие в то время пышностью и своеобразием обрядов, соответствующих каждому празднику; они доставляли царю возможность на разные лады выказать свое наружное благочестие и свое монаршее величие.
…Перед большими праздниками царь, по обряду, должен был совершать дела христианского милосердия — ходил по богадельням, раздавал милостыню, посещал тюрьмы, выкупал должников, прощал преступников.
…То был обряд, такой же обряд, какими были: умовение ног, ведение осла, раздача красных яиц и т. п. Величие царское не умалялось от этого соприкосновения с нищетою, как равно и нищета не переставала быть тем же, чем была по своей сущности. То был только обряд. Приветливый, ласковый царь Алексей Михайлович дорожил величием своей царственной власти, своим самодержавным достоинством; оно пленяло и насыщало его. Он тешился своими громкими титулами и за них готов был проливать кровь. Малейшее случайное несоблюдение правильности титулов считалось важным уголовным преступлением.
…Служилым и приказным людям было так хорошо под самодержавною властью государя, что собственная их выгода заставляла горою стоять за нее. С другой стороны, однако, это подавало повод к крайним насилиям над народом. Злоупотребления насильствующих лиц и прежде тягостные не только не прекратились, но еще более усилились в царствование Алексея, что и подавало повод к беспрестанным бунтам. Кроме правительствующих и приказных людей, царская власть находила себе опору в стрельцах, военном, как бы привилегированном сословии. При Алексее Михайловиче они пользовались царскими милостями, льготами, были охранителями царской особы и царского дворца. Последующее время показало, чего можно было ожидать от таких защитников. Иностранцы очень верно замечали, что в почтении, какое оказывали тогдашние московские люди верховной власти, было не сыновнее чувство, не сознание законности, а более всего рабский страх, который легко проходил, как только представлялся случай, и оттого, если по первому взгляду можно было сказать, что не было народа более преданного своим властям и терпеливо готового сносить от них всякие утеснения, как русский народ, то, с другой стороны, этот народ скорее, чем всякий другой, способен был к восстанию и отчаянному бунту. Многообразные события такого рода вполне подтверждают справедливость этого взгляда. При господстве страха в отношениях подданных к власти, естественно, законы и распоряжения, установленные этою властью, исполнялись настолько, насколько было слишком опасно их не исполнять, а при всякой возможности их обойти, при всякой надежде остаться без наказания за их неисполнение, они пренебрегались повсюду, и оттого верховная власть, считая себя всесильною, была на самом деле часто бессильна. Так и было при Алексее Михайловиче. Несмотря на превосходные качества этого государя как человека, он был неспособен к управлению: всегда питал самые добрые чувствования к своему народу, всем желал счастья, везде хотел видеть порядок, благоустройство, но для этих целей не мог ничего вымыслить иного, как только положиться во всем на существующий механизм приказного управления. Сам считая себя самодержавным и ни от кого не зависимым, он был всегда под влиянием то тех, то других; но безукоризненно честных людей около него было мало, а просвещенных и дальновидных еще менее. И оттого царствование его представляет в истории печальный пример, когда, под властью вполне хорошей личности, строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже».
Когда приходилось принимать решения быстрые и правильные, московский царь предпочитал, чтобы это сделал за него кто-то другой. Так вот было и на этот раз. Получив письмо от Хмельницкого, Алексей сразу представил картину недалекого прошлого — Смуту.
И еще одну картинку, из своего недавнего прошлого, когда городская чернь и стрельцы взбунтовались против ближайших его бояр — Траханиотова, Морозова, Плещеева, которых (вполне справедливо) считали виновниками удорожания жизни. Тогда бунтом была охвачена вся Москва. Этот бунт 1648 года он никак не мог забыть. Даже ввел после мятежа особое уложение, в котором имелась особая статья — „О государской чести и о государевом дворе", где были „указаны разные случаи измены, заговоров против государя, а также и бесчинств, которые могли быть совершены на государевом дворе. С этих пор узаконивается страшное государево „дело и слово". Доносивший на кого-нибудь в измене или в каком-нибудь злоумышлении объявлял, что за ним есть „государево дело и слово". Тогда начинался розыск „всякими сыски" и по обычаю употребляли при этом пытку. Но и тот, кто доносил, в случае упорства ответчика, также мог подвергнуться беде, если не докажет своего доноса: его постигало то наказание, какое постигло бы обвиняемого. Страх казни за неправый и неудачный донос подрывался другою угрозою: за недонесение о каком-нибудь злоумышлении против царя обещана была смертная казнь; даже жена и дети царского недруга подвергались смертной казни, если не доносили на него».
Только так, введя в правило свое «слово и дело», он мог быть спокойным, что бунт можно предупредить, а виновных уничтожить до начала мятежа. В этом плане вольнолюбивые казаки были менее всего желанны в качестве подданных Москвы. Казаков он, как и паны, считал людьми непредсказуемыми, жестокими и неблагонадежными. Получить давно утраченные малоросские и литовские земли было бы неплохо, но что этот Хмельницкий удумает потом? Да и что подумает пребывающий пока что в мире с Москвой польский король? Выбирая между Польшей и Хмельницким, царь соображал — чью сторону принять. В конце концов, не принял ни одной. Сделал вид, что казаки ничего ему не писали, а что происходит на землях Малороссии — дело Польши.
Иеремия Вишневецкий 1612–1651
Иеремия Михаил Корибут Михайлович Вишневецкий (17.08.1612—22.08.1651), князь на Вишневце, Лубнах и Хороле (1615–1651), староста Перемышльский (1649–1651), Каневский (1647–1651), Прасмыцкий (1649–1651) и Новотарский (1649), староста Гадяцкий (1634–1651), воевода Русский (1646–1651), рейментар Великий Коронный. Считался удачливым полководцем, настоящим рыцарем, железной рукой наводил порядок и казнил восставших казаков Хмельницкого, чему и посвятил всю недолгую жизнь (Иеремия прожил 39 лет)
Но казаки продолжали бунтовать, к ним стали присоединяться и жители вовсе не казачьей территории. «Как только разошлась весть о победе над польским войском, — писал Костомаров, — во всех пределах Русской земли, находившейся под властью Польши, даже и в Белоруссии, более свыкшейся с порабощением, чем Южная Русь, вспыхнуло восстание. Холопы собирались в шайки, называемые тогда загонами, нападали на панские усадьбы, разоряли их, убивали владельцев и их дозорцев, истребляли католических духовных; доставалось и униатам, и всякому, кто только был подозреваем в расположении к полякам».
«Тогда, — по замечанию современника-летописца, — гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что носили польское платье, и не один щеголь заплатил жизнью за то, что, по польскому обычаю, подбривал себе голову». Убийства сопровождались варварскими истязаниями: сдирали с живых кожу, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на угольях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице тетивой лука, повертывали голову и потом спускали лук, так что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады грудным младенцам. Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменой. Свитки закона были извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землей.
По сказанию современников, в Украине их погибло тогда до ста тысяч, не считая тех, которые померли от голода и жажды в лесах, болотах, подземельях и потонули в воде во время бесполезного бегства. «Везде: по полям, по горам — лежали тела наших братий, — говорит современный иудейский раввин, — не было им спасения, потому что гонители их были быстры, как орлы небесные». Только те спасли себя, которые, из страха за жизнь, приняли христианство: таким русские прощали все прежнее и оставляли их живыми с их имуществами; но перекресты скоро объявили себя снова иудеями, как только миновала опасность и они могли выбраться из Украины.
Все польское, все шляхетское в Южной Руси несколько времени поражено было каким-то безумным страхом, не защищалось и бежало. Паны, имевшие у себя вооруженные команды, не в силах были и не решались противостоять народному восстанию. Только один из панов не потерял тогда присутствия духа: то был Иеремия Вишневецкий, сын Михаила и молдавской княжны из дома Могил. Он родился в православной вере, но совращен был иезуитами в католичество и сделался жестоким ненавистником и гонителем всего русского. При начале восстания Вишневецкий жил в Лубнах, на левой стороне Днепра, где у него, как и на правой, были обширные владения; он принужден был со своей командой, состоявшей из шляхты, содержимой на его счет, перейти на правый берег и начал в своих имениях казнить мятежников с таким же зверством, какое выказывали ожесточенные хлопы над поляками и иудеями, выдумывал самые затейливые казни, наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, и приговаривал: «Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!» Своим примером увлек он за собой нескольких панов и вместе с ними начал давать отпор народу, сражался несколько раз с многочисленным отрядом русских холопов и казаков, бывших под начальством полковника Кривоноса, несмотря на всю свою горячность, не мог сломить его и уехал в Польшу. Хмельницкий считал его своим первейшим врагом и жестокости, совершенные Вишневецким над русским народом, ставил поводом к разорванию начатых переговоров.
В следующей битве, на речке Пилявка, Хмельницкому с небольшими силами удалось разбить 36-тысячное польское войско. Паны бежали, бросив обозы и вооружение. К концу октября он стоял уже под Замостьем. В Польше началась паника. Только узнав, что избран Ян-Казимир, воспитанный иезуитами, Богдан растерялся и счел за благо отвести войско в Сечь. Это не слишком понравилось другим восставшим. Они требовали смело идти на Варшаву. Богдан боялся. «Хмельницкий, — делает вывод Костомаров, — был сын своего века, усвоил польские понятия, польские общественные привычки, и они-то в нем сказались в решительную минуту. Хмельницкий начал дело превосходно, но не повел его в пору далее, как нужно было. На первых порах совершил он историческую ошибку, за которой последовал ряд других, и, таким образом, восстание Южной Руси пошло по другому пути, а не по тому, куда вели его вначале обстоятельства».
Обстоятельства привели его в Переяславль (украинский), где он женился. В Переяславль, поздравлять с победой, приехали послы от самых противоположных сил: турецкий визирь, семиградский князь Ракоци, молдавский и валашский господари, царь Алексей Михайлович, польский король — все они снарядили посольства к Богдану. Все были готовы заключить взаимовыгодные договоры. Хмельницкого, заключившего несколько из них, больше всего беспокоило польское посольство. Король жаловал Богдана званием гетмана, Богдан же в ответ потребовал всю Малороссию. Паны решили было, что это шутка. Но Богдан сказал просто: «Сделаю то, что замыслил. Выбью из ляцкой неволи весь русский народ! Прежде я воевал за свою собственную обиду; теперь буду воевать за православную веру. Весь черный народ поможет мне по Люблин и по Краков, а я от него не отступлю. У меня будет двести тысяч, триста тысяч войска. Орда уже стоит наготове. Не пойду войной за границу; не подыму сабли на турок и татар; будет с меня Украины, Подоли, Волыни; довольно достаточно нашего русского княжества по Холм, Львов, Галич. Стану над Вислой и скажу тамошним ляхам: „Сидите, ляхи! молчите, ляхи! Всех тузов ваших, князей туда загоню, а станут за Вислой кричать — я их и там найду! Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украине; а кто из вас с нами хочет хлеб есть, тот пусть войску запорожскому будет послушен и не брыкает на короля"».
Одеревеневшими руками паны приняли проект мирного договора: унию отменить, униатские церкви снести, костелам дать время на прекращение деятельности, вернуть киевского митрополита в сейм с равноправным положением, евреев выгнать с Украины прочь, а гетмана сделать подвластным только королю. Само собой, паны такого договора подписать не могли! Началась новая война. В битве на речке Стрипи, когда казаки уже одерживали победу, вдруг появились отряды крымского хана. Они встали лагерем на земле Польши и послали с письмом к королю. Хмельницкий тоже решил подстраховаться и послал к королю свою грамотку, где старательно показывал себя законопослушным. Битва прекратилась. Никто в ней победы не одержал. Переговоры закончились практически ничем: король согласился дать реестр на 40 000 человек, в землях казаков разрешить православие и выселить евреев, но с унией просил подождать.
Но Зборовский мир очень не понравился простым казакам. Не понравилось и поведение самого Богдана: получив свое гетманство, он тут же захватил местечко Млиев и стал крупным землевладельцем. Но больше всего возмутил такой пункт этого соглашения: в случае бунта запорожское казачество должно было идти вместе с коронным войском подавлять народное возмущение. Это привело к таким выступлениям, что многим помещикам пришлось бежать из своих имений. Хмельницкий, как пишет Костомаров, тоже по жалобе владельцев, вешал, сажал на кол непослушных. Это возмутило народ, снова начались бунты. Хмельницкий не знал, что делать, не знал, кого винить. Раз в пьяном виде он сетовал горько: «Вот я пойду, изломаю Москву и все Московское государство; да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится: зачем не дал он нам помощи на поляков ратными людьми?» Послам из Москвы казаки теперь обещали, что объединятся с ханом и пойдут воевать русские земли. Этого еще не хватало! Москва только что кое-как справилась с двумя собственными бунтами — новгородским и псковским. Алексей Михайлович понял, что вдруг нажил опасного врага и лучше уступить просьбе казаков, взять Украину.
В 1650 году царь велел начать раздражать короля незначительными придирками, на большую ссору он еще не был готов. Царь выжидал, когда король будет умучен и в конце концов сам объявит войну: в этой затее царю хотелось выглядеть благопристойно. С другой стороны, Богдан снова сдружился с ханом и ходил «чистить» Молдавию. Он обзаводился союзниками: Турцией, господарем Ракоци, даже шведами. Королю это не нравилось. Но настоящая ссора разгорелась на сейме, когда туда явились представители казачества и подняли вопрос об уничтожении унии. Сейм был против. Война с Польшей стала неизбежной. Следующая битва должна была случиться под Берестечком, войска уже заняли места, но в исход этого дела вмешался крымский хан, он неожиданно явился среди казаков, заставил часть их повернуть вспять, отогнал до Вишневца и взял Хмельницкого с писарем его в плен: хан желал воевать с Москвой, а ему из самой Турции велели идти помогать Богдану. Казаки, оставшиеся без руководства, вместо того чтобы драться с поляками, бежали или сдались. Через месяц хан отпустил Богдана из плена. Но сражение было потеряно. Он и надеялся на Москву, и угрожал ей, не зная что выбрать. В конце концов страх перед московскими порядками сменился надеждой, что там хотя бы есть православие. Польский король, с одной стороны, и литовский князь Радзивилл — с другой дружными усилиями очищали украинскую землю. Новый мирный договор с королем еще больше урезал права казаков, оставляя им только одно Киевское воеводство. Оценив перспективу возвращенного рабства, народ побежал через московскую границу. Явление стало массовым: народ жег свои дома и уходил в потустороннюю степь. Ни войска, ни приказы Хмельницкого — ничто не имело больше значения. Богдана назвали изменником и едва не убили.
Воссоединение Украины с Россией
Весной 1653 года началась новая война с королем. Хмельницкий обратился снова за помощью в Москву, царь полного согласия не дал, но обещал стать посредником в переговорах. В еще одной битве при Жванцах союзник Богдана крымский хан снова завел сепаратные переговоры с поляками, положение последних было таким бедственным, что они согласились даже на то, что хан кроме денег получит право брать по дороге назад польских пленников. Сколько Хмельницкий ни просил хана не изменять ему, хан отказал — выгода была дороже. Тогда Хмельницкий снова писал в Москву. Теперь Москва была готова на войну. Срочно собрали Земский собор. На нем был всего один вопрос: принимать ли Хмельницкого с его казаками и всей украинской землей в подданство? Бояре и купцы приговорили принимать. Постановление собора гласило:
«А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых Божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную християнскую веру и на святые Божий церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкой и все Войско Запорожское, присылали к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичи) всеа Русии бити челом многижда, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых Божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел их принята под свою государскую высокую руку. А будет государь их не пожалует, под свою государскую высокую руку принята не изволит, и великий бы государь для православные християнские веры и святых Божиих церквей в них вступился, велел их помирит через своих великих послов, чтоб им тот мир был надежен. И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие послы в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны рада междоусобье успокоили, и с черкасы помирились, и православную християнскую веру не гонили, и церквей Божиих не отнимали, и неволи им ни в чем не чинили, а ученили б мир по Зборовскому договору. А великий государь его царское величество для православные християнские веры Яну Казимеру королю такую поступку учинит: тем людем, которые в его государском имянованье в прописках объявились, те их вины велит им отдать. И Ян Казимер король и паны рада и то дело поставили ни во что и в миру с черкасы отказали. Да и потому доведетца их принять: в присяге Яна Казимера короля написано, что ему в вере християнской остеретата и защищати, и никакими мерами для веры самому не теснити, и никого на то не попущати. А будет он тое своей присяги не здержит, и он подданых своих от всякия верности и послушанья чинит свободными. И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здержал, и на православную християнскую веру греческого закона востал, и церкви Божий многие разорил, а в ыных униею учинил. И чтоб их не отпустить в подданство турскому салтану или крымскому хану, потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди. И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять».
31 декабря 1653 года в Переяславль прибыли московские послы. Они привезли Богдану решение собора. Богдан собрал казачью толпу и спросил, все ли хотят под восточного государя. Хотели все. Тогда он объявил, что «вся Украина, казацкая земля (приблизительно в границах Зборовского договора, занимавшая нынешние губернии: Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской) присоединялась под именем Малой России к Московскому государству, с правом сохранять особый свой суд, управление, выбор гетмана вольными людьми, право последнего принимать послов и сноситься с иноземными государствами, неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань (налоги) государю должна платиться без вмешательства московских сборщиков. Число реестровых увеличивалось до шестидесяти тысяч, но дозволялось иметь и более охочих казаков». Интересная деталь: когда народ погнали присягать новому государю, то московские послы отговорились тем, что целовать креста не будут (не правда ли, знакомая нам история?), потому что «слово государево не бывает переменно». Многим не понравился такой ответ, не понравились и москвичи, однако делать было нечего — украинцы крест целовали.
Когда царь утвердил переяславский договор, Москва объявила войну Польше. В течение двух лет шла эта война, в основном поднимались мятежи в самих оговоренных землях и Литве, по сути казаки отвоевали Украину собственными руками, московское войско больше занималось не Малороссией, а ближними литовскими землями. На помощь Польше хотел идти хан, но, узнав про московские войска, отошел прочь. Точно по заказу, на Польшу бросил войско и шведский король. Полякам стало не до Украины. Но между воссоединенными народами сразу же возникли недоразумения: когда Хмельницкий и Бутурлин подошли ко Львову, оказалось, что Львов не желает присягать Москве. Бутурлин хотел взять Львов штурмом, Хмельницкий не дал. Тогда уже было ясно, что за защитников своего народа нашел Богдан. Скорее всего, это понял и он сам. Только было уже поздно отказываться. Взяв со Львова контрибуцию, союзники отошли.
В 1596 году, весной, польский король попробовал переманить Богдана, как уже получалось, оказалось, что и Москва ведет с королем какие-то свои закулисные игры, собираясь помириться с тем условием, что после смерти Я на-Казимира Алексей Михайлович станет польским королем, а сейчас можно объединиться и вместе бить шведов, чтобы вернуть бывшие новгородские земли. Когда Хмельницкий об этом узнал, он понял, почему московские послы не целовали креста за своего государя. Он только и мог пригрозить, что оставит панов разбираться с москвичами, а сам передастся Турции, потому что пусть они и бусурманы, но слова так не нарушают. Только эта турецкая угроза и заставила Алексея Михайловича припомнить, что Хмельницкого со всей Украиной он уже принял под свою монаршую руку.
О дальнейшем Костомаров говорит так: «Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти; а между тем не только одна Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император с угрозами требовал от Хмельницкого мира с Польшей. Крымский хан и турецкий султан были в союзе с Польшей и не боялись ее трактатов с Москвой, зная, что со стороны поляков это не более как обман; напротив, им страшнее были успехи Хмельницкого, которые вели к объединению и усилению Русской державы. Хмельницкий впал в тоску, в уныние и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам, чтобы предупредить его. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракочи о разделе Польши. По этому договору, королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливония и Гданьск с приморскими окрестностями; Ракочи — Малая Польша, Великое княжество Литовское, княжество Мазовецкое и часть Червонной Руси; Украина же с остальными южнорусскими землями должна быть признана навсегда отделенной от Польши.
Сообразно с этим договором, Хмельницкий послал на помощь Ракочи 12 000 казаков под главным начальством киевского полковника Ждановича. Ян-Казимир дал знать о кознях Хмельницкого московскому государю. Договор, заключенный гетманом с венграми и шведами, стал подлинно известен в Москве, и царь снарядил в посольство окольничего Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова со строгим выговором Хмельницкому. Прежде чем это посольство достигло Чигирина, Хмельницкий, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабеет, собрал раду и предложил казакам избрать себе преемника. Казаки, из любви к гетману и притом желая сделать ему угодное, избрали его шестнадцатилетнего сына Юрия. Хмельницкий (1641–1685), хотя сначала и отговаривал их, указывая на его молодость, но потом согласился. Это была величайшая ошибка Хмельницкого.
В начале июля прибыли царские послы с выговором и застали гетмана до того ослабевшим, что он едва мог вставать с постели. Послы, по царскому приказанию, сказали ему, что он забыл страх Божий и присягу, дружась со шведами и Ракочи. Хмельницкий отвечал в таком смысле: „У нас давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди правдивые: держат свое слово; а царское величество помирился с полянами, хотел нас отдать им в руки; и теперь до нас слух доходит, что он послал свое войско на помощь полякам против нас, шведского короля и Ракочи. Мы еще не были в подданстве у царского величества, а ему служили и добра хотели. Я девять лет не допускал крымского хана разорять украинные города царские. И ныне мы не отступаем от высокой руки его, как верные подданные, и пойдем на царских неприятелей басурманов, хотя бы мне в нынешней болезни дорогой и смерть приключилась — и гроб повезу с собой! Его царскому величеству во всем воля; только мне дивно то, что бояре ему ничего доброго не посоветуют: короной польской не овладели, мира не довершили, а с другим государством, со Швецией, войну начали!" Выслушав новые упреки от царского посла, Хмельницкий не стал отвечать, извиняясь болезнью; а в другой день, 13 июня, Хмельницкий, призвавши к себе послов, сказал: „Пусть его царское величество непременно помирится со шведами; следует привести к концу начатое дело с ляхами. Наступим на них с двух сторон: с одной стороны войска его царского величества, с другой — войска шведского короля. Будем бить ляхов, чтобы их до конца искоренить и не дать им соединиться с посторонними государствами против нас. Хоть они и выбирали нашего государя на Польское королевство, но это только на словах, а на деле того никогда не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения. Есть свидетельства, обличающие их лукавство. Я перехватил их письмо к турецкому цезарю и отправил его к царскому величеству со своим посланцем". Тем не менее Хмельницкий, по требованию царских послов, выдал приказ Ждановичу оставить Ракочи; это повредило последнему: успевши уже завоевать Краков и Варшаву, Ракочи был побежден поляками и отказался от своих притязаний. Ян-Казимир попытался еще раз сойтись с Хмельницким и отправил к нему пана Беневского. „Что мешает вам, гетман, — говорил Хмельницкому польский посланник, — сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными". „Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневлю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!"»
Он был прав, говоря о близости смерти. Скоро он скончался.
Малороссия
При его преемниках очень многое изменилось. В 1686 году Москва получила право на все земли левой стороны Днепра и Киев, а среди казачества началось расслоение. Если они прежде были в одинаковом положении, то теперь казаки разделились на значных и чернь. Многие значные стали держать право на мужицкие земли и превратились в угнетателей не хуже панов, пусть и были православной веры. Москва, в свою очередь, вводила московские порядки, так что скоро слова угнетатель и москаль стали синонимами. И в умах казаков возникали воспоминания о том времени, когда тут были польско-литовские вольности. Они пробовали просить «москалей» восстановить такие порядки, но Москва отвечала, сами знаете, что она в таком случае отвечает. А чтобы лучше держать под рукой государя добровольно (тут уж и на самом деле добровольно, хотя мнения всего народа никто не спрашивал) передавшуюся Украину, всюду посадили московских наместников, а города отдали в управление чиновникам и воеводам. Даже киевский митрополит вскоре перешел под руку московского митрополита.
Завели в новой земле и чудесный московский порядок — сочинение доносов, их принимал специально созданный для управления этой территорией Малороссийский приказ. Но пока что на Украине держалось гетманское правление и Украина иначе считалась гетманщиной, а в более позднее время гетманства и вовсе были упразднены. Вместо мира и покоя под надежной рукой царя, малороссы получили почти непрерывную войну, бунты, мятежи, набеги крымского хана (с ним, говорят, были особые отношения у Москвы), а потом и вовсе искоренение казачества, поскольку казачество для Москвы стало опасным, разбойным и непредсказуемым элементом. Москвичи желали поскорее сделать с украинскими мужиками то же, что и со своими собственными, — то есть обратить в полное и беспощадное рабство. Единственное, что мешало быстрому выполнению замечательного плана, — так привкус свободы, которую ощутили все при двух последних, еще польских, королях. Этот привкус обжигал губы, но так и остался привкусом: свобода, которую обещали, оказалась обманом, ловушкой. Единственное, что получили малороссы, — русский указ о евреях, да и то при Екатерине Первой (1684–1727): «Как то уже не по однократным предков Наших в разных годах, а напоследок, блаженныя и вечнодостойныя памяти, вселюбезнейшия Матери Нашей Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны, в прошлом 1727 году Апреля 26 дня состоявшимся указом, во всей Нашей Империи, как в Великороссийских, так и в Малороссийских городах жидам жить запрещено; но Нам известно учинилось, что оные жиды еще в Нашей Империи, а наипаче в Малороссии под разными видами, яко то торгами и содержанием корчем и шинков жительство свое продолжают, от чего не иного какого плода, но токмо, яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно. А понеже Наше Всемилостивейшее матернее намерение есть от всех чаемых Нашим верноподданным и всей Нашей Империи случиться могущих худых следствий крайне охранять и отвращать; того для сего в забвении оставить Мы не хотя, Всемилостивейше повелеваем: из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужска и женска пола жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со объявления сего Нашего Высочайшего указа, со всем их имением немедленно выслать за границу, и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать; разве кто из них захочет быть Христианской вере Греческого исповедания; таковых крестя в Нашей Империи, жить им позволить, токмо вон их из Государства уже не выпускать. А некрещеных, как и выше показано, ни под каким претекстом никому не держать. При выпуске же их чрез Наши границы, по силе вышеупомянутого Матери Нашей Государыни указа, предостерегать, и смотреть того накрепко, чтоб они из России за рубеж никаких золотых червонных и никакой же Российской серебряной монеты и ефимков отнюдь не вывозили. А ежели у кого из них такие золотые и серебряные монеты найдутся, оные у них отбирая, платить Российскими медными деньгами, яко то пятикопеечниками, денежками и полушками, которые могут они в Нашей же Империи отдать и куда кому надобно векселя взять; чего всего в Губерниях Губернаторам, а в провинциях и в прочих городах Воеводам, в Малой России же определенным командирам и генеральной, полковой и сотенной Старшине смотреть накрепко, под опасением за неисполнение по сему Высочайшего Нашего гнева и тяжчайшего истяжания». Но до евреев ли было Малороссии после правления Петра? Вряд ли — до евреев.
Сам южный русский народ был поставлен в такое положение, когда перестал считаться народом, малороссиянами остались только мужики да казаки, все остальные считали себя русскими. Да они ими и стали — по воспитанию, по языку, по культуре. Но казаков ждала еще одна беда — потеря их Сечи и их Украины. Москва до давила их всех. И сделала даже больше — поставила на свою службу, повязала этой службой, обратила против и своего собственного малороссийского народа, и против народа великорусского, и против всех народов, которые мешали ей, Москве, жить спокойно, потому что они хотели… жить как свободные люди. Это ли не полное, не тотальное уничтожение народоправства, как его видел Костомаров?
Приглашение к революции
Казаки, конечно, к последней трети XVII столетия имели огромный опыт своей автономной жизни, но сначала польский король и крупные южнорусские паны сумели использовать их для решения местных и государственных задач, потом казаки и вовсе попробовали создать собственное государство, ловко используя противоречия между соседями, но из этой затеи ничего хорошего не получилось и, видимо, не могло получиться. Даже не потому, что эти соседи были сильнее, а из-за самой сути казачества: они могли стать опасной оппозицией любому режиму, но не умели договориться между собой. Единственное, что они умели делать хорошо, — воевать ради получения добычи. Когда Москва приняла в себя такой сложный подарок Хмельницкого, она сразу же столкнулась с расширением казачьей территории. Теперь эта территория растянулась практически на весь юг Московского царства, в «пустые», то есть слабо заселенные из-за крымских набегов земли.
Оказавшись под рукой московского царя, эти новые жители страны смешались с бежавшими из-под этой царской руки московскими бедняками: в царствование Алексея Михайловича для простого народа были невероятно тяжелые времена. Из-за польской войны люди облагались бесконечными поборами, закрепощение шло полным ходом, так что у народа сложился образ настоящего героя — вольного молодца, который никого не боится, делает что пожелает, добывает себе не пропитание, а богатство, не боится ни черта, ни смерти, любит бедных и ненавидит богатых. Это был образ разбойника. И ясно, что образец для столь положительного героя был перед глазами — сечевой казак. Само устройство казачьего общества (в отличие от московского) народ привлекало: ни поборов, ни тягла, ни начальников, полное равенство и выборные должности. Для московского бедняка того столетия — жизнь воистину сказочная. Так что, приняв в себя Украину с ее казаками, Москва приняла и заразу бунта.
Этого Москве, конечно, хотелось меньше всего. Но теперь ничего нельзя было повернуть вспять: два народа смешались в недоступных для стрелецкого войска землях и наряду с украинскими казаками появились казаки московские. На Дону, куда эта московская голытьба бежала, им места почти не находилось, их принимали в Сечь, но Сечь была уже плотно заселена своими «природными» казаками, беглых они называли не иначе чем «воровскими». Так что пришельцам нужно было искать места незанятые и средства для жизни. Идея уже имелась: сделать жизнь такой же легкой, как у казаков, таким средством были разбойные походы.
Степан Тимофеевич Разин (ок. 1630 — казнен 6 июля 1671 г.)
Сами выходцы из нищей среды, новые казаки грабить простой народ не собирались, они искали легкого, пусть и опасного богатства, — чтобы все разом, пан или пропал. Требовался только смелый предводитель, чтобы затея удалась. Его появлению помогли сами москвичи: за отказ вести донских казаков в московском войске казнили атамана Разина, у которого были два брата — Степан и Фрол. Естественно, что сердце Степана обливалось кровью и жаждало мести, он не только ушел из московского войска, но и сманил с собой часть вольницы.
Человек он оказался смелый, деятельный, превосходный оратор, по характеру — казак по всем статьям: то мрачный и задумчивый, то пьяный и веселый. Было у Стеньки одно особое качество: он был крайне жесток, чужие страдания его даже забавляли.
Стенька набрал себе удалую ватагу, посадил на четыре струга и двинулся к верховьям Дона, где был казачий сборный пункт. В этом месте Дон близко подходил к Волге, так что можно было, перетащив струги, спускаться вниз по Волге и грабить торговые, царские, церковные и прочие суда — была бы добыча покрупнее. Весной 1667 года и родилась казачья шайка Разина, состоявшая как из недовольных «природных» казаков, так из «воровских», московских людей. Первое, что сделал Степан Тимофеевич на Волге, — ограбил московские суда, идущие из Астрахани с хлебом. Затем — патриарший караван, порадовавший богатством. А следом он взял казенные суда с заключенными, коих везли на ссылку в Астрахань. Пленников он освободил и предложил им влиться в коллектив. Те — влились. Стрелецких командиров, этапировавших заключенных, вздернули.
Спустя некоторое время на сторону Стеньки перешло три стрелецких струга. Летом он вошел в Яицкий городок, взбунтовал стрельцов, повесил начальников, но, когда стрельцы эти решили тоже присоединиться к его войску, их не принял, а велел рубить головы и топить. К осени все нижнее течение Волги было под его контролем, а в сентябре он явился в Астрахань, потом вернулся на Яик, где перезимовал, весной снова пошел вниз к Астрахани и затем в Каспийское море. Более года о нем ничего не было слышно, все это время атаман занимался морским разбоем и нападал на владения персидского шаха, но, когда против него готовились уже войска шаха, Степан вдруг объявил тому, что желает передаться со своими людьми в подданство. Шах поверил. Вместо передачи в подданство Степан начал грабежи, взял город Фрабат, заложил рядом свой деревянный городок и остался там зимовать. Тем временем в Исфахан был отправлены московские послы, которые объявили, что Разин бунтовщик и мятежник.
Шах стал готовить флот для поимки Стеньки. Грамотно построив свои струги, Разин разгромил персидский флот, взяв в плен находившихся на флагманском корабле сына и дочь шаха. Девушка стала наложницей Степана (та самая персидская княжна из русской народной песни). Разинские струги взяли курс на Астрахань. Но положение Разина было не столь счастливым, сколько можно было бы предположить. Он потерял в боях около 500 человек, его войско мучили болезни, было плохо с продовольствием. Так что лучшее, что он мог придумать, — переговоры с астраханским воеводой Прозоровским. Суть переговоров была проста: Степан отдает отнятые у стрельцов корабли, отпускает самих стрельцов и персидских пленников.
Флот Разина встал под Астраханью, меж тем, пока велись переговоры, воевода Прозоровский получил немало подарков от Разина, это и решило дело. Астраханские воеводы даже подружились с атаманом на совместных пьянках. «Как только они получили прощение, — писал Стрюйс, — то расположились станом под Астраханью, откуда толпами отправлялись в город, одетые все до того роскошно, что одежда самых бедных была сшита из золотой парчи или шелка. Большая часть носила даже венки, couronnes, осыпанные крупным жемчугом и драгоценными камнями. Разина можно было узнать только по почету, который ему оказывали, потому что, не иначе как на коленях и падая ниц, приближались к нему. Когда к нему обращались, то запрещалось называть иначе как батько, batske, что на их языке значит отец. Это прозвище присвоил он себе с целью запечатлеть в сердцах своих подчиненных более любви и уважения. Вид его величественный, осанка благородная, а выражение лица гордое; росту высокого, лицо рябоватое. Он обладал способностью внушать страх и вместе любовь. Что бы ни приказал он, исполнялось беспрекословно и безропотно…
Казаки ежедневно приезжали в город и продавали там несказанно и невероятно дорогую добычу, собранную ими с 1667 до 1671 г. на Волге, в Каспийском море, от персов, русских и татар. Они продавали фунт шелку за три стейвера, и скупали его по большей части армяне и персы, составившие таким путем большие сокровища и богатства. Я купил у казака большую цепь, длиной в 1 клафт, состоящую из звеньев, как браслет, и между каждой долей было вплавлено пять драгоценных камней. За эту цепь я отдал не более 40 рублей, или 70 гульденов. Однажды наш капитан Бутлер велел мне и остальным матросам приготовить шлюпку и отвезти в лагерь Стеньки Разина. Он взял с собой две бутылки русской водки, которую по прибытии поднес Стеньке Разину и его тайному советнику, называемому обычно Чертов Ус, которые приняли ее охотно и с большой благодарностью, так как они и их приверженцы не видели и не пробовали водки с тех пор, как стояли на воде. Стенька сидел с Чертовым Усом и некоторыми другими в палатке и велел спросить, что мы за народ. Мы ответили ему, что мы немцы, состоящие на службе на корабле его царского величества, чтобы объехать Каспийское море, и прибыли приветствовать его светлость и милость и поднести две бутылки водки. После чего он сказал нам сесть и выпил за здоровье его царского величества. Каким лживым языком и с какой хитростью в сердце было это сказано, довольно известно из опыта. В один из последующих дней, когда мы второй раз посетили казацкий лагерь, Разин пребывал на судне с тем, чтобы повеселиться, пил, бражничал и неистовствовал со своими старшинами. При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: „Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!“ Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть свое горе, а все-таки должна была погибнуть таким ужасным и неслыханным образом от этого бешеного зверя».
Из Астрахани Степан отправился на Дон, но по дороге ему пришло известие от донских казаков, что их притесняет воевода Унковский. Это решило дело. Разин повернул к Царицыну, встретился с воеводой, взял откуп и пообещал, что в следующий раз в живых не оставит. Зиму он провел в городке Кагальнике на Дону. Тем временем оказалось, что в Москве недовольны Прозоровским, что тот отпустил Разина, милостивая грамота, как оказалось, была лишь уловкой, чтобы того задержать. Прозоровский стал готовить войска для нового захвата Разина. Особый лазутчик, и тоже с милостивой грамотой, обещавшей возвращение всех казачьих вольностей, был послан к самим казакам, Степан обман раскрыл и лазутчика утопил. Московская уловка провалилась, а к Степану толпами стали переходить донские казаки.
Весной Степан отправился вниз по Волге, захватывая города. Тактика была простой: сначала он посылал своих казаков бунтовать народ, затем беспрепятственно входил в город. Воевод и бояр жестоко казнили. Снова взяв все городки по Волге, Разин направился к Астрахани, чтобы сразиться с высланным ему навстречу войском Львова. В этом войске уже находились люди соратника Разина атамана Уса, они проводили со стрельцами разъяснительную работу, так что, когда Львов столкнулся с отрядом Уса, оказалось, что его стрельцы перешли на сторону атамана. Начальство тут же было умучено и убито. «Стенька, — пишет Стрюйс, — овладев без всякого боя такой большой силой, выдал каждому из них за два месяца жалованье, пообещав впредь свободу грабить и убивать по их желанию, и прибавил: „За дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми, и вам будет так хорошо, как и мне, будьте только мужественны и оставайтесь верны". После этих слов каждый готов был идти за него на смерть и все крикнули в один голос: „Многая лета нашему батьке (Batske или отцу)! Пусть он победит всех бояр, князей и все подневольные страны!"»
Это известие сильно испугало Прозоровского, он стал ожидать прихода Разина. Тем временем Разин брал город за городом: «Всюду говорили об убитых дворянах, так что господа, надев дешевое платье, покидали жилища и бежали в Астрахань. Многие крестьяне и крепостные, чтобы доказать, кто они такие, приходили с головами своих владельцев в мешках, клали их к ногам этого главного палача, который плевал на них и с презрением отшвыривал и оказывал тем хитрым героям почет вместе с похвалой и славой за их храбрость.
Когда дела Стеньки достигли такой высоты, он решил, что теперь ему море по колено, и возомнил, что он стал царем всей России и Татарии, хотя и не хотел носить титула, говоря, что он не пришел властвовать, но со всеми вместе жить как брат. А вместе с тем держал он себя по отношению к персидскому королю с таким высокомерием, как будто сам был царем, и отправил шаху послов с письмом, где сам себя величал выдуманными почетными именами, называя короля своим братом. Содержание письма и устный приказ, данный послам, имели целью склонить шаха на союз и купить у него за наличные деньги военное снаряжение и продовольствие; а ежели в том будет отказано, то он явится сам с 200 тыс. человек воинов и возьмет все даром, ибо за пот, пролитый его солдатами при походе в Персию, придется заплатить в тысячу раз большей кровью. После того как шах выслушал послов, он принял их так оскорбительно и с таким презрением, что велел без дальнейшего рассмотрения отрубить головы тем жалким и несчастным послам и бросить тела их собакам, а одного оставить в живых, чтобы поведал своему господину о смерти и поношении своих товарищей и передал ему также письмо, в котором шах извещал Стеньку, что на такого кабана вышлет охотников, дабы живьем отдать его собакам. Оставшийся в живых казак был счастлив, что избежал смерти, и передал Стеньке данное ему поручение, но тот пришел от него в такое бешенство и безумие, что изрубил бедного и жалкого посла на куски и приказал бросить воронам».
Степана это разъярило, но от астраханского похода он не отказался. Город был взят сравнительно легко, предательством простых горожан. Разин взял множество пленных. Пленникам связали руки и посадили ожидать суда Стеньки у стен городской колокольни. Среди пленных был и сам Прозоровский. В восемь утра вершить суд явился атаман.
«Он начал с Прозоровского, — пишет Костомаров, — приподнял его за руку и вывел на раскат. Все видели, как Стенька сказал что-то воеводе на ухо, а тот отрицательно покачал головой; вслед за тем Стенька столкнул воеводу с раската головой вниз. Дошла очередь и до связанных, которых было около четырехсот пятидесяти человек. Всех приказал перебить Стенька. Чернь исполнила приговор атамана; по его приказанию, тела были свезены в Троицкий монастырь и погребены в одной общей могиле. Тут было и тело Прозоровского». Астрахань была объявлена казачьим городом, и в ней начались зверства.
«Я оставался у казаков до среды 9-го числа (июля), — рассказывал Дэвид Бутлер, — и не слышал и не видел ничего иного, только ежедневные зверства и нечеловеческие жестокости над многими невинными людьми. В тот день секретарь по имени Алексей Алексеевич (Alexe Allexewitz) и сын Гилянского (Gilaan) хана были подвешены живьем за ребра на рыболовных крюках и два сына воеводы были повешены за ноги к стене. Обоих детей звали Борис, один шестнадцати лет, другой семи или восьми. На следующий день, в четверг 10-го числа, бедные дети были еще живы и младшего после долгих просьб отвязали, а старшего по приказу предводителя сбросили с той же самой башни, откуда был сброшен его отец… 20 июля казачий генерал вышел из Астрахани с большим числом лодок и около 1200 человек, оставив в городе гарнизон по 20 человек от каждой сотни. Над ними поставил двух начальников: одного старого казака Василия Родионова (Wassielje Rodivonof), родом с Дона, другого крещенного в русскую веру, его звали Ивановичем (Ivanowitz). 2 августа в городе все еще происходили ужасные убийства, что вошло в обычай, убивали один день больше, другой день меньше, и так умертвили 150 человек, тираны орошали кровью их невинные лица… 22 августа в городе еще чинились многие жестокости, бедным людям отрубали руки и ноги и затем бросали их в воду».
Посланцы Разина «гуляли» по всей Московской земле, даже в Москву доходили его «прелестные грамотки». На счастье Степана, в Москве случилось тогда горе: умер сын Алексея Михайловича царевич Алексей Алексеевич. В грамотках Степан поднимал народ, ссылаясь, что народу лгут и Алексей не умер, а находится в войске атамана. К своему войску атаман «причислил» и находившегося в опале патриарха Никона. Народ поверил. Не зная что делать, в Москву стали срочно звать представителей от всех городов и весей, чтобы показать тем воочию могилу царевича. Но в среде разинцев царевич получил имя Нечая, и там тоже были «очевидцы», что Нечай при войске. Что же касается Никона, в Москве даже испугались было, что он бежал из ссылки, и отправили к патриарху учинить допрос, считая, очевидно, что он имеет прямое отношение к бунту. Никону удалось от разинцев откреститься.
Читателю может быть непонятно — при чем тут Степан Тимофеевич и Никон? Царевич — дело ясное, но… Никон? Этот человек, послуживший источником раскола единой Православной русской церкви, строгий, властный, грубый и беспощадный, боровшийся всю свою патриаршию карьеру с проявлением вольнодумства, даже не мирского, а сугубо религиозного плана, собственноручно выкалывающий глаза «неправильным», то есть не по канону писанным иконам, ссылавший «крамольников» и уморивший множество несчастных староверов, — он-то тут при чем? Реформы Никона и фанатическая война Никона с православными «еретиками», как именовали раскольников, Стеньку волновала крайне мало. Просто к году разинского восстания Никон, ставший причиной самого тяжелого потрясения Церкви за восемь веков ее существования, сам превратился в гонимого: он был признан таким же отступником, как и те, кого вчера еще заставлял под пытками сознаться в неверности. Падение такого масштаба, с самого верха до самого низа — от патриарха до простого заключенного монаха, — не могло не вызвать у разинцев мысли, что если царь и все иерархи Церкви заточили Никона, то Никон выступал против царя. Такой Никон был для разинцев неплохим знаменем. Против царя, против власти, против неправильной веры, против насилия, против обмана — значит, за народ, за свободу, за право выбирать свою судьбу.
Время было странное: царь тоже как-то сразу поверил, что Никон пристал к мятежникам, даже был удивлен, что старик все так же сидит в своей ссылке. Даже смилостивился, разрешил содержать его в Ферапонтовом монастыре посвободнее, давать книги, ездить верхом, лечить больных. И хотя рассказывали, что если не сам Никон, так монах от Никона был среди разинцев, царь не стал дольше расследовать это дело. Главное, что сам Никон не сбежал. Никон же не мог бы бежать, даже если б вдруг и захотел. Он в 1671 году так жаловался царю, умоляя о милости: «Я болен, наг и бос, сижу в келье затворен четвертый год. От нужды цинга напала, руки больны, ноги пухнут, из зубов кровь идет, глаза болят от чада и дыму. Приставы не дают ничего ни продать, ни купить. Никто ко мне не ходит, и милостыни не у кого просить. Ослабь меня хоть немного!» Тогда царь сделал вид, что никакого письма не получал. Теперь — убедившись в полной беспомощности когда-то всевластного патриарха — смилостивился. Никон же, конечно, даже не будучи в столь плачевном физическом состоянии, никогда бы не присоединился к бунтовщикам. Проливать чужую кровь за веру — одно дело, связаться с теми, кто проливает чужую кровь ради наживы и развлечений (чего Никон вообще не терпел), — совсем иное. Так что не того «страдальца» записали в свои ряды гуляющие по Волге и Дону разинские товарищи. Но от отсутствия в их рядах Никона или Нечая дела нисколько не ухудшились.
К мятежникам присоединялись все новые и новые желающие, это были в основном самые подневольные крестьяне. Размаха эта вольница на казачьей основе достигла невиданного, по масштабам она напоминала времена Смуты. Но Разин все же был казаком, он простой народ не грабил, но и не особенно желал соединять с ним свою судьбу. Так что, когда при осаде Симбирска до него дошли слухи о продвижении большого московского войска, он бросил своих сторонников из крестьян и бежал со своими казаками. Народ стал являться к своим воеводам с повинной. К тому же патриарх Иосиф объявил на священном соборе Разина вором и предал его анафеме. Это и решило Стенькину участь.
В донском городке Разина Кагальнике по весне на него напали верные православию и царю донские казаки, повязали его и увезли в Москву вместе с братом Фролом. В Москве Разин надеялся на торжественный прием, но его тут же отправили на пытку. На этой бесконечной пытке Разин держался, как и положено казаку, — с редким мужеством. Так ничего и не добившись, в начале июня Разина с братом повели на казнь. Испугавшийся Фрол, желая вымолить себе жизнь, помянул о каком-то кладе. Степану отрубили голову, а Фрол еще долго водил корыстных москвичей по берегам Волги в поисках клада, потом москвичам это надоело, и Фрола отправили в темницу — до конца его дней.
На этом разинские подвиги завершились, но еще долго «гуляли» другие атаманы и воровские шайки. Дольше всего держалась Астрахань. Но ее взяли обманом, пообещав всем сдавшимся царское прощение. Через год неожиданно для совершенно успокоившихся горожан явилась московская сыскная комиссия. Начались допросы, пытки и казни, многие были высланы из города, а наиболее опасные активисты — повешены. «Так окончилась кровавая драма, — писал Костомаров, — имевшая значение попытки ниспровергнуть правление бояр и приказных людей, со всяким тяглом, с поборами и службами, и заменить старый порядок иным — казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным. Попытка эта была задушена в пору; дух мятежа не успел еще охватить большей части Московского государства; нестройные толпы поселян и посадских не в состоянии были выдерживать борьбу с войском, уже отчасти знакомым с европейским военным обучением.
Известно, что правильно обученное войско, составляющее притом отдельное от народа сословное тело, везде было лучшей опорой властей против народных волнений. Если, при сильном распространении духа восстания, и оно может, наконец, проникнуться тем же духом, то, прежде чем дойдет до этого, оно — имея возможность осилить первые попытки облечь замыслы в дело — способствует бессилию самих замыслов. Так было и при Стеньке. Быть может, мятеж не был бы так скоро задушен, если бы Стенька явился под Симбирском победителем: и Русь испытала бы тяжелые потрясения, хотя, конечно, все-таки возвратилась бы к старому порядку. Малороссия служит наглядным образчиком того, к чему могло привести стремление распространить на весь народ казацкое устройство, составлявшее идеал восстания Стеньки». Тут ученый имел в виду, что казачье мироустройство не способно создать устойчивой системы, то есть что Малороссия попала сначала в кабалу Польше, потом в кабалу Москве только потому, что не сумела построить собственное государство, не раздираемое противоречиями. Слишком большая вольность, когда каждый делает только то, чего хочет сам, — тоже беда. Но рабство — беда еще большая.
Хорват Юрин Крижанич
Родился в 1617 г., попал в опалу, был сослан в Сибирь, в 1676 г. прощен царем, после чего следы теряются
Как раз в XVII веке в России появился хорватский богослов Юрий Крижанич. Он мечтал воссоединить все славянские народы в едином государстве (эта мысль не оставляла и русских царей) и создать чистую, то есть независимую от земных споров Христову церковь, но, написав несколько сочинений на эту тему, несчастный оказался в далекой тобольской ссылке. «Некоторые люди думают, — говорит он, — что тиранство в том состоит, чтобы мучить невинных людей лютыми муками, а не в дурных, отяготительных для народа уставах, но дурные законы на самом деле еще хуже лютых мук. Если какой-нибудь государь установит дурные тяжелые для народа законы, наложит неправедные дани, поборы, монополии, кабаки, тот и сам будет тираном и преемников своих сделает тиранами. Если кто из преемников его будет щедр, милосерд, любитель правды, но не отменит прежних отяготительных законов, тот все-таки тиран. Мы видим этому пример и на Руси. Царь Иван Васильевич был нещадный „людодерец и безбожный мясник, кровопийца и мучительВ наказание ему Бог попустил так, что из трех сыновей одного он сам убил, у другого Бог ум отнял, третьего Борис Федорович малым убил; и так все царство отпало от рода царя Ивана. Борис возвысил „самодержие“ (монополии) и всякое народное обдирательство, созидал города и церкви на народное ограбленное добро, но Бог выставил против него не боярина, не именитого человека, а бродягу и расстригу. Расстрига лишил Бориса царства, уничтожил его племя и сам за свою глупую наглость сгинул. Но на этом не престал бич Божий над нашим народом до тех пор, пока „оная кровавая, плававшая в сиротских слезах казна“, вся не была разграблена иноплеменниками; пожар, истребивший Москву, искоренил прежнее богомерзкое „людодерство“, и города, построенные на крови земледельцев, достались в руки иным властителям. Но посмотрите, что в наше время случилось в этом преславном русском государстве! Вот все поколения державы русского народа, Малороссия и Белоруссия обратились к своему Русскому государству, от которого за несколько веков были отторгнуты. Что же потом случилось! То же, что некогда в Израиле при Иеровоаме. Тогда некоторые люди верно советовали и говорили: не отягощайте новых подданных, не гоняйтесь за великой казной и приходом; пусть лучше царь-государь имеет большое войско, всегда готовое на его повеление, пусть он им будет огражден, как стеной, и с его помощью истребит крымских разбойников. Но думе, привыкшей к старым законам царя Ивана и царя Бориса, полюбилось иное: сейчас же установлены были проклятые кабаки. И вот, мои украинцы, новые подданные, как только отведали закон этой власти, сейчас раскаялись и опять к ляхам обратились. А отчего это? От обдирательства народа. Эти думники, советующие заводить монополии, кабаки и всячески угнетать бедных подданных, имеют в виду только ту корысть, которая у них перед глазами, а на будущее не смотрят, думают приобрести своему государю большую казну, а приносят великое убожество и неисповедимую потерю. Таким-то путем идут дела в этом государстве, начиная с царя Ивана Васильевича, который положил начало жестокому правлению. Если б можно было собрать вместе все деньги, неправедным и безбожным способом содранные с народа со времен означенного царя Ивана Васильевича, то они бы не вознаградили десятой части тех потерь, которые понесло это государство от жестокого образа правления. Недаром Сирахов сын сказал, что нет ничего хуже алчности.
За неправильные обиды народу и за алчное обдирательство не только отнимается царство от одного рода и дается другому, но даже от целого народа и передается другому народу. Пример мы видим в Римской империи: чужие народы разорвали между собой Римское царство. Ближайший пример нам представляют ляхи. От излишней расточительности ляшское государство прибегло к обдирательству народа, дошло до крайней неурядицы и попало в чужую власть. Ляхи, не в силах будучи удовлетворить своей расточительности, поневоле сделались жестокими и безжалостными тиранами над своими подданными: тиранство, идет рядом с расточительностью; всякий расточитель делается тираном, если есть ему кого обдирать. И царь Иван, и царь Борис пошли по тому же пути, и до сих пор государство их идет тем же путем; но видите, к какому концу готово прийти Польское королевство, и оно непременно придет к нему, если вовремя не опомнится…
Не хочу быть пророком, но, пока свет и человеческий род не изменятся, я крепко уверен, что и этому царству придет время, когда весь народ восстанет на ниспровержение безбожных, жестоких законов царя Ивана и царя Бориса…
В прелютых, тиранских законах царя Ивана все приказные, начальствующие и должностные лица должны присягать государю всеми способами приносить государевой казне прибыль и не опускать никакого способа к умножению ее. Вот беззаконный закон! Вот проклятая присяга! Из этого необходимо вытекает, что приказные от царского имени, как для царя, так и для самих себя, всяким возможным способом томят, мучат, обдирают несчастных подданных. А вот другой тиранский закон: высокие советники, связанные вышесказанной клятвой, приказным людям в уездах не дают никакого жалованья или дают малое, а между тем велят носить им цветное и дорогое платье и крепко запрещают им брать посулы. Какой же промысел остается бедным людям на прожитье? Одно воровство. Правители областей, целовальники и всякие должностные лица привыкли продавать правду и заключать сделки с ворами для своей частной выгоды. Один правитель, приехавши в свою область, показал всему народу свою милость тем, что обещал никого не казнить смертью. Это значило: воруйте, братцы, свободно разбойничайте, крадите да мне приносите. И за четыре года воры верно исполняли приказание. То и дело что носились вести — там людей зарезали, там обобрали; дошло до того, что люди не могли спать спокойно в своих избах: никто не был казнен смертью — на то царское милосердие! Но что этому причиной? Бедный подьячий сидит в приказе по целым дням, а иногда и ночам, а ему дают алтын в день или двенадцать рублей в год, а в праздники велят ему показываться в цветном платье, которое одно стоит более двенадцати рублей. Чем же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Чем же они живут? Легко понять: продажей правды. Не удивительно, что в Москве много воров и разбойников. Удивительно, как могут честные люди в Москве жить!.. Злобно толкуют (подслушанные) чужие слова и обвиняют человека в хуле на государя, когда на самом деле не было никакой хулы; за невинные слова людей тащат к допросам, к пыткам, замучивают их беспощадным образом. Судьи же стараются угодить царю, а при этом и в свою пользу выжимают деньги с обиженных…
Ни в чем не высказываются так свойственные тиранам изобретательность, коварство, неправда и жестокость, как тогда, когда они ссылают людей или удаляют из столицы (ab urbe). Тиран прикидывается милостивым и, под личиною милосердия, мучит людей, сокрушает (destruit) их и тем самым держит всех остальных в каком-то паническом страхе, так что никто не может считать свое положение безопасным ни на один час; все ждут с часу на час громового удара над собой… Все европейцы называют это преславное государство тиранским; говорят, что русские ничего не делают иначе, как только принуждаемы бывают палками и батогами. Правда, русские люди делают все не из чувства чести, а из страха казни, но этому причиной жестокое правление, и если бы немецкий или какой-либо другой народ был под таким правлением, то усвоил бы еще хуже нравы. Русские всеми народами считаются лживыми, неверными, жестокосердыми, склонными к краже и убийству, невежливыми в беседе, нечистоплотными в жизни.
А отчего это? Оттого, что везде кабаки, монополии, запрещения, откупы, обыски, тайные соглядатаи; везде люди связаны, ничего не могут свободно делать, не могут свободно употреблять труда рук и пота лица своего. Все делается втайне, со страхом, с трепетом, с обманом, везде приходится укрываться от множества „оправников" (чиновников), обдирателей, доносчиков или, лучше сказать, палачей. Привыкши всякое дело делать скрытно, потакать ворам, всегда находиться под страхом и обманом, русские забывают всякую честь, делаются трусами на войне и отличаются всяческой невежливостью, нескромностью и неопрятностью… Если нужна им чья-нибудь милость, тут они сами себя унижают, молятся, бьют челом до отвращения…
Пусть царь даст людям всех сословий пристойную, умеренную, сообразную со всякою правдою свободу, чтобы на царских чиновников всегда была надета узда, чтоб они не могли исполнять своих худых намерений и раздражать людей до отчаяния. Свобода есть единственный щит, которым подданные могут прикрывать себя против злобы чиновников, единственный способ, посредством которого может в государстве держаться правда. Никакие запрещения, никакие казни не в силах удержать чиновников от худых дел, а думных людей от алчных, разорительных для народа, советов, если не будет свободы…»
По Крижаничу, полная свобода (как у поляков) ведет к тирании отдельных лиц, полная несвобода (как в Москве) — к тирании одного лица, хозяина государства. Оба пути тупиковые. Царь должен остаться самодержцем, но ограничить свои права по собственной воле, дать свободы народу, сделать его жизнь не зависящей от произвола и при вступлении на престол давать клятву сохранять эти народные свободы, только после такой клятвы народ должен был присягнуть самоограниченному государю. Само собой, при таком образе мысли хорват Крижанич оказался в Сибири. К тому времени Сибирь уже основательно стала русской. Начало ее завоеванию положили экспедиции Ермака, который разбил хана Кучума. По стопам Ермака двинулись последователи, часто это были предпринимательские походы — в новые земли (у Старого Света для этой цели была Америка, у русских куда как более близкая Сибирь) отправлялись на поиски золота, искали таинственное озеро Ламу, так тогда назывался Байкал, где золото можно грести лопатами. Байкал нашли, оказалось, что и за Байкалом землица хороша в золотоносном плане. В конце концов добрались до Тихого океана. Тут завоевание остановилось на время, только позже русские со стороны Камчатки попали в Америку — на Аляску. А Сибирь? Сибирь стала отличным местом для ссылки неугодных. В этом качестве она использовалась на протяжении всей последующей истории — вплоть до нашего с вами времени. На поглощенные государством народы Сибири московские завоеватели смотрели точно так же, как европейцы на американских индейцев. Русских там было немного — военные да ссыльные. Из этой Сибири Крижанич мог сколько угодно писать бунтарские и еретические сочинения — никому до них больше не было дела.
Царь Федор Алексеевич 1676–1682
Федор Алексеевич Романов (1661–1682). Царь всея Руси в 1676–1682 гг. (как Федор III). Сын царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. Прожил чуть более 20 лет
Дальнейшее развитие русских событий показало, что цари вовсе не желали ограничивать своей свободы, совсем напротив — они желали еще больше ограничить права своего народа, точнее — народов. При страдающем неизлечимым недугом царе Федоре Алексеевиче власть монарха, скажем, практически отсутствовала, по словам Костомарова, «политика Москвы в первых годах Федорова царствования обращалась главным образом на малороссийские дела, которые впутали Московское государство в неприязненные отношения к Турции. Чигиринские походы, страх, внушаемый ожиданием нападения хана в 1679 г., требовали напряженных мер, отзывавшихся тягостно на народе. Целые три года все вотчины были обложены особым налогом по полтине со двора на военные издержки; служилые люди не только сами должны были быть готовы на службу, но их родственники и свойственники, а с каждых двадцати пяти дворов их имений они должны были поставлять по одному конному человеку. На юго-востоке происходили столкновения с кочевыми народами».
В таких условиях у царя не было ни сил, ни возможности как-то укрепить единоличную власть: он попробовал хотя из вести до конца обычай местничества, велел свезти со всего государства и сжечь прямо в царских сенях разрядные книги, чтобы никто не смел кичиться своим происхождением, но толку было мало.
Царевна Софья 1657–1704
Царевна была регентшей при малолетних братьях Иване и Петре; пострижена в монастырь после восстания стрельцов и умерла в 1704 г.
Иван V Алексеевич (1666–1696) — русский царь с 1682 г. До 1689 г. за Ивана фактически правила сестра Софья, затем Петр I
При вырвавшейся из девического терема царевне Софье эта власть попробовала укрепиться, но Софья была — увы — женщиной, и этим сказано все: ей приходилось делиться своей властью с теми, на кого она опиралась. Это в Англии страной могла управлять Елизавета, в России Софья была даже и не человек.
Власть Софьи была совсем не абсолютной: она выступала как управительница при двух младших братьях — Иване и Петре. Первый был слабоумным, второй слишком юным. В течение семи лет царевна считала себя царицей. Но ничего нового дать стране она не смогла: «Во внутренних делах не происходило никаких важных изменений, кроме кое-каких перемен в делопроизводстве. Правительство по-прежнему противодействовало обычному шатанию народа и делало распоряжение об удержании жителей на старых местах. Разбои усиливались; даже люди знатных родов выезжали на дорогу с разбойничьими шайками. Помещики дрались между собой, наезжали друг на друга со своими людьми, жгли друг у друга усадьбы; их крестьяне, по их приказанию, делали нападения одни на других, истребляли хлеб на полях и производили пожары. Межевание, начатое при Федоре, продолжаясь при Софье, приводило к самым крайним беспорядкам. Помещики, недовольные межеванием, посылали своих крестьян на межевщиков с оружием, не давали им мерить земли, рвали веревки, а некоторых межевщиков поколотили и изувечили. За такие самоуправства правительство определило наказывать кнутом и ссылать в Сибирь; но бесчинства от этого не прекращались. Небогатые помещики находились под произволом богатых, владевших многими крестьянами; кто был сильнее, тот у соседа отнимал землю. И бедняку трудно было тягаться с богачом. В самой Москве происходили в то время беспрестанные бесчинства, воровство и убийства». Назревала уже ставшая привычной развязка событий — новая Смута.
Неудивительно, что, повзрослев, молодой и властный сводный брат просто оттер Софью от престола. Женской власти на монаршьем троне не предполагалось. Мы не знаем, что собиралась сделать с этим братом сама сестрица, но мы знаем, что сделал с возомнившей себя государыней Софьей ее брат. Рецепт был прост: пострижение, и в монастырь.
Царь Петр I Алексеевич, или Петр Великий 1682 (1689) — 1725
Петр I — с 1682 (1689) года царь, с 1721 года император, умер 28.01.1725
Свое царствование Петр Алексеевич начал с жесточайшего подавления Стрелецкого бунта: он велел свезти в Москву всех захваченных во время мятежа стрельцов общим числом в 1714 человек. «Устроено было четырнадцать застенков, и каждым застенком заведывал один из думных людей и ближних бояр Петра, — рассказывал Костомаров. — Признания добывались пытками. Подсудимых сначала пороли кнутом до крови на виске (т. е. его привязывали к перекладине за связанные назад руки); если стрелец не давал желаемого ответа, его клали на раскаленные угли. По свидетельству современников, в Преображенском селе ежедневно курилось до тридцати костров с угольями для поджаривания стрельцов. Сам царь с видимым удовольствием присутствовал при этих варварских истязаниях. Если пытаемый ослабевал, а между тем нужен был для дальнейших показаний, то призывали медика и лечили несчастного, чтобы подвергнуть новым мучениям. Под такими пытками стрельцы сперва сознались, что у них было намерение поручить правление царевне Софье и истребить немцев, но никто из них не показывал, чтобы царевна сама подучала их к этому замыслу! Петр подозревал сестру и приказал пытать стрельцов сильнее, чтобы вынудить у них показания, обвиняющие Софью…
30 сентября у всех ворот московского Белого города расставлены были виселицы. Несметная толпа народа собралась смотреть, как повезут преступников. В это время патриарх Адриан, исполняя предковский обычай, наблюдаемый архипастырями, просить милости опальным, приехал к Петру с иконою Богородицы. Но Петр был еще до этого нерасположен к патриарху за то, что последний повторял старое нравоучение против брадобрития; Петр принял его гневно. „Зачем пришел сюда с иконою? — сказал ему Петр. — Убирайся скорее, поставь икону на место и не мешайся не в свои дела. Я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Богородицу. Моя обязанность и долг перед Богом охранять народ и казнить злодеев, которые посягают на его благосостояние“. Патриарх удалился. Петр, как говорят, собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам в селе Преображенском. Затем длинный ряд телег потянулся из Преображенского села в Москву; на каждой телеге сидело по два стрельца; у каждого из них было в руке по зажженной восковой свече. За ними бежали их жены и дети с раздирающими криками и воплями.
В этот день перевешано было у разных московских ворот 201 человек. Снова потом происходили пытки, мучили, между прочим, разных стрелецких жен, а с 11 октября до 21-го в Москве ежедневно были казни; четверым на Красной площади ломали руки и ноги колесами, другим рубили головы; большинство вешали.
Так погибло 772 человека, из них 17 октября 109-ти человекам отрубили головы в Преображенском селе. Этим занимались по приказанию царя бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище.
В разные дни под Новодевичьим монастырем повесили 195 человек прямо перед кельями царевны Софьи, а троим из них, висевшим под самыми окнами, дали в руки бумагу в виде челобитных.
Последние казни над стрельцами совершены были в феврале 1699 года. Тогда в Москве казнено было разными казнями 177 человек. Тела казненных лежали неприбранные до весны, и только тогда велено было зарыть их в ямы близ разных дорог в окрестностях столицы, а над их могилами велено было поставить каменные столпы с чугунными досками, на которых были написаны их вины; на столпах были спицы с воткнутыми головами. Софья по приказанию Петра была пострижена под именем Сусанны в том же Новодевичьем монастыре, в котором жила прежде». Она прожила под неусыпным контролем еще пять лет, а потом умерла.
При Петре самодержавие ужесточилось примерно до той же степени, что и при Иване Васильевиче Грозном. Все финансовые трудности, которые переживала страна, были переложены на народные плечи, неудивительно, что народ стал бежать из Центральной России на окраины — на Дон, на Донец, на Битюг, на Хопер. Бежавшие нарекали себя казаками и строили там свои городки.
Кондратий Булавин 1660–1708
«В 1707 году, — пишет Костомаров, — царь отправил на Дон полковника князя Юрия Долгорукого требовать, чтобы донские казаки выдали всех беглых, скрывавшихся на Дону; старшины показали вид покорности, но между простыми казаками поднялся сильный ропот, тем более когда в то же время объявлено было казакам приказание царя брить бороды. Донские казаки считали своею давнею привилегией давать убежище всем беглым. Когда полковник князь Долгорукий со своим отрядом и с пятью казаками, данными старшиною, отправился для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин, из Трехизбянской станицы на Донце, напал на него 9 октября 1707 года на реке Айдаре, в Ульгинском городке, убил его, перебил всех людей и начал возмущать донецкие городки, населенные беглыми. В этих городках встречали его с хлебом и медом. Булавин составил план взбунтовать все украинные городки, произвести мятеж в донском казачестве, потом взять Азов и Таганрог, освободить всех каторжных и ссыльных и, усиливши ими свое казацкое войско, идти на Воронеж, а потом и на самую Москву. Но прежде чем Булавин успел возмутить городки придонецкого края, донской атаман Лукьян Максимов быстро пошел на Булавина, разбил и прогнал, а взятых в плен его сотоварищей перевешал за ноги.
Булавин бежал в Запорожье, провел там зиму, весною явился опять в верхних казачьих городках с толпою удалых и начал рассылать грамоты; в них он рассказывал, будто Долгорукий, им убитый, производил со своими людьми в казачьих городках разные неистовства: вешал по деревьям младенцев, кнутом бил взрослых, резал им носы и уши, выжег часовни со святынею. Булавин в своих воззваниях убеждал и начальных лиц, и простых посадских, и черных людей стать единодушно за святую веру и друг за друга против князей, бояр, прибыльщиков и немцев. Он давал повеление выпускать всех заключенных из тюрем и грозил смертною казнью всякому, кто будет обижать или бить своего брата. Донской атаман Максимов пошел на него снова, но значительная часть его казаков перешла к Булавину. В руки воровского атамана досталось 8000 р. денег, присланных из Москвы казакам. Сам Максимов едва бежал в Черкассы.
Эта победа подняла значение Булавина. За нею поднялись двенадцать городков на Северном Донце, двадцать шесть — на Хопре, шестнадцать — на Бузулуке, четырнадцать — на Медведице. Восстание отозвалось даже в окрестностях Тамбова: и там в селах крестьяне волновались и самовольно учреждали у себя казацкое устройство». Это восстание так и вошло в историю под именем Кондратия Булавина. «Ведаете сами, молодцы, — писал Булавин, — как деды ваши и отцы положили и в чем вы породились; прежде сего старое поле крепко было и держалось, а ныне те злые люди старое поле перевели, ни во что почли, и чтоб вам старое поле не истерять, а мне, Булавину, запорожские казаки слово дали, и белогородская орда и иные орды, чтоб быть с вами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятки не поверстается, и тому казаку будет смертная казнь». На сторону атамана переходили целые казачьи «орды» (по его выражению). Булавину удалось взять царский Черкасск, а потом он даже написал турецкому султану, что Москва собирается на него войной. Петр был разгневан необычайно, он послал войска против казаков и в конце концов переманил на свою сторону донских атаманов.
Когда Булавин понял, что дело плохо, он не дался в плен и успел застрелиться. Все восставшие казачьи городки бились до последнего: они прекрасно знали, что от Петра, так же как и от Ивана Васильевича, пощады ждать не стоит. Восстание подавили. Долго еще по Дону плыли виселицы на плотах (так распорядился для острастки упорных князь Долгорукий) с телами повешенных. Было несколько сотен таких плотов с виселицами…
Петр понимал свободу только как собственное право распоряжаться жизнями других. Казачьи вольности ему не нравились. Но даже не пошедшие за Булавиным на конфронтацию казаки отлично понимали, что Петр собирается распространить на Малороссию все те московские тягловые обязанности, что были и в остальной стране. Основная масса малороссов вовсе хотела становится на великоросский образец, москалей она ненавидела, впрочем, так же, как и остальных, посягающих на свободу, — поляков или турок.
Гетман Иван Мазепа 1640–1710
Мазепа Иван Степанович — гетман Левобережной Украины. Родился около 1640 г. После разгрома шведов в Полтавской баталии в 1709 г. бежал в турецкую крепость Бендеры, умер в 1710 г.
Казачьи вольности попытался спасти гетман Иван Мазепа, решив передаться с казачьим войском на сторону шведов. «Мазепе в это время, как видно, — писал Костомаров в своем сочинении „Мазепа", — запахло чем-то очень плохим — возможностью потерять гетманство; и для старшин это запахло таким новым порядком, что вместо начальников, выбранных войском запорожским, станут управлять козаками царские бояре, а страх такой перемены, как известно, уже немалое время беспокоил малорусов. Во всяком случае, страсть царя Петра к преобразованиям готова уже была коснуться Гетманщины, а желание как можно теснее слить этот край с остальными частями Русской державы унаследовалось им от прежней московской политики».
Царь действительно хотел упразднить казачье войско и построить его по образцу драгунских и солдатских полков.
Как говорит историк, Петр не стал проводить реорганизацию всей Украины разом только из уважения к старому гетману. Гетман все понимал и искал способа расстроить царские затеи. Ловкий царедворец, Мазепа вел свои политические игры так, что был одновременно любимцем Петра и в то же время искал способа отложения от России, используя шведов. Это ему не удалось. Гетман оказался в таком положении, когда пришлось выбирать — присоединиться к шведам, которые вступили на Украину, или же идти по приказу Меншикова на соединение с русскими частями. Мазепа предпочел независимость Украины и шведов. Он проиграл.
В отместку Петр полностью стер с лица земли столицу гетмана город Батурин — со всеми его малоросскими жителями. Но, очевидно, понимая, что с вводом русской несвободы придется подождать, чтобы совсем уж не озлобить местное население, велел издать специальный для Украины указ: «Ни один народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостию похвалитися не может, как народ малороссийский, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем Малороссийском крае с них брать мы не повелеваем». Такой манифест народу очень понравился, а гетман вдруг сообразил, что его казаки вовсе не желают никакой независимости. «Едва только пошла по Малороссии весть, — пишет Костомаров, — что чужестранцы приблизились к пределам малороссийского края и гетман со старшиною переходят на их сторону, народ заволновался, стали составляться шайки — нападать на чиновных людей, на помещиков, грабить богатых торговцев, убивать иудеев, и Мазепа, задумавший со старшиною доставить Малороссии независимость и свободу, должен был сознаться, что народ не хочет такой независимости и свободы, а желает иной свободы, к которой стремление начинает грабежом и расправою над знатными и богатыми людьми». Часть казаков, мечтая о вольности, все-таки пошла за опальным уже гетманом. И тогда Петр послал войска навсегда уничтожить гнездо инакомыслия — Запорожскую Сечь. Приказ был исполнен, но не окончательно: большая часть сечевых казаков вышла из пределов своего становища, погибла лишь небольшая часть их войска. Тех, кто не пал в битве с солдатами Петра, казнили. После измены Мазепы по всей Малороссии были поставлены русские драгунские полки, чтобы укротить волнение при его зарождении. Новый гетман, Скоропадский, был не избран, а назначен Петром, он занимал подчиненное положение. На выборное право в самих казачьих полках Петр посягать не стал. Пока что эта приманка была оставлена для сохранения покоя. Нос гетманством Петр решил покончить раз и навсегда. В 1722 году в Петербурге была создана особая Малороссийская коллегия из шести офицеров — ей полагалось заниматься всеми делами Украины. Гетман Скоропадский, понимавший, что такое установление нарушает сам смысл договора с Хмельницким, от переживаний скончался.
Гетман Павел Полуботок 1660–1723
Полуботок Павло Леонтьевич, 1660—29.12.1723, Петербург (крепость). с 1706 г. черниговским полковник. Сторонник автономии украины, ратовал за восстановление гетманщины (отмененной после измены Мазепы) и за ликвидацию малороссийской коллегии, за что выл посажен в Петропавловскую крепость
Новым гетманом избрали Павла Полуботка, которого Петр не любил и видеть в качестве гетмана не хотел. Из Малороссийской коллегии между тем стали спускаться казакам универсалы, призывающие доносить обо всех злоупотреблениях, обращены они были к казачьей черни. (Ничего не напоминает? А как же времена Ивана Третьего Васильевича и его сына Василия? Лишение самостоятельности Новгорода и Пскова?) Начались беспорядки. Полуботок, дабы безобразия прекратить, разослал свои универсалы, призывающие к повиновению. Этим он нарушил русский закон, что рассылать такие универсалы имеет право только одна Малороссийская коллегия.
Тут объявилась еще одна новость: в казачьи полки стали назначать полковников из России, а из коллегии пришло обращение ко всем казакам просить у царя, как милости, чтобы суд в Малороссии производился по великорусскому Уложению и по царским указам. (Не правда ли, еще одно совпадение с теми далекими временами?) Самого гетмана с его писарем вызвали в Петербург и учинили допрос. Полуботок клялся, что, рассылая свои универсалы, заботился лишь, чтобы не случилось мятежа. Ему совали в руки полученные коллегией жалобы от населения. И хотя эти жалобы были бездоказательными, Полуботок вместе со всеми сопровождавшими его казаками оказался в крепости. Петр решил обвинить его в государственном преступлении, чтобы — наконец-то — разделаться с казачьей вольницей и привычными ей правами.
Государственные преступления он замечательно видел во всем, не пожалел даже уничтожить собственного сына царевича Алексея (1690–1718), увидев в его действиях государственную измену: испуганный нелюбовью отца царевич решился искать спасения на Западе — за что и получил наказание. Петр не убил царевича своими руками, как это сделал Иван Васильевич Грозный. Он устроил суд из духовных и светских лиц, постановлением суда Алексей был приговорен к смерти. В день исполнения приговора царь вместе со своими приближенными посетил каземат, где царевича напоследок снова пытали. От чьей руки он принял смерть, никому не известно, но ясно одно — в присутствии отца. И если Петр не пожалел собственного сына, как он мог отнестись с пониманием и снисхождением к какому-то гетману Полуботку?
«Петр отправил в Малороссию майора Румянцева, — рассказывает Костомаров, — приказал ему собирать казаков и всяких людей и сказать им, чтоб они без всякой опасности для себя ехали обличать Полуботка; вместе с тем Румянцев должен был заручиться от малороссийских казаков заявлением, что ни они, ни малороссийское посольство вовсе не желают избрания гетмана, что челобитная об этом государю составлена без их ведома старшиною, что они желают, чтоб у них полковниками были великороссияне. Румянцев, оказавший уже Петру вместе с Толстым важную услугу доставкою из Неаполя беглого царевича, и теперь в Малороссии исполнил царское поручение так, как только мог угодить Петру. Он извещал, что в разных малороссийских городах он собирал сходки и везде слышал отзывы, что простые казаки не знают о челобитной, гетманства не хотят вовсе и очень довольны тем, что им назначают в полковники великорусов, вместо природных малороссиян». Малороссия была приведена в одинаковое состояние с остальной Россией. Казачество стало переводиться на русскую службу под командованием русских полковников. Гетманства в ней более не было. Началась унификация. Но эта память о недавних свободах оказалась более живучей, она пробуждалась, когда государство начинало забирать себе еще более власти. Тогда и вспоминали о свободе. Впрочем, после смерти Петра, официально провозгласившего Московское царство Российской империей, история Московии завершилась, началась история совершенно другой страны, пережившей тяжелую эпоху дворцовых переворотов, пока у власти не оказалась сначала Елизавета Петровна, а затем и Екатерина Великая.
Елизавета Петровна (1709–1761) вступила на престол 25 ноября 1741 г. после дворцового переворота, короновалась 25 апреля 1742 г., умерла в 1761 г. Екатерина II (1729–1796) — российская императрица в 1762–1796 гг. также после дворцового переворота
Страну эту, Российскую империю, совершенно неслучайно в демократически настроенных кругах называли не иначе как тюрьмой народов. В этой стране, в огромном географическом застенке, начинавшемся на Балтике и завершавшемся на берегах Тихого океана, оказались буквально все — татары, эскимосы, литовцы, эвенки, украинцы, чукчи, поляки, все, даже сами великорусы. Что уж говорить о народах, если в этом застенке оказались и личности выдающиеся, занимающие высокие посты. Они были точно такими же рабами, если пытались сделать что-то полезное для этой страны. Для страны, а не для тех, кто находится у власти. Судьба фельдмаршала Мини ха, видевшего на своем веку несколько государей и государынь, тому свидетельство.
Фельдмаршал Миних 1683–1767
Миних (Бурхард Кристоф), граф, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал
«В судьбе этого человека, — не мог не воскликнуть Костомаров, — много трагического — в своих широких видах на пользу России он постоянно встречал препятствия от самой России. Узкое правительство Анны Ивановны, руководимое недалеким умом герцога курляндского, заключает некстати мир, разбивающий вдребезги все плоды военной деятельности Миниха, и празднует этот унизительный мир как великое счастливое событие; один Миних чувствует, что России надобно не радоваться, а сетовать, но должен, однако, скрепя сердце, молчать и зауряд с другими радоваться и торжествовать, а завистники и клеветники, всю жизнь не дававшие ему отдыха, замечая в нем недовольство, приписывают его только невозможности достигнуть своих собственных эгоистических целей! Анна при смерти; придворные льстецы, угождая ей и думая предупреждать ее тайные желания, обращаются к ее любимцу с просьбою принять по смерти императрицы регентство; Миних, ненавидевший и презиравший временщика, понимал из предшествовавших событий, что если государыня выздоровеет, то не простит ни малейшего неуважения к ее любимцу, — и должен был не только пристать к льстецам, но даже стать во главе их и просить Бирона о том, чего внутренне не хотел! Через 20 дней, по просьбе утесняемой регентом матери императора, он низверг регента, но вместо благодарности встретил от восстановленного им правительства недоверие, подозрительность и противодействие своим советам. Миних устранился, а его не переставали подозревать и не любили. Наконец, совершается новый переворот, и Миниха, ни в чем не повинного, уже совершенно отстранившегося от государственных дел, арестуют, ведут на эшафот и отправляют в тяжелое заточение. Какое опять наступает трагическое положение! Его натура в силах нести непомерные для других труды, перетерпевать лишения и оскорбления, как никто иной не в силах, но бездеятельности вынести не может; он пишет и посылает из своей грустной темницы проект за проектом, в видах то того, то другого предприятия в пользу России, указывает на все, как на продолжение или на окончание того, что замышлял Петр Великий, просит себе свободы настолько, чтобы мог потрудиться для России, — все напрасно: власть глуха к его молениям, его проектов не читает властительница, во все свое царствование избегавшая всякого серьезного чтения; ему, наконец, запрещают писать, отнимают у него бумагу, перья, чернила, грубый караульный подсматривает за ним как за опасным государственным злоумышленником… и в таком ужасном положении томится страдалец двадцать лет! И что же? „Не было дня, чтобы я не находился в светлом расположении духа“, — сознавался он по выходе из заточения. Какая сверхчеловеческая сила духа! С веселым лицом шел этот человек на эшафот, не зная еще, что милость императрицы заменит для него колесо ссылкою; не унывал он и в ужасных стенах пелымского острога: везде и всегда — равен себе самому! Наконец дожил он до освобождения. Но трагизм не покидает этой личности и после. Как не назвать трагическим, в ряду противоположных явлений, доходящих отчасти до комизма, положение, когда старый фельдмаршал выбивается из сил, чтобы спасти государя, которому обязан возвращением к жизни, и не может по причине ничтожности души этого государя и его сателлитов! Старику остается бессмысленно смотреть на звезды, когда последний спасительный совет его был отвергнут! Он отдается Екатерине. Трогательно великодушие новой государыни!
Теперь, уже в восемьдесят лет от роду, для него, казалось, наступала эпоха, когда он мог сойтись с властью, — но и теперь не кончился трагизм для судьбы этого человека. Казалось бы, с кем легче мог сойтись Миних, как не с Екатериной! И что же? Мы видим, что она предоставила ему строить гавани и каналы, окружила его внешним почетом, ценила его личность, слушала со вниманием, но тут же и скучала от его старческих предположений и даже не содействовала успешному окончанию его инженерных и гидравлических работ в такой степени, как он желал и требовал. Он все-таки чувствовал, что он — уже лишний! Отсюда — его желание удалиться на родину и там дожить в безвестности. Едва ли в русской истории можно указать личность, в судьбе которой было столько трагизма, как личность Миниха!»
Уж если Миних оказался в положении гонимого, а затем — ненужного, что ж говорить о людях самого простого звания?
Емельян Пугачев (1740 или 1742–1775)
Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775) — предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг.
При Екатерине Второй, большой почитательнице Вольтера, вольности были доступны только дворянскому сословию, остальной народ свобод не имел вообще. Он был совершенно бесправен. Так что неудивительно, что на разинском Яике в один из тяжелых для народа годов появился новый казачий атаман — Емельян Пугачев. Несколько лет Емельян держал в страхе южные и восточные губернии России и едва не дошел до Москвы.
Себя Емельян именовал чудом выжившим царевичем Петром Третьим, на самом деле убитом по приказу Екатерины Великой в Ропше, и некоторые даже находили, что он держится по-царски и лицом на Петра похож. Из своего стана Пугачев рассылал «прелестные письма» к самым разным слоям бесправного населения — рабочим уральских мануфактур, крестьянам, солдатам (тоже набранным на бессрочную службу крестьянским сыновьям). Смутить ему удалось огромный край, для начальства и дворян настали черные времена. Но и Пугачеву не удалось сделать больше Разина: восстание рассыпалось, предводители были казнены.
В отместку Екатерина до конца разобралась с казаками: Сечь была добита, казаки расселены по всей южной границе, им оставалось лишь занять правильную позицию — против власти или за власть. Они избрали сотрудничество. Казацких бунтов больше не было. Были волнения общенародные.
По сути, бунты стали единственным народным способом сказать своей власти, что она неправа. Зрелище это было, конечно, жестокое, но иного проявления несогласия при полном отсутствии права голоса народ найти не мог. Так что не стоит так удивляться, что Костомаров был в восторге от манифеста 1861 года. Это была возможность начать медленный процесс превращения рабов в людей. Конечно, он понимал, что манифест не снимет множества проблем, но он хотя бы возвращал личную свободу. Для историка худшим сценарием развития событий был бунт, который все разрушал, уничтожал, но ничего не разрешал. Не столь важно, кто был его организатором — крестьяне, рабочие, разночинцы, студенты, дворяне. Сделать лучше после того, как сделано хуже, не получалось ни у кого. Вот в чем, видимо, его страх перед революциями. Сначала провозглашаются свободы, удовлетворяются амбиции, народ утоляет жажду крови, а потом наступает деспотия. Даже если революция победила. Если она не победила — начинается время реакции, то есть уничтожения тех свобод, которые существовали до начала событий. Он не дожил ни до первой русской революции 1905 года, ни до революции 1917-го, ни до последовавшего октябрьского переворота. То, что в России возможен именно наихудший сценарий, он предполагал. Народ, который на протяжении всей его истории держали в рабстве, не сможет остановиться, пока полностью не вычерпает свободу, до дна, до последней капли крови. Этого он и боялся. Вся надежда была на разум просвещенных монархов. Манифест был только первым шагом государя к его народу. Нужен был второй, упреждающий всякое революционное возмущение, реформа самой императорской власти сверху. Этого, как мы знаем, не произошло. Счастье, что Костомарову это так и осталось неизвестным…
Вместо заключения: предвосхищая Оруэлла
Николай Иванович Костомаров кроме как историком был еще и литератором. Нельзя сказать, что он оставил заметный след в изящной словесности, но он заставил читателя думать, поскольку темы, которые он поднимал, были связаны с его историческими изысканиями. Иногда даже трудно определить, что это — проза на историческую тему или же исследование, от исторического труда эти его художественные тексты отличает только присутствие персонажей, но во всем остальном он придерживается строгой научной канвы. Одно из его художественных творений, тем не менее, стоит особняком. Это удивительное произведение, которое на много десятилетий опередило известную книгу английского писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (в другом переводе «Ферма животных»). Даже название очень похоже — «Скотской бунт». В преддверии грядущих негативных событий и имея опыт происшедших исторических катаклизмов, Костомаров нарисовал фантастическую картину из животного, так сказать, царства, задаваясь вопросом: как начинается бунт и к чему он ведет? Материала у историка для ответа было предостаточно: начиная с XVII столетия такие бунты сотрясали страну с завидной регулярностью. В своей аллегории он заставил действовать не людей, а скотов, то есть живущих вблизи человека существ животного мира. Почему именно этих? Да как раз потому, что это самые рабские, то есть приученные к хозяину животные, а не дикие, живущие на свободе по законам природы. Оруэлл поступил примерно таким же образом и получил сходный результат. Рабский народ, привыкший к своему рабскому состоянию, ничего не может сотворить самостоятельно, ему требуется для этого господин — вот вывод, который они делают оба. Но Костомаров в середине XIX века, а Оруэлл — уже в двадцатом. Я не стану утомлять вас пересказом этой истории. И просто приглашаю вас ее прочитать. А выводы? Выводы сделайте сами. Это печальные выводы, но не такова ли и судьба нашей страны?
Рассказ впервые был напечатан только после Февральской революции и накануне октябрьского переворота в журнале «Нива». С тех пор и до девяностых годов 20 века он не переиздавался. В предисловии к публикации было указано, что рукопись этого произведения была найдена при разборе неопубликованных трудов историка. Почему в 1917 году? Это совпадение или воля издателя, вдруг увидевшего актуальность темы в накаленной атмосфере того времени? Не знаю. Но если совпадение, то знаменательное. Ибо скоро после выхода в свет этого рассказа и случился наш скотской бунт. К чему он привел, не мне вам рассказывать.




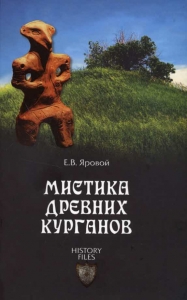

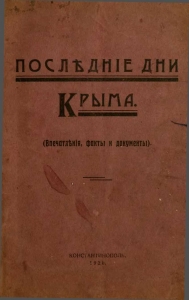
Комментарии к книге «История России. Полный курс в одной книге», Николай Иванович Костомаров
Всего 0 комментариев