Отпадение Малороссии от Польши (1340 — 1654). Том третий.
Из «Чтений в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете».
Глава XXI. Совещания панов о спасении отечества. — Выбор боевой позиции под Збаражем. — Казаки и татары осаждают панское войско. —Переговоры представителя казаков с представителем шляхты. — казацкое искусство маскировать военные действия. — Король идет к осажденным на выручку.
Король советовался с панами рады в обстоятельствах, как выражались его советники, «чреватых опасностью (in praegnanti Reipublicae periculo)». Со стороны Москвы не представлялось никакой опасности, но было страшно Венгрии и шведов, да еще пугала панов местная, то есть католическая чернь, как бы она не поддалась внушениям своевольников и не взбунтовалась подобно черни схизматической. (Zeby plebs tutejsza, chwyciwszy sie jakich licentiosos, nie udala sie takze do rebeliej). Находили полезным отправить посольство к «турецкому императору» и к хану; но где взять денег? Ответом на этот вопрос было решение эксплуататоров государства: отложить посольство до сейма, который назначен на 22 ноября.
Между тем было известно и тут же заявлено от имени короля, что люди, назначенные прежде в эти посольства, не двинулись из дому, однакож деньги на поездку получили (a pieniadze Rzpltej pobrali).
Расхватывая из рук у короля государственные имущества, а у своего шляхетского народа собираемые с него деньги, равно как и доходы с городов, паны сами устраивали Польше руину, которая постигла бы ее и без казако-татарского нашествия.
Теперь представлялось два способа спасти отечество: или посредством грошевого, иначе платного жолнера, или посредством поголовного вооружения шляхты, иначе посполитого рушения. Первый способ находил более действительным даже оракул панского кунктаторства, Кисель; но паны, по его словам, не хотели прибегнуть к мерам чрезвычайным, были скупы на пожертвования; и потому оставался только второй, опасный, по его мнению, способ. Третьего не было (non datur tertium), по словам Киселя. «Бывали далеко маловажнейшие случаи» (писал он к Оссолинскому от 23 (13) июля), «когда духовные и светские паны в несколько недель созидали своими пожертвованиями войско. Теперь, когда погибла половина Речи Посполитой, когда дело идет об её остатке и вместе с ним о королевской короне, они едва были в состоянии поставить перед неприятелем 9 иди 10 тысяч. Но мы были бы несправедливы к Господу Богу, когда бы назвали себя такими убогими, чтобы нас не хватило на жолнера. За исключением тех, которые ничего уже не имеют в отчизне, у нас, по милости Божией, многие обладают средствами (plurimi pollent facultatibus) к спасению отечества».
Один из членов королевской рады советовал назначить одного гетмана: ибо не слыхал он, чтобы где-либо на свете было три гетмана. По крайней мере (говорил он) деньги на непредвидимые издержки (propter secretum bellici consilii) надобно вручить одному, а не двоим, или троим. Но паны не доверяли взаимно своей честности, и полагали, что между шестью глаз не так будет, что называется, шито и крыто.
Так как в государственном совете заседало шесть бискупов, которые первенствовали перед сенаторами светскими, то король в решении вопроса о походе обещал просить вдохновения (prosic о natchnienie) у Господа Бога, или как это объявил он потом — выступить в день своего патрона, Св. Яна.
В таких совещаниях уплыла целая неделя, а между тем полученные из Украины и от Киселя из Гощи письма возвещали близкую грозу.
Не смотря на унизительный прием королевских комиссаров со стороны Хмеля, Ян Казимир отправил к нему секретаря переяславской комиссии, Смяровского.
Иначе относился к бунтовщику шляхетский народ, каков бы ни был он, — не так как «возвышенный духом и благородный умом» избранник правительствующих панов. Его взгляд на Хмельницкого сохранился в популярном тогда и сохраненном для потомства стихотворении, в котором говорится, что легче было бы терпеть «вечный и невознаградимый срам от иноземного неприятеля, чем от такого презренного сора, как Хмель, и это да близость Польши к порабощению хлопами всего больнее для нации».
Snacby znosniejsza od nieprzyjaciela Ponisc szwank taki; ale, ze od Chmiela Smieci wzgardzonej, — to najwiecej boli, То, ze i chlopskiej blizcysmy niewoli.Смяровский выехал из Варшавы под хорошим предзнаменованием, — в день Благовещения Пресвятой Девы Марии (in ipso die Annuntiationis В. V. Mariae), но, по причине опасностей и дурной дороги, достиг Чигирина едва в три недели.
Хмельницкий был далеко надменнее (daleko wiekszej nadetosci), нежели во время Переяславской комиссии. Принял он королевского посла самым недостойным образом (indignissime go excepit), — как последнего мужика (vilissimum de plebe hominem). Когда подали Хмелю королевский лист, он швырнул его писарю через стол, так что лист упал на землю (аz na ziemie upadl). В то же самое время принимал он (писал Смяровский) московского и венгерского послов торжественно (pompatice), с кавалькадой, с военной музыкой, и носился слух (распущенный самим Хмельницким), что Москва дала ему 20.000 своего войска. У Смяровского были отобраны все кони, а челядь его была изрублена. Но при этом Смяровский — что весьма характеристично нашел себе двух покровителей между казаками, да еще таких, которые сообщали ему копии писем своего гетмана к султан-калге, к Периаш-аге, Караш-мурзе, и помогали доставлять его депеши в Варшаву. Скоро, однакож, Варшава узнала, что он погиб жертвою своей ловкости. Казацкий батько не нашел другого средства обеспечить свои секреты в предательской среде своей, как истребить соблазнителя.
Памятником существования Смяровского осталось поздно высказанное им убеждение, — что тот был бы глуп, кто бы осмелился ехать в это пекло (kto by sie w to pieklo odwazyl): «ибо колеса уже так разбежались, что каждый должен здесь погибнуть». И его собственный приезд удивил Хмельницкого, потому что чернь была крайне раздражена потерею Бара и битвой под Межибожем, а сам он (доносил Смяровский) «только и дышет, что яростью да местью (on sam intus nisi furerem et vindictam spirat)».
По словам Смяровского, Хмельницкий ежедневно и ежечасно переменял свои мысли (in dies et horas singulas mutatur). Если иногда подавал некоторую надежду на мир, то через час делался так непохож на самого себя, как непохожа ночь на день (w godzine odmieni sie jako noc ode dnia).
Последнее известие пана Смяровского было таково: что, по словам Хмельницкого, мир невозможен, а должна «стена удариться об стену, и одна — обвалиться, а другая остаться (az sie sciana z sciana uderzy, a jedna sie obali, druga zostanie)». Он звал к себе татар не только на добычу, но и на то, чтоб «до конца вигубить поколение и имя ляшеское».
Пугали Польшу и вести, полученные из Подольского Камянца. Оттуда Каменецкий каштелян, Станислав Лянцкоронский, писал Оссолинскому, что Хмельницкий прислал туркам через татар вечное подданство, с тем, что он побусурманится со всеми казаками, лишь бы только помогли ему истребить польское имя. Татары и греки представляли туркам, что Хмельницкий завоевал уже Польшу по Белую Воду; за Белой Водой осталось Польши только немножко: он хочет завоевать в этом году и остаток.
Под влиянием страха, бискупы-сенаторы говорили в государственном совете:
«Напрасно думают, что король его милость идет воевать с холопами: это не хлопы, а воины, страшные самому цесарю оттоманскому». — «Не за подданство уже теперь воевать нам» (прибавляли другие), «а за Божию кривду, за святый сакрамент, за костелы», и, забывая, что сами с папою да с иезуитами наделали жару, норовили загребать его чужими руками. «Добрый кавалер» (говорили бискупы) «не спрашивает, сколько неприятеля и какой неприятель, а спрашивает: где он? (qualis sil et quis sit, sed ubi est)»?
Тут же патриоты, желавшие, чтобы жолнер воевал за них в долг, рассказывали, какое множество невольников навезли татары в Царьград сушей и морем: за один де лук или за десяток стрел дают пленника; а пленниками были не только богоненавистные схизматики, не только богоугодные католики, но и те, которых молитвы властны освободить грешники из чистилища: видали в Царьграде и на невольничьих рынках капланов, которые внушали своим зрителям сострадание больше всего тем, что «привыкли ко всевозможным удобствам жизни».
Много было новостей, занимавших членов королевской рады, но все до одной были печального свойства. Например: из Турции так идут к Хмельницкому, что под Добруджей и болгарами ни в одном селе не осталось ни одного хозяина: все пошло в Орду против ляхов, и жители обоих берегов Дуная двинулись поголовно в казацкие купы; а один шпион доносил из Украины, что Хмель сменил многих полковников, узнав от ворожки, что им не будет уже «счастить казацкая доля». Себя он считал фортуннейшим.
Когда наступила Зеленая Неделя, последний срок заключенного в Переяславе перемирия с казаками, король повелел своему триумвирату соединить войско и приблизиться к неприятельским займищам, не ожидая соединения Хмеля с ханом.
Тремя полководцами у него, как уже сказано выше, были: Андрей из Дубровицы, Фирлей, старый воин и опытный вождь, но постоянно хворавший и дряхлый, Станислав Лянцкоронский, отважный боец, как и его дед, предводительствовавший неомужиченными еще казаками, но плохой полководец, и граф Николай Остророг, охарактеризовавший себя готовностью отдаться на милость пилявецким героям, казакам и татарам. Достойно, однакож, замечания, что генерал, вообразивший после пилявецкой паники все потерянным, начальствовал под Пилявцами авангардом действующей армии. Еще замечательнее, что при составлении повторенного триумвирата, не могли никем заменить его; а всего замечательнее, что в новой кампании Остророг вел себя, если не прямым героем, то и не слабодушным воином.
Фирлей с своей стороны показал, что в его немощном теле работал дух бодрый. Он, вместе с Лянцкоронским, выбрал позицию для генерального лагеря весьма удачно и защищал ее с великим искусством. Король и коронный канцлер указывали им на Новый Константинов; но Остророг, в письме из-под Збаража, от 3 июля, оправдывал сделанный его товарищами выбор разумными соображениями, и этим доказал, что князь Вишневецкий не напрасно поднял его во Львове из упадка.
Заняв боевую позицию, триумвиры нашли необходимым опереться на мужество, популярность и боевые средства Вишневецкого, у которого, к удовольствию мудрого на всякое зло Хмеля, Ян Казимир взял из рук булаву, вверенную ему теми людьми, которые оказались мужественнее гетманов, назначенных сеймом. Естественно, что Вишневецкий, за этот глупый и наглый поступок, воспылал презрительным негодованием и к самому королю, и к его советникам. Сперва он решился было не вмешиваться в толпу людей, которых, очевидно, судьба обрекла на погибель, так как они потеряли общий человеческий смысл. Потом ему стало жаль своей семьи, своих верных слуг-соратников, и, может быть, своей славы, неразлучной со славой падающего уже отечества. Он созвал под свой щит, кого мог, и держался в поле особняком, подобно тем «безупречным и знаменитым Геркулесам», которые «стояли на границах, как мужественные львы, и жаждали только кровавой беседы с неверными». К нему присоединился племянник его, носивший имя славного Дмитрия Вишневецкого Байды, и бывший соперник его в колонизационной борьбе за Хороль и Гадяч, Александр Конецпольский. Ему вверил свое ополчение и князь Доминик Заславский, а брат его Гризельды, молодой Ян Замойский, находясь под его опекой, был естественным его союзником. «Поднимается страшная буря, наступают времена роковые» (писал князь Иеремия в универсале к шляхте). «Уже король выдал, как говорят, вторые вици (оповещания) на посполитое рушение; о третьих еще не слышно, но отечество в крайнем положении: надобно спешить»....
Как и в прошлую кампанию, Вишневецкий намеревался стоять особняком; но Лянцкоронский ездил в его лагерь и упросил присоединиться к генеральному лагерю.
Лянцкоронскому Речь Посполитая была обязана защитой Камянца Подольского: этот подвиг высоко ценил наш Байдич, равно как и то, что он побил хмельничан под Межибожем.
По реляции Остророга, все простонародье между Богом, Горынью и Случью обратилось в мятежников, лишь только коронное войско удалилось оттуда.
Повторилось то, что было в Украине после Корсунщины: добыча панского плуга сделалась добычею казацкого меча, как это изображено в современном стихотворении:
Zeszly z pol wszystkie ро Nadbozu plugi; Nie obejrzal sie az za Wilsa drugi [1].А между тем жолнеры требовали своего жолду, и не только иностранцы, но и поляки не хотели «воевать в долг». От этого малочисленное войско триумвиров с каждым днем уменьшалось. И пахолки, и самое товарищество разъезжались из-под хоругвей, так что от некоторых оставалось только по половине и еще меньше. Когда посылали их на подъезд, хоругви соглашались идти только сам-пять. По мнению Остророга, против этого зла было только одно лекарство (remedium) — возможно скорая присылка денег. Замедленное чем-то наступление Хмельницкого приписывал он божественному Промыслу. «Опять и опять (iterum et iterum) просим прислать нам деньги» (писал Остророг к Оссолинскому): «а то войска этого немного останется. Не ласками и не строгостями возможно удержать его на службе, а только деньгами. В лошадях у нас большой недостаток от беспрестанных чат, а купить не за что. Шпиона весьма трудно найти: между этой русью все предатели. А добудешь казака, — хоть сожги его, правды не скажет, так что нам надобно ждать отовсюду непредвиденной беды, не без великой опасности столь уменьшившегося войска (insperatum malum undique, non sine grandi periculo tam diminuti exercitus)».
Эти слова тем замечательнее, что оказались верным предсказанием под пером человека, еще недавно совсем было потерявшегося. «Единственное против этого средство» (повторял он iterum et iterum) — «поддержать здесь нас деньгами».
При таком хозяйничанье польских скарбовых людей и вообще правительственных представителей Польши, не только такие мученики их несостоятельности, как великие полководцы Жовковский и Конецпольский, являются истинными героями долга и чести, но даже и рядовые жолнеры. Это были честные воины, зависевшие от жидовского кагала панов-доматоров. И вот почему князь Вишневецкий, вдруг «потерявший все, что имел», как о нем говорили во Львове, своим отважным стояньем против опаснейшего из врагов отечества — предателя, бунтовщика и поджигателя Хмеля — вселял безграничную к себе преданность в благородные сердца, которых, увы! всегда и везде бывало мало.
Пока не прибыл он к Збаражу, в генеральном лагере происходила сумятица, подобная сеймовой польской, или нашей вечевой древнерусской: гетманы не ладили между собой; жолнеры не повиновались гетманам; войска, способного к бою, осталось всего 6,000. Но когда к этому войску прибавилось 3.000 панских дружин под командою любимца полководца, все вдруг переменилось. Забывая о сейме и короле, восторженные жолнеры, по вдохновению минуты, провозгласили князя Вишневецкого главнокомандующим. Увлеклись порывом благородного чувства и региментари: отвергнутому королем гетману была предложена булава; а войско, еще недавно разбегавшееся из-за недоплаченного жолда, вызвалось служить ему две четверти бесплатно. Но Вишневецкий булавы не принял, и скромно стал в ряду полковников; Эта немая демонстрация против короля соединила с ним еще теснее все сердца.
Збаражское войско видело в нем своего главнокомандующего; его советы принимались, как повеления; нарушить его план действия боялся каждый.
Теперь в генеральном лагере насчитывали 15.000 людей; но пехоты у панов было только 2.000. Всадники были готовы и на пешую службу под начальством Вишневецкого. Красноречиво было простое слово его, когда он, объезжая полки, требовал безусловного повиновения, точно импровизированный император, и вспоминал о Пилявцах, где все дело было погублено от неурядицы.
Его требование было голосом каждого разумного сердца: ему внимали, как поэту боевого стоянья.
Неприятель приближался медленно, с бесчисленными толпами соблазненной и запуганной черни, с бесчисленными толпами крымских, ногайских и других наездников. Некоторые казацкие полки состояли из 20.000 душ. Татарами предводительствовал сам хан, Ислам-Гирей, который «правил своим конем хорошо», у которого «между ним и неверными была только сабля», как заявлял он туркам при своем воцарении, и который готов был обманывать своих союзников так точно, как и неприятелей».
Окрестные мужики не были соблазнены добычею и запуганы казако-татарским террором, а потому, в числе 6.000, ушли к мещанам в Збараж, под защиту панского войска.
Положение приютившихся под Збаражем панов было безнадежнее того, в каком находился царь Наливай под Лубнами. Они сознавали вполне, что им грозит, но решились, как бы в искупление пилявецкого бегства — или остановить казако-татарские орды, или погибнуть, как это заявил старый Фирлей в прощальном письме к королю.
Он уверял, что неприятель пройдет во внутренность отечества только по головам защитников Збаража. От упадка духа, в виду наступающих сотен тысяч варваров, спасала панов только надежда, что король скоро придет к ним на выручку с посполитым рушением, которого двои вици они уже читали. Но эта надежда сделалась весьма сомнительною после того, когда их многократные предостережения и просьбы о помощи не вызвали у короля и коронного канцлера никаких обещаний. Лянцкоронский писал к полковнику королевской гвардии, Минору, что можно было бы назвать сумасшедшим того, кто бы отважился приблизиться к Збаражу с помощью в несколько сотен и даже в несколько тысяч воинов.
Хмельницкому были известны не только боевые средства защитников Збаража, но и все, что делают столичные патриоты. Его казаки давали себя сжечь, сохраняя войсковую тайну, но тайны своих противников узнавал он не только от захваченных в плен жолнеров, не только от болтливой шляхты, но и от варшавских панов, таких же предателей по природе и воспитанию, каким был он сам. Имея всюду подкупленных панскими же деньгами доброжелателей, он мог осведомиться даже и о том, что целая половина панского войска, вписанного в компут, находилась неизвестно где; что волонтеры бродили по всему государству и опустошали беззащитные имения своих сограждан, а правители государства, вместо того, чтобы поддержать армию контингентами, «искали только, на кого бы взвалить вину», как это поставил Кисель на вид своим соотечественникам, в письме к Оссолинскому от 23 (13) июля. Хмельницкий пользовался панским разномыслием и раздельностью панских интересов с самого начала своего бунта. Судьба, казалось, готовила ему и на сей раз Корсунь да Пилявцы. По словам Фирлея в последнем, возможном еще донесении королю, он думал, что паны бежали или готовы бежать из-под Збаража, а потому ускорил свое медленное сперва наступление, и 6 июля (27 июня) был уже в пяти милях от них. В генеральном лагере ждали его через два дня.
Вишневецкий более нежели кто-либо из его сподвижников понимал, как трудно подать Збаражскому войску скорую помощь. Он лучше нежели кто-либо знал, что имеет дело с противником, столь же беспощадным в холодной хитрости, как и в разъяренном бешенстве. Но бурный дух нашего Байдича, вооружавший руку его против сеймующего панства, проявился теперь в твердой решимости бороться с дикою силою всеми своими средствами. Решимость его поддерживала крепкая позиция, занятая триумвирами под Збаражем.
Збараж был окружен в то время водами, топями и лесами, которые более или менее исчезли в течение двух сот сорока лет. Эти, как говорилось тогда, фортели прикрывали панский лагерь от многочисленного неприятеля, а взгорья и байраки, окружавшие родовое гнездо русских некогда князей Збаражских, способствовали вылазкам и обеспечивали пашу для лошадей.
Черный лес тянулся тогда до дороги из Жалощиц. Между нею и дорогою, идущею из Вишневца, дубовые леса с востока шли до самих Люблянок, а с юга все окрестности Зарудья, Валаховки, Стрыевки и Кротович были перерезаны множеством озер и топей.
Грязистая почва не благоприятствовала движениям татарских и казацких наездников, тогда как у панской конницы на склонах окопов было довольно места для обороны.
Город Збараж, окруженный водою с трех сторон, помещался как бы в глубине подковы. С востока и запада обороняли его два озера, соединенные с юга речкою Гнезною. Отверстие подковы, обращенное к северо-западу и глядевшее на Жалощицы, было укреплено рвом и тыном. Плечи подковы с востока продолжали взгорья, а с запада — черный лес, так что жалощицкою дорогой можно было приблизиться к городу.
На другом берегу Гнезны, с востока, возвышался на взгорье сильный замок Збаражских, здание величественное, построенное в 1587 году, а между ним и восточным озером лежало предместье Пригородок.
К югу от города и замка волнистая почва представляла высоту, удобную для помещения всех ожидаемых подкреплений. Начальник артиллерии, Криштоф Пршиемский, получивший образование во французской армии, расположил становище соответственно не сбывшимся ожиданиям. Тын панского лагеря прилегал к городу и замку, и только одну часть его, выходившую сзади за восточное озеро, предполагалось обезопасить валом. Скаредная медлительность худших представителей Польши заставила лучших переиначивать свою диспозицию под напором неприятеля.
Вечером того же дня, когда Вишневецкий въехал в генеральный лагерь, вернулся подъезд, состоявший из 15 хоругвей, и донес, что под Човганским Камнем, в пяти милях от Збаража, встретил неприятеля и ведет его за собою. Язык из Гадяча, захваченный подъездом, объявил о великой казако-татарской силе. И рядовые жолнеры, и полководцы лично бросились к заступам да лопатам, как это было, полстолетия с небольшим, назад, в лагере Яна Замойского на Цецоре, где малочисленное польское войско отсиделось в окопах от многочисленных азиатцев. Скоро старые окопы были восстановлены, и каждый отдел войска занял свою позицию. Войско было разделено на пять частей, под начальством пяти дивизионных полководцев: Фирлея, Лянцкоронского, Остророга, Вишневецкого и Конецпольского.
Июля 10 (1), в субботу, появился казако-татарский авангард. Ему надобно было осмотреть неприятельскую позицию и суеверно попытать счастья. Первый удар предвещал казакам и татарам удачу и неудачу войны.
Панское войско вышло за окопы и построилось в боевой порядок, В это самое время к Збаражу приближался небольшой возовой табор Вишневецкого, заключавший в себе 200 пехотинцев и 200 легко вооруженных всадников. Казаки и татары окружили его, как на Желтых Водах Стефана Потоцкого. Но здесь не было изменников драгун. На выручку подоспел Вишневецкий и первый поздоровался с варварами. Казако-татарский авангард охватил его своими крыльями; но на него ударили гусары; он разлетелся в мелкие купы гарцовников, — и возовой табор вступил в окопы при громе пушек. «Сам Господь принес к нам этого человека» (пишет автор осадного дневника о Вишневецком): «он спасал нас и советом и мужеством».
Татары, служившие в это время казацкую службу панам, сражались храбро против своих соплеменников, помогавших казакам, так что в первом столкновении с неприятелем под Збаражем легло их на месте более сотни. Они выходили против ханских гарцовников, разделившись на мелкие части, сперва втроем, потом вчетвером, потом вдвоем, а потом уже бросались целою чатою.
Гарцовники, отступая, облетели весь лагерь издали, а между тем наступали новые и новые массы. Они сгущались на горизонте целый день и продолжали наступать по заходе солнца. Теплая и тихая ночь глухо звучала в ушах осажденных сотнями тысяч голосов.
Чтоб ободрить войско, князь Вишневецкий задал пир офицерам в замке. Тосты пили под звуки труб и литавр. Пушки и мортиры гремели в ответ на голоса, долетавшие в окопы с поля. Вишневецкий вселял во всех бодрость и веселым видом, и своею речью, которою наставлял младших, как они должны действовать на умы прочих жолнеров...
Увы! он указывал на самое бесчестное и вредоносное для Польши дело поляков, как на самое достохвальное и в настоящем случае вдохновительное: он пробуждал в своих соратниках боевой энтузиазм двухлетним сиденьем польских соотечественников своих в сердце России, Москве, двухлетним спором за нее с Московским Царством.
Воспитанник иезуитов не нашел в польской истории лучшей страницы и теперь, стоя мужественно против диких руинников, которые вторгнулись в недра цивилизованного государства, восхвалял таких же руинников, терзавших соседнее государство по указанию панских клевретов. Римскою логикой своею, он побивал соотечественников своих, в конечном результате больше, чем хищные варвары — огнем и железом.
Казаки и татары расположились полукружием, символическим строем последователей Магомета, намекавшим на священный для них полумесяц. В полдень следующего дня, загремел наш Хмель 30-ю гарматами своими, и необозримые массы казако-татарского войска двинулись на приступ, как бы с намерением растоптать осажденных в один прием. Они подняли страшный крик, которым казаки и татары всегда сопровождали свои приступы. Но это была фальшивая атака: Хмельницкому надобно было только взвесить силу панского отпора. Однакож тех, которые не бывали в боях с варварами и не знали, что большая часть хмельничан была вооружена дубьем, дикий крик необозримой толпы поразил ужасом. Участвовавшие в походе ксендзы вышли с процессией, давали всем желающим опресночный сакрамент и, по выражению дневника, отрезвили боязливых. Тем не менее густая пальба делала свое дело.
«В этот день» (говорит автор дневника) «у нас в лагере было больше пуль, нежели во Львовском повете куриных яиц. Некоторые из региментарей, видя простреленными свои палатки и множество падающих людей, начали было теряться; но князь Вишневецкий поддержал войско своим примером, так что Хмельницкий, обещавший хану ночевать в нашем лагере, должен был отступить со стыдом».
В понедельник 12 (2) июля подошли остальные казацкие полки с возовым табором и распожились в четверти мили от панского лагеря, заняв целую милю своим становищем.
Ночью насыпали казаки три шанца, вооруженные 40 пушками, и открыли пальбу на рассвете. Но казацкие пушкари больше гремели, нежели вредили своему неприятелю.
Хмель не успел навербовать пушкарей, которых бы стоило, по примеру царя Наливая, приковывать к пушкам.
Во вторник 13 (3) июля начался общий приступ, один из самых страшных: правое крыло, где стоял Вишневецкий, отразило нападающих скоро. Но левое, напротив стоянок Фирлея, колебалось между гибелью и спасением. По словам дневника, региментари совещались уже о бегстве в замок (consilia juz byly uciekac do zamku), и войско спаслось от паники только благодаря тому, что Вишневецкий, отразив у себя нападение, подкрепил вовремя Фирлея. С величайшими усилиями удалось панам сбить хмельничан с валов. В это время Марк Собеский выскочил за валы с отрядом конницы и ударил на бегущих сбоку. Множество казаков потонуло в озере; но кому посчастливилось выбраться на сушу, те снова лезли на валы в слепой завзятости.
Наконец Хмельницкий велел трубить отступление. Панские хоругви преследовали бегущих, взяли один из казацких шанцев и овладели несколькими прикметами, как называли казаки свои знамена и бунчуки.
Между тем со стороны восточного озера грозила панам великая опасность. Были там еще недоконченные окопы с весьма слабым прикрытием. Ударил на них полковник Бурлий, обойдя незаметно во время приступа правое крыло. Венгерская пехота, оборонявшая то место, начала бежать, и Бурлий мог бы оттуда вторгнуться в становище Фирлея. Но опасность была замечена вовремя. Пршиемский убил собственноручно венгерского знаменщика, выхватил у него знамя и повел пехоту на Бурлия. Казаки, вторгнувшиеся в лагерь, были истреблены, и Бурлий отступил. Он отступил в порядке, но ему было теперь трудно обойти целое крыло панского лагеря, чтобы соединиться с казацкими полками. Хмельницкий послал ему на выручку Морозенка с казацкою конницей; но едва они сошлись, как заступила им дорогу дивизия Конецпольского. Здесь Александр Конецпольский смыл с себя пятно бегства из-под Пилявцев. Бешено бились казаки с паном, на которого батько их взваливал вину всего замешательства. Наконец Бурлий, знаменитый морскими походами своими, пал вместе со множеством товарищей своего покушения; а Морозенка выручили татары.
Дорого стоили казакам их завзятые приступы. В озере потонуло их столько, что осажденные не могли больше пользоваться речной водою, и рыли себе колодцы.
Казацкий труп лежал местами высотой в человеческий рост.
Героем этого страшного для панов дня был Вишневецкий: без него здесь повторилась бы Корсунщина. С самого появления своего под Збаражем и до конца грозной осады, он подвизался с тем уменьем возбуждать в своих соратниках чувство чести или ярости, которое делало невозможное возможным и сверхчеловеческое обыкновенным. За ним шли в огонь те хоругви, которые поворачивали уже к бегству.
При нем не страшно было умереть. Его слова, его движения действовали на изнемогших и отчаявшихся в успехе, как волшебство. Геройское бесстрашие и казацкая выносчивость знаменитого колонизатора отдаленнейших малорусских пустынь делали смелыми воинами шляхетных трусов и превращали в спартанцев изнеженных панят. Теперь казаки переменили свое мнение о ляхах, которые «умирают от страха» при виде их побратимов, татар; а татары переменили мнение о «казацком счастье» и о фортунности казацкого батька, тем более, что в это время над Припетью, между знаменитою по Наливайку, Речицею и Петриковичами, литовское войско разбило полковника Кричевского, перебило и потопило в Припети 28.000 казаков, а остальных 5.000 держало в тесной осаде.
Но в опасных боях 13 июля паны удостоверились, что в таком обширном лагере нельзя им оборониться. Опять принялись они за ремесло могильников поголовно, помогая в работе рядовым жолнерам, пахолкам и сидевшим в Збараже мужикам. С рассветом следующего дня был у них кончен окоп, надежнейший прежнего. Они стеснили свой лагерь почти на целую треть против первоначального расположения: ту часть недоконченных валов на левом крыле, на которую всего сильнее напирали казаки, оставили, а новый окоп насыпали поближе к линии восточного озера.
Хмельницкий не отважился на повторение вчерашнего приступа, боясь уронить себя окончательно во мнении татар, которые многолюдством своим и страхом имени своего сделали его Желтоводским, Корсунским и Пилявецким победителем. Его должна была смущать весть о том, что его приятель Кричевский пал в Белоруссии от полученной в грудь раны, а предводимое им войско погибло. Блокада была более верным и менее рискованным делом. Хмельницкий начал делать к ней приготовления чрезвычайные.
Прежде всего запер он панское становище и все проходы, которыми осажденные могли бы отступить, или доставлять ночью корм для лошадей. С этою целью занял он дорогу к Жалощицам и Вишневцу, а также села Базаринцы, Залужье и Старый Збараж.
Потом построил 16 громадных машин, называвшихся гуляй-городинами, иначе штурмами, на подобие подвижных замков, на катках и колесах. Между них двигались готовые мосты для перехода рва, длинные лестницы и другие снаряды для приступа.
Напротив панских окопов казаки рыли поперечные рвы и прикрывали их землею, так чтоб оттуда можно было стрелять и делать подкопы. Этим способом придвигались они всё ближе и ближе к панскому лагерю, прикрываясь шанцами и защищая пальбою с них дальнейшую свою работу; наконец так близко подступили к панскому редуту, что могли слышать голоса осажденных.
Во время таких приготовлений не переставал Хмельницкий штурмовать осажденных ни днем, ни ночью. Но татары вовсе перестали наступать и превратились в зрителей борьбы небольшого войска с подавляющею массою. И было на что смотреть. По словам пилявецких победителей, в збаражских окопах сидели Тхоржевские да Зайончковские; на деле же татары видели тех Замойских, Жовковских, Ходковичей, Хмелецких и Конецпольских, которые были памятны их отцам и им самим.
Хан Ислам-Гирей начал подумывать о выборе между воюющих сторон, и прислал с этой целью своего маршала, Сефер-Казы, к Вишневецкому. Они съехались в поле для переговоров. Вишневецкий уверял татар, что казаки, опершись на их помощь, отплатят за нее предательством. Татары предлагали ему мир, но князь отверг унизительные условия мира (marszalek hanski perswadowal pacem, ale toby bylo nam infame).
Между тем Хмельницкий вел безуспешно подкопы под город, раскапывал гребли и пытался отнять у панов воду; а когда это не удалось, начал раскапывать гребельки вверху, чтобы затопить панский лагерь. Но казаки были такие же плохие гидравлики, как и пушкари. Свое бессилие подкрепляли они криком (krzykiem sila nadrabiali).
14 (4) июля казацкие полковники штурмовали стоянки Вишневецкого. 16 (6)-го ночью был такой сильный приступ, что Небаба и Гладкий потеряли, как записано в дневнике, 3.000 народу. «Едва-едва не овладели казаки городом (о maly wlos nie mieli miasia)», писал автор дневника: «тогда бы отняли у нас и город, и воду». 17 (7-го) подошел к городу отряд полковника Федоренка. Пользуясь утреннею мглою, перешел он вал и уже начал рубить частокол, как поднялась в стане и в городе тревога. На звон колоколов и гром пушек, двинулись отовсюду казаки к Збаражу. Но мужественный полковник Корф, предводитель рейтар, отразил нападение.
После этого паны решили — насыпать новые валы поближе к городу. Мещане и мужики работали день и ночь. Военные люди помогали им ночью, а днем отражали приступы. В течение двух дней внутри лагеря появились высокие валы.
18 (8) июля казаки, по словам дневника, сделались ласковее (laskawszemi sie stawili): не очень сильно наступали, только осыпали князя Вишневецкого бранью и угрозами (tylko mu lajali а grozili).
19 (9) июля казаки целый день стреляли из шанца, устроенного ими в прежних стоянках Фирлея, а ночью двинулись на приступ. Гуляй-городины пришли в движение; казаки лезли на валы слепо. На стоянки Вишневецкого напирали так бешено, что некоторые региментари опять совещались о бегстве в замок; но Вишневецкий не согласился на это ни под каким видом. Вдруг полился такой сильный дождь и сделалась такая буря, что казаки были принуждены отступить. Вода залила шанцы, лилась ручьями в прикрытые землею рвы, в апроши, и скоро смешала все в одну страшную лужу. Казаки с трудом увезли свои гарматы и аммуницию, а гуляй-городины остались посреди пустого пространства, затопленного местами на 5 шагов глубины.
Казаки могли оставить при своих машинах только небольшое прикрытие. Для Вишневецкого это прикрытие было препятствием ничтожным. Он выбрал 500 жолнеров, послал их с зажигательными снарядами под гуляй-городины и сам стоял с обнаженною саблею, а к региментарям послал наказ, «чтобы не думали о бегстве в город». Захваченные врасплох сторожа штурмов были вырезаны, и машины Хмельницкого запылали, не смотря на продолжавшийся дождь. Конные казаки «погнали» пеших на оборону штурмов, но все усилия погасить огонь были напрасны.
Целость лагеря в этот опасный день жолнеры приписывали, во-первых, вмешательству Pana Boga в дела ортодоксальных его поклонников, а во-вторых мужеству князя Вишневецкого, который делался у них героем легендарным.
Утром стали паны переходить в уменьшенное становище. Хмельницкий тотчас же занял оставленные окопы, и в наступивший вечер 20 (10) июля сделал к свежим валам приступ, который продолжался до поздней ночи. Темнота прекратила нападение.
Светом осажденные увидели себя окруженными со всех сторон высоким валом, а пальба не позволяла им показываться на своем валу. В следующее утро увидели они другой вал, еще ближе к лагерю. Татары густо стреляли из луков, а казаки засыпали панский обоз пулями, точно градом. Наконец Хмельницкий окружил панов и третьим валом, поделал кругом высокие шанцы и стал подкапываться апрошами к самому редуту своего непобедимого неприятеля. Осажденные защищались киями, каменьем, пращами и чем ни попало: они щадили порох для того, чтобы пасть не иначе, как с оружием в руках. Когда же начался огненный бой, хоругви в дыму едва различали своих, и жолнерам, в жару завзятости, казалось, что пули отскакивают от них чудесным способом (nic tо bylo wziasc ро boku, ро lbu, а nazad cudownym sposobem odlatywaly kule bez szkody naszych). Из пилявецких трусов вдохновительный Байдич поделал казаков-характерников, которых «не брала пуля». Если бы в нашу малорусскую семью не вползли из-за спины приятелей ляхов ксендзы, теперь бы два талантливые русича вели наши силы против общего неприятеля, а не одну против другой, и никто из них не носил бы на своем челе печати братоубийцы.
В течение десяти дней ежедневно и почти ежечасно происходили казацкие приступы. Но чем сильнее напирали казаки, тем ближе представлялась панскому войску выручка. «Казаки потому так бешено рвутся в окопы» (говорил жолнерам Вишневецкий), «что приближается король. Еще немного твердости, — и мы помстимся над свирепыми врагами». Так вызывал он в своих соратниках одно чувство за другим, точно бойцов, сменяемых для отдыха. И дороже славы, заманчивее богатой добычи, сладостнее свидания с родными, желаннее всего на свете — представлялось измученному войску чувство возмездия. Богиня Немезида, дочь Ночи, затмевала здесь бога Марса, сына блистающего молниями Зевса и светозарной Геры. Она была божеством справедливости, как понимает справедливость воин. Но истощение физических и нравственных сил доходило у жолнеров до крайности, зловещей предшественницы апатии, которая погубила войско великого Жовковского в самом горестном и самом славном его походе.
Чтобы сколько-нибудь оправиться и сделать новые укрепления, паны постановили войти с Хмельницким и с ханом в переговоры.
С казацкой стороны также чувствовалась надобность в передохе. По известию осадного дневника, весьма вероятному, у казаков под Збаражем погибло тысяч 50 народу. Хотя казаки беспощадно гоняли оказаченных мужиков на приступы, но собственные утраты их болели, как и собственные раны. Передох был им нужен и для того, чтобы потом принести тем более щедрую жертву воинской богине справедливости, которой они поклонялись одинаково с панами.
Сперва Хмельницкий отпустил панского трубача без ответа; но на другой день, перед обедом, гарматы его умолкли, и с казацких шанцев раздался крик: «Угамуйтесь, не стреляйте, до й мы не будемо»!
Хмельницкий пожелал видеть Зацвилиховского, который несколько времени был королевским комиссаром у казаков, и которого в обычной челобитной царю о жалованье назвали они гетманом. В товарищи ему дали паны молодого Киселя, новгородсеверского хорунжего. Хмельницкий говорил много о своих личных и казацких обидах, которые де вызвали все это кровопролитие.
Переговоры кончились ничем; но достойны замечания слова казацкого батька, обращенные к Зацвилиховскому: «Казав я тобі, шановний пане, що поки будеш у нас комісаровати, поти Військо Запорозьке поседить, як за батька; а тепер що буде, Бог теє знає».
Потом он убеждал Зацвилиховского остаться у него, обещая ему всякие почести (wszelka, obserwantiam). Но Зацвилиховский предпочел бедствовать с панами.
Этой сцене предшествовала еще одна человечная черта казако-панской усобицы.
Когда прекратилась обоюдная пальба, паны отправили в казацкий табор трубача с письмами, в которых убеждали казаков к примирению во имя взаимных выгод и чувства долга. Но взаимные выгоды спутались уже в нераспутываемый моток взаимных недоразумений и предубеждений, а понятия о долге совсем затмились.
Московскому мечу предстояло положить конец казако-панской путанице, а царской диктатуре — обратить и казака и пана на путь общественных и государственных обязанностей. Не смысля ничего такого и не проникая в будущее разумением прошедшего, казаки остались глухи к панским убеждениям, но трубача панского приняли хорошо и наградили (nasz trebacz dobrze przyjety, udarowany).
В числе людей, запутавших свои счеты с совестью и старавшихся новыми злодействами оправдать старые, явился здесь перед нами сын Хмельницкого и предок Мазепы по душе, Выговский. Покамест, он оправдывал свое сообщество с казаками тем, что Хмельницкий выкупил его на Желтых Водах у татар «за одну кобылу», да тем, что у него в Киевщине есть отец, братья, сестры etc. и если бы он изменил Хмельницкому, то Хмельницкий велел бы истребить все родство его. Но автор осадного дневника, называвший себя «украинцем», заметил, что важную роль в его предательстве играет его образованность, или ум, как тогда смешивали одно с другим, и что этим преимуществом он приобрел между казаками значение (jako zawsze byl nie prostak, tak i teraz u nich swoja ma powage).
Панские переговоры с ханом также не привели ни к чему. Не хотел хан оставить казаков, как убеждали его паны. Напротив, объявил, что держит в руках панов (ma naz w garsci), что до сих пор только шутил с ними (zartowal), а завтра (27 (17) июля) вытащит всех их за чуб (za leb wszystkich wywlecze).
Паны отвечали ему: «Кто придет за нашею головой, тот принесет и свою собственную». Они поклялись лечь один за другим.
Особенного внимания заслуживает следующий эпизод казако-панского передоха.
Когда прекратилась обоюдная пальба, начался (пишет автор дневника, «украинец») congressus наших знакомых со знакомыми казаками и приятельские разговоры (rozmowy przyjacielskie). Обоюдное сожаление (compassio), что христианская кровь льется невинно. Некоторые спрашивали о домашних делах, вышедши за самый вал. «Мы угощали их табаком».
Этот мимолетный рассказ делает впечатление свежего ветерка в удушливом воздухе. Взаимная злоба была не так велика и не так всеобъемлюща, как это можно заключить по зверскому остервенению гайдамак, очутившихся на произволе своих диких страстей. Кровавый пожар, раздуваемый, по признанию Киселя, восточным и западным ветром, утихал в силу изнеможения природы человеческой, и наши православные предки вместе с предками полонизованных русичей залили бы его слезами своих жен и детей; но боги, сражавшиеся руками смертных, в ревнивом обладании своем землею, не внимали голосу человечества, и даже под громом разделившейся на ся государственной арматы, продолжали свое губительное дело.
В панском стане был смертельно ранен капитан артиллерии, то есть один из тех бойцов, которых искусству осажденные всего больше были обязаны своею целостью; но он, в качестве протестанта, признавал только небесного Бога, отрицая наместника его на земле. Министр-капелян Фирлея, также протестанта, хотел напутствовать умирающего воина в неведомую никому область, но ревнители единого пастыря душ человеческих прогнали с побоями из замка проповедника безразличной любви к нам небесного Отца («od naszych ksiezy wybity i wygnany z zamku», пишет «украинец»). В другое время верный слуга князя Вишневецкого пал с оружием в руках, как подобало честному воину, но он был арианин, и потому, опровергнутый ксендзами, зарыт в самом валу, как пес.
Во время переговоров почти не было приступов. Стреляли только с шанцев и валов как бы в знак непримиримости, а в промежутках пушечного грохота перебранивались и обменивались насмешками.
Казаки гукали: «Чом, панове не загадуєте своїм підданим жадної роботи? Ось рік минає, літо сходить, а ще чинші та десятина з бидла не вибрана. Воли жалібно мукають: хочуть на ярмалок до Вроцлава».
— «Даємо вам пільгу в работі» (отвечали жолнеры), «та незабаром, на ознаку тяжкої неволі, сипатимете Вишневецькому греблю через Дніпро. Чинш не заляже: вибере його військо литовське. Десятини повибирають татари, і замість бидла, жінок та дітей ваших поженуть воли до Криму».
— «Та годі вам, панове пручатись» (кричали с вала казаки): «тілько кунтуші покаляли та сорочки подрали, по шанцах лазячи. Оце вам наробило очкове та панщина, та пересуди, та сухомельщина. Гарна в вас тоді була музика, а тепер ще краще заграли вам у дудку казаки».
Но танцевали под казацкую дудку только те, которые возвели на польский престол расстригу иезуита, да те, которые вместе с ним отняли у князя Вишневецкого диктатуру. Пока длились переговоры да перебранки, паны еще однажды сузили свои укрепления, и придвинулись непосредственно к замку. Открытую часть города, которую речка Гнезна отделяла от замка, укрепили валом и присоединили к замку рвами и окопом. Насыпали также валы от Пригородка, который составлял левое крыло, так что замок, стоя на челе лагеря, заслонял весь город: ибо Подзамче и Пригородок принадлежали к городу.
Между тем жолнеры захватили в плен хорунжего татарской гвардии Хмельницкого.
От него паны выпытали, что казаки боятся скорого прихода короля, о чем у них разнесся слух, и потому употребляют крайние меры, чтобы «кончить ляхов»; а с другой стороны (говорил хорунжий) пришли вести, что литовские войска идут в Украину; что казаки в большой тревоге за своих жен и детей, а Хмельницкий убедил хана вызвать на переговоры главных панов, с тем чтоб оставить у себя в неволе. По словам хорунжего, сам Хмель проговорился об этом спьяна.
Около того же времени 12 товарищей из-под разных хоругвей князя Вишневецкого, подкравшись к неприятельским валам, увидели троих казаков, играющих в карты, двоих убили, а третьего, Грицька из Чигирина, принадлежавшего к полку самого Хмельницкого, привели к Вишневецкому. По уверению Грицька Чигиринца, Хмельницкий хлопотал вовсе не о том, чтобы взять панский лагерь: он только хотел вынудить у панов окуп. Говорил еще Чигиринец, что казаки боятся наступления короля, что они боятся за своих жен и детей, которых некому оборонить от Литвы, так как сюда вышли все поголовно, и что мужики начали по ночам бегать из табора. «Эта реляция» (сказано в дневнике «украинца») «поддержала отчаявшийся дух наш (u nas zdesperowane duchy posilila), и мы, как бы воскреснув, решились наступать сильнее на неприятеля фортелями».
30 (20) июля, на рассвете, начали паны переходить в новый лагерь, оставив на старом валу по 15 человек из каждой хоругви. Не успели они занять и половины нового укрепления, как хмельничане пошли на приступ. Пешие панские полки обратились на штурмующих, и так как у них не было времени заряжать ружья, то дрались прикладами и холодным оружием, пока, с великими потерями, отступили в новые окопы к самому замку.
Хмельницкий занял тотчас оставленное становище, поставил на валах пушки, и под защитой пальбы, в три часа окружил панский редут валом, наконец пришанцевался к нему на 30 шагов. Чаще и чаще делал он покушения ворваться в панский лагерь; но всякий раз его Перебийносы сталкивались в лагере с Князем Яремою, с этим шляхетским характерником, с этим панским казаком-невмиракою, которого не брала никакая пуля, который ночевал под самим валом, появлялся впереди своих бойцов при всякой тревоге и прогонял казаков-пищальников рукопашным боем.
Вообще казацкие приступы не отличались боевой силой и смелостью, а самого Хмеля никогда не видали в бою. И у царя Наливая, в десятитысячном его таборе, Жовковский насчитывал только 2.000 добрых воинов. Пропорционально столько же было их и между казаками Хмельницкого. Часто впереди наступающих казаков гнали рогатый скот, чтоб обессилить панскую пальбу, а во время самого приступа казаки прикрывались мужиками, у которых на груди висели торбы с песком. Торбоносцы были народ, попавший между молота и наковальни. Еслиб они вздумали бежать, их ожидали казацкие списы и татарские лыки. Они лезли вперед, зажмурив глаза, как обреченные на казнь, и часто, среди крика, который поднимали казаки и татары, умоляли панов пощадить их от пальбы. «Чернь молила о милосердии (plebs о milosierdzie implorabat), поддаваясь в полное рабство», доносил в Варшаву Казановскому с похода королевский сподвижник, и это было известие справедливое. О том, что казаки загоняли навербованных мужиков на приступ, говорится в дневниках, как о деле повседневном.
Для того, чтобы вынудить у панов окуп, не щадили несчастных новобранцев.
Это было еще хуже со стороны Хмельницкого, чем из-за своих обид броситься с огнем и ножом на всю шляхту. Казаки-комонники, составлявшие только малую часть хмельничан, выручались и под Збаражем кровью пеших затяжцев, прозелитов казатчины, как это было под Кумейками, где они натравили завзятых на Потоцкого, и убрались прочь за добра ума. Разница была только в том, что они подстрекали мужиков к бою не словами, а копьями.
Напрасно хан вызывал Вишневецкого с первенствующими панами на переговоры: осажденные видели в этом злой умысел Хмельницкого, который присоветовал хану захватить князя Ярему в плен во время переговоров. Тогда Хмельницкий пытался подорвать осажденных подкупом. Мысль эту подали ему перехваченные письма Вишневецкого к королю. Чтобы сломить все еще бодрый дух полководца, который в его глазах стоил больше всего польского войска, Хмельницкий возвратил Вишневецкому письма с посланцом, которому поручил всучить свой универсал немцам, которым обещал за измену больший жолд и подарки. Но немцы представили его универсал Вишневецкому.
Здесь выступают перед нами два рыцаря в собственной характеристике. Краткую записку, без подписи, с перехваченными письмами, Хмельницкий адресовал князю, называя его своим приятелем, хотя и не искренним (przyjacielowi naszemu choc niezyczliwemu oddac); уведомлял князя, что посланцу его отсекли голову; уверял, что король скорее дождется к себе казаков, чем осажденные — помощи его, и заключал удивлением, что Вишневецкий не удовольствовался своим заднепровским государством, в котором казаки хотели оставить его неприкосновенным.
На грубиянскую и лживую записку Вишневецкий отвечал приличным письмом, в котором называя своего неприятеля мостивым паном гетманом, удивлялся, откуда у него такое недоброжелательство, что и посланца его приказал убить, и к нему самому не обратился с письмом приличным. Вспоминая о прошлом (писал он), «Хмельницкий имел бы много причин благодарить его за милости и благодеяния. Князь увещевал его опомниться, как доброжелатель Запорожского войска от предков. Далее выражал уверенность в могуществе короля, и писал, что не все донесения осажденных перехвачены». «И это не хорошо» (внушал он спокойно Хмельницкому), «что вы прислали универсал для возмущения иноземного войска. Между ними большая часть таких, которые никогда не изменяли» (замечал он тоном нравственного превосходства, и возвращал универсал, «как ненужный»). «Что вы в моем заднепровском владении» (писал он далее) «не допускали опустошения, это вы сделали по надлежащему: ибо оттуда Запорожское войско получало много благодеяний, как от предков моих, так и от меня».
В заключение, Вишневецкий писал: «Не гневаюсь, что мои подданные пристали к вашему войску: вероятно, были они к тому приневолены (musieli podobno); но прошу не держать их при себе, а отправить домой, за что я, в свое время, буду благодарен», и подписался доброжелательным приятелем (zyczliwy przyjaciel Her. Xze na Wisniowcu i Lubniach, wojewoda ruski).
Теперь наступили для осажденных такие дни, что все их предшествовавшие опасности, труды и бедствия показались им только началом борьбы за свою жизнь и за воинскую честь. В распоряжениях казацкого гетмана была заметна лихорадочная поспешность, а в казацких таборах — необычайная суетливость. Начиная с 1 августа, приступ, можно сказать, не прерывался в течение нескольких суток. Шанцы Хмельницкого стояли всего в 30 шагах от панского вала. День и ночь казаки беспрестанно стреляли из своих, правда, не очень метких гармат и весьма метких «семипядных» пищалей, а на рассвете, в полдень и в полночь штурмовали валы.
Всякий раз на приступ ходили новые, подпоенные горилкою полки, при звуках труб, с песнями и воскликами. Татары гнали перед собою чернь и криком Аллах! придавали казакам смелости. Тогда-то были кровавою действительностью дошедшие до нас кобзарские думы, в которых пьяный и опьяняющий Хмель хвалился своею завзятостью:
Та ще й Орду за собою веду, А все, вражі ляхи, та на вашу біду.От многочисленных сытых и пьяных полчищ панские окопы защищала, можно сказать, горсть невыспавшихся, голодных и оборванных воинов. Малорусская историография в осадном сиденье под Збаражем не хочет признать за панами превосходство мужества. Она бесчестно называет героев загнанными в окопы трусами, для которых бегство было невозможным. Она с рабскою насмешливостью представляет воинственность осажденных одним бравурством. «Пускай-де скажут о нас: Ай да поляки!» [2] И однакож, этих трусов, этих тщеславных самохвалов не могло ни взять живьем, ни перебить и перестрелять стотысячное казацкое войско, вспомоществуемое всеми татарскими ордами. Одного этого факта достаточно, чтобы всяческая враждебность к воинам-колонизаторам исчезла в благородном (у кого оно есть) чувстве удивления к их доблестям в борьбе с теми, которые, как у нас пишут, восстали за свою веру, за свою честь, за свое имущество, за свою жизнь, и которых татары подгоняли к приступам нагайками. Если бы в каком-нибудь новом ордынском нашествии погибли все документы польско-русской деятельности и уцелели только свидетельства о збаражской осаде, то в отдаленном будущем по этим свидетельствам беспристрастный историк заявил бы векам грядущим, что был на свете народ, выработавший на чем-то величавую твердость духа и благородное самопожертвование.
На густую казацкую пальбу отвечали уныло замковые пушки. Но зато у панских пушкарей не пропадал ни один выстрел, тогда как гарматы казацкие часто ревели попусту. В числе панских стрелков прославился в это время один из новорожденных в малорусском Переяславе иезуитов, кзендз Муховецкий, которого автор осадного дневника называет «нашим украинцем из Переяславского коллегиума». В Збаражском Пригородке стояла дубовая башня. С этой башни стрелял он из своей рушницы-гульдынки и, по общему свидетельству, в течение осады убил 250 казаков. Но и прославленная гульдынка должна была скоро умолкнуть: у панов оставалось аммуниции уже только на шесть дней. В темные ночи бросали они с валов пылающие мазницы и возовые оси, чтоб осветить крадущихся казаков. Старые жолнеры говорили, что ни в какой войне не делали того, что повыдумали теперь Фирлей да Вишневецкий.
В среду 4 августа стали говорить в панском лагере, что Хмель двинулся куда-то с частью своего войска. Предполагая, что он пошел для отражения короля, князь Вишневецкий в четверг, 5 августа, сделал смелую вылазку, чтобы в этом удостовериться. Но вылазка доставила панам только 16 казацких прикмет. Захваченные вместе с тем языки говорили, что Хмель опечален потерею полковника Федоренка, которого застрелил недавно ксендз Муховецкий, когда он подводил мину под губительную башню, и что за это хочет он ударить ночью панов всеми своими силами.
Паны приготовились к ночной битве; однакож, ночь прошла без тревоги.
В пятницу, 6 августа (27 июля), в день любимого казацкого святого, Палея, на рассвете, Хмельницкий сделал общий приступ со всех сторон. Напирали в особенности на стоянки Остророга. Появились новые гуляй-городины, из которых каждую везли на катках 15 человек. Появилось 400 лестниц, переплетенных лозой для подъемных мостов через рвы; каждую тащили на колесах 20 казаков. Начался рукопашный бой, как потому, что у панов мало было пороху, так и потому, что сабля была шляхетским оружием по преимуществу. «Трусы поляки» выдержали этот бой в течение трех часов, под прикрытием пушек, заряжаемых уже, можно сказать, последними зарядами.
Панская конница вышла за валы, и врезывалась в подвигающиеся массы. Это была та конница, которую хорошо помнили Кумейки, Сула, Старец-Днепр: одушевлял ее бурный дух Князя Яремы. Во рвах и на месте схватки лежали груды трупов на высоту копья. Не без того, что дневники знаменитого осадного сиденья и преувеличивали подвиги шляхетных бойцов; но Хмель истощил здесь последние средства к возбуждению своей орды, и должен был отступить, чтобы его мнимая сила не перешла в явное бессилие. Маскируя свою неудачу, он штурмовал панский редут в полдень и в полночь опять, но уже с меньшим жаром.
Это были последние усилия Хмельницкого подавить многолюдством тех воинов, о которых казаки пели среди новых малорусских пустынь, что лях від страху вмирає, давая камертон самохвальства будущим грамотеям своим. Теперь он решился доконать панов беспрестанной стрельбой да голодом, который уже чувствовался в их стане.
В течение суток насыпали казаки 15 шанцев, высотою в два копья. На шанцах поставили из своих гуляй-городин башни, а на башнях укрепили лестницы, в виде заборов так высоко, что из-за них было удобно стрелять в панский лагерь. Шанцы были снабжены пушками и обсажены лучшими стрелками. В одном из дневников этой осады, по истине славной для панов и позорной для казаков, записано:
«Под каждою хоругвию ежедневно убивали не меньше 10 человек. Брат не смел спасать брата. Где кто был ранен, там и лежал под градом пуль до самой ночи; а где кто лёг убитый, там его ночью и хоронили».
Паны были принуждены оставить в окопах возы и перейти в замок, чтобы там быть наготове всякий раз выбегать на оборону валов и табора.
Посреди такой борьбы, заметили они 8 августа, с великим удивлением, что казацкий табор снимается с места и передвигается к Старому Збаражу, где стояла каменная церковь, построенная еще православными князьями Збаражскими. Ночью передвинулся туда весь табор, а палатки хана и казацкого гетмана, стоявшие в четверти мили от панского лагеря, разбили под старым замком, напротив ставок Вишневецкого.
В течение следующих четырех дней шел проливной дождь. Военные действия приостановились. 13 (3) августа в стане осаждающих сделалось необычайное движение. Толпы черни валили от окопов к табору, как бы для насыпки шанцев.
Остаток табора передвинулся к старому замку.
В панском стане разнеслась радостная весть, что подкрепления стоят уже в Жалощинцах, в трех милях от Збаража, и что неприятель намерен ошанцеваться у себя в тылу. На другой день распущен был слух, что Хмельницкий двинулся со всеми силами оборонять от короля переправу в одной только миле от Збаража. Затрубили в трубы; ударили в бубны. Встревоженные казаки начали густо стрелять из пушек.
В казацком таборе происходило что-то загадочное. Видать было гетманские палатки и бунчуки: знак, что Хмельницкий находился в таборе. Между тем пушки молчали, точно их вовсе не было. Казацкие полки куда-то девались. Из шанцев стреляли только изредка. Едва местами было видать понемногу орды и мужиков, которые подкапывались под панские валы и сражались цепами да пращами.
День проходил за днем. Процесс загона мужиков на битву продолжался даже и тогда, когда пушечное ядро падало в толпу загонщиков. «Mocno zaganiali czeru ku taborowi» (писал в дневнике «украинец»). Неизвестность томила панов больше, чем приступы черни, больше, чем её подкопы под возы и голод, который появился в лагере.
Ночи проводили жолнеры, равно, как и осаждающие, то в приятельских беседах с осаждающими, то в перебранке. Казаки стращали жолнеров, что их товарищи облегли короля, а жолнеры казаков — тем, что король бьет в это время их товарищей. «Ночью» (пишет «украинец») «умолкала битва (silent arma), зато собачий рот (psia geba) говорил, что взбредет на язык, грозя продавать Орде жолнеров «по шагови» (по грошу).
Но ни в одном дневнике не записано, чтобы psia geba касалась ляшского и жидовского ругательства над церковью и верою.
Казаки сами не знали, что делается с теми, которые куда-то двинулись. Наконец стали к ним возвращаться походные возы с раненными. Тогда все увидели, что идет сильная битва; узнали, что бьются под Зборовым, но кто кого побивает, оставалось тайною; и те полки, которые не верили в счастье Хмельницкого, отказывались идти к нему на помощь (chyba сi zostaja, со nie wierza, zeby krola oblezono).
Наибольшую силу своего разбойного гения проявил Хмельницкий в том, что сумел прервать всякое сообщение между осажденными под Збаражем и королем, которого они нетерпеливо ждали к себе на помощь. Еще 12 (2) июля Лянцкоронский писал к полковнику Минору, едва владея пером (так у него болели руки от земляной работы): «Если не прибудешь с королем скоро, то поспеешь на похороны милой братии и собственных сыновей твоих». Между тем ни к Минору и ни к кому из окружавших короля не пришло никакой вести о том, что делается в польских Фермопилах.
Хмельницкий до такой степени сжал под Збаражем и казацкую, и татарскую орду, что не выпустил за сторожевую цепь ни одного загона. О его силах Ян Казимир узнал только тогда, когда с ними неожиданно столкнулся.
Поляки до сих пор не могут объяснить поведение своего короля и канцлера. Оба они сошли в могилу заподозренные в предательстве, как люди, умышлявшие на шляхетский народ вместе с казаками. Но в чем именно состояло предательство, никто не объяснил.
Будучи еще королевичем, Ян Казимир не стесняясь говаривал, что ему приятнее смотреть на пса, чем на поляка. В этом казаки ему сочувствовали. За одно это могли они подарить ему корону. В одном этом позволительно видеть причину злорадства, с каким, по-видимому, узнавал король о западне, в которой очутился ненавистный ему Вишневецкий.
Что касается Оссолинского, то он служил с одинаковым чувством и самому благому, и самому злому делу, если оно соответствовало тем целям, которые, по его иезуитскому воззрению, были великими. На Владиславе IV он испытал, как выгодно быть «простою глиною» в руках неумелого короля. Быть канцлером при таком беспутном потентате, как Ян Казимир, значило — заручиться его нравственною ответственностью за все свои внушения. Так поступил он, стоя с королем под Замостьем, где умыл начисто руки в том, чтобы когда-либо не соглашался на посполитое рушение, которое тормозил из-за спины своего повелителя. Не мог он простить своим соотечественникам упорства, с каким они восстали против реформы, которая, очевидно, таилась в изобретенном им рыцарском ордене. За низведение с высоты, на которую метил он этим замыслом, он был готов отплатить им общим унижением, а между тем надеялся подняться на высоту власти со стороны противоположной.
Так ли оно было, или нет, никто не может утверждать после утайки достойным учеником иезуитов руководящей нити к разъяснению начала Хмельнитчины. Но поведение короля и канцлера современные нам поляки находят более нежели странным.
Король выехал из Варшавы 24 (14) июня и прибыл в Люблин 3 июля, за неделю до появления под Збаражем казако-татарского авангарда. Он знал, что и султан, и хан обязались помогать Хмельницкому; знал, какими силами располагает опасный бунтовщик, но не выдал третьих вицей на посполитое рушение. Ограничился только тем, что стянул в Люблин остаток чужеземного войска, которого в запасе было еще 2.000, а коронным панам велел привести их надворные дружины. Такого вооружения, по его мнению, было достаточно.
Если не предполагать в этом злого умысла, то «благородный ум» панского избранника оказался в настоящем случае ниже всякой оценки. Ян Казимир надеялся победить Хмельницкого еще более недействительным способом, чем тот, который был панам преподан миротворцем Киселем.
Один из товарищей Хмельницкого по бунту, шляхтич Забугский, передался к панам, и король держал его при своей особе с тем, чтобы смутить Хмельницкого своим появлением на театре войны, низложить его среди Запорожского войска и вручить булаву казацкому изменнику.
Судя по поступкам королевского агента Смяровского и даже по тому, как распорядился с ним ежедневно и ежечасно менявшийся Хмель, поляки думают, что двор имел сношения с некоторыми казацкими полковниками; а что многие из них были готовы, подобно Забугскому, предать казацкого батька, в том нет никакого сомнения.
Они могли и обещать Яну Казимиру торжественную сцену низложения «русского единовладника и самодержца», столь же им противного, как противна была панам всякая диктатура. Но итальянцы сложили мудрую пословицу: «dal detto al fatto ve un gran tratto» [3]. А время между тем уходило, и новой армии угрожала участь погибшей под Корсунем. В этом есть что-то недосказанное польской историографией: чувствуется какая-то утайка от истории.
Яну Казимиру в Люблине, пожалуй, мог присниться сон Владислава IV.
Венецианский посол Контарини уведомил его о страшном поражении турок и склонял, точно второй Тьеполо, к Турецкой войне. Ян Казимир мог вообразить казаков своим авангардом, татар — арьергардом, а Мария Гонзага, с которой он разыгрывал перед публикой влюбленную чету, посадила бы его на престоле Палеологов так же успешно, как готова была посадить и первого супруга. Кто ошибался в Хмельницком еще грубее Владислава, в том позволительно предполагать самые дикие мечтания.
Ян Казимир сидел да сидел в Люблине, а дни за днями уходили да уходили, и каждый из них уносил из мира живых цвет польско-русского воинства под Збаражем. Об этом король не знал, а, пожалуй, и не хотел знать. Если одному воспитаннику иезуитов, для какой-то, без сомнения, благой в его мыслях цели, было позволительно обнажить меч среди законодателей Польши, то другому, для такой же, или даже лучшей цели, не вменялось в непростительный грех погубить представителей исполнительной власти, и тем очистить себе казако-татарский путь к обладанию Востоком. Политическое развращение Польши шло crescendo, как смертоносный недуг, а Ян Казимир, в этом смысле, не оставался ни у кого позади.
Наконец было получено громкое известие, что Збараж обложен казако-татарскими ордами. У короля набралось всего 7.000 жолнеров, да было у него три ничтожные пушки. Великий монарх повелел литовскому полевому гетману, Янушу Радивилу, немедленно двинуться в Украину и овладеть «казацким гнездом», Киевом, а с своей стороны обещал ему поспешить под Збараж и занимать бунтовщика увеличенными силами.
Казалось бы, надлежало немедленно объявить посполитое рушение; но король третьей оповесткой отсрочил его на 11 августа и потребовал к себе немедленно посполитаков только трех воеводств: Русского, Бельзского и Люблинского, потребовал русских, но не польских землевладельцев.
17 июля, в то время когда в густой утренней мгле казаки рубили частокол и едва не овладели Збаражем, двинулся король из Люблина, предоставив главное начальство над войском канцлеру Оссолинскому, причем возвел его, к огорчению военных людей, в звание генералиссимуса; что опять говорит изучающему историю или о крайней глупости Яна Казимира, или о чем-то похуже.
21 июля после того, как проливной дождь, вместе с бурею, «как бы чудом», спас осажденных от гибели, остановился король под Замостьем. Никакой вести не приходило к нему из-под Збаража. Разосланных шпионов нельзя было заставить никакими наградами дойти до самого Збаража. Характерник Хмель очертил себя громадным кругом, и на всем его пространстве сделал Волынь для короля немою, как были немы для Николая Потоцкого Дикие Поля.
Про королевский поход один из приближенных к королю писал к министру двора, Казановскому, что денег на регимент королевской гвардии, на немцев поморского воеводы, Вейера, и на фурманов «не дают»; что в переходах — неурядица: «смех и только»!... и, наконец, что шляхта, прибывшая в Замостье, метит отчасти уйти к Висле (drudzy sie ku Wisle maja). Были и такие, которые представляли короля бдительным и деятельным вождем, не щадившим себя в походе; но эти хвалы уничтожаются их же похвалою, что он отправляет не только королевские обязанности (munia), но и гетманские: отсюда-то и выходил «только смех».
Войска все еще было не больше 7.000, с тремя жалкими пушками. Пришло известие, что вместе с Хмельницким воюет и хан; но этому не вполне верили. Все-таки убедили короля потребовать к себе посполитаков немедленно. Но посполитаки замедляли королевский поход поджиданием замешкавшихся дома, а те, в свою очередь, «спешили медленно», полагая, что дело кончится одними сборами.
Вести продолжали приходить к медлительному войску, но не согласовались между собой. Одни говорили, что Вишневецкий сделал вылазку и положил трупом 40.000 казаков; другие, что хан прибыл к ним с 20.000 татар. Наконец, и привезенный в Сокаль шляхтич, очевидец трех приступов под Збаражем, не мог сказать ничего верного ни о хане, ни о числе татар. В тот же день привели двух ногайцев, но они оказались крайне глупыми и могли только сказать, что вся Орда воюет вместе с Хмельницким.
Через несколько дней, когда король стоял под Сокалем, привели лучших языков, которые показали, что хан под Збаражем, что казаки подкапываются под обоз и прикопались так близко, что с вала на вал долетел бы брошенный камень.
На основании этих вестей, король созвал тайный военный совет в сокальском монастыре Бернардинов, для решения вопроса: дождаться ли здесь посполитого рушения, или идти далее? Все были того мнения, что идти на выручку с малочисленным войском крайне опасно; но король постановил — идти: не верил он, чтоб у Хмельницкого было много татар, так как не видать нигде загонов; а канцлер-генералиссимус пророчил, что один слух о прибытии короля поразит бунтовщиков, и русские города вышлют к нему посланцов с покорностью. Из Литвы доносили, как о факте верном, что князь Радивил идет с литовским войском к Киеву, и уже спустил по Днепру байдаками пехоту. Известия, добываемые от пленников, становились все благоприятнее. Хотя некоторые уверяли, что хан со всеми ордами находится под Збаражем, но им не верили: всем хотелось верить, что татары вернулись помогать султану, а Хмель будет просить о помиловании. На беду, привели еще казака, который показал, что у Хмельницкого войска немного, и что все казаки в тревоге от слухов о походе Радивила. Король и его генералиссимус торжествовали, превзойдя один другого в понимании дела.
Так уходил день за днем. Вести становились все многочисленнее и между собой несогласнее. Король продолжал медлительный поход; но все подумывали: не лучше ли было бы вернуться на свои следы?
Хмельницкий держал казацкие и татарские орды точно как бы в блокаде; отпускал татарам корм из собственного табора, а тем чатам, которыми себя окружил, как цепью, не дозволил никаких сношений с главным своим войском и табором под Збаражем.
Немало помогала ему в его замысле и ненависть местных мужиков к жолнерам. Мало того, что нельзя было добыть у них никакого известия, они окружали королевское войско постоянным предательством. Привозя съестные припасы в лагерь, мужики разведывали обо всем, что можно было узнать, и тотчас уведомляли казаков. В случае подозрения и улики в шпионстве, они терпели всякие муки, но ляхам правды не открывали. Волынская почва была подготовлена для Хмельнитчины Косинщиной и Наливайщиной, так точно как украинская — Жмайловщиной, Тарасовщиной и Павлюковщиной.
Наконец, под Топоровым явился в королевских палатках попрошайка, худой, до крайности изнуренный, и подал письма от полководцев из-под Збаража. Это был отважный панцирный товарищ, Ян Скршетуский, посланный Фирлеем к королю.
Переправясь ночью через озеро, залегал он в камыше, ползал в зарослях, бродил мановцами, тонул в болотах, и таким образом ускользнул от соглядатаев Хмельницкого.
Осажденные писали, что уже обороняются в городе и замке, питаются конским мясом, половина лошадей околела у них, пороху хватает не больше как на три дня, а множество жолнеров умирает от одной бессонницы. Они просили помощи и уведомляли, что больше трех дней не выдержат. К этому прибавляли, что на честный мир нет никакой надежды (honestae pacis nulla spes), и что Хмель намерен быть обладателем всей Польши. Поэтому молили об одной милости: прислать им пороху, чтобы, в случае если помощь опоздает, они могли пасть, как подобает воинам с оружием в руках.
В этих последних словах нам слышится голос Вишневецкого, голос его предков русичей: «Станем крепко, не посрамим земли русской. Мертвые срама не имут. Лучше быть изрубленными, нежели полоненными». Решимостью пасть с оружием в руках, пилявецкие беглецы смыли с себя пятно, наложенное на них двусмысленными советами Киселей, и одно то, что между ними были Скршетуские, возвышает их национальное достоинство в нашем русском воззрении, как бы они ни называли свою нацию.
Это было последнее, уже не повторившееся известие о Збараже. У короля, во время его медлительного похода, войско выросло до 25,000. Но сравнительно с казако-татарскою силой, которую открыл ему великодушный панцирный товарищ, 25.000 сборной дружины представляли силу ничтожную.
Есть основание думать, что король не решился сперва идти вперед и хотел было отступить. Прямой путь к Збаражу лежал ему на Броды. Вместо Брод, король пошел под Белый Камень. Там войско простояло четыре дня по причине постоянной слякоти.
Во время остановки, мысли Яна Казимира, или Оссолинского, переменились. Это видно из универсалов, разосланных к мужикам, чтоб они оставили Хмельницкого.
Король обещал им прощение, милости и прежние вольности. Такие же универсалы были разосланы и по городам. Премудрый канцлер вместе с премудрым королем сулили расказаковавшейся черни журавля в небе, который не стоил ни одной из синиц, попадавших в её руки по милости казацкого батька. Они прощали те преступления, за которые Хмель награждал. Они обещали какие-то прежние вольности, не гарантируя ничем обещания, тогда как вольности казацкие были обеспечены повсеместным изгнанием панов из их жилищ и самим истреблением их замков и домов.
Еще несообразнее с положением дел было торжественное низложение под Белым Камнем Хмельницкого и провозглашение гетманом Запорожского войска Забугского, со вручением ему гетманской булавы. Малорусская наша пословица гласит: «до булавы треба головы», а кто ее сам не имеет, тот и в других не видит. Скупая на талантливые головы фортуна уделила их в это время всей Польше и всей Польской Руси только две: одна продолжала удерживать за панами Збараж как бы сверхъестественною сплою; другая двинулась навстречу королю совершенно для него неведомо.
Король и его генералиссимус решились идти под Збараж: решимость благородная; но она произошла не из того источника, на который, по окончании войны, указывал во Львове королевский духовник и проповедник, Цеклинский. Он уверял собравшееся в иезуитском костёле зборовское и збаражское рыцарство, будто бы Ян Казимир и Оссолинский предпочли явную гибель тем подозрениям, которые на них тяготели по извету злых языков, и при этом поставил их на одной высоте с Вишневецким.
Здесь он прибегнул к наглой, истинно иезуитской уловке: стал доказывать перед своими слушателями несправедливость людских толков, что будто бы князь Вишневецкий старался в мутной воде поймать гетманскую булаву. Так точно де и на короля с его досточтимым канцлером злоумышленные языки возверзали всякого рода хулы. Но теперь де все три героя доблести и чести опровергли общественное мнение столь же достохвальными подвигами зборовскими, как и збаражскими.
Иезуитам свойственно смешивать высокое с низким, и пороки возводить в добродетели. Но дело в том, что 12 августа привели к королю пленного татарина, который уверил короля и канцлера, что Хмельницкий, узнав об их приближении, отступил от Збаража. С радостью приняли они желанное известие и бодро шествовали разделить с осажденными славу одоления супостатов. По-малорусски это называется: «не говівши, не болівши, пасочки з'їсти».
Когда король приблизился к Злочову, другой татарский язык, человек знатный из ногайской орды, говорил королю откровенно, что хан охотнее бы держался королевской, чем казацкой стороны; «а я» (заметил он), «видя королевское войско, не понимаю, каким способом король может устоять против такой силы». Он советовал писать немедленно к хану. Но его советом пренебрегли, чтобы последовать ему тогда, когда испортили уже дело.
13 (3) августа, в пятницу вечером, король остановился в полумиле от местечка Зборова, в селе Млиновцах, над рекой Стырною. В субботу было предположено сделать в Зборове два моста, на место унесенных недавно половодьем. В воскресенье войско должно было переправиться через Стырну на противоположную местечку сторону, а в понедельник идти на Озерную к Тернополю, вблизи которого находился несчастный Збараж.
Река Стырна, протекая с севера на юг, впадает под Млиновцами в длинное озеро, загибающееся далее к востоку. В самом изгибе вытекает она из озера, и там, по обоим берегам реки, лежит местечко Зборов, принадлежавшее тогда Собиским. И под Млиновцами, и под Зборовым протекала она низинами среди обширных, болотистых лугов. Дорога через низины была поднята плотинами, которые во время слякоти превращались в невылазные топи.
Так случилось и в это бедственное время. В течение пяти дней перед приходом короля шел беспрестанный дождь. Вода размыла плотины и снесла в местечке мосты. Но другого места для переправы не было.
Генерал артиллерии, Артишевский, поседелый в голландской и в американской службе воин, целый день в субботу исправлял плотины, делал мосты, как не известно откуда разнеслась по лагерю весть, что неприятель находится близко, и сделал в нескольких местах засады. Немедленно был послан подъезд под начальством опытных офицеров. Но Хмельницкий, предвидя рекогносцировку, спрятался с ханом так искусно, что на пространстве трех миль не было найдено никаких следов засады.
Король спокойно сделал распоряжение в переправе, намереваясь расположиться завтра ночевать с обозом по другую сторону местечка и двинуться в понедельник далее. Если над походом Яна Казимира смеялись приближенные люди, то можно вообразить, как усмехался наш усатый кот, сторожа издали глупую мышь, направлявшуюся к его когтям.
Давно уже он знал королевский маршрут, и потому-то заблаговременно перенес татарское становище и свои таборы с фронта Збаража на запад, в ту сторону, с которой приближался король. Он заслонился Старым Збаражем так, что мог в любой момента выступить навстречу королевскому войску со всеми своими силами и совершенно скрыть свой поход от осажденных. Он окружил их шанцами, оставил немного стрелков и несколько мужицких ополчений с кольями, да цепами, отправил незаметно пушки и, приготовивши все таким образом, бросился в субботу с небольшим отрядом к Зборову на рекогносцировку.
По дороге между Збаражем и Зборовым, справа от Озерной стоял тогда дубовый лес. С высокого дуба видны были Хмельницкому королевские хоругви, а зборовские мещане были уже им куплены, или запуганы. Они приготовили для татар проводников, хорошо знавших переправы. В уме Хмельницкого составился план битвы.
Вернувшись под Збараж, выслал он татарские орды на всю ночь к Зборову с провожатыми мужиками. Между Озерной и Зборовым растет и поныне ветвистый терновник. Он заслонит от короля приближающееся войско. Стоя за этой заслоной, татары ждали условленного звона Зборовских колоколов, дающего знать, что войско начало переправляться.
Глава XXII. Битва под Зборовым. — Бесславный для казаков и для панов мир. — Печальное освобождение от осады. — Малорусский народ проклинает казацкого батька. — Развращение народа казатчиною.
В воскресение 15 (5) августа (в день Успения Богородицы по католическому календарю), с утра погода была туманная. Шел мелкий дождик, моросило.
Королевский авангард прошел через местечко, и находился уже на дороге, ведущей к Озерной. За ним двинулась пехота и конница, а за конницей должны были идти возы.
Хоругвям краковского воеводы, Любомирского, было приказано стоять в арьергарде и не двигаться с места, пока не переправятся все скарбовые возы и пушки. Медленно шла переправа, по причине грязной и тесной дороги. Войско растянулось на целую милю. Передовые стражи находились уже в полумиле от Зборова и его мостов, а посполитаки Львовского и Перемышльского поветов с 1.500 ополченцами Любомирского, под начальством князя Корецкого и со множеством возов, еще не двинувшихся с места, заняли такое же пространство на противоположной стороне реки Стырны.
Тревога началась тем, что в тылу табора поднялась какая-то суматоха, с таким криком, что множество людей, вместо того чтоб идти в порядке дальше, останавливались и задерживали идущих сзади. В это время в обеих половинах местечка стали звонить колокола, как бы на богослужение, и вестовщики дали королю знать о приближении неприятеля.
Король спешил построить уже переправившееся войско, постоянно прибывавшее из-за реки. Он думал, что будет иметь дело с небольшим отрядом. Но казаки и татары, одновременно с прибытием вестников, стали выходить из заслоны по всей линии от Мстенёва по дороге на Озерную. Татары здесь играли главную роль. Они шли сперва раскидисто, потом больше и больше сгущались, наконец составили сплошную массу и наступили двумя сакмами, по 50.000 каждая. Одна сакма остановилась перед панским фронтом; другая бросилась к Мстенёву, чтоб ударить с тыла на возы и на их защитников.
Услыхав об Орде, возницы и челядь, занимавшие самую средину растянувшегося войска, побросали на мостах и плотине возы, бежали куда попало и загромоздили дорогу так, что сообщение между двумя половинами войска было прервано. Одна часть возов оставила уже за собой местечко; другая громоздилась на мостах и на плотине.
Князь Корецкий, находясь в тылу дальше всех, подался к Мстенёву и не давал татарам перейти за Стырну. Но татар было так много, что Корецкий отступил к обозу.
На выручку ему бросились посполитаки Львовского и Перемышльского поветов, а также каштеляны сендомирский, заславский, литовский подканцлер Лев Казимир Сопига, паны Корняхт, Фелициан Тишкович, племянник Оссолинского, Балдуин и князь Четвертинский со своими дружинами; но все они были побиты (pogromieni), а Балдуин Оссолинский, Тишкович и князь Четвертинский (член Переяславской комиссии) легли на месте.
Исчисляю всех их по свежей реляции другого члена Переяславской комиссии, Мясковского, как людей, готовых стоять грудью за свою землю, но имевших несчастье попасть в руки безголового правительства.
В этом бою погибли две хоругви Сопиги с двумя сотнями его пехоты и драгун (продолжает Мясковский). Столько же пало людей и у Корняхта. Львовский повет силился задержать на себе Орду, но попал точно в западню (говорит Мясковский).
Набили и насекли татары множество товарищества, знатных особ и сановников, и ротмистров. Полковник и полковое знамя были взяты, почти весь полк истреблен, львовские и перемышльские возы оторваны. Хоругви сендомирского каштеляна и Оссолинского легли трупом. Погиб и обозный королевского войска Чернецкий, брат знаменитого в последствии Стефана Чернецкого. Кто мог, все бежали к Зборовской переправе; но возы так ее загромоздили, что конному полку трудно было пробиться вперед. Орда наступала по следам бегущих, не брала полона и рубила с плеча.
Остановило ее только расхищение панского добра, находившегося в походных «скарбовых» возах.
Обороняя добро свое, погибло и здесь множество знатных людей, в числе которых возбуждал особенное сожаление павший костьми вместе с четырьмя хоругвями своими Станислав Речицкий (имя русское), урядовский староста, опытный воин времен Владислава IV, говоривший по-персидски, арабски, турецки и татарски. При защите возов, по официальному дневнику, погибло не меньше 1.000 человек. Остальные добрались таки до местечка, которое обороняла пехота, а к мостам не допустили татар нагроможденные возы, «что послужило к спасению короля и всего войска» (пишут поляки).
В то самое время, когда одна татарская сакма переходила Стырну, другая наступала на короля с долины. Здесь наш земляк Артишевский пригодился панам знанием военного дела, — пригодился настолько, насколько король и его генералиссимус не мешали ему своим главенством. С левой стороны заслонил он королевское войско непереходимым озером, с правой — долинами и байраками, едва возможными для перехода пешком. В тылу находилось местечко, а мосты были защищены возами и пехотою. Неприятель не мог ни окружить войска, ни развернуть перед ним своего фронта. В голове королевской армии стояла иноземная пехота Губальта; правым крылом командовал подольский воевода, Станислав Потоцкий, знакомый с Павлюком, Скиданом, Остряницею, Кудрею, Пештою, Гунею; левым — Юрий Любомирский; Краковский «генерал-староста».
Сперва татары «грасовали» по всему полю в рассыпную; вдруг сбились в густую тучу и грянули на правое крыло. Потоцкий встретил их огнем и не двинулся с места под их напором. Тогда часть Орды, под начальством Артимир-бея, обогнув голову королевского войска, ударила на левое крыло. Генерал-староста не выдержал удара.
Страх охватил чисто-польскую шляхту. Король три раза возвращал отступающих мольбами и угрозами; три раза отбрасывал их бурным напором Артимир-бей. Наконец подоспели две гусарские хоругви и королевские рейтары. Рейтары стояли против азиатских наездников непоколебимо, а между тем майор Гиза, с двумя компаниями пехоты, повернувшись фронтом к левому крылу, открыл по татарам непрерывную пальбу, а генерал Артишевский разил Орду из пушек. Сколько раз ни бросалась она за отступающими поляками, боковой огонь заставлял ее опомниться.
С утра до вечернего благовеста отбивалось таким образом королевское войско от ханского. Под звон вечернего благовеста татары отступили в поле на три стадии от боевища и стали кормить лошадей. Теперь куда бы ни двинулось королевское войско, всюду ждал его неприятель.
Король потерял в этот день, как пишут не менее 2.000 человек, заслуживавших лучшей участи под начальством лучшего полководца. Сборное войско показало значительную силу стойкости. До булавы недоставало только головы. Наш столько же даровитый, как и коварный Хмель, не обнажив еще сабли, одною сметливостью своею побил цвет королевского войска.
Вечером было видать панам, как у татарского и у казацкого ханов разбивали палатки в полумиле от королевского лагеря. Король расставил крепкие стражи, велел жолнерам стоять всю ночь под оружием, насыпать окопы и разобрать мосты на Стырне.
Не сходя с коней, стали совещаться, что делать далее. Артишевский вспомнил свою старину и утверждал, что занятая войсками позиция дает возможность обороняться от 400.000 варваров. Боевая фантазия разыгралась в нем до такой степени, что он вызывался довести короля и войско до Збаража. Это показывает нам, что были в польско-русском обществе силы, рвавшиеся из-под гнилого правительственного состава к мужественному выбору между честною смертью и бесчестною жизнью. Но эти силы были, можно сказать, погублены королевско-канцелярскими проволочками и порядками. В настоящем положении дел благородная решимость наших Артишевских сделала бы не более того, что возмогло сделать великодушное мужество наших Вишневецких. Малолюдное сравнительно панское войско само пришло в широко расставленные неприятельские руки. В Зборове ли, или в Збараже, рано ли, или поздно, но Чигиринский мурлыка сделал бы над варшавскою мышью свой цап-царап.
Поняла теперь это безрассудная мышь, и вспомнила о пренебреженном совете ногайца — разъединить Хмельницкого с Ислам-Гиреем. Было уже поздно прибегать к этому средству, но лучше поздно, нежели никогда. Лучше поступиться хану всем, что дозволяет и чего не дозволяет национальная честь, нежели очутиться в беспощадных лапах казацкого батька, заявившего мысль о панованье над всей Польшей.
Паны находили невозможным выдержать блокаду ни по месту, ни по запасам.
Явилась было у них мысль — провести короля тайно из обоза, чтоб он стал во главе посполитого рушения, которое было уже в дороге, — опасная мысль, напоминавшая resumere vires Киселя, который находился тут же, как неизбежное зло панских совещаний. С этой ли стороны, показалась она панам неудобо-исполнимою, или, может быть, с той, что в таком случае они лишили бы себя возможности выбраться из западни посредством своего готового на все избранника, — неизвестно; только было предпочтено написать от его имени к хану.
В освобождении Ислам-Гирея из польского плена важную роль играл Владислав IV.
Опираясь на благодеяние покойного брата, Ян Казимир обещал хану свою дружбу и незаплаченный гарач, который называл подарками. С этим письмом тотчас отправили того самого ногайца, который давал благой совет еще под Злочовым.
Ночь была тихая. Но войско волновал слух о намерении короля и панов уйти из лагеря. Не умели в погибающем панском государстве сохранить и настолько тайны, насколько между хмельничанами хранили ее мужики. Зная по бегству из-под Пилявцев, к чему способны люди, стоявшие в Польше на высоте знатности, два ротмистра, представители польской национальности, Белжецкий и Гидзинский, упредили предательство предательским бегством, а третий, которого называют Литвином, взбунтовал больше тысячи человек, объявляя, что короля нет уже в лагере. Одни стали готовиться к бегству; другие бросились к королевским палаткам, чтоб узнать правду.
Иезуит Цецишевский, тот самый, который умудрился возвести губителей Польши на одну высоту с её спасителем, разбудил короля и, вероятно, научил, что делать. Ян Казимир верхом, при свете факелов, объезжал войско, останавливался перед каждым полком и произносил: «Не бегите вы от меня; я от вас верно не уйду».
Провожавшие короля паны принялись рассказывать шляхте турусы на колесах, — что посполитое рушение приближается с огромными силами; что татары хотят оставить казаков и вырубили их множество под Збаражем, а завтра соединятся с королем и т. п. Такие убеждения, вместе с невозможностью бежать между постов окружившего их неприятеля, остановили панику, готовую обнять все панское войско.
Радивил в своем дневнике пишет: «Только милость Божия да предстательство Пресвятой Девы, польской королевы, сделали то, что в день её вознесения на небо наше королевство не погибло».
Между тем подоспело из-под Збаража войско Хмельницкого, в числе 150.000, как писали тогда в дневниках и в реляциях. Рано утром казаки, вместе с татарами, начали приступ к Зборову. 50.000 штурмовали город со стороны переправы, где был разобран мост на Стырне и стояла половина возов. Орда расположилась против центра королевского войска, которое король построил в том же порядке, как и вчера, а остальные казаки лезли на лагерные валы со стороны озера.
Шляхта, напуганная событиями вчерашнего дня и миновавшей ночи, утратила отвагу, и только артиллерия да пехота отражали татар, которые теперь напирали слабо. Хуже шло дело со стороны переправы и озера. Драгуны, оборонявшие город, не могли выдержать натиска. Гарнизон, засевший в церкви, был выбит, и казаки двинулись оттуда на валы. Полковнику Гладкому помогали мещане, зажигая солому в более слабых местах. Король ездил без шляпы по всему лагерю, и умолял шляхту защищать валы. Эта позорная для неё сцена сменилась еще более позорною.
Многочисленная шляхетская челядь, созванная королевским гетманом Забугским, импровизировала себе полотняные знамена, сделала вылазку, отразила татар, отняла у казаков три прикмета, выбила их из трех шанцев и прогнала за переправу; а другая купа той же челяди, под начальством иезуита Лисицкого, погибшего тут же в битве, бросилась на казаков Гладкого, которые поставили в садах две пушки и причиняли шляхте много потерь. Смелых людей поддержали две сотни драгун. Потеряв две прикметы, Гладкий убрался из садов. Эти внезапные нападения так озадачили казаков, что они удалились даже из церкви, оставив на месте несколько пушек и возов с аммуницией. Королевское войско приободрилось, и была даже речь о том, чтобы, посадив челядь на шляхетских коней, дать неприятелю битву в поле. Но интерес боевой импровизации состоит в том, что челядь, почти вся русская, шла против казатчины за панов, и что люди православные, как это было и в Павлюковщину, наступали на православных под командой иезуита.
Тем не менее битва шла, хоть и вяло, но томительно, и конец её не предвещал добра. После четырех часов тяжкой и унизительной борьбы короля за корону, а панов за панованье, прискакал от хана гонец с ответом на королевское письмо. Это письмо сделалось известным публике в переиначенном виде, и представляло короля таким героем, какими являются наши казаки в поддельных документах, в измышленных сказаниях летописцев и в основанных на них исторических монографиях.
Что касается ответа Гиреева, то, титулуя себя «по милости Божией счастливым и милосердым», хан объявлял, что пришел зимовать в эти края и, поручив себя Господу Богу, останется здесь на зиму гостем. Если король желает переговорить с гостем и другом, то пускай вышлет своего визиря, а он вышлет своего.
Вместе с ответом, прислал он и условия своей дружбы, а именно: 1) удовлетворить Запорожское войско; 2) уплатить недоплаченный гарач с какою-нибудь значительною прибавкою; 3) предоставить Орде право — на возвратном пути воевать польские владения вправо и влево огнем и мечом.
Тут же с ханским письмом подали королю письмо и от другого по милости Божией счастливого и милосердого воина, Богдана Хмельницкого. Этот пел ту самую песню, но на собственный, на казацкий лад, именно — молил о прощении, запуская панам и королю свои когти в сердце, если только оно имелось у короля. Покамест он выражал готовность уступить булаву Забугскому, лишь только его королевская милость благоволит выслать его в Запорожское войско. На языке действительности это значило, что кости нового гетмана, с обломками торжественно врученной ему под Белым Камнем булавы, полетят в лицо королю так точно, как полетело через стол королевское письмо, привезенное в Чигирин Смяровским.
Но всеподданнейшая и униженнейшая петиция Хмельницкого интересна в самом складе своем: она изображает казацкого батька перед потомством лучше всех портретов.
«Видит Господь Бог» (писал он), «что я, будучи нижайшим подножком найяснейшего маестата вашей королевской милости, и родившись урожденным (то есть шляхетным) Хмельницким, до сих пожилых лет моих, не был ни в каком бунте против маестата вашей королевской милости, милостивого моего пана. Это показывает моя верная служба еще вместе с славной памяти покойным родителем моим, Михаилом Хмельницким, Чигиринским подстаростием, который на службе святой памяти отца вашей королевской милости, как и всей Речи Посполитой, положил свою голову на Цецаре, где я находился при покойном отце моем и претерпел тяжкий двухлетний плен.
Когда меня Господь Бог благоволил освободить из этой неволи, я всегда пребывал верноподданным при войске Речи Посполитой, и теперь свидетельствуюсь Богом, что был бы очень рад, чтобы христианская кровь больше не лилась. А что ваша королевская милость в панском писанье своем (к хану) благоволите считать меня, подножка своего, за какого-то бунтовщика, о чем и мысли у меня нет, и знаю хорошо, что это на меня клевещут, то благоволите, ваша королевская милость, по своему панскому благоволению, взвесить своим высоким и милосердым рассудком и милостиво выслушать тех панов, которых множество там при особе вашей королевской милости, как они засудили меня безвинно, и какое зло испытал я от их милостей панов державцев украинских. Не от гордости, а от великих бед моих, будучи изгнанником из собственной отчизны моей и из убогих добр моих, поневоле должен был я приникнуть (przygarnac sie) и упасть к ногам великого царя его милости крымского, чтоб он привел меня к милостивому благоволению вашей королевской милости, моего милостивого пана. Хотя так оно должно было сделаться, что за виновных и невинные души должны были отвечать, но, пускай судит Господь Бог, кто тому причиною»...
Не вполне надеясь на успех своего смиренства, Хмельницкий воспользовался настоящим случаем, чтобы заподозрить короля перед его республикой, если не в готовности, то в возможности опереться на казаков. Иезуитское послание свое заключил он следующими словами:
«Хорошо знаю, что, по благоволению вашей королевской милости, я был бы оставлен невредимым; но, знаю о том, что паны державцы украинные вашей королевской милости мало в чем обращают внимание на вашу королевскую милость, и каждый из них сам себя называет королем, уверен, что не только не стали бы терпеть меня в панстве вашей королевской милости, но и душу мою тотчас возьмут. Ведь и с войском Запорожским всегда, и в начале счастливого избрания вашей королевской милости на это панство, очень о том старался, и теперь того желаю, чтоб вы были могущественнейшим паном в Польской Короне, нежели святой памяти отец и брат вашей королевской милости. Поэтому, не веря ничему (в толках), что вы — невольник Речи Посполитой, я буду держаться того пана, который милостиво, по Божию милосердию, держит меня под своей опекой».
Бесстыдное письмо убийцы Смяровского и нескольких посланцев Адама Киселя показалось отвратительным даже и тому, кто выдал особу, рисковавшую собой для его освобождения из французской тюрьмы. Письменного ответа на него не последовало, а хану отписали, что король готов прислать канцлера на назначенное место.
Перед заходом солнца стража донесла, что визирь выехал в поле и ждет канцлера.
Канцлер отправился к нему в 60 лошадей. Ему сопутствовали киевский воевода, Адам Кисель, и литовский подканцлер, Лев Казимир Сопига.
Милосердый хан стоял на своих условиях так твердо под Зборовым, как плакавший Хмель на своих — под Львовом. Оба счастливые и милосердые по милости Божией злодея, произнеся жестокий приговор, не смягчали его ничем. Только перед началом совещаний послал визирь казакам приказ — прекратить приступы, а татарам — съехать с поля. Согласясь в принципе на все требования хана, Оссолинский съехался с визирем в поле на другой день утром для определения подробностей.
Из условий пощады самым тяжким и унизительным для себя пунктом поляки находили тот, в котором король обязался платить ежегодно хану гарач; мы находим беспримерно унизительным не только для панов, но и для самих казаков тот, по которому хану предоставлялось право — на возвратном пути воевать огнем и мечом польские владения вправо и влево. Так думают и благородные польские умы нашего времени.
«Трудно сказать» (пишет доктор Кубаля), «какого рода была необходимость, принудившая панов к согласию предать неприятельскому огню и мечу беззащитный край. Но если можно было окупиться, если можно было тот ясыр и добычу, на которые рассчитывали татары, исчислить и заменить деньгами, но этого не сделали, а торговали человеческою кровью, то король и его советники достойны смертельного презрения (krol i jego doradcy zasluzyli на smiertelna pogarde)».
Архидиакон иерусалимского патриарха, проезжавший по следам ясырившей Орды, говорит, что король, вместо денег, отдал ей на расхват семьдесят городов и сел. То же самое число показывает казацкий лекарь, Литвин Лукашка, прибавляя, что и провожавшие татар казаки грабили в тех городах своих единоверцев мещан. Того мало: лекарь Лукашка рассказывает, что Хмельницкий сперва ссорился с татарскою чернью за неправильность казако-татарского дувана, но что потом он послал с нею своих полковников, которые, являясь вместе с татарами под видом закупки съестных припасов, отпирали города притаившейся Орде, и что татары хватали в полон даже своих проводников и сограбителей.
По рассказу путивльца Петра Литвинова, гостившего у Хмельницкого под Збаражем и возвращавшегося с ним из Волыни, этими полковниками были Небаба и Нечай. «И назад де идучи» (доносил царским воеводам гость казацкого батька), «те Крымские татаровя взяли взятьем литовских (то есть малорусских) городов с тридцать, и тех городов в уезде уездных людей всех побили и в полон поймали».
Избиение объясняет он далее следующими словами: «...идучи назад в Крым (татары) литовские городы на Волыни и на Подолье (повоевали) и у Коломы, где соль варят, полон многой поймали ж, да и белорусцов (киевских) и черкас многих поймали ж, и ведут в Крым полону бесчисленное множество, а больши ведут женской пол, жонок, да девок, да робят малых, а мужеск пол всех секут».
Вот чем расплатился Ян Казимир с ханом, а Богдан Хмельницкий с татарскою чернью! Малорусская историография до сих пор не упоминала даже вскользь о таких поступках своих «национальных героев», казаков. Мало того, она их перелыгала подобно тому, как это делали придворные непобедимого Яна Казимира, сочинявшие реляции о нем для Европы и переделывавшие собственные письма его «ради национальной чести», точно как будто национальная честь охраняется ложью и подлогом.
Торгуя человеческою кровью, в переговорах с ханским визирем генералиссимус Яна Казимира крепко стоял на том, что «поляки не знают слова гарач и привыкли его брать, но не давать. Совсем иное дело, to со innego (говорил он), если речь идет о подарках (stipendia gratuita), которые король обязался давать хану.
Визирь, в качестве азиатского варвара, спорил с европейскою знаменитостью не о названии, а о самой вещи. Сверх недоимочного гарача, он требовал единовременной дани круглою цифрою 200.000 талеров, или 600.000 злотых. 30.000 талеров король должен был уплатить на месте, за другими 30.000 послать во Львов и отправить к хану нагонцем через Сулейман-агу, которого он оставил королю в виде заложника. За остальные 140.000 талеров — оставить в залоге у хана сокальского старосту, зятя Оссолинского, Денгофа.
Когда согласились и на этот пункт, визирь потребовал, чтоб осажденные в Збараже паны уплатили 200.000 талеров отдельного окупа, который будто бы обещали. Король, прибывший спасать своих Фермопильцев, спокойно, или злорадостно, положил такую резолюцию: «Если обещали, то пусть и дадут, а если у них денег нет, пускай дадут заложника, а я постараюсь, чтобы Речь Посполитая заплатила эту сумму». Вот каким способом принимал он к себе в геройскую троицу князя Вишневецкого! Все мы, дескать, спаслись окупом.
Но все-таки предложенных и принятых условий пощады не для чего было писать на бумаге: хан гарантировал их для себя мечом и огнем, а королю надобно было сделать из них государственную тайну из уважения к своей чести и к чести Речи Посполитой (ze wzgledu na honor krola i Rzeczypospolitej).
Сделавшись тайно рабом счастливых и милосердых злодеев, Ян Казимир заключил с татарами явно такой договор, который честь короля и Речи Посполитой дозволяла опубликовать. Обе стороны обязывались взаимною помощью и обороною в войне с соседями. Речь Посполитая будет посылать регулярно подарки в Каменец (30.000 дукатов на кожухи). Хан обеспечивает за Хмельницким булаву и 40.000 казаков, которых никто не смеет обижать. Король предоставляет свободную пашу татарам к западу от Азова над тремя реками (Днепром, Богом и Днестром), в Диких Полях. Это значило — во всей не-городовой Украине, иначе — в Запорожье.
Подобно утопающему, Польша хваталась и за соломинку, и за бритву. Но бритвой в настоящем случае были не татары, придвинувшие свой Крымский Юрт к украинским городам, и не казаки, поступившиеся неприятелям Св. Креста своим «славным Запорожьем», а нарушение вечного мира с Московским Царством. Нарушение вечного мира явствует из наступательно оборонительного союза христиан с магометанами; но царский гонец Кунаков проведал, что, кроме писанных пунктов, был в этом явном договоре и такой, которого публиковать не решились. Об этом секретном пункте доносил он Царской Думе (в декабре 1649 года) следующими характеристическими словами:
«Да паны ж рада меж себя советуют и рассуждая говорят, что с великим государем нашим, с его царским величеством, вечное докончанье не подкреплено за пьянством и за табачною торговлею великих королевских послов. А ныне же король в обозе под Зборовым поневоле вечное докончанье с царским величеством нарушил: позволил крымскому хану через Польское и Литовское Панство с войском ходить, куды ему будет потреба, и на том де король и присяг; и только де про то ведомо учинится царскому величеству, и по той де причине и с Московскую Сторону война».
И в другом месте: «И тое де статью королевские сенаторы и ближние люди таят и заказано про то все пакты под гарном. А у кого промыслом и иманы те Крымского и Хмельницкого пакты прочесть для ведома, и тое статьи в списках с пакт не написано. И сперва де, как под Зборовом договорились и пакты пописали, и канцлер с подлинных пакт списки послал к приятелям своим для ведомости, а тое статьи не писал».
Зная, что Польши, после этого, ничто уже спасти не могло, следует упомянуть, что пакты с ханом были спрятаны в тайном архиве; что на ближайшем сейме подтверждены они весьма таинственно и поверхностно [4], и что делопроизводитель несчастного договора, королевский секретарь Мясковский, в донесении королевичу Королю писал: «Чем и как обострили татары свои пакты, было бы трудно и долго писать.» (Очевидно, что была такая статья, о которой он писать не смел).
Счастливый по милости Божией хан явил и в том еще свое милосердие, что согласился двинуться с места прежде короля, отозвать посланные за Стырну загоны и возвратить взятых ими пленников, хотя на эту последнюю милость согласился с большим трудом.
Моливший короля о помиловании Хмель был упорнее хана. Дело ясное, что его русское самодерикавие татарский царь ограничил 40.000 казаков для собственной безопасности: ибо дружба злых, по замечанию Шекспира, переходит в боязнь, а боязнь рождает ненависть. Кунаков многое принимал на веру несообразно с историческою действительностью, открывающеюся для потомства; но в этом случае изобразил весьма правдоподобно сцену между двумя счастливыми по милости Божией и милосердыми людоедами.
«И учиня Крымский хан с Польским королем договор через королевского татарина, и укрепясь на договорных записях с канцлером с Юрьем Оссолинским, послал к Богдану Хмельницкому, даючи ему ведомо, на чом он с Польским королем договорился, и чтоб Хмельницкой послал к королю послов своих договариваться о статьях, что ему настоит. И Богдан де Хмельницкой приехал в полки к Крымскому хану сам с 20.000 войска, и хану говорили, что он, хан, учинил договор с королем, забыв шерть свою, что было им ни одному, ни без одного с королем и с паны и со всею Речью Посполитою не мириться. И хан де Хмельницкому говорил, что он, Хмельницкой, не знает меры своей, хочет пана своего до конца разорить, а и так панство его исплюндровано досыть: надобно де и милость показать; он де, хан, монарха породный, узнав меру свою, с братом своим, с польским монархою, снесся в добрую згоду, и его, Хмельницкого, с паном его поеднать договаривался, как годно: а только он договариваться и еднаться с ним не будет, и он, Крымской хан, с королем на него заодно. И Богдан де Хмельницкой о том престал, и послал к королю послов своих».
В последствии, по возвращении в Украину, Хмельницкий говорил московским гостям своим, боярскому сыну Жаденову, да площадному дьячку, Котелкину: «Не того мне хотелось, и не так бы тому и быть», а потом, подпив, заплакал, и москали заметили: «знать, что ему не добре и люб мир, что помирился с ляхами».
Но чего бы ни хотелось милостью Божиею запорожскому гетману, русскому князю, единовладнику и самодержцу, он представил королю договорные пункты свои при низкопоклонном письме, в котором, падая к милостивым ногам его королевской милости, своего милостивого пана, униженно просил простить ему, нижайшему подножку своему, грех, который де учинил он поневоле (повторение Киселевской фразы), и обещал быть верным подданным до конца живота своего. Если есть (писал он) что-нибудь оскорбительное в представляемых пунктах, то об этом усильно просит все Запорожское войско, равно как и о том, чтобы выдан был ему изменник его, Чаплинский, которому понравилось убогое хозяйство его и который отнял у него все добра его, а самого его подверг было смертной казни у пана хорунжего. За это де и война началась (а не за веру, о которой бы здесь было время и место поговорить с ляхами). Пускай де Чаплинский будет наказан такою смертью, какую предназначал для него (Это для казацкого батька было важнее веры).
Послам Хмельницкого отвечали, что король согласится на все, что только не будет противоречить из целости маестата и безопасности Речи Посполитой, а по вручении хану денег и пактов, стали договариваться с казаками. Результатом этого договора был акт, название которого напоминает спор Оссолинского с ханским визирем о названии гарача подарками.
Декларация королевской милости на пункты просьбы Запорожского войска заключала в себе 11 статей. Может быть, их было и больше, но подлинника Декларации в последствии никто не доискался, а в опубликованной тогда же «Привилегии русскому народу» паны солгали весьма грубо, будто бы король «больше всего своею королевскою повагою, нежели кровью, счастливо угасил внутреннее замешательство, начавшееся со времени междуцарствия». Это привело к тому, что договор с Хмельницким, равно как и договор с Ислам-Гиреем, был подтвержден на сейме лишь в общих выражениях [5]. Вместо договорных пунктов, польская публика читала великодушный королевский манифест, названный привилегией русскому народу, под именем которого разумелись не те землевладельцы, которые сохраняли еще православную веру, не те пастыри русских душ, которые болели за нее сердцем, подобно Филиповичу, и пользовались духовными хлебами, подобно Косову да Тризне, даже не купцы и мещане, образовавшие в Малороссии городские муниципии и основавшие церковные братства, а только казаки. В манифесте было сказано, что король, снисходя к просьбе Запорожского войска, все прежние привилегии, на которые где-либо в книгах существуют крепости (extant munimenta), восстановляет, и давшие вольности, в тех привилегиях дарованные Запорожскому войску, признает и подтверждает. Но в каких книгах и какие именно вольности, об этом не знал ни тот, кто составлял плутовской акт, ни те, для кого был он составлен, ни же казаки, которые много раз домогались каких-то давних прав и вольностей, но ни в одной петиции не обозначили, в чем состояли они. В королевской Привилегии русскому народу все дело сводилось к следующим словам: «А особливо утверждаем за ними (казаками) нашею привилегией то, чтоб они не были судимы нашими старостами, державцами и (их) наместниками, но во всех делах будут чинить им суд и расправу гетманы их. Зато и казаки в замковые начальства, также в аренды, шинки, равно грунты и принадлежности, на которые давних прав не имели, вступаться не будут».
Вот и все, о чем хлопотал фиктивный русский народ королевского манифеста. В самих же пунктах «Декларации королевской милости», которые были закрыты от публики этим манифестом, — за исключением 8-го, говорится о казацких отношениях и о территории, в которой будут иметь местопребывание по обеим сторонам Днепра 40.000 казаков. Гетман Хмельницкий, которому давалось на булаву чигиринское староство (пункт 3), может во всей территории казацкого местопребывания вписать любого из королевских или шляхетских подданных в 40.000-й реестр. Каждый реестровый казак делается свободным от всяких налогов и податей (Это значило, что все украинские паны, имевшие добра в черте казачества, фактически теряли их). Гетман имеет право выбрать казака и за чертою, но тогда выбранный должен совсем переселиться в Украину, чего никто не может ему воспретить (На этом основании все мужики могли выйти в Украину, и хотя бы их потом не было в реестре, никто бы не мог выискать их и вернуть за черту).
Коронные войска в казацкой территории стоянок иметь не будут; жидов и иезуитов также там не будет (пункты 6, 7 и 8). Горилкою казаки шинковать не будут, кроме того, что выкурят на свою надобность (пункт 11). Все должности в воеводствах Киевском, Брацлавском и Черниговском будут раздаваться шляхте религии греческой.
Относительно уничтожения унии (пункт 8) и возвращения прав и имуществ грекорусским церквам все будет постановлено на сейме, с согласия киевского митрополита, которому король дает место в сенате.
В этом пункте мы видим, что дело Киселей, Древинских, Могил, Косовых и Тризн перешло снова к ним в руки, под прикрытием сеймовых диспутов, отсрочек, бездейственных постановлений, примеры которых мы видели со времен Сигизмундовских, и что казаки, эти «единственные борцы за православную веру довольные своею реестровкою да винокурением во всю меру своей надобности, не воспользовались местом и временем для того, чтобы вопрос о вере и церкви возвратить к положению до-униатскому. Но польская историография тем не менее — в общем смысле Зборовского договора видит, что Хмельницкий посредством него сделался силою, в виду которой королевская власть не значила ничего, и что шляхетская Речь Посполитая, при таком договоре, не могла существовать. В своем положении (говорит она) казацкий гетман менее зависел от короля, нежели крымский хан — от султана: ибо власти крымского хана не обеспечивала чужеземная сила, а вера и обряд соединяли его с государством оттоманским и ставили в известную зависимость от стамбульского калифа. Должностное лицо Речи Посполитой, имеющее 40.000 войска номинально и 100.000 в действительности, с неограниченною властью над ним, такое лицо, владея булавой, которой нельзя было отнять у него без войны с Крымским Юртом, никак не могло быть фактически подданным короля и Речи Посполитой. Чтоб уравновесить его власть, Польше оставалось из республики сделаться самодержавною монархией, подобно Московскому Царству.
Самое расширение Крымского Юрта по Ворскло и Тясмин (замечу от себя) убивало только русскую идею в Малороссии, грозило Москве потерею права на вотчину её государей, но для Полыии делало нашу родину таким же неодолимым ханством, как и Крымское.
Мудреные и опасные для панов переговоры с Хмельницким тянулись до сумерек.
Особенно трудно было убедить его присягнуть. Не даром он говорил царскому дворянину, Унковскому: «Целовали мы крест служить верой и правдой королю Владиславу, а теперь в Польше и Литве выбран королем Ян Казимир. Короля мы не выбирали, не короновали и креста ему не целовали, а потому стали свободны». Теперь эта свобода исчезала юридически, да и фактически русский единовладник и самодержец делался одним из польских королят. Наконец Хмельницкий присягнул условно, сидя на коне. Присяжный лист читал ему Адам Кисель.
Когда эта формальность была исполнена, от него потребовали, чтоб он отступился от Чаплинской, которой православное венчанье при живом муже католике, очевидно, и сам Кисель считал недействительным. Хмельницкий мог бы отвечать спокойным отказом, но он чувствовал, что находится между ханом и королем, как между двумя силами, которые из-за своих выгод могут погубить его. Непредвиденная потеря дикого самодержавия мучила его до такой степени, что он обнаружил, может быть, скрываемую под покровом других обид боль своего мстительного сердца, и вскричал ревниво: «Нехай лучче король звелить утяти мени голову»!
Присягнув хранить ненарушимо Зборовский договор, Хмельницкий не соглашался никоим образом просить у короля лично прощения и присягать на верность подданства.
Поляки объясняют это упорство страхом убийства или предательства, который успокоился только после того, как послали к нему заложником Юрия Любомирского.
Но мы, в жилах которых течет все та же кровь, которая проявила себя в этом уроде нашей малорусской семьи, позволяем себе думать, что главную здесь роль играли — презрение к избранному среди презираемых казаком «жидов», ненависть к обидчику, поставившему ничтожного Забугского наравне с ним, творцом своей фортуны, и то чувство, которое заставляет иногда разбойника бояться взгляда своей жертвы.
Как бы то ни было, утром в пятницу 20 (10) августа, Хмель наш приехал к королю с сыном в сотне лошадей. Сцену свидания кота с мышью сочинители Декларации и Привилегии описали таким образом.
Хмельницкий сошел с коня далеко от королевской палатки. Кисель ввел его в палатку. Хмельницкий бросился королю в ноги, молил о милосердии и говорил, что не таким бы способом желал бы его приветствовать.
Эти слова, если они были произнесены Хмельницким, отзываются тою демонической иронией, с которой он выражал князю Заславскому желание отдать ему поклон лично со всем Запорожским войском. Напоминают они также и его застольное слово к Жаденову и Котелкину: «Не того бы мне хотелось, и не так бы тому и быть».
Ему бы хотелось отправить его королевскую милость, своего милостивого пана, к их милостям коронным гетманам, а с панами-«жидами» разделаться по-казацки.
По рассказу присяжных фальсификаторов, Хмельницкому отвечал Лев Казимир Сопига, что король подражает солнцу, которое всходит для добрых и злых, что он прощает его преступления и надеется, что запорожский гетман вознаградит за них цнотою и верностью. К этому фальсификаторы прибавляют, что, «поговорив с ним немного, король удалился».
Иначе рассказывали поляки Кунакову. Они присочинили, будто хан был у короля с поклоном, а вместе с ним и Хмельницкий, но тем не менее молчали о различных выдумках королевских секретарей и современных книжников: о его паденье к ногам, о его слезах, о его риторической речи, которую будто бы он произнес «с чувством своего достоинства», как прилыгает от себя малорусская историография. Кунаков пишет о Хмельницком, что «едучи де Богдан Хмельницкой к королю, метал древком»... «и король де говорил Хмельницкому: досыть тебе быти нам неприятелем, и до ласки нашей тебя припущаем, и все вины твои тебе и всему войску Запорожскому отдаем, и тебе то годится нам и Речи Посполитой заплатить услугою своею. И Хмельницкой до короля молыл: Горазд, королю, мовиш, а вежства и учтивости никакие против тех его королевских речей всловесне и ни в чем не учинил».
Литовский канцлер Радивил прибавляет, что Хмельницкий присягнул на верность королю, сидя на стуле, и это место польский переводчик его латинских «Мемориалов» опустил, как и многое шокирующее поляков [6]. Слова Хмельницкого, что не таким способом желал бы он приветствовать короля, также записал Радивил, и они тоже пропущены переводчиком.
Для урегулирования правды и вымыслов, необходимо помнить, что Хмельницкий «казнил королевских послов» и сам величался этим перед московскими людьми; что после Зборовского договора, перед одними москалями он пил со слезами царское здоровье, перед другими бесновался за отказ ему в помощи, а третьим напрямик говорил, что он все, и города московские, и Москву сломает, да и тот, кто на Москве сидит, от него на Москве не отсидится.
Как бы то ни было, только казаки с досадой приостановились «варить с ляхами пиво», в котором был «ляцький солод, казацька вода, ляцьки дрова, казацьки труда», — хотя и то довели Польшу до такого изнеможения, что Радивил писал в дневнике:
«Несколько сот лет уже не была Польша и ни один король в таких терминах как 15 августа. Едва не вернулась оная гибель под Варною и те времена, когда хан (Батый) жил в Кракове 12 недель. Но и этот день будет у нас днем печали, доколе Польша будет существовать». А Мясковский прибавил к этому в частном письме: «Возвращаемся во Львов визжа, поруганные, побежденные и ободранные».
Хан сперва намеревался взять короля в плен, и Хмельницкий этого желал, как видно из упреков, которые он делал хану в 1655 году; но потом крымский наездник рассудил, что трактаты принесут ему больше пользы, и запугал своего товарища на счет короля. Он оказался практичнее обоих. Кроме славы посредника, победителя и протектора, он приобрел себе помощь для войны с Москвою, содрал богатый окуп, восстановил ежегодную дань и на возвратном пути, по выражению киевского митрополита, взял бесчисленное множество христиан. «Этот ясыр забрал он в русских областях с королевского дозволения, чего бы Хмельницкий не позволил, говорит наш современник поляк; но мы ему ответим словами польского поэта:
Twoja dusza poczeiwa zronmiec nie umie, Jle jest, piekla w obrazonej dumie [7].В тот же самый день 20 (10) августа отступил Хмельницкий вместе с ханом от Зборова и вернулся под Збараж так же незаметно для осажденных, как незаметно выступил оттуда.
Король послал вслед за ним комиссаров, львовского писаря Ожгу и полковника Минора спасать несчастных от последних разбойничьих ударов.
Осажденные не имели никакого понятия о том, что делалось в 35 верстах от них под 3боровым. Они надеялись ежедневно и ежеминутно увидеть перед собой сильное королевское войско, и не сомневались в победе посполитого рушения шляхты над казаками. Но томительное ожидание, голод и постоянная борьба с мужицкими цепами днем и ночью — мучили их не меньше, как и прежние казацкие приступы.
Несколько недель уже питались они кониною. Большая часть лошадей пала, для остальных не было корма. Околевших и убитых лошадей секли в мелкое крошево, вялили, снова секли на бигос и, обсыпав мукой, давали конское мясо коням. Мужиков, которые спрятались перед осадой в городе, давно выпустили. Не помиловали их казаки, и всех, с женами и детьми, в числе 4,000, отдали татарам; но те гнушались таким заморенным ясыром и вырезали его до ноги. Теперь последние 2.000 мужиков, не взирая на то, что делалось у них перед глазами, просили начальство выпустить их: так сильно томил несчастных голод. Должны были выпустить и этих, за неимением корма.
Дороговизна возросла страшно: гарнец пива стоил 2 флорина, кварта водки 20 флоринов, четверть ржи 60 фр., булка 2 фл., и то было трудно добыть. Жолнеры ели собак и кошек, а по ночам грабили возы, рвали пищу один у другого. Дрались за лошадиный корм, отнимали у челяди съестное, которое она несла своим панам на валы, так что едва не дошло до усобицы (malo ad intestinas caedes nie przyszlo).
Между тем оказаченные мужики подкапывались под валы к стоянкам Конецпольского и Фирлея, а так как лагерь был пуст от беспрерывной пальбы с шанцев, то мужики лезли в отверстия, заставленные возами, и, побивая изнуренных жолнеров цепами, тащили к себе возы железными крючьями. Жолнеры тянули возы посредством цепей, которыми они смыкались, и вырывали у мужиков крючья. Мужики бросали в обоз пылающие мазницы и пихали жердями к возам вязанки соломы с огнем, а воткнувши свои прикмети на внутренней стороне панских валов и овладевши всеми выходами, сидели по целым дням и ночам в панском лагере между валом и возами, с которых оборонялись осажденные. День и ночь кипела тревога, заводились драки, раздавался вызывающий крик. Ругаясь всевозможными побранками, мужики грозили панам, что будут продавать их Орде по шагу и по шелягу. Это была уже не битва, а борьба, но она изнуряла осажденных до упаду своею непрерывностью.
16 (6) августа в день Спаса, когда король оставался цел только благодаря челяди, подошел небольшой казацкий отряд к панскому лагерю, вызвал пахолка под видом вручения письма и увлек его с собою. Вечером пахолок вернулся и принес панам фальшивое письмо, которое будто бы писал Хмельницкий к своему обозному, Чорноте, из-под Озерной. Хмельницкий уведомлял своего обозного, что королевское войско разбито; что он ведет к Збаражу 500 важнейших панов и наказывает ему смотреть в оба, чтоб осажденные не ускользнули.
Когда жолнеры читали с ужасом это письмо, мужики толпились под обозом и кричали ляхам, чтобы они поклонились и поддались «пану Хмелю», когда уж и король не устоял против него. Выстрелы, радостные восклицания и песни в казацком таборе наполняли сердца жолнеров тревогой и отчаяньем. Они, казалось, готовы были теперь опустить руки. Но на рассвете ротмистр татарской хоругви Вишневецкого принес найденную им стрелу с прилепленным к ней смолою клочком бумаги, на котором прочитали слова: «Будучи шляхтичем, хоть и поневоле среди гультайства, уведомляю ваших милостей, что король его милость находится в Зборове с весьма великою силою, и несколько раз побил Орду и казаков. Хмель в таборе, а вчерашнее торжество было для вашего страха. Держитесь осторожно нескольких дней, и даст Бог будет хорошо. Уже в третий раз предостерегаю вас».
Некоторые подозревали, что записка вымышлена; но войско тем не менее ободрилось. В последствии обнаружилось, что это была военная хитрость князя Вишневецкого, который переносит все неудобства, труды и голод наравне с простыми жолнерами, спал под валом, участвовал во всех вылазках и всего досматривал, сам не падал духом, и веселым лицом вливал надежду в сердца своих соратников.
Таким образом в обоих лагерях торжествовали: казаки, что облегли короля, а паны, что Хмель и Орда поражены королем.
В следующий день Вишневецкий схватил 10 языков. Они объявили на пытке, что король бьет казаков, так как множество раненных постоянно привозят в табор; что Хмель призвал к себе новую силу, и только перед чернью делает вид, будто облег короля.
21 (11) августа около полудня, когда часть Орды вернулась уже под Збараж, подъехал к панскому лагерю татарин, посланный от перекопского Карач-бея, и кричал, чтоб не стреляли по казакам, потому что с королем заключен уже мир.
Когда паны размышляли об этом, казаки поставили свои гарматы над озером, и двинулись несколькими купами на валы, но их встретили такою пальбой, что они были принуждены отступить. Не хотелось кровожадному зверю расстаться с вырванной у него татарами добычею, но и последний прыжок не удался ему.
По заходе солнца, явился к Фирлею молодой шляхтич Ромашкевич, (по фамилии русин), известный своею посольскою службою покойному Конецпольскому, с письменным уведомлением, что мир заключен, и что королевские комиссары, Ожга и Минор, прибудут рано утром в лагерь.
Новость эта наполнила всех безумною радостью, но потом — новым страхом.
Сомневались, чтобы король вверил столь важное дело такому молодому человеку.
Никто лично не знал его. Боялись нового коварства со стороны Хмельницкого. Почему не приехали новые комиссары? Почему засели они в неприятельском таборе и смотрят на новый казацкий приступ? Не таким воображали себе освобождение герои осадного сидения. Король знал бы цену людям, которые своим самопожертвованием остановили вторжение дикой силы во внутренние области королевства...
Региментари допрашивали Ромашкевича публично: на каких условиях заключен мир под Зборовым? Гонец сперва молчал упорно, наконец угрюмо отвечал, что это не его дело, и что комиссаров задержал у себя Хмельницкий до утра.
Скоро явился в панском обозе другой гонец, с письмом от Хмельницкого. Гетман уведомлял панов о заключенном мире и окончил свое письмо такими словами: «А как ваши милости обещали хану несколько сот тысяч, то приготовьте их. По получении денег царь отступит».
Паны отвечали Хмельницкому, что не обещали ничего, и скорее все погибнут, нежели заплатят хоть один талер.
Ромашкевич, видя, что региментари готовятся к завзятой обороне, начал рассказывать, как бились под Зборовым, какой заключили мир, и что слышал в казацком таборе.
Паны слушали его молча. От стыда и сожаления о своих напрасных страданиях, старые воины поникли головами. Гонец пересказывал им, как их враги хвалили их мужество, называя их сердитыми, и как татары ломанным языком своим издевались над королевским войском: «Под Збараж одна лях десет татар ззиж; на Зборув одна татар десет лях бере». Никого не занимали ни хвалы, ни насмешки. Известие о позорном мире наполнило панский лагерь великим горем. Жолнеры, столько раз явившие себя героями, теперь упали духом, точно на них повеяло от короля заразой себялюбивого ничтожества. Их подавляла тоска о стольких утратах, о стольких напрасных подвигах, о стольких неслыханных страданиях.
На другой день, когда прибыли Ожга и Минор, региментари объявили, что не давали никаких обещаний и ни о чем не трактовали, так как «разошлись в прелиминариях». Но хан уперся в своем требовании, и паны согласились дать ему 40.000 талеров, в счет неуплаченного окупа за Сенявского. В залог за эту сумму дали хану Потоцкого, богатого шляхтича, но не из того дома, главой которого был Николай Потоцкий.
23 августа жолнерам дозволили выходить из замка. Тогда между панским и казацким обозами появились тысячи торговых будок. Открылась ярмарка. Жолнеры покупали у казаков лошадей и съестное. Знакомые угощались взаимно горилкою, хлебом, яблоками. Вместо боевой тревоги, поднялся шум жизни мирной. Однакож, и здесь обнаружилась казако-татарская привычка к воровству и разбою. Сперва схватывали с голов у жолнеров шапки, потом казаки нескольких совсем ограбили, а татары нескольких неосторожных увели в неволю. «Кто вмешивался в толпу, не имея знакомых» (пишет очевидец), «те попадали в беду».
Наконец 25 (15) августа с рассветом, отступил хан с торжествующею Ордою, за ним двинулись казацкие возы в несколько десятков рядов, а за ними, в полдень, Хмельницкий, окруженный татарскою гвардией своей и блестящими «казацкими признаками».
Только тогда осажденные вздохнули свободно. Отворились лагерные ворота. Толпы народу высыпали обозревать поле. Вся окрестность была изрыта вдоль и поперек. Семь больших окопов, насыпанных панами и казаками, окружало панский лагерь, из которого два хана напрасно грозили повытаскать ляхов за чубы. Окопы вокруг казацких таборов и татарских юртов, жолнерские «квартиры», шанцы, разбросанные, подобно кротовым норам, по полю, апроши, поперечные рвы и земляные верки, обломки оружия, возов, палаток, конская падаль и почетные «могилы» над людьми покрывали равнины вокруг Збаража. Везде на этих местах кипел бой и лилась кровь.
Борьба не прерывалась более шести недель. Осажденные выдержали 20 приступов; 16 раз выходили они в поле и наступали на осажденных, 4 раза рыли и поновляли валы, редуты, рвы, 75 раз выскакивали мелкими партиями против неприятеля, и одна рука держалась иногда против сотни и больше казако-татарских. Таковы польские предания, опирающиеся на достопамятном факте, что сотни тысяч варваров не одолели девяти тысяч хорошо вооруженных и опытных в военном деле жолнеров.
Как ни величался Хмельницкий перед королевскими послами своею вечною дружбою с татарами, но никто лучше его не знал, что татары друзья опасные. Еще до прихода к Збаражу, о казацких союзниках царские люди доносили в Москву такие вести: «А татаровя стоят от казаков верстах в 10 с своими полки, и те де татаровя украдкою их, казаков, на проездах побивают, и в полон емлют, и конские стада отгоняют, и от того де казаки оберегаютца и страшатца добре, что они, татаровя, им, казаком, ставятца сильны».
Так было в самом начале Збаражского похода. По его окончании, татары являются друзьями того же самого свойства. Вестовщики доносили царю: «А шол Богдан Хмельницкой, помирясь с королем и отпустя от себя татар, в свои городы з большим опасеньем полками и с снарядом 10 дней, боясь от татар погрому, потому что татаровя, будучи нынешнего лета в Польше с черкасы вместе, многие литовские городы повоевали и полон многой поймали... И для де того Хмельницкой от татар держит большое опасенье, потому что запорожские черкасы многие изнужились, и бредут назад в городы свои пеши».
В момент превозносимого казацкими историками торжества Хмельницкого над ляхами, в судьбе казацкого батька сделался поворот. Не помогла ему искусственная встреча, сделанная пилявецким и львовским добычникам в Киеве. Народ, который он, аки Моисей Израиля, спасал от ляшеской неволи, встречал и провожал его песнями вроде следующей, записанной мною самим на его родине:
Ой богдай Хмеля Хмельницького Перва куля не минула, Що велів брати парубки й дівки І молодиї молодиці! Парубки йдуть співаючи, А дівчата ридаючи, А молоді молодиці Старого Хмеля проклинаючи: Ой богдай Хмеля Хмельницького Перва куля не минула! [8]Проклятия несчастного народа, без всякого сомнения, долетали до ушей казацкого Моисея. Для такого сердца, какое выработали в груди нашего Хмеля иезуиты, сами по себе эти проклятия значили столько же, как для его сподвижников крик облитого горилкою и подожженного святоюрца; но этот возлюбленный сын своего украино-казацкого отечества веровал в таинственную силу слова, и погубленные им сотни тысяч земляков должны были в его уме иметь нечто общее с песнями, предающими его анафеме.
Казацкий батько еще зимою послал в Белоруссию 10.000 малорусских мужиков, под начальством Голоты, о котором кобзари поют, что он не боялся ни меча, ни огня, ни третьего — болота. По словам кобзарской думы, долетевшей до нас из кровавой пропасти, именуемой Хмельнитчиною, Голота сводил свои подвиги к такому концу:
Дай же, Боже, щоб козаки пили та гуляли, Хороші мислі мали [9], Од мене більшу здобич здобували, Неприятеля під ноги топтали.Для «хороших мыслей» Белоруссия представляла казаку Голоте еще больше простора, нежели царю Наливаю. В течение полустолетия казацкая пропаганда проникла даже к подгорским опришкам и варшавским гультаям. Города за Припетью, убежище осиротелого дома удельных князей Олельковичей от казаков и татар, вскипели теперь бунтом нетяг против людей имущественных и гулящей черни против панов. Местная шляхта покидала свои хозяйства и толпами замерзала по дорогам. Голота, как и Перебийнос, воображал уже себя вторым Хмельницким, властвуя над лучшими мужиками и мещанами посредством худших. Но весной Викентий Гонсевский, собрав гарнизоны, вытесненные казаками Голоты из городов, напал врасплох на его скопище, загнал его самого в Припеть и потопил со множеством таких же рыцарей «хороших мыслей».
С другой стороны литовский гетман Януш Радивил, с главным литовским войском, приблизился к Речице, где засел было другой мурза казацкого хана, Стецько Подобайло. Этот был послан Хмелем в Белоруссию с 10.000 свежего войска только для того, чтобы не дать Радивилу двинуться в новое «казацкое гнездо», Киев. Радивил запер его в устье Сожи над Днепром и начал громить пушечной пальбой.
На выручку Подобайла Хмельницкий двинул 300.000 лучшего казацкого войска, под начальством одного из образованных сообщников своих, шляхтича Кричевского. Но Радивил вместе с Гонсевским не дал ему соединиться с Подобайлом и, после кровопролитной битвы, окружил шанцами в такой западне, которая напомнила казакам Медвежьи Лозы. Подобайло воспользовался разъединением литво-русских сил, вырвался из тесного кута и спешил на соединение с Кривоносом, но был разбит наголову.
В то же самое время над Кричевским, кумом, приятелем и главною опорою Хмельницкого, совершилось проклятие, которое посылали ему самому татарские пленницы. Как много терял Хмель в этом сподвижнике, видно, между прочим, из того, что простреленный пулею Кричевский был нарисован с обнаженною грудью и награвирован в «Theatrum Europaeum», издававшемся тогда во Франкфурте.
Раздраженные литво-руссы поминали своего Буйвида кровавою тризною: с войском Кричевского случилось то, что постигло завзятых казаков Наливайкова полковника Мартина под Копылом. Хмельницкий получил об этом известие незадолго перед тем, как очутился между татарским молотом и польскою наковальней под Зборовым. Проклятия, встретившие «старого Хмеля» в Украине, должны были получить в его душе зловещую выразительность.
И в глазах спасаемого им народа, и в его собственных, на его свирепом деле лежала печать Господня отвержения. Сколько в Польше, столько же и в Малороссии были недовольны заключенным в Зборове миром. Растравленные прошлогодней добычей мужики шли на новую добычу по большей части теми самыми местами, в которых — или хозяйничали по-татарски сами, или предоставляли хозяйничать своим наставникам, татарам. «Поживы» в 1649 году было сравнительно мало, её искателей — сравнительно много, и эти искатели были подгоняемы к опасным битвам казацкими списами да татарскими нагайками. Множество их очутилось у татар в ясыре вместе с теми, на кого набегали они с татарами; множество пало в битвах, которые «старинные» казаки устраивали так, чтобы казаки «охочие», затяжцы мужики и мещане, служили им прикрытием вместе с гонимым впереди скотом; остальные, как рассказывал в Москве путивлец Литвинов, «брели домой пеши изнужившись».
Оказаченные мужики были крайне недовольны подвигами Хмельницкого: обманулись они в своей надежде жить на счет ляхов, которою так восторгалась одичалая в нашей украинщине Клио. Еще меньше были ими наушники их, запорожцы, и всех меньше был удовлетворен сам казацкий батько.
«Это Москва наделала нам таких шкод!» (шумело преславное Запорожское войско).
«Когда б она послушалась на первых же порах нашего батько Богдана, давно были бы мы за Белою Водою; давно бы не было на свете ни ляха, ни жида, ни проклятой Унии»! И вот по всему московскому пограничью пошла ходить молва о том, что казаки, вместе с татарами, нагрянут к православным тем же обычаем своим, что и к неверным ляхам да люторам; а обычай де у них тот же татарской: живут они добычею, воюют из-за добычи. А теперь хан даже грозит Хмельницкому, «сослався с Польским королем и с поляки», — грозит воевать его самого, коли не пошел бы воевать с ним государеву землю. На то де они побратимы: поклялись брат брату на сабле, Хмельницкий присягою, а хан шертью.
Так, в общих чертах, сложилось общественное мнение пограничников о збаражских и зборовских героях; а признаки враждебных замыслов видели они в том, что «конотопцы государеву землю роспахали многую, и хлеб сеели орженой и яровой, и сена покосили, и лес хоромной и дровяной и бортноя деревья посекли, и межи и концы перепахали, и грани попортили», — видели в том что «по реке Суле и по реке ж по Терну черкасы из черкаского войска леса запустошили, и лошеди у недрыгайловцев черкасы крадут, и дворы и гумна жгут, а от посаду Недрыгайловского всего саженех во сте поселились черкасы городком Костентиновым», — видели в том, что «дворы деревни Кулешовки поставили на государевой земле, и мельницу на речке Уси к государеве стороне и к берегу», — видели в том, что черкасы во всех пограничных городах своих «говорят не тайно» о своем намерении «итти з гетманом однолично на Московское Государство войною за то, что государь не учинил им, черкасом, ратной помочи на поляков», — наконец и в том, что казаки, вспоминая о жалованье Запорожскому войску от прежних московских государей, вознамерились наложить на Москву такой гарач, какой татары наложили на ляхву; «а будет де ты, государь» (писали в Москву путивльские воеводы) «им, Запорожским черкасом, своего государева жалованья дать не укажешь, и ему, черкаскому гетману, Богдану Хмельницкому, с черкасы и с татары однолично итти войною на твое государево Московское Государство».
Москва смотрела на казаков Хмельницкого, как на прозелитов татарщины, и слухи о враждебности мнимых «борцов за православную веру и русскую народность» получили серьезное значение в её глазах, особенно после собрания в Царской Думе повсеместных в Украине толков о задуманном двумя ханами походе на Дон, с тем, чтобы «татаром с черкасы збить донских казаков з Дону до одного человека», и потом «Крымскому царю с Запорожскими черкасы идти войною на Московское Государство».
Действительно православное значение Москвы было для казаков последним делом.
Это в Москве знали даже по деяниям казаков Сагайдачного, восстановителя киевской митрополии. Кадры Запорожского войска состояли из шляхтичей банитов, принадлежавших не только к римским католикам и к немецким протестантам, но и к арианам. «Какие они христиане?» (говорили о москалях в данный момент казатчины кошевые и куренные витии). «У них вера царская, а не христианская: как повелит им царь, так они и веруют». — «Коли б вони знали благочестие» (прибавляли к этому богомольные казаки), «не попустили б вони Божих церков ляхам на поталу; не дали б вони побивати нас проклятим пекельникам, бісовим ляхам та німоти. За московською підмогою, звоювали б ми і спліндрували б увесь світ; ми б в самого римського папу віддали турчинові в неволю. От би коли була наша честь, слава, військова справа! От би коли ми себе на сміх не подавали, ворогів під ноги топтали! А не схопив москаль нам помагати, ходімо з Ордою самого його воювати»!
Что так должны были логически последовательно мудрствовать все, кого казацкий батько называл, по словам кобзарей, дитьми, друзьми, небожатами, это видно из того, что логика казакоманов нашего времени не далеко ушла от подобного воззрения на порядок вещей в свете. Мы уже знаем, какими горькими сетованиями и злобными угрозами разражался он на равнодушие Москвы к его великому предприятию. Но после припадков горя и злости опять выражал готовность «служить христианскому государю»; что, впрочем, не мешало ему возвращаться к старой казацкой теме.
Однажды, когда путивлец Василий Бурово да путивльский пушкарь Марко Антонов явились к нему с жалобой на казацкие захваты по московскому рубежу, «начал он их бранить и называть лазутчиками: ездите де вы не для расправы, для лазутчества. А приказывал де с ними с грозами и велел нам» (писали путивльские воеводы к царю) «словесно: не токмо де, что их литовские люди твоею государевою землею за межею владеют, ждали б де мы, холопи твои, ево в себе в гости под Путивль вскоре: идет де он, гетман, войною тотчас на твое государево Московское Государство. Вы де за дубье да за пасеки говорите, а я де все — и городы московские и Москву сломаю. Да и против тебя, государя, говорил он, гетман, непригожия слова: «Хто де на Москве сидит, и тот де от меня на Москве не отсидитца».
Так бесновался в своем бессилии против татар и ляхов казацкий батько, поживившись у хана, «як собака мухою», сказали б козаки-друзи. Теперь уже не было ему торжественной встречи в его столице, Киеве, наименованной так в чаду первых успехов. Он перестал быть единовладником и самодержцем русским. По своей присяге, теперь он был такой же королевский подданный, как и всякий другой казак. Хан дал ему гетманскую булаву и знамя рукою ничтожного, по гордому воззрению пилявецкого героя, жидовского короля; хан мог ее предоставить Забугскому и любому полковнику казацкому. Этого мало: Хмельницкий очутился данником крымского хана.
Молва гласила, что гетман отсчитал ему 500.000 талеров из собственной «шкатулы»; а «що по титулі, коли нема в шкатулі»? говорит малорусская пословица. Но татарская помощь стоила дороже. Для вознаграждения мусульман-людохватов была наложена поголовная подать на тот народ, который казацкий Моисей взялся освободить от польского ига.
Дороговизна съестных припасов возросла между тем страшно. Дома оставались только женщины, дети да немощные инвалиды. И те работали мало, имея в виду великую и богатую милость от Бога за избиение злочестивых ляхов и проклятых жидов. Но вместо денежных людей, обременных добычею, возвращались большею частью изнуженные оборвыши, часто искалеченные, вообще обленившиеся и, можно сказать, поголовно споенные в походе. Это были не звягельсвие кушнеры, сервировавшие стол панским серебром, не обогатители, а разорители своих семейств.
Они увеличили, а не уменьшили, голод и нищету в Украине. Вернувшись домой, они пропивали даже то, что в их отсутствие припасали женщины пряжею, тканьем и т. п., как об этом выразительно говорит украинская Одиссея, которая, по милости казацкого «всегубительства», дошла до нас в таких отрывках сквозь Хмельнитчину и Руину, как эпос варяго-русских времен — сквозь татарское Лихолетье.
Скоро став козак із походу прибувати, Став до нових воріт до ламаних доїжджати, — Він з коня не вставає, Келепом нові-ламані ворота відчиняє, Козацьким голосом гукає... Скоро стала козачка козацький голос зачувати, То вона не стала до його дверми вихождати, Стала, мов сивою голубкою, в вікно вилітати. Тогді козак добре дбає, Хорошенько її келепом по плечах привітає, Карбачем по спині затинає. Тогді козачка у хату вбігала, Буцім нехотя нещимний борщ поліном штиркнула, Ну його к нечиствй матери! у піч обертала. До скрині тягла, Не простого, льняного полотна тридцять локтів узяла, До шинкарки тягла, Три кварти не простої горілки, оковитої узяла, З медом да з перцем розогрівала, Оттим козака частувала та вітала!..Украинская Одиссея, с примерным для историков прямодушием, изображает милые привычки казацкого быта, приобретаемые в безжённых товариществах. Несчастная Пенелопа наша не знала, как скрыть перед соседями синяки под глазами, которыми наградил ее за одиночество казак-Одиссей, и, чтоб отклонить насмешки, придумывала разные небылицы.
А козак седить у корчмі, мед-вино кружає, Корчму сохваляє: «Гей, корчмо, корчмо княгине! Чом то в тобі козацько добра багато гине? І сама єси не ошатно ходиш, І нас, козаків-нетяг, Під случай без свиток водиш.Результатом казацких подвигов и приобретаемой в походе нравственности украинская Одиссея выставляет следующую картину:
Знати, знати козацьку хату
Крізь десяту:
Вона соломою не покрита,
Приспою не осипана,
Коло двора не чиста (сила) ма й кола,
На дровітні дров ні поліла:
Седить в ній козацька жінка, околіла.
Знати, знати козацьку жінку:
Що всю зиму боса ходить,
Горшком воду носить,
Половником діти наповає [10].
Люди этого пошиба, общего в казатчине больше всякого другого, не могли внести в Малороссию ни практического ума, ни доброго, умиротворяющего чувства. С ними вернулись в шинки, корчмы, кабаки все те чудовищные истории, которыми запорожцы, подобно иезуитам, прикрывали движение своих корпоративных целей. С их бурным наплывом в города и села, нежные песни украинских женщин, эти грациозные в своей страстности произведения неграмотной Музы, были заглушены песнями разбойными.
Они внесли в города и села запорожский разврат мышления и разврат чувствования, в прибавку к тому, что угнездилось там со времен оных. Пропагандируя войну за веру, вместе с войною за казацкую «честь-славу, войсковую справу», при посредстве пьянства, картежничества, костырства и кабачного распутства, они поднимали голодную, беспутную и бесчестную чернь на московского царя с таким успехом, что московские пограничные воеводы стали сзывать сельских жителей в города для осадного сиденья, а к царю вопияли о плохом вооружении своих команд и замков-острогов.
Между тем паны, теснившиеся за Случью и Припетью, с нетерпением ждали времени, когда будет им дозволено вернуться в свои займища, на пепелища их колоний, в окровавленные развалины их домов. Дозволение зависело de jure от сеймового утверждения Зборовского договора, но de facto — от настоящих владельцев панских имений, настоящими же, фактическими владельцами были те, от которых бежали владельцы юридические. Такова была дилемма Хмельнитчины. Руководитель изгнания из Украины ляхов-католиков, ляхов-протестантов, ляхов-православников, то есть вообще панов ляхов, поднял поголовно всех способных и готовых к бою, как вооруженных, так и безоружных, поднял не только на освобождение русского народа от гонителей христианской веры, как он прокламировал, но на истребление и самого имени ляшеского. Под этим девизом бился он с князем Вишневецким, с королем и наконец с панскою челядью — за казацкую «честь-славу, войсковую справу». Чтоб не было на Украине ни ляха, ни жида, ни Унии, уложил он по малой мере 100.000 ополченцев своих в сырую землю на Волыни и в Белоруссии, да заплатил Орде вдвое или втрое столько же молодых молодиц, дивчат, паробков и детей, сверх миллиона татарских пленников, насчитанного прежде литовским канцлером, и довоевался до того, что ему повелела верховная власть, — не королевская, а ханская, не христианская, а басурманская, — призвать обратно в Украину панов ляхов, без различия исповеданий.
Казацкий батько впутался в такую игру, что ему осталось одно — сделаться казацким ханом, султанским подданным, а своих «детей, друзей, небожат» превратить в головорезов янычар. Так и решился он действовать. Но этого не знали еще ни в Москве, ни в Варшаве; этому не верили даже в Стамбуле. Все были затруднены до крайности: как быть с огромной шайкой разбойников, с казатчиной? И всех больше затруднялся этим вопросом атаман разбойницкой шайки.
Неопределенность его политики обнаружила попытка Киселя заняться своими хозяйскими и воеводскими делами в Украине. Чтобы позондировать взволнованное море, которое дважды уже выбросило его на опустошенный панский берег, Кисель послал своего слугу, Сосницкого, под прикрытием надворной дружины своей. Сосницкий рапортовал ему из Киева, от 28 сентября, что мужики не оставляют своего предприятия (plebs v sjwojem przedsiewzieciu nie ustaje), напротив они теперь хуже, чем были в прошлом году. «Никаких листов не респектуют» (писал он). «Хотя мы ехали и с казаками, но в нескольких местах были задержаны, и нам грозила великая опасность; а не будь с нами казаков, Бог знает, остались ли бы мы в живых».
В Киеве Сосницкий застал Выговского. Тот не советовал ему ехать к пану гетману, и дал для отправки к пану воеводе письмо. Киевский войт принял посланцев Киселя радушно. Он также находился в великой опасности, и мещане лишили было его войтовства. Поэтому не хотел он, да и не мог, приступить ни к каким ревизиям имущества, подлежащего воеводскому ведомству. Проезжая через Вышгород, Сосницкий видел в шалашах (szopach) не мало «поташей», но считать их было трудно, потому что их грузили на байдаки и возили в Киев. Киевские мещане купили 400 бочек, а на остальные трудно было найти купца. «Нам говорили» (заметил Сосницкий), «будто бы этот остаток как из Киева, так и из Вышгорода приказано спускать на низ».
Дело в том, что когда панские имения были расхищены, когда даже «панские жены сделались женами казацкими», как говорит Самовидец, — поташ, главный после земледелия и скотоводства продукт панского хозяйства в Украине, остался цел по своему не съедобному и не горючему свойству. Хмельницкий старался превратить его в деньги до возвращения панов на свои пепелища и пустыри. По сказанию Варшавского Анонима, из одного Млиева, экономического центра украинских имений Конецпольского, Хмельницкий за поташ взял от волошских купцов больше 200.000 битых талеров. «Жаль было уступить это полякам» (пишет он). «Но разве один Млиев? У Конецпольского, Вишневецкого, Замойского и других отнято было семьдесят городов, сел, слобод и пасек, которые приносили такие доходы, что горько и вспомнить».
Этим объясняется, почему казакам надобно было всячески губить Вишневецкого и наследника Станислава Конецпольского, соперника Вишневецкого в колонизации Малороссии. Этим объясняется также, почему казаки восставали в Украине против Зборовского договора еще больше, чем паны в Варшаве. Аноним прямо говорит: «В особенности же многочисленные и многолюдные добра Вишневецких и Конецпольских были препятствием этому трактату: ибо пребывание таких могущественных панов на Украине вело к постоянной войне с ними. Лучше было, раз навсегда отнявши эти имения у магнатов, обсадить их казаками и тем обеспечить себя от измены».
На Заднеприе поверенный Киселя, Сосницкий, не решился ехать. Выговский дал ему понять, что гетман медлил мероприятиями для лучшего перемещения казаков из-за черты казатчины (ta prolongacya uczyniona dla lepszej rumacyjej). Он де разослан уже на все стороны для сбора известных (wiadomych) данин и других доходов. Отдавать же шляхетские местности в аренду не думает, до утверждения сеймом договорных пунктов.
«Духовенство наше» (писал Сосницкий) «такое, каким было в прошлом году». В этом лаконизме скрывается мысль, что сановитые представители малорусского духовенства не соединяли интересов церкви с интересами казачества, и что митрополит беседовал с Сосницким так же секретно, как и с Киселем.
Последние слова донесения Киселева конфидента заключали в себе самое важное для панов известие, что Хмельницкий не публиковал в Украине о мире.
В своем письме Выговский советовал Киселю приостановиться с приездом в Киев до дальнейшего решения пана гетмана, потому что он не приступил еще к делам комиссии, боясь воспламенить народ в самом жару его (bo teraz na pocztku samym ogien i zarzie rzuci sie miedzy niemi). «В этот огонь ехать вам опасно», писал alter ego Хмельницкого.
Мы знаем, как безуспешно старался Кисель в прошлом году провести, под покровом комиссии, киевскую шляхту на её пепелища. Теперь, в звании киевского воеводы и украинского комиссара, энергический миротворец предпринял нечто в роде новой колонизации возобновившихся малорусских пустынь — водворением землевладельцев и должностных лиц там, где уже два года царила казако-татарская орда. Чтоб установить порядок вступления тех и других в свои права, он созвал в Житомире шляхетский сеймик под своим председательством.
Хмельницкий уведомил его из Чигирина от 8 октября, что разослал всюду универсалы, повелевающие поспольству в городах (pospolstwa ро miastach) вести себя смирно, и объявляющие, что этот сеймик созван для утверждения казацких прав и вольностей, а равно и для успокоения религии, которая так долго не могла стоять на своей старине (wedlug starozytnosci swej konca wziac nie mogla). При этом просил он Киселя внушить шляхте, что «невинная кровь лилась так долго от нарушения казацких прав и вольностей», и выражал надежду, что на генеральном сейме греческая вера будет успокоена, а уния совершенно (penitus) уничтожена, «и то, что наши предки» (писал он) «падали на Божие дома, будет возвращено». Он уверял, что ждет его приезда в Киев, как давнишнего благоприятеля Запорожского войска, «с великою охотою», а для безопасности проезда послал к нему двух казаков с универсалами, которыми бы они усмиряли поспольство. Относительно дедичных и дигнитарских имуществ Киселя он также, по его словам, разослал всюду универсалы, и старался о том, чтобы войско было переписано в 40.000-й реестр, а на сейм обещал выслать казацких послов.
В то же самое время благодарил Хмельницкий письменно короля за его великую, истинно-отеческую милость, обещал привести Запорожское войско в определенный порядок, уверял, что никогда не оплачет погибели стольких невинных душ, и, «падая низко под ноги королевского маестата», свидетельствовал свое верноподданство.
И опять через три дня писал он к Киселю, что посылает «двух товарищей своего войска, чтоб усмиряли посольство, дабы житомирский сеймик мог отправляться спокойно», но «просил усильно», чтоб их милости паны-обыватели держались относительно подданных «скромно» до скомпутованья войска, а потом» (писал он) «каждый из их милостей, «как был, так и останется». В противном случае» (прибавлял он ехидно) «надобно бояться, чтобы малая искра не сделала великого пожара (parva scintilla magnum excitat incendium), так как до нас доходят разные вести, что польское войско готовится приблизиться к нашим краям, а это было бы противно воле его королевской милости и нарушило бы пункты». Он «униженно» повторял свою просьбу, чтобы паны не воспрещали тем, кто принадлежит к Запорожскому войску, продавать все добро свое (wszystkie dobra) и выходить в Украину. Он убеждал, чтоб обыватели Киевского воеводства благоволили быть терпеливыми, и чтобы польское войско не приближалось к «здешним краям».
С своей стороны Выговский, от 9 октября, уведомил Киселя из Чигирина, что посодействовал слуге его, Сосницкому, ехать в заднепровские имения; «а к черкасскому полковнику» (заметил он), «хоть и близко, я знал, что это будет трудно. [11] Отложим до ревизии (где королевские имущества и где шляхетские) и до устройства войска. После ревизии, все тотчас должны будут поклониться вашим милостям. Этого желает и сам пан гетман (i sam pan Hetman przychylnym jest)».
По многим причинам Малороссию было возможно покорить оружием, но не было никакой возможности слить в неразделимое тело с Польшею и подчинить навсегда панам, которые, в глазах церковной интеллигенции малоруссов, сделались ляхами, и были ими действительно, если не по церковному обряду, то по воззрению на малорусскую церковь и по обычаю. Кисель считал свою миротворную миссию делом практическим; но собственный ответ его на письмо Хмельницкого показывает, что его практичность основывалась на мечтательности. Этого письма Кисель ждал с великим нетерпением, но оно пришло к нему только 20 октября. Не получая никакого известия, он обходился осторожно с поспольством, которое Зборовскими пактами было освобождено от панского присуда только по Коростышев, но бушевало всюду по-старому. Чтобы раздраженная шляхта не дала казаковатой черни какого-либо повода к замешательству, он принужден был, с общим горем и с умалением королевского достоинства, отправить сеймик под открытым небом, над рекой Случью, между Звяглем и Несолонью, терпя крайние неудобства со всеми сеймикующими. «Вед своеволие — вечный враг мира (swawola pokojowi na wilki nie zyczliwa)» философствовал Иисус Навин шляхетского Израиля в виду обетованной земли, и удовлетворялся только тем, что киевская шляхта сеймиковала на киевской земле, хоть не в обычном месте. «Если ваша милость» (писал он) «сделал это с умыслом, для посмеяния, — Бог тебе судья, и хотя я, убогий воевода киевский, кочевал здесь со всею братией, но, в надежде на будущее, покрываю (молчанием). Что касается другого пункта вашего письма, относительно того, чтобы паны-обыватели держали себя скромно, то не может быть большей скромности, как та, что все мы, глядя на дымы отчизны (ojczyste dymy), ожидаем убежища у берега отеческой земли, — ожидаем возвращения отправленных к вам с сеймика наших братьев, как слуге его королевской милости и согражданину того же воеводства. Пора уже вам умилосердиться над нами, вашей братьей, и исполнить пакты, на которые вы присягнуты, и которые заключаются в трех пунктах: первый, чтобы казакам быть только по Коростышев; второй, что из дальних волостей имеют они право выйти; третий, что не желающие быть в реестре, должны оставаться в подданстве его королевской милости, а в наших дедичных добрах — в обычном повиновении нам. Мы готовы поступить по этому постановлению, и все, кто будет в реестре, пускай себе на здоровье будут казаками, а мы пускай живем в своих домах. Уже и сами подданные наши готовятся к нам (garna se do nas), и только те, которые желают казаковать, все портят... Благоволите же выслать свои универсалы, чтобы все те, которые хотят принадлежать к войску, подали каждому из нас в его имении реестр, за подписью сотника или атамана, и мы не будем к таким иметь никакого дела, пока вы кончите свою ревизию. Кто войдет в войсковый реестр, тот пускай идет себе со всем своим имуществом, кто же не войдет и захочет остаться с паном, пускай здоров остается. Каждый пан в своей маетности не только не будет препятствовать этой ревизии, напротив, будет помогать ей: если хочет иметь больше подданных, то будет с ними сноситься, и милостью своею привлечет их к себе. А кто непременно хочет быть казаком, тот обратится к вам, и это облегчит вам составление реестра. Но когда нам, глядя на наши маетности по заключении мира, нельзя въехать в них, — что ж это за мир и за согласие? Это только большая досада... Наступает зима: каждый обогрелся бы на своем пепелище. Да и самая действительность мира не может иметь большего ручательства, как пребывание каждого в своем доме. Уверяю вашу милость, что дом каждому мил: после двухлетней драки, каждый научился держать себя скромно и привлекать к себе подданных... Что касается имений в черте пребывания казаков, то допустите только наших старост и подстаростиев поселиться на своих местах. Они будут ждать составления реестра. Кого вы впишете в реестр, тот будет казаком, а кто не будет вписан, тот останется при замке и пане. Так от веков бывало: почему же не может быть и теперь? Ради Бога (сообразите, что) один слуга, который будет подстаростием в королевщине, или старостою в дедичстве (albo w dziedzictwie Starosta), ничему не помешает, а доходы уже начнутся, и будет видно, что мы наслаждаемся миром, и согласием. Но когда я — воевода киевский, а королевский замок и в мирное время пустеет по-старому и нет в нем моего подвоеводия, и не будет мне никакой власти и дохода, — что ж это за мир такой?.. Я бы советовал реестровать сперва там, где сама природа создала казаков (gdzie sama natura kozakow miec chciala), а из отдаленнейших волостей дополнять... Хотел бы я видеться с вашмостью паном и, переговорив обо всем, поспешить на сейм для окончательного служению миру и согласию... Для того я медлю здесь, у ворот Киевской земли, чтобы вы пустили братью нашу в их дома, и я, поблагословив им, ехал в Киев и другие подначальные мне замки: это будет пакт и первый знак мира».
Кисель уверял Хмельницкого, что слухи о приближении войска вымышлены, и просил его не верить слухам. Но Хмельницкий думал по-своему.
Недели через три, писал к нему король, называя его благородным и верномилым (urodzony i wiernie nam mily), требовал, чтоб он охранял общее спокойствие от своевольных куп, и указывал, что казаки все еще остаются в Любече, Лоеве, Стародубе и других городах Великого Княжества Литовского.
Хмельницкий отвечал ему, от 23 ноября, что войсковая ревизия производится с великою поспешностью, обещал прислать послов на сейм с верноподданническим повержением казаков к ногам королевского маестата и уведомлял, что Крымский хан, по давнишнему обычаю брать дань в черкасах (то есть в земле черкас, черкесов), прислал казакам наказ (przyslal do nas, abysmy), по вечной дружбе, которую они (татары) взаимно завзяли (zawzieli), дать ему две или три тысячи войска для взыскания дани (kazni), как это выговорено и при договоре с королем. «А татары» (писал он) «всегда готовы служить вашей королевской милости против каждого неприятеля».
Положение колонизаторов пустынной Малороссии было беспримерно горестное.
Дикая страна, в которой венецианский путешественник XV века, Контарини, не находил ночлега между Луцком, Житомиром и Белогородкою, эта Rossia bassa, в которой Киев стоял за чертою населенных мест (chi e fuori della detta Rossia), в которой видал он только пьянство, слыхал только про лесных бродяг, — эта панорама бесприютных и голодных трущоб трудами и подвигами их прадедов, дедов и отцов была превращена в страну, цветущую земледелием, скотоводством, промыслами, торговлею, — и созданное смелою, энергическою колонизациею предков многолюдство лишило потомков тех прав, которые были утверждены веками, правительствами, народами, — лишило для того, чтобы «землю, текущую молоком и медом», превратить в такую бесприютную и голодную пустыню, какою Контарини видел ее с ужасом 175 лет назад...
Ach! czyjez serce, czyje w zalu sie nie nurzy? [12]невольно повторяет потомок завзятых и беспутных казаков стих потомка не менее завзятой и по-своему беспутной шляхты, когда широкая земля, напоенная кровью тех и других, отвечает на его вопросы таким же широким молчанием.
Во na rozleglych polach rozlegle milczenie. Tylko wiatr szumi, smutnie uginajac klosy; Tylko z mogil westchnienie i tych jek z pod tpawy, Со spia, ua zwiedlych wiencach swojej starej slawy [13].Наших полонизованных русичей мы поминаем польскими стихами. Русских стихов не заслужили эти жертвы римской политики: они предпочли чуждый элемент элементу родному, и судьба жестоко покарала их за отступничество вместе с теми, для кого они сделались отступниками.
Православный предводитель полонизации, не умевший даже повторить малорусской фразы [14], Адам Кисель, изобразил их несчастное положение в письме к Оссолинскому яркими красками:
«Пять недель мииовало уже, как посылал я к Хмельницкому, и до сих пор не имею никакого ответа; а при этой его кунктации, всегда для меня подозрительной, чернь остается в купах и не пускает панов по домам. В Брацлаве убито несколько десятков, в Бышеве — десятка полтора. Меды, чинши, паствы, аренды с Киева и отовсюду берут на Хмельницкого; наконец, поташи, где еще были, распроданы... Получил я известие, что большая часть Орды осталась у него, и кочует здесь при нем. На мои вопросы: для чего? отвечают мне, что все это делают наши, которые уже и зимою грозят им войною; при этом охуждают пакты и чего только не говорят! А Хмельницкий все это знает и слышит. Шляхта же (nobilitas) доходит здесь до последнего отчаяния: негде и нечем жить. Хотели было ехать по своим домам, хоть бы нас, говорят, и перебили. Едва кой-как удержал я различными способами. Коротко сказать, нет уже ничего у тех, у кого было по 100.000 имущества: не за что купить хлеба».
Эту картину дополняет Варшавский Аноним рассказом о том, как бедные изгнанники возвращались «к своим порогам» по следам Киселя, въехавшего наконец в Киев на воеводство. «Хмельницкий показывал, будто бы искренно вводит их, и внушал подданным повиновение. Но едва вступила шляхта в свои дома, хлопство снова давай бунтовать, не терпя панов, и начало убийства. Пришлось опять бежать, унося свою жизнь. В Киеве не допустили их до города; скитались по предместью. Редко кому присылали из дому булку хлеба или возок сена, а тут наступила дороговизна. Что у кого еще было в запасе, все принуждены были выискрить. Не многим удалось даже коснуться границ имения своего».
Между тем Хмельницкий (рассказывает Аноним далее) накладывал невыносимые контрибуции в свою пользу на великие добра, которые надобно было возвратить панам, прочие раздал полковникам, захватил староства, замки, маетности, фольварки, забирая всюду доходы, скот, стада и что возможно было взять; чтобы не досталось владельцам, все брали в его скарб; обогащался один общим разорением и оставил владельцам одно право на вступление в те добра».
Кисель, вместе с Косовым, стал убеждать Хмельницкого, говоря, что он привлечет Божие благословение на своих детей, если приостановит разлив крови и слезы изгнанников. «Эти слезы» (внушал ему митрополит) «каплют из людских очей на твою душу. Ведь эти люди жили прежде изобильно, как и другие, а теперь у них нет и куска хлеба. Они же — наши собратия той же благочестивой веры, что и мы с вами, но дни свои проводят в поругании и в слезах. Некоторые перемерли с голода, а других замучили мужики. Бог это видит и грозит отмщением».
Хмельницкий отговаривался, что не он причиной медленности в исполнении Зборовского договора. «Это такое трудное дело» (говорил он), «что его можно сравнить с толстым и высоким дубом: пока он вырос, надобно было ждать столетие».
Объяснением этих слов было событие, случившееся вскоре после архипастырского увещания. «Когда компут 40.000-го войска приходил к концу» (рассказывает Аноним), «казаки-ветераны соглашались на Зборовский трактат, но те, которые завладели чужими добрами, и сделались из поспольства коноводами (hersztami) бунтов, эти отчайдуши, для того чтоб укрыться от кары за свои злодейства, домогались также включения в компут, а было такого своевольного хлопства, не хотевшего вернуться к повиновению своим панам, еще тысяч сорок. Они прислали к Хмельницкому послов, которые говорили ему: Так-то, пане гетмане, покидаешь ты заслуженных тебе людей! выдаешь ляхам на муки тех, которые тебя обороняли.
А ты ж присяг не отступать нас! Мир значит предательство. Под смирением кроется у панов обман и месть. Одн хотят обезоружить тебя, отнять у тебя верных воинов, чтобы скорее тебя погубить. Но если ты решился уже даться ляхам в обман и погибнуть, то мы будем искать такого, который будет вернее и лучше защищать казацкое имя». — Посольство это пришло к Хмельницкому от казаков поднестрян и побожан, прямых разбойников, предводителем которых был брацлавский полковник Нечай.
«Хмельницкий» (пишет Аноним далее) «боялся, чтобы казаки, воюя одни с другими, не выгубили сами себя, и потому начал благодарить своих бунтовщиков за гетманское достоинство; но потом стал почесывать в голове (poczal sie wglowie skrobac) и высказал Киселю свою тайную мысль: «Вы, паны поляки,» (говорил он) «принудили меня под Зборовым к нелепому делу, постановив, чтобы казаков было только 40.000 в компуте. А где мне девать такое множество людей? Они с отчаянья или на меня встанут, или на вас».
Мысль о неверности затеянного дела сопровождала все поступки Хмельницкого, и пробивалась даже в его хвастовстве перед ляхами. По возвращении своем из-под Зборова, он убеждал разнузданных сподвижников своих лестью. Подобно тому, как в свое время пьяница Бородовка ревел в казацкой раде: «перед Запорожским войском трепещет земля Польская, Турецкая и весь свет», Хмель проповедовал за чаркою, что под Зборовым сила казацкая взвешивалась на весах судьбы с силой польскою, и теперь де вся вселенная знает, что за народ казаки, какая потуга их, какое могущество. Но в то же самое время составлял себе гвардию, сверх татарской из отборных казаков. Эго было ему тем необходимее, что, для расплаты с ханом за Збаражский и Зборовский походы, обложил он поголовным налогом весь посполитый народ. Надворные татары и задобренные избранники казаки обеспечивали ему сбор поголовного налога в Украине так точно, как вооруженная сила помогала хану взимать с кавказских черкасов дань, или как называл ее Хмельницкий, казнь (kazn).
Относительно гарантии личной своей безопасности, казацкий батько не представлял исключения. Роты телохранителей, подобные варяго-русским дружинам, содержали при себе и те казацкие гетманы, которые предшествовали гетманам-бунтовщикам, так как всякая походная неудача подвергала казацкого вождя опасности потерять не только булаву, но и голову. Молодость и ученические годы казакованья Хмельницкого совпадали с тем временем, когда представители королевской власти журят бывало казаков за частое низвержение и убийство их избранников. Будучи страшен каждому в Украине, Хмельницкий должен был больше всех опасаться за свою судьбу и за жизнь. Отсюда-то и происходила та изменчивость в его чувствах и намерениях, которая озадачивала казацкого соблазнителя, Смяровского, и путала хитроумного политика Киселя.
Глава XXIII. Фальшивое представление короля героем и патриотом. — Немногие обманывают многих. — Кто собственно был угнетателем «убогих людей». — Новая реестровка казаков. — Замена панского ига игом казацким. — Бедствия малорусского поспольства от казацкого бунта. — Две орды в виду культурных соседей. — Замыслы татар и казаков против Московского Царства. — Турецкая протекция. — Нагромождение горючих материалов. — Грозное посольство московского царя.
После многолетнего общения с польскою шляхтою, казаки, равно как и нынешние казакоманы, усвоили от неё такую привычку к самохвальству, что даже разбой и предательство, которыми всего выразительнее отличались «украинские национальные герои», они старались и стараются прославлять, как достойные подражания доблести.
Не решая вопроса, ученики ли в этом отношении превзошли учителей, или же воспитанные католическим Римом учители остались на недосягаемой высоте своего превосходства, скажу, что поляки, опозорясь избранием Яна Казимира на престол, имели бесстыдство называть перед Европой душу его возвышенною, а его разум благородным. За подвиги 1649 года и шляхетский народ, и народ казацкий превозносили себя одинаково. Но бесстрастная муза Клио, зная, чем завершились эти подвиги, бросает в лицо шляхетскому народу один стих Данта:
E per l'inferno il tue nome si spandi [15]а народу казацкому — другой:
E tu in grande onoranza non ne sali [16].В то время, когда миллионы людей страдали нравственно и вещественно за грехи королевского правительства, католическая Европа была полна хвалы «возвышенной душе и благородному разуму» Яна Казимира, она читала распространенную всюду «Реляцию о славнейшем походе, победоноснейшем успехе и счастливейшем примирении с неприятелями всепресветлейшего и могущественнейшего Яна Казимира». [17] Но, в виду противоречий казацкого гетмана, выражаемому им смирению и в виду неверности собственного его положения, замеченной еще под Пилявцами, король предположил созвать на 22 ноября чрезвычайный двухнедельный сейм, собственно для того, чтоб обеспечить государство военными средствами. В инструкции своей на сеймики Ян Казимир представлял шляхетскому народу, как мало и как медлительно помогал он правительству в обороне от неприятеля. Обстоятельство это называет король фатальным и обычным препятствием в военных делах и успехах Речи Посполитой (naztapila fatalis zwykla w tej Rzpliej rzeczom i progressom wojennym przeszkoda). Одни воеводства (писал он) дали только некоторую часть причитающихся с них денег, а другие до сих пор пичего не дали, так что большая часть войска служит даром, а другая получила лишь немного.
Мы видели, что король, с своей стороны, для чего-то медлил третьим оповещеньем посполитого рушения, и тем испортил всю кампанию; но шляхетская медлительность в исполнении гражданских обязанностей давала ему возможность взвалить вину на других и разыгрывать роль рыцаря без страха и упрека, сочиненную иезуитами для оглашенных. Утаенные от общества статьи Зборовского договора, разосланные по Европе реляции о непобедимости того, кто вернулся с похода «визжащим, поруганным, побежденным, ободранным», возвышение присяжными проповедниками подвигов короля до равенства с подвигами князя Вишневецкого, приветственные речи, в которых представители таких городов, как Львов и Замостье, называли Яна Казимира непобедимым победителем, наткнутые в варшавском соборе Св. Яна казацкие знамена, отбитые Радивилом у Голоты, Подобайла, Кричевского, и всевозможные манифестации со стороны тех, чьи интересы были неразлучны с его интересами, — все сделало из ничтожного, презренного и портившего дело [18] короля нечто похожее на великого монарха, и cам он, как омороченный няньками ребенок, возымел о себе такое мнение, что даже многоопытного литовского канцлера поучал литовским законам, а в последствии и самому князю Вишневецкому давал чувствовать недостаток боевого мужества.
Инструкция на сеймики, плод пера одного из ангелов-хранителей Яна Казимира, представила его в ореоле самоотверженного героя, рвавшегося на подвиги славы и чести, не взирая на советы людей, которые клали его жизнь на весы с целостью отечества. Даже неведение о неприятельских силах, захвативших его врасплох, послужило сочинителю инструкции к возвышению короля-полководца: ибо неприятель де так сжался, что не выпустил ни одного загона за сторожевую линию свою. Этот только робкий неприятель два раза пробовал под Зборовым и своего счастья, и могущества его королевской милости; но король де, исправляя должность и полководца, и воина, дал ему отпор, так что неприятель первый склонился к миру и отозвался с такими условиями, которые были спасительны и славны для Речи Посполитой в нынешнем её положении (Reipublicae hoc statu salutares et gloriosae).
В виду столь наглого бесстыдства перед современниками и потомками, знающему закулисную сторону польской государственности, приходит на мысль драгоценный дневник Освецима, изображавший события 1643 — 1651 годов. Из него исчезли годы 1648 — 1650; осталась только часть 1650 года (январь, февраль, март) да весь 1651-й (год упадка казако-татарской силы). Это, по всей вероятности, было дело такой руки, какая о московской самозванщине написала, что источник этого дела должно хранить в тайне [19]. В истребленной части Освецимова дневника и сам Ян Казимир, и те, которые показывали эту марионетку обществу иезуитски оглашенных, без сомнения, выступали не в лучшем свете, как и в тех документах, которые истребить не было никакой возможности. [20]
И инструкция на сеймике была только предуведомление к славословию короля на сейме. Там Оссолинский целых четыре часа (удалив, однакож, лиц, не принадлежащих к членам сейма) держал перед панами речь о Зборовском походе, начав с коронации и в заключение прочитав редактированное известным способом письмо короля к хану, в котором де король силу своего оружия увенчал славою дипломата. Наступивший вечер не дал Оссолинскому докончить хвалебную реляцию. В следующем заседании (пишет в своем дневнике Радивил) «канцлер продолжал свою реляцию, сравнивая Зборовский триумф с Хотинскою победою, одержанною при Сигизмунде III, и превознося его даже выше, ибо под Зборовым неприятельская сила была больше, а наше войско малочисленнее, да еще и без гетманов. Одни смеялись на это, другие называли (реляцию Оссолинского) ласкательством. Но (примас) архиепископ, вставши со всем сенатом, благодарил короля за спасение Речи Посполитой с опасностью собственной жизни».
Умолчание о Посольской Избе показывает, что не сенаторы, а некоторые из её членов смеялись и называли канцлера льстецом. Зато Радивил записал слух, что многие из королевских сподвижников, во время битвы, спрятались в конопле, где найдено и несколько брошенных ими знамен.
Радивил не был под Зборовым, и писал о доблестях своих сограждан по слухам. Доблести казацкие были ему известны обстоятельнее. «По заключении мира между нашими и татарами» (говорит он), «татары опустошили часть Руси и Волыни, где и моя Олыка выдержала их нападение с двух сторон. Ночью с одной стороны ударили на нее казаки, с другой татары, но, с Божией помощью, были с обеих сторон отражены, и потеряли несколько человек убитыми. Другое мое местечко оборонялось несколько дней, но, когда мещане, обманутые присягою казаков, впустили их в город, они, забыв о своей присяге, несколько тысяч вырубили, а некоторых взяли в неволю. То же самое делали по селам, и несколько городов сожгли, как-то: Острог, Заслав, Полонное, Колки, Тучин и т. д.»
Зная за панами и за казаками такие доблести, мы должны убедиться, что тогдашний польско-русский пан и польско-русский казак, тогдашний лях и русин, какой бы ни были они веры и безверия, стоили один другого, по малорусской пословице: «який пішов, такого й зустрів». Пан был достоин казацкого разбоя и предательства, казак — панской жадности и презрения.
Уже и в инструкции на сеймике король предостерегал шляхту, точно кто путный, не медлить больше с денежными сборами и не допустить снова, чтобы жолнеры, после войны с неприятелями, воевали свое отечество по-неприятельски и взяли с него несколько жолдов, прежде чем им будет уплачен один.
Фатальное и обычное в Польше препятствие в военных делах и успехах вело ее к погибели не только извне государства, но также и внутри его. Жолнеры, равно как и казаки, не получая жолда, брали его десятерицею и сторицею посредством разорения так называемых «убогих людей», которые, в конце концов, ожесточались против своих властителей и от души желали им гибели. Альбрехт Радивил, в своем пиетизме, высказал мысль реальную: «Чем кто грешен, тем тот и карается: ибо нигде не бывает таких бунтов, как в Польше, оттого что нигде так не угнетают подданных. Перед этим было у нас угнетение убогих; теперь убогие сделались орудием угнетения богатых, и, как прежде паны различными способами выжимали кровь из своих подданных, так сделалось и наоборот, казаки и поспольство совершили неслыханные мерзости, потому что и наши грехи были неслыханные. Надобно нам уменьшить нашу вольность, или лучше — её злоупотребление, и ограничить законом жолнера, чтоб он воздерживался от грабежа подданных: ибо грех этот взывает к Богу о мщении»... А в инструкции на сеймики прямо сказано, что, «по общему мнению, постигшие Польшу бедствия Господь Бог допустил за угнетение убогих подданных посредством жолнерских становищ и грабительств в королевских и панских имениях» [21]. Но жолнеры, как и казаки, сами по себе были меньше виновны, чем те, которые, зная, с чего начинаются конфедерации одних и бунты других, тем не менее продолжали расхищать государственные доходы. Литовский канцлер открывает нам, что когда в 1650 году, пришлось расплачиваться с наемным войском за Корсунскую, Збаражскую и Зборовскую войну, в скарбе недоставало для расплаты с жолнерами миллиона и двухсот тысяч, которые девались неизвестно куда, и жолнеры замышляли довести подданных до убожества, грасуя своевольно по селам, а это значило — лить воду на казацкие колеса [22]. Сам коронный подскарбий,то есть министр финансов, Богуслав Лещинский, получив деньги на 600 жолнеров, и жолнеров не доставил, и денег не возвратил. Сам коронный гетман, Николай Потоцкий, по возвращении своем из плена, вошел в стачку с подскарбием: один не представил ревизионной комиссии компута войска, а другой не объявлял, сколько в скарбе денег. Что касается короля, то, в своих денежных делах, он всегда зависел от панов, а теперь королю надобно было еще держаться на высоте своей славы, и потому царственною особой своей он только увеличивал число обманщиков Речи Посполитой.
Такое положение дел придало созванному им теперь чрезвычайному сейму характер собрания, в котором немногие старались оморочить многих, и только некоторые понимали, как бы следовало поступить в грозном положении отечественных дел. К числу таких людей принадлежали те, которые требовали, чтобы гетманская власть не была пожизненною; чтобы князь Вишневецкий был вознагражден за потерю своих имений в Украине, за свои подвиги в казако-татарской войне, и чтобы, после короля, ему первому была объявлена благодарность Речи Посполитой, «яко Геркулесу».
Но против государственной рутины трудно было стоять людям независимого ума и чувства. Освецим в своем дневнике говорит выразительно, что от несогласия панов зависит все, что они были крайне своекорыстны в виду страшного положения отечества, что они домогались пожалований у короля бесстыдно. Сын Конецпольского, по его рассказу, вел себя в этом случае скромно, но добрые приятели разгласили, будто бы он хочет присоединиться к жолнерской конфедерации, чтобы вместе с нею домогаться вознаграждения, и этим исторгнули ему у короля пожалование.
Когда сеймующие паны валандались таким образом с делом правления, превосходившим их способности, король получил от Киселя из Киева донесение, какого никто уже и не ждал.
Кисель напомнил королю тоном человека добродетельного, что под Зборовым были постановлены такие пакты с Запорожским войском, какие велела принять последняя крайность (jakie przyjac res nostrae in extremis posita kazaly). Для общего блага, решился де он еще на одну попытку к переговорам (tentanda tentare et tractanda tractare), и, точно сквозь терние, продрался в Киев, сквозь толпы черни (per obvias catervas plebis). В течение своего трехнедельного там пребывания, добился он того, что наконец Хмельницкий посетил его, и что после юрисдикции казацкой, наступила в Украине королевская. Кисель, по его словам, восстановил киевский магистрат с его властью, и за свежее убийство пана Голуба покарал виновных королевским мечом в присутствии не менее 20,000 казаков (majac spectatores najmniej 20.000 Kozakow). Он уведомлял короля, что составление казацкого реестра приходит к окончанию на обеих сторонах Днепра, и не советовал королю порываться на войну, потому что Орда готова поддержать казаков, и задорное поспольство желает войны с панами. «Но гетман со всем войском» (писал Кисель, поддавшись новым каверзам Хмеля) «сильно желает мира и искренно о том заботится; наконец, грозит наступить на мужиков с войском (nastapic na nich grozi wojskowo). Но ничего верного сказать Кисель всё-таки не мог, при всем своем желании поддержать мир с казаками. Так как чернь, по его выражению, была полна последней решимости (ostatnej rezolucyjej plebs plena), и он боялся, чтобы война с нею не сделалась национальною и религиозною (juzby nastalo bellum gentis et religionis), а это показывает нам в Киселе сознание, как ляхи-католики и ляхи-православники (от них же первый был он сам) поставили церковное дело в Малороссии.
Под конец сейма, в начале 1650 года, действительно привезли королю казацкие послы то, что они, в своем обществе, без сомнения, называли маною — 40.000-й реестр, который король и его миротворцы-паны приняли за самый убедительный документ верноподданства Хмельницкого и за гарантию мира. «Большинство наших панов» (говорит Освецим), «хорошо знающих дела Речи Посполитой, были такого мнения, что Хмельницкий — или не хотел, или не мог из нескольких сотен тысяч взбунтовавшегося хлопства сделать воинами такое малое число, а других без числа (sine numero) обратить в хлопы, но у него было столько ума, который мы должны в этом случае за ним признать, и столько совета (rady), что он привел предпринятое в исполнение сверх общего чаяния и мнения (ultra spem et opinionem omnium)».
Чтобы замылить глаза панам и их королю, Хмельницкий, в начале реестра, изобразил свой герб, и присовокупил к нему стихотворную октаву, в которой русская речь так безобразно соединена с польскою, как безобразно соединялся русский элемент с польским в таких представителях нашей малорусской народности, какими были Кисели, Древинские, Могилы, Косовы, Тризны и tuttiquanti... Темный смысл этой октавы таков: «Старина обновила как бы только то, что слава вновь открывает явно. Герб, украшающий дом Хмельницких, сильно утверждает в мужестве, в правде, в вере. И не удивительно: ибо Абданк (habe Dank) есть знак щедрой покорности, а крест означает твердость веры Хмельницких и силы. Ты, король, непобедим в христианском государстве, имея в своем подданстве Хмельницких» [23].
Одновременно с казацкими послами прибыл в Варшаву киевский воевода, Адам Кисель, а вместе с ним и митрополит, Сильвестр Косов, которому, по Зборовскому договору, следовало дать место в cенате. Это был камень преткновения на пути польской жизни. В сеймиковых инструкциях земским послам заключался наказ утвердить Зборовские пакты с соблюдением прав Римской церкви (salvis juribus Ecclesiae Romanae). Духовные сенаторы Речи Посполитой боялись быть отлученными от церкви за допущение схизматика сидеть с ними рядом в сенаторских креслах. В ответ на это светские указывали им на кальвинистов и лютеран, заседавших в сенате.
Но в Польше католическое духовенство было государством в государстве. Столетия употребило оно на то, чтобы шляхетский народ и короли его творили волю папы, как Христова наместника. Только с исчезновением Польши могла исчезнуть зависимость католиков от земного Бога, восседавшего на святом престоле Петра в Риме. Папы не боялись протестантов, и протестанты начали уже возвращаться на лоно католичества. «Новая вера» основывалась на отрицании былого: она была в их глазах недолговечным отступничеством. Напротив боялись очень польских схизматиков, опиравшихся на предков и старину заодно с гражданами обширного Московского Царства. По этому даже тех иерархов, которых иезуиты соблазняли к переходу в унию высокою честью заседать в сенаторской лавице, не допустили до равенства с католическими бискупами.
У пап только католик был правоправным христианином. Всякая уступка в этом правиле представлялась противодействием их видам на вселенскую власть.
Косов, с высоты своего верховенства над малорусскою церковью, мог бы торжественно заявить на сейме о несоблюдении панами договора в войне с «борцами за православную веру», и своим протестом освятить во мнении народа подвиги Хмельницкого. Но он помышлял единственно о том, как бы, в своем двумысленном положении, устоять на высоте своего звания и сохранить за собой духовные хлебы. Он, без сомнения, чаял выхода из обстоявших его зол посредством гибели ребеллизантов, от которых сторонился и Петр Могила, завещавший созданной им иерархии свою полонизаторскую политику. Поездка Косова в Варшаву была только послушанием казацкому верховодству в Малороссии. Как верноподданный короля и Речи Посполитой, он советовался там не с одним Киселем, как ему быть, и смиренно отказался от своего спорного права на заседание в сенате. Для соблюдения того значения, какое было придано ему Зборовским договором, он получил от короля апробацию на возвращение ведомству митрополита вакантных епархий и т. п. Но фиктивные уступки «схизматику» подлежали еще решению высшей католической власти. Поэтому литовский канцлер протестовал о своем разномыслии с королем перед папским нунцием, а нунций вписал свой протест в канцелярии литовского канцлера, — и огражденная таким способом уния осталась неприкосновенною «в правах римской церкви».
Из этого мы видим, что Зборовский договор был нарушен в той статье, которую Хмельницкий в своей переяславской пропозиции поставил первою, и в той, которую написал второю: уния не была уничтожена; киевский митрополит не заседал в сенате.
И однакож, воитель веры и церкви принял за благо сеймовое утверждение Зборовских пактов.
Отправив казацкое посольство, король опубликовал, посредством вписания в житомирские гродские книги, универсал, в котором объявлял всем и каждому, «какого бы кто ни был состояния: шляхетского, казацкого и польского», что заключенный его королевскою повагою под Зборовым мир утвержден сеймом согласно и единомысленно, что миновавшее замешательство, допущенное Господом Богом, предается вечному забвению, что Запорожскому войску возвращены и подтверждены все права и преимущества, что все реестровые казаки, вошедшие в состав этого войска, должны оставаться при своих правах и преимуществах, все же подданные королевских замков и городов, а равно духовные, панские и шляхетские, должны оставаться в обычном своем подданстве; что коронное и чужеземное войско, идущее в Украину на квартиры, должно оставаться в прежнем мире и согласии с войском Запорожским; а для охраны общественного спокойствия назначен Адам из Брусилова Кисель, воевода-генерал киевских земель, королевский комиссар, который будет иметь свое местопребывание в Киеве, и которому дана полная власть охранять мир, чинить суд и расправу между коронным и Запорожским войском. «Посему» (писал король) «мы публикуем этот универсал, дабы все, зная о святом мире, нами заключенном, прекративши всякие тревоги, хвалили Господа Бога и возвращались в свои дома, каждый к своему занятию; и при сем строго повелеваем, чтоб никто не отваживался затевать каких-либо бунтов, зная, что наше коронное войско, вместе с соединенными запорожскими силами, будет каждому давать отпор, как пограничному неприятелю, и таким образом будет усмирять всякие бунты».
Хмельницкий, письмом от 20 марта, нижайше и верноподданнически благодарил короля и всю Речь Посполитую за декларацию, милостиво дарованную казакам под Зборовым, а ныне утвержденную сеймом. «Все, что касается успокоения религии» (писал он) «казаки поручили его милости отцу митрополиту и духовенству. Хотя на нынешнем сейме не могло состояться окончательное успокоение, но казаки и за эту милость униженно благодарят и покорнейше просят, чтобы все, заключающееся в дипломе, с этого времени было приведено в исполнение, потому что у панов униатов обычно — королевские повеления откладывать. В Запорожском войске есть много таких, которых предки лежат в коронных и литовских церквах, присвоенных униатами.
Желая, чтобы поминовение душ их совершалось по обряду, их старожитной религии, они до тех пор будут постоянно ходатайствовать, пока эти церкви не будут в руках у наших православных». Вместе с тем Хмельницкий просил, чтобы коронные войска не приближались к Украине и тем не производили в поспольстве тревоги.
Это письмо было написано в ответ на королевское уведомление об утверждении сеймом Зборовского договора, но отправлено лишь через два месяца [24]. Есть основание думать, что оно не было бы совсем послано, если бы две личности, которыми Хмельницкий дорожил, не очутились в тюрьме у краковского воеводы. В самом конце казацкий батько написал: «Осмеливаемся со всем войском вашей королевской милости, припадая к стопам наяснейшего маестата, просить об Иване Тетеревском и Петре Котовиче, которых безвинно мучат в тюремном заключении и доселе не выпускают. Благоволи, по своей благосклонной панской милости, повелеть написать князю его милости, краковскому воеводе, чтоб он приказал выпустить их со всеми купеческими товарами».
Так и в Пилявецкую войну Хмельницкий до тех пор смиренничал и стлал себя под ноги Речи Посполитой, пока не вернулись из Варшавы его послы, о которых кривоносовцы распустили слух, что они казнены.
После опубликования королевского универсала не препятствовал он украинским панам возвращаться в их имения и на их «уряды». Наученные горьким опытом вотчинные и поместные землевладельцы составляли военно-экономические ассоциации, и появлялись в виде колонистов среди одичалого края. Без так называемой ассистенции и без условия взаимной помощи ни одно панское семейство не дерзало явиться к подданным, попробовавшим безнаказанного самоуправства.
С удивлением узнали тогда казаки, что им нельзя оставаться в шляхетских имениях при своих войсковых правах и вольностях. Надобно было — или отказаться от казакованья, или, забрав свою движимость, переходить в те королевщины, которые назначались комиссарами для казацкого жительства. Но удивление переходило в ярость, когда стали делать различие между вписанными и невписанными в казацкий реестр. Первых просили удалиться из имения; от вторых требовали чиншей, податков и отбутков, или панщины. Хмельницкий долго не объявлял Зборовского договора, наконец разослал от Малороссии универсал, повелевающий повиноваться панам дедичам и панам урядникам под страхом смертной казни.
Таким образом обещания, которыми завлекал он в казацкое войско вотчинных и ранговых, иначе панских и королевских подданных, оказались обманом. Обнищавшие, «изнужившиеся», по выражению Кунакова, реестровики, вместо переходов в казацкие поселки, завопили в панских имениях о зраде. «Зрадила нас наша старшина! зрадив нас і сам гетьман! Дишуть одним духом з нашими нашийниками, з нашими душманами! накладають з панами! вирубають ляхом»! [25] Такие восклики гремели всюду, где собирались герои поджога и грабежа шляхетских дворов, панских домов и всякой движимости. Начались повсеместные бунты. Повторились убийства над панами и отмщения за них со стороны панов. Кто на разоренное казаками хозяйство вернулся в сопровождении надежного почта, те брали верх над бунтовщиками, и в этом случае на своевольных мужиков действовал не столько страх оружия, сколько уверенность, что паны в состоянии охранять их самих от казакующей голоты, затевавшей и поддерживавшей бунты. Те же паны, которые не обеспечили себя ни надворною дружиною, ни подмогою соседей, спешили убраться за добра ума в более безопасные местности.
Политика Хмельницкого, часто противоречившая собственным правилам, поставила его между двух лагерей. С одной стороны все христианское общество, в гражданственном строю своем, требовало от него приноровления к правилам жизни, выработанным веками культуры; с другой — орда головорезов и хищников домогалась от него полной свободы, не желая знать, что это значит и к чему такая свобода приведет в ближайшем будущем. Взявшись выместить за Чаплинского на всех его укрывателях, он отрекся от солидарности с тем классом, к которому принадлежал отец его, Чигиринский подстаростий, сложивший голову рядом с великим Жовковским; но теперь видел, что не сдобровать ему в роли казацкого батька, и потому делал уступки панской республике, которая приютила его отца в бедственном положении и взлелеяла собственное детство его.
Чтобы занять умы, взволнованные бунтовщиками, Хмельницкий созвал в Переяславе генеральную раду. На ней был прочитан и принят казаками реестровый список, посланный к королю. Этим актом, завоеванным под Збаражем и Зборовым, казацкий батько сложил с себя ответственность перед разбойною массою в том, что не ведет ее кончати ляхів, а, вместо того, еще карает смертью панских убийц. Все казаки, имевшие, в глазах черни, преимущественное право на казацкие вольности, признавали законным и естественным тот порядок вещей в Украине, который был ниспровергнут по поводу гонитвы Хмельницкого за его обидчиками. Чтоб отменить их общее решение, голодная и сравнительно безоружная чернь должна была бы убить не одного Хмельницкого, но и сорок тысяч реестровиков, вместе со всеми теми, которые пользовались выгодами их положения по за реестром.
Так из-под ига панского люда посполитые перешли под иго казацкое, потому что гетман карал их смертью за бунты против панов, а сорокатысячный привилегированный казацкий народ, за реестром доходивший до статысячного, содержался на счет работы людей посполитых. Это была новорожденная, хоть и не законнорожденная, шляхта, которой недоставало только государственной нобилитации.
То, что говорит о себе в кобзарской думе Иван Канивченко, сподвижник Филоненка, было символом веры каждого казака:
І вже мені не честь, не подоба По ріллях спотикати, Жовті сапчянці каляти, Дорогі сукні пилом набивати... [26]Теперь людям посполитым, не шляхтичам и не казакам, предоставлялось делать сравнение между тем временем, которое предшествовало Хмельнитчине, и тем, когда «казацкая слава разлилась по всей Украине».
По свидетельству Самовидца, до бунта Хмельницкого, «поспольство во всем жили обфито (изобильно): в збожах (хлебах), в бидлах (скоте), в пасеках»; досадовали их только непривычные для украинцев «вымыслы великие от старостов и от их наместников и жидов. Бо сами державци на Украине не мешкали (не жили), тилько уряд держали, и так о кривдах людей посполитых мало знали, альбо, любо (хоть) и знали, только, заслеплени будучи подарками от (панских) старост и жидов арендарей, же (что) того не могли узнати, же (что) их салом по их же шкуре и мажут: з их подданных выдравши, оным даруют, що и самому пану вольно бы узяти у своего подданного, и не так бы жаловал подданный его. А то леда (какая-нибудь) шевлюга (шваль), леда (какой-нибудь) жид богатится, по килько цугов коней справляет, вымышляючи чинши великие, поволовщины, дуды, осып, мерочки сухие, з жорнов плату и иное, отниманье фольварков, хуторов, — що натрафили на человека одного, у которого отняли пасеку, которая всей земле Польской начинила беды»...
По свидетельству же всех современных документов, в эпоху Хмельницкого свирепствовала ужасающая нищета в той массе, которая, увлекшись казацким промыслом, помогла казакам отделить на свой пай сытный кусок хлеба на счет старост, державцев и арендаторов жидов, а сверх нищеты свирепствовал казацкий произвол, без всякой апелляции. В тех же местах, где казаки не сидели на шее у доматоров и гречкосеев (названия у них презрительные), — в тех местах свободно разгуливали татарские загоны. Казаки перебили или предали татарам панов, которые набирали бывало из своих сел охотников до гонитвы за хищниками; вооружали их на собственный счет, водили в «неведомые» поля по примеру древнего князя Игоря, и нередко, как это мы знаем по «русскому воеводичу», слагали буйную голову в бою с неверными. Теперь некому было охранять от Орды не только мужиков, но и казацких жилищ. Ворота в Украину стояли татарам настежь; Зборовский договор отдал под их кочевья все Черноморие, от Азова до Чигирина, от Чигирина до Акермана, и если они уводили в неволю даже собственных сподвижников, казаков, то каково было положение доматоров и гречкосеев!
В то время, когда Хмельницкий просил короля об освобождении Тетеревского и Котовича из тюрьмы, прибавляя: «а мы за наяснейший маестат вашей королевской милости готовы жертвовать жизнью (zdrowie swoje ronic)», — в то самое время Адам Кисель изображал королю положение дел в Украине такими словами: «После моего первого киевского обжога, о котором я уведомил вашу королевскую милость, — лишь только Хмельницкий велел снять головы и тем, которые у берегов казатчины начинали мятеж в панских имениях, и тому, что назывался гетманом на Запорожье, мужики несколько приутихли. Однакож, желая подействовать еще сильнее в этом случае, Хмельницкий намерен в скором времени отправиться (excurrere) челнами на Запорожье, чтоб очистить скопище (sentinam) своевольства и обсадить Запорожье надежною (podufala) старшиною. Здесь также велел полковникам сторожить берега, чтобы (казаки) не входили ни в какое замешательство с теми региментами, которые приблизились к Хмельнику и Бару, и предотвращать всякие бунты. Послы (Хмельницкого) также ехали к вашей королевской милости с реестрами, а другие реестры представили в киевский грод. Судя по этим поступкам и наблюдая за всею старшиною, которой у меня бывает полно каждый день, кажется, что они желают сохранить мир. Только исключенные из реестров мужики, которые было оказачились, прибегают к разным способам, чтобы не быть в подданстве у своих панов. Одни продают все и, оголев, идут к казакам в чуры и постои (jedni sie sprzedajac i ogolociwszy ze wszystkiego, za czurow i postojow do kozakow udaja), другие совсем идут за Днепр, а некоторые — таких наименее — кланяются уже своим панам.
Поэтому один Господь Бог, в своем предведении, решил и предопределил, как все это может усмириться и успокоиться. Я не смею успокоивать отечество миром; точно так же не желаю раздражать шерней и давать им повод к вражде. Один, кажется, остается совет: положиться на волю всемогущего Бога, как Ему будет угодно смягчить эту казнь, и на подтверждение присягой обещаний Хмельницкого, как он захочет их сдержать, хотя бы это было с великою кривдою и почти с порабощением (а prawie cum servitute) всех нас, украинных (панов). Еслиб я не видел такой силы и готовности, какую здесь нахожу, и если бы мог видеть расторгнутым товарищество (societatem) с казаками Орды, а также, когда бы войско могло вступить сюда раньше, нежели реки пустят (воду), то, как я всегда объявлял на сейме, наилучшим средством (pro maxima), так и теперь — не только желал бы, но просил бы униженно вашу королевскую милость, принимая во внимание все унижение, которое мы претерпеваем в мире, похожем на рабство, — лучше попытаться прибегнуть к оружию, нежели, имея, не иметь подданных. Им помогают все фортели и на суше, и на воде, потому что у них та же сила, та же готовность, та же лига, хотя меня угнетет та же бедность и несчастье (egestas et calamitas), что и каждого. Поэтому я не нахожу другого способа, как только ждать у берега попутного ветра (secundos spectare in littore ventos).
По вышеизложенным причинам, больше может сделать половина войска с осени и зимой, нежели целое войско теперь летом: ибо у них (тогда) прекращаются все фортели, и Орда не может оставаться долго с ними; а когда не будет Орды, то мы всегда, по милости Божией, можем взять верх. Еще и то надо принять во внимание, что теперь великий голод. Огультаенное хлопство должно снова приняться за землю, или, не будучи задираемо, как этого решительно Хмельницкий желает, придумает себе куда-нибудь (добычный) путь. Через это могла бы эта вооруженная толпа как-нибудь поредеть и разойтись, а если нужен повод к войне, то у Речи Посполитой он есть всегда, лишь только она будет готова к войне. Если даже казаки пожелают оставить нас в покое, то поводом к войне может быть то обстоятельство, что этот мир не только не удовлетворяет нас, обиженных, но не соответствует и самой транзакции, учиненной с ними. Два важнейшие обстоятельства, именно: восстановление католического исповедания и такое подданство, которое бы приносило панам выгоду (poddanstwo z pozytkiem panom), не скоро могут войти в колею, потому что они — или совсем не хотят, или хотели бы мало давать податков, и быть в подданстве только по имени. Поэтому признаюсь чистосердечно (ingenue fateor), что такой мир мне не по сердцу, если его Господь Бог и самое время не исправят. Только теперь опять начать войну было бы, по моему мнению, крайне опасно. Вот почему я желаю, чтобы отечество, пользуясь временем, исправило то, что должно быть исправлено (tempore temperanda temperare)... и униженно прошу не приближать войска, чтоб не давать повода к враждебным действиям... иначе — мне и всем находящимся здесь обывателям ipso facto пришлось бы творить предсмертные обеты (vovere hostias). Если же ваша королевская милость пожелаете приблизить войско и, при первом поводе (data occasione), предоставить суду Божию то, что оскорбило Республику, не дожидаясь исправления — если только какое-либо исправление возможно в этих своевольных и одичалых подданных, — не дожидаясь даже времени, более благоприятного для наших дел; в таком случае нижайше прошу о том, чтобы, прежде нежели войско двинется в Украину, я, по какому-нибудь письменному повелению вашей королевской милости, мог оставить здешний мой пост, и чтобы дворянство не вдруг, а мало-помалу... могло уйти от опасности, которая захватит нас в ту же минуту, как только пойдет молва, что войско двинулось и идет в Украину».
Вместе с тем Кисель уведомлял, что к Хмельницкому прибыли с чем-то послы из Венгрии, Молдавии, Валахии: доказательство, что «сила этой черни и счастье Хмельницкого уважаются», заметил он, и просил уведомить его с возможною скоростью; должен ли он здесь укрепиться (fidere pedem), или же думать о бегстве? Не получая ни гроша дохода из своих заднепровских имений, не мог, однакож, он обходиться без ассистенции, так как постоянно находился среди опасности (obnoxius semper periculis), а при дороговизне съестных припасов, издерживал на нее не меньше двух тысяч злотых в неделю из своего жалованья; поэтому просил пособия. «Не получаю» (писал он) «здесь в резиденции ни гроша, провианту же трудно достать, потому что его нет, а силою трудно взять. Если подданные не хотят ничего давать даже своим собственным панам, то тем более — жолнеру».
Когда таким образом спокойные прежде обладатели Малороссии находились в положении колонистов среди свирепых дикарей, или — в положении безоружных завоевателей среди враждебных к ним туземцев, — две орды, магометанская и христианская, заняв своими кочевьями широкое пространство от черноморских берегов до Случи, были поглощены заботой о своем существовании насчет культурных соседей.
Не напрасно Хмельницкий говорил в прошлом году против московского царя «непригожие слова». Попав между татарского молота и польской наковальни, по милости юного самодержца, щадившего Речь Посполитую в её несчастном положении, не оставлял он и теперь мысли показать москалю, что только тот непобедим, кто «в своем подданстве имеет покорность Хмельницких».
С Польши было уже снято золотое руно: надобно было снять его и с Москвы.
Мысль эту возымел счастливый по милости Божией и милосердый соратник Хмельницкого, Ислам-Гирей. Когда паны выкупили у него своего заложника, Денгофа, хан писал к королю: «По благоволению, помощи и милосердию Божию, мы не имеем теперь никакого неприятеля, и на все стороны обретаемся в действительной приязни. Однакож, много беседовали мы с вашими послами о предметах, достойных беседы. О том же достаточно мы сообщили и Калиновскому. Посылаем с этим главного из наших слуг, Мустафу-агу. Ему поручили мы устно все, что есть в нашем сердце, — все наши намерения и мысли. Что вам он расскажет, то будут наши собственные слова, лишь бы только, выслушав хорошо это дело, пожелали вы начать. К какому времени собравшись, можете быть готовы? Об этом дайте нам знать через Мустафу-агу. Летом-ли, зимой ли, всегда мы будем готовы; ждем только вашего решения. То дело великое! Множество царств и королевств можете приобрести. О запорожских же казаках, если бы стали говорить вам, что противное, не верьте: казацкий народ, это ваши слуги и подданные. Куда бы вы ни задумали, всюду они пойдут охотно впереди вас. Они с нами договорились в том, что без нашей воли никуда двинуться не могут. Поэтому не наставляйте уха людским россказням. А чтобы наши дружеские письма были тем приятнее, посылаю Потоцкого, подарив ему свободу за здоровье вашей головы».
О «предмете достойном беседы» писал то же самое и ханский визирь к коронному, как выражался хан, визирю, Оссолинскому, присовокупляя, что поход в Москву разъединит казаков с оказаченными мужиками, которые, в их отсутствие, сделаются теми же панскими хлопами, какими были.
Возвращение Николая Потоцкого из татарского плена Кисель приветствовал письмом от 4 апреля, называя его отцом отечества и возлагая на него великие надежды, в противность собственному мнению о причине междоусобной войны и голосу шляхетского народа, который в популярном стихотворении обращался к нему с такой оценкою: «Напрасно взваливать несчастье на Бога: не за столом было яриться на казаков. Мы дома не можем ходить без чужой помощи, и хочем давать битвы в карете» [27].
Голоса тех, которые требовали отмены пожизненного гетманства, вопияли в пустыне. Какими средствами возвысилась Речь Посполитая, такими только могла и поддерживать себя. Зная это из Саллюстия, она боялась одной переменой подать повод к другим, то есть обнаружить негодность основ своих и пасть, в лице большинства панов, от внутренних причин скорее, чем она пала от внешних. Но не дряхлым подагрикам было стоять против бури, которая, в короткое время отсутствия Потоцкого, изменила лицо Польши до неузнаваемости.
«Не та rerum facies» [28], (писал к нему Кисель), «не те достатки, не та военная сила, но то же самое надменное и окровавленное нашим несчастием бешенство (ale taz infortunio nostro inflata i zajuszona rabies). Все мнения наши полны пусток, так что Украина едва в состоянии содержать стечение и сброд вооруженной черни (colluviem et congeriem armatae plebis). Увидите сами, в каком хаотическом состоянии находится она со стороны Днестра. Здесь на Днепре я сижу в тройной опасности: во-первых, чтобы Хмельницкий остался верен клятвенному слову, что обуздает чернь; во-вторых, чтобы чернь не возобладала над ним и не встала под новым главою (cum novo capite non recrudescat); в-третьих, чтоб наши не застучали в берег (zeby od nas w brzeg nie kolatano), и от нашего домогательства не поднялась буря... Мало-помалу будем осваиваться с нашими одичалыми подданными, довольные, на первый раз, одним признанием нашего хоть и бездоходного господства (z razu sola recognitione dominii, chociaz bez pozytku, kontenci)... Принизившись так, как мы принизились, не надобно давать повода к войне, а хана как можно секретнее (quam citissime) уведомить что мы все сделали для черни, а она для нас еще ничего, и дела обеспечить там... Теперь уже дело идет не о ремне, а о целой шкуре польской. В крайнем свирепстве черни, и потому в крайней опасности Республики, крайние средства не уйдут от нас... За Днепр поехало много братьев (шляхты), хоть я и не советовал: жестокая стрела бедности и нужды не взирает ни на какие опасности (durum telum egestatis et necessitatis nec periculo respicit). Мои слуги, перед сеймом, введены туда по великой де благосклонности, но до сих пор они там гости, а не хозяева».
В заключение письма, Кисель говорил и что теперь в Варшаве великий посол царский, и что он советовал бы послу, глядя на Польшу, не подвергать Москвы такой же опасности, и лучше держаться с панами, нежели с мужиками... Но и паны, и мужики так хорошо зарекомендовали себя перед москалями, что царскому послу трудно было решить, которое из двух зол меньшее.
Умудренный горьким опытом, Кисель оставил, наконец, свой оптимизм относительно земляка и приятеля, Хмельницкого. Из легковерного политика он превратился в печального историка, и письма его вносят много света в туман, которого напустили в тогдашние религиозные, социальные и национальные соотношения наши украиноманы да казакоманы. От 6 мая он писал к королю из Киева: «Хмельницкий велел собраться под Полтавой на ханскую службу (na usluge hanska) по триста человек отборных казаков из каждого полка, о двуконь каждый, к 26 мая по старому календарю. Будет этого войска 6.000... Из этого видно, что татары от казаков не оторвутся. Они не только вместе живут и кочуют, но и войска взаимно друг другу посылают... И на этой неделе был от хана посол в Чигирине с предложением и подарками. Приветствовали его пальбой из пушек, и отправили также с подарками. Посольство заключалось в двух пунктах: первый — домогательство Порты, чтобы Хмельницкий удерживал от моря донских казаков, на что он согласился, и тотчас послал на Дон письмо. Второй пункт: просьба хана о помощи ему против черкас... [29] С обеих сторон полюбились друг другу (zasmakowali sie w sobie), живя добычей и грабежем (praeda et spoliis gentes nutritae): вошли во вкус соединенной силы (zasmakowali sobie conjunctum robur)... Все Заднеприе оставлено без реестровой ревизии. Хотя реестры и составлены, однакож, казаки по-прежнему лелеют (fovent) при себе всех до святок... Бунтуют под предлогом религии... Хотя Хмельницкий и усмиряет чернь жестокими примерами, но карает меньших, а старших преступников не замечает, или, ударив по карману, выпускает. Так недавно поступил он с Нечаем, который наделал много зла. Обещал мне, что казнит его смертью, а потом выпустил, взявши тысяч 15 и оправдываясь тем, что будто бы его отпросили ханские послы».
В письме к Потоцкому о брацлавском полковнике Нечае Кисель писал, что нет большего бунтовщика в Украине. По отъезде Хмельницкого из Киева (рассказывает Кисель), он оставался здесь две с половиною недели, уведомил очаковского бея, кочующего в Диких Полях, что с ляхами нет мира, и просил прислать ему 2.000 татар. Орда пришла к Брацлаву, и, не найдя там Нечая, вернулась в свое кочевище, но множество людей обезглавила, в том числе и одного шляхтича, захваченного в доме. Узнав об этом, Хмельницкий поклялся снять голову Нечаю, и послал за ним, но так как Нечай человек богатый, то его ставят наравне с Хмельницким».
По всему этому Кисель советовал королю не обеспечиваться татарским предложением, не приближать войска к границе, в избежание драк, а написать к Хмельницкому, чтоб он, согласно Зборовскому договору, возвратил на хвалу Божию костелы, вывел казаков из-за линии, не принимал в казаки сверх реестра, привлек подданных к повиновению панам, да еще, чтобы Нечай, за призвание Орды, был казнен смертью. Свое положение в Украине изображал Кисель так, — что, «въехав между гадов и пригасив огонь бунта, живет он, как Овидий, среди ежеминутной опасности, не удостоиваясь ни похвал, ни порицания, ни подкрепления... Всюду полно бунтов» (писал он), «отовсюду получаются страшные вести, из Самуилова, Котельни, Винницы и пр.»
Для отвращения грозившей польскому отечеству беды, почтенный Свентольдович пытался свалить ее с больной головы на здоровую, и забывая о своей православности по примеру Хмельницкого, поджигал его к войне против Москвы. «Так как Москва» (говорил он в пунктах своих переговоров с Хмельницким в Черкассах, 20 июня), — «так как Москва не хочет дать казакам надлежащей дани (dani nalezauej dac nie chce), и еще домогается у короля правосудия, то чтобы просил хана помочь им».
Хмельницкий отвечал, что пошлет к хану, и, без сомнения, Орда придет к казакам: ибо, по договору с ними, хотя бы хан сам и не пришел, то должен послать нуреддин-султана со всем войском. Желал бы, однакож, чтобы король обеспечил за собой Орду особенным обязательством (osobliwym obowiazkiem): а то Москва отторгнет ее подарком, так как Орда на подарки падка.
«Если бы пришлось воевать с Москвой» (спрашивал Кисель), «то с какой стороны, по его мнению, следовало бы напасть на неприятеля»?
Хмельницкий отвечал, — что, «соединясь с татарами там, где Муравский Шлях притянул к Северщине и называется Свинною Дорогою (Swinia Droga), куда Кисель, будучи послом, шел от границ к столице, тем шляхом идти и, широко распуская загоны, не мешкать у замков: они потом будут того, чья будет земля.
На вопрос: нужно ли ему сколько-нибудь польского войска? Хмельницкий отвечал:
«Нам с татарами не долго собираться в поход, а польское войско наделало бы великого шуму. С этой стороны достаточно будет казаков и татар, только чтобы казаки были уверены в безопасности домов, жен и детей».
А какую бы пору избрал он для войны? спросил Кисель.
Хмельницкий отвечал, что татары пойдут не раньше жнив, когда выпасут лошадей.
Но это в наступательной войне, в оборонительной же надобно тотчас войску Запорожскому пересунуть (przesunаc) за Днепр; а московских послов задержать до тех пор, пока не будет все устроено к походу.
«По этим пунктам наших переговоров, Хмельницкий, кажется, искренно желает в настоящем деле служить королю и Речи Посполитой», замечает в своем донесении Кисель, и присовокупляет несколько благих советов. Если решится король на войну с Москвой, то чтобы при письме к Хмельницкому послать какую-нибудь тысячу червонцев и короткий креденс от королевы, дабы его тем больше заохотить, обязать и утвердить: «ибо» (писал Кисель) «наше нынешнее положение таково, что на которую чашку весов он обратится, та и перетянет. А что сказал он о падкости татар на деньги, то таков и его дух (tenie jest i jego geniusz)».
Кисель советовал не допускать московских послов до разговоров с послами казацкими, так как хмельничане домогаются от Москвы дани (ze siе u nich upominaja о kazni) и забирают у них пасеки.
Он советовал народность и религию русскую (genlem et relionem ruska) сохранить в величайшем спокойствии, так как Хмельницкий намекнул, что, идучи на эту службу, хочет потребовать возвращения церковных имуществ и владычеств русских dе facto.
Наконец, он советовал прислать Киевскому и Браиловскому воеводствам королевские универсалы, чтобы все вели себя как можно скромнее, сообразно времени (tempori serviendo), а из домов не уходили. Кроме того, советовал Кисель отсрочить в этих воеводствах трибунальские дела до более спокойного времени: ибо, под предлогом выезда на трибунал, паны уезжают из Украины, а уезжая, подданых обдирают без всякой меры (poddanych bez res pektu zdzieraj).
У Яна Казимира не было ни ума, ни совести, ни чести. Любезнейшее из иезуитских чад и орудий, он был готов на всякую войну и на всякий мир безразлично, по вдохновению минуты. Так он отнесся и к предложению Ислам-Гирея. Посылая к хану с секретным наказом дворянина своего, Бечинского, он поручил ему переговорить, по пути, с мультянским господарем, Бессарабом, которого уведомил письмом, чтоб он дал Бечинскому «полную и несомненную веру» во всем, что он скажет от королевского имени.
В вопросе о Московской войне, на короля действовал Потоцкий, которому с этою целью хан даровал свободу. От 26 августа Ислам-Гирей снова писал к Яну Казимиру, и говорил уже прямо, что о московском деле много толковал с его коронным гетманом.
При этом жаловался, что донские казаки сделали морской набег несколькими чайками и увели много крымских подданных в неволю. Хан довольно комически претендовал на предъявленные Москвою королевскому правительству требования. «Ваше оскорбление» (писал он) «есть наше оскорбление. Мстя не столько за свою, сколько за вашу обиду, мы посылаем 27 августа брата нашего, султан-калгу, на Москву». Он советовал, посредством литовского войска, овладеть пограничными московскими городами. «Мы очень сильно уповаем на милосердие Божие» (говорил, точно католик, Ислам-Гирей), «только чтобы вы, поручив себя ему, стояли мужественно. Не о себе мы думаем, а о том, чтобы сделать вам добро. Мы удовольствуемся завоеванием своих единоверцев (казанцев и астраханцев), а вы, сколько добудете христианского царства, то будет ваше. В нашем сердце нет никакой хитрости. Что я в начале с вами под Зборовым постановил, от своего слова не отступлю».
Бесхитростный хитрец умел задеть в пустом сердце Яна Казимира самую чувствительную струну. Выродку норманских завоевателей было приятно думать, что он, по проложенной братом Владиславом дороге, стяжает себе в Московском Царстве славу великого полководца, и бедствиями своих соседей осчастливит бедствующую Польшу. Но его, как и всех поляков, путал наш старый Хмель, обвиваясь кругом своими цепкими завитками. После совещания с Киселем в Черкассах о разорении православного царства в пользу католического и мусульманского, он возмутил благочестивые помыслы Адама Свентольдовича непонятною выходкой.
В Чигирине появился посол турецкого султана, Осман-ага. Привезли его из Очакова. От оказачившихся шляхтичей Кисель узнал, что «турецкий цесарь» говорил о Зборовском мире: «Не может этого быть, чтобы ляхи не мстили казакам», и насоветовал Хмельницкому вести с ними войну, а он дает ему 100.000 войска на целый год и обещает представить казакам «провинцию», где они будут совершенно свободны, «как люди шляхетского народа». Хмельницкий отвечал, что давно желал этого и в таком смысле писал к султану, но что волошский господарь, как изменник цесаря, перехватывал их и посылал в Польшу.
Турецкое посольство перестроило все планы Хмельницкого: оно вдруг освобождало его и от молота и от наковальни, между которых он попал под Зборовым. Турецкий цесарь повелит хану кончать с ним ляхов, как теперь хан повелевает ему щадить их. С помощью турок он будет силен всем татарским ордам, и сделается таким ханом, как потомок Чингиса.
Так ли он думал, или как-нибудь иначе, только недавний союзник Польши против Москвы заговорил с благочестивым своим советником, Свентольдичем, по-неприятельски. Теперь де посажу на господарстве Моисея Могилу (Петрова брата и по имениям наследника), да не только Польскую Корону, и Рим отдам цесарю!
В это время прибыли к нему послы от краковского воеводы, князя Владислава Заславского, и от калусского старосты, молодого Яна Замойского, с разными ходатайствами. Он пригласил их к обеду, выслушал каждого внимательно, и, после разных бесед, сказал кротко: «Ни король, ни Речь Посполитая не может принудить меня ни к чему: бо я соби вольный, и буду служить, кому захочу. Верный у меня помощник Турецкий царь, наш милостивый пан, также и царь Московский, а все орды присягли мне. Не только Польскую Корону, но и Римское панство кому захочу отдам в руки, а всем панам не пущу маетностей, пока не выдадут мне Чаплинского. Если ляхи точат (строят) обоз, то и я пускаюсь тотчас же (в поход), а те, которые там живут, первые поплатятся жизнью за свой лагерь».
Вот какие вещи говорил он кротким голосом, и голос этот был ужаснее того рева, который в Переяславе заставлял дрожать на панах шкуру. Хмельницкий чувствовал себя сильным не только ляхам, не только татарам, но и своим детям, друзям, небожатам с их Перебийносами, Джедтахлами, Нечаями.
На другой день (рассказывает безымянная реляция) ездил Хмельницкий на проездку. Кто знает, что выражала проездка у такого человека? Может быть алкающую мщения ревность к тому, кто смел с таким крупным зверем спорить за самку. Может быть, его томил избыток гордых замыслов; а, может быть, на проездку вызывало чувство свойственной кровавому злодею тоски, отводимой только новыми кровавыми замыслами. Проездившись (говорит реляция) Хмельницкий пил с Дорошенком, своим гарматным писарем (братом известного наследника его туркомании, Петра).
Варшавский Аноним, представляющий такое же эхо слухов, занимавших Польшу в то время, каким для Москвы был Кунаков, рассказывает, с признаками реальности, о том, что заставило казацкий вулкан извергать зловещий пламень, предсказывавший новые пожары и новые реки человеческой крови. Осман-ага привез Хмельницкому от султана турецкую саблю в дорогой оправе, знамя с изображением полумесяца, золотую гетманскую булаву и титул Украинского князя. Султан желал, чтоб он взял Каменец-Подольск и отдал туркам в знак верности (как это сделал через 22 года Петр Дорошенко). Хмель был готов на этот подвиг и, для вернейшего успеха, просил Осман-агу сохранить его обещание в тайне. Но каким-то путем разнесся слух, что он говорил султанскому послу: «Тут польские послы шпионничают и подбивают меня к войне с турками, но я скоро их отправлю ни с чем, а неприступную крепость Каменец захвачу врасплох». Потом де пригласил Осман-агу, человека трезвого, на попойку, пил за здоровье Турецкого цесаря огромными кубками, и ничего не опустил для удостоверения турка в искренней своей дружбе.
Узнав об этом (рассказывает Аноним), Адам Кисель едва не умер с горя, что он уверял короля в искренности Хмельницкого. Адам послал к нему своего брата Юрия, черкасского старосту. Хмельницкий встретил Юрия Киселя словами: «принял я протекцию Турецкого царя», и «хвалился безбожным делом» (пишет Аноним), «как будто чем добрым».
Свидетели этой сцены (продолжает он) были делегаты разных панов с подарками, которыми они надеялись смягчить его и выпросить своим панам дозволение возвратиться в украинские маетности. Юрий Кисель весьма красноречиво убеждал Хмельницкого бросить неверного и коварного турка, но его красноречие подействовало на Хмельницкого, разгоряченного вином, так, что он велел всех панских послов и самого Киселя повесить, как шпионов. Но Выговский, вместе с бывшею Чаплинскою, отсрочил казнь до утра и, по выражению Анонима, «апеллировал от пьяного к трезвому». Хмельницкий извинился перед жертвами своего русского единовладничества и самодержавия словами: «Вчора я з досады впивсь и здурив». Но тем не менее отправил Осман-агу, на зло ляхам, торжественно, причем было сказано: «от гетмана и князя запорожского Турецкий цесарь принимается за найвысшего пана, протектора» и т. д.
«Так то Хмельницкий исполнил Зборовский договор!» (восклицает совершенно по-католически Аноним): «ему лучше быть бисурманом, нежели униатом».
Рассказ Анонима подтверждается лаконическою реляциею, в которой сказано:
«Напившись с Дорошенком, велел он утопить ляхов. Сама упросила. Проспавшись, он и сам раскаялся».
«4 августа» (продолжает безимянная реляция) «прибыл к нему ханский посол с требованием (woiajac) идти в Московщину со всем войском, и чтоб 26 августа стоял на границе, куда и султан-калга двинется с Ордою... Теперь разосланы всюду универсалы, чтобы все готовились к войне, не только реестровые, но и охочие, только неизвестно, к какой».
До приезда Осман-аги, не знал и сам Хмельницкий, к какой готовиться ему войне.
Заварив «с ляхами пиво», он должен был пить его до конца, и для того, чтоб уцелеть на кровавом пиру бросался в противоположные крайности.
Страна, еще недавно представлявшая возможность богатеть мещанам и жить изобильно в хлебах, скоте, пасеках селянам, сделалась теперь голодною не только для отверженных землевладельцев, не только для казаков-реестровиков, но и для оказаченных пахарей, которые волей и неволей перестали быть хлеборобами. Видя, что ему не сдобровать среди раздраженной убожеством черни, Хмельницкий нашелся вынужденным изобресть новую войну с кем бы то ни было и за что бы то ни было, лишь бы привлечь к себе завзятых новой мечтой о добычном промысле, сделавшемся почти единственным в Малороссии.
До нас дошла песня, вспоминающая Хмельнитчину и характеризующая чувства хмельничан, пропившихся, голых и голодных:
Ой спав пугач на могилу Та й крикнув він пугу! Чи не дасть Бог козаченькам Хоч тепер потугу? І день і ніч войни ждемо, Поживи не маєм: Давно була Хмельниченька, Що вже й не згадаєм...Казак был подобен пугачу, падающему на степной курган с голодным, отчаянным, зловещим для многих криком пугу! Его потуга, то есть сила, обновлялась войною, которой он ждал день и ночь для поживы. Война прежде всего и после всего предпринималась из-за добычи, прославлялась ради добычи и переходила из рода в род, как память о добыче. С отчаянием, как голодающий на степных могилах коршун, напевает и теперь еще казацкий потомок свою жестокосердую песню:
Ой колись ми воювали, Та більше не будем! Того щастя й тої долі По вік не забудем.Казацкие историки, поэты и публицисты внушают своим читателям, что казаки воевали за православную веру и русскую народность. Но казак, в своем добычном промысле, не разбирал вер и народностей, как и татарин. Он был готов идти на москаля, как и на турка, — «идти на грека, серба, волоха, как и на ляха. Лучшей славы для него не было, как устрашать все народы и грабить их имущество.
Что касается Хмельницкого, то, не говоря уже о его мстительности за батьковщину, за коханку, за посягательство на его жизнь, — в настоящем своем положении, он бы не призадумался погубить весь мир для спасения себя от раздраженной толпы, — погубить и самих сподвижников своих, как это предлагал Наливайко Сигизмунду III. Предательская Наливайкова мысль вертелась и у него в голове, как это мы видели из его бесед с Киселем.
Миновало уже для малорусского поджигателя время, когда он, по словам кобзарской думы, взывал к оказаченной черни:
Ідіть ляхів та жидів з України зганяти, Дак будете собі мати — Хоч на три тижні хорошенько по-козацьки погуляти.Погуляв столько, насколько хватило кровавой добычи, усыновленная злобствующим шляхтичем голота хотела гулять по-казацки бесконечно. Напрасно батько Богдан воспрещал своими универсалами бунты и неповиновение панам, напрасно грозил своевольникам жестокими казнями и приказывал полковникам казнить на месте всех, кто окажется виновным, а некоторых сорвиголов казнил при себе в Киеве. Он очутился в положении Нерона, принуждаемого злодействами к поступкам добродетельным, а добродетельными поступками — к злодействам. Хмельницкий сделался таким чудовищем, что даже его достойный биограф и панегирист написал о нем: «Имя его, которое до того времени произносилось с благоговением русскими, стало у многих предметом омерзения».
В свою очередь, охраняемые Хмельницким землевладельцы не могли чувствовать себя безопасными среди народа, который даже казаков заставил быть его судьями и карателями. «Наше примирение пахнет рабством для самих нас», говорили паны.
Обширные имения были их собственностью только на словах, на самом же деле составляли кочевья номадов, у которых не было других бесед, кроме воспоминаний о спущенной с рук добыче и надежды на новое обдиранье панов и жидов. Жадным ухом прислушивались казаки и мужики к рапсодиям своих Гомеров:
Як почали діти, друзі, небожата Жидів та ляхів з України зганяти, До в которого не було драної кожушини, До й той надів жидівські кармазини. Хорошенько вони собі по-козацьки походжали, Та ще й по кишенях срібні гроші мали. А пан Хмельницький, Житель чигиринський, Козак лейстровий, Писарь військовий, До города Полонного прибував, Та старими жидами орав, А жидівками боронував, А которі бували малі діти, До він їх кіньми порозбивав.Мечты кровавые сменили у этого народа заботы о семье, о доме, о земледельческом и промышленном благосостоянии. Стоило только ему перейти от своей природной угрюмости к пьяной песне, — он воспевал резню да побоища:
Ой не встиг же казак Нечай На коника спасти. Та й став ляхів, вражих синів, Як снопики класти. Оглянецця козак Нечай На правую руку, Не вискочить кінь лицарський Із ляцького трупу. Озирнецця козак Нечай На лівеє плече, За ним річка кривавая По долині тече.Или о Морозе Морозенке:
А в нашого Морозенка Червоная стрічка: Де проїде Морозенко, Там кривава річка.Или о Кривоносе — Перебийносе:
Перебийніс просить немного — Сім сот юнаків з собою, Рубає мечем голови з плечей, А решту топить водою: Ой пийте, ляхи, води калюжі, Води калюжі болотяниі, А що пивали по тій країні Пива та меди ситнії!Жутко было панам в Украине внимать подобным песнопениям. Не дожидаясь появления в своих дедовских усадьбах воспеваемых Нечаев, Морозенков и Перебийносов, они перебирались в менее оказаченные местности и, покидая земледелие, готовили военные снаряды. А те, которые не потеряли еще надежды устоять на поприще предковской колонизации, составляли клятвенные союзы между собою с обязательством собираться в назначенное киевским воеводою место по первому зову, и грозили тем, кто не явится, лишением чести и имущества, которое предоставляли в распоряжение короля. «От исполнения этой обязанности» (писали, они) «не может отговариваться ни арендатор, ни заимодавец: арендатор лишится своей аренды, а заимодавец данных в займы денег».
Между тем Хмельницкий раскидывал умом во все стороны, как человек, стоящий на скользкой вершине и готовый ухватиться за всякую опору, хотя бы даже и за самую гнусную. Турция была готова поддержать его, чтобы шагнуть в Христианскую землю за реку Турлу [30] и поставить ногу в Подольском Каменце. Венгрия радовалась его успехам в войне с панами, и молодой Ракочий метил на польский престол, до которого смерть не допустила его отца. Волошский господарь, Лупул, колебался между казацким террором и панским покровительством. Татары были недовольны султанскою протекцией над завоеванными ими под Зборовым казаками, но татар можно было купить новым зазывом на грабеж нетронутых еще панских имений. Одна Москва стояла в молчаливом и таинственно-грозном величии. Если пылающие местью паны соединятся с Москвою, да еще поумнеют настолько, чтобы подавить своего короля в пользу диктатуры Вишневецкого, тогда вся политическая сеть казацкого батька порвется, как паутина. Надобно было, во что бы то ни стало, ссорить Москву с Польшею, — и Хмельницкий, опомнясь, пока еще не было поздно, перестал грозить сидящему на Москве, а свое намерение идти вместе с Ордой на Свинной Шлях превратил в политическую демонстрацию. Он стал уверять москалей в невозможности подобного покушения со стороны татар и, в доказательство своей преданности царю, сообщил в Москву оскорбительные для неё сочинения, печатанные поляками.
Москва, как мы видели, имела уже причины гневаться на панов-рады, высокомерных перед нею даже в своем уничижении. Теперь у неё были новые причины к нарушению доброго согласия, которым паны не умели пользоваться.
В Сентябре 1649 года приезжал к царю великий и полномочный посол польского короля, Добеслав Чеклинский, для заключения союза против татар и казаков.
Чеклинского и его свиту приняли в Москве не совсем радушно, а о взаимных интересах обещали переговорить через нарочитых царских послов, которые де не замедлят прибыть в Варшаву.
Действительно, в октябре того же года, царь послал в Варшаву своего гонца, Кунакова, с уведомлением, что вслед за ним прибудут царские великие и полномочные послы; а между тем Кунакову было наказано собрать сведения о состоянии Речи Посполитой. На Посполитую Речь монархическая Москва смотрела, как на третью после Новгорода и Пскова республику, которую, ради собственного спокойствия, должна она уничтожить, вместе с её ублюдком — республикой казацкою.
Кунаков при царе Алексее Михайловиче был то, что при Иоанне III были Товарюковы да Бородатые, предвестники покорения так называемой народной державы — Новгорода. Из первого принадлежавшего тогда Польше города, Дорогобужа, он донес царю, что ему «против первого звычая, чести никакой не учинено, и поставили его в самом убогом, нужном дворишке, на всполье по Смоленской дороге», а на его протест дорогобужскому наместнику получен такой ответ: «Какова де нам на Москве почесть была, такова де и вам зде». Приставом к царскому гонцу наместник приставил «самово худово человека, плутишка и табашника», которого Кунаков, после расспроса, «велел от себя сбить со двора», и объявил наместнику, что «такому худому человеченку у него, царского величества гонца, в приставех быть не годитца».
В Смоленске Кунаков был принят еще оскорбительнее. Его заставили простоять среди улицы на морозе конец дня и до 5 часов ночи. Не правительство было в этом виновато; но Москва тем не менее была оскорблена. Кунаков, выведав дело у челядника подвоеводия, Петра Вяжевича, доносил, что «Петр Вяжевич в Смоленску велел его, гонца, держать на морозе и на грязи, и бесчестить велел, сердитуя на то, что на Москве литовским купцам не поволено было табаком торговать, а он де, подвоеводье (принадлежа к свите Чеклинского) язнулся было тех литовских купцов обогатить табачною торговлею на Москве паче того, как их табачною продажею обогатил наперед сего королевской же посол, Гаврило Стемпковской, и имал де их, купцов, ныне Петр Вяжевич в Москве, похвалялся о том с клятвою, и от того у них поимал многие гроши; и которые де на Москве табаком не поторговались, и те, приехав в Смоленск, приходили к подвоеводью, к Петру Вяжевичу, с большою докукою, и по ся места ему докучают, чтоб гроши взял он, которые Петр с них, купцов, за посмех, им вернул, потому что табаку они на Москве не продали. Да и у них де у всех Петра Вяжевича у слуг и у челядников табак был на Москве многой, и на Москве де они будучи, продали табаку немного. А как литовские послы отпущены с Москвы назад, и они де многой табак продавали едучи с Москвы и из Можайска в дороге и на стане многие люди. Да и дворяне королевские табак возили к Москве на продажу многой».
Вот с каких мелочей начинаются события, называющиеся, по своей крупности, историческими. Причиною нанесенного царскому гонцу оскорбления был не столько холодный прием в Москве великого и полномочного посла, Чеклинского, сколько неудача подвоеводия Вяжевича в табачной торговле. По приезде в Варшаву, Кунаков протестовал перед панами-рады в следующих выражениях:
«О моем приезде подвоеводою было ведомо задолго; а приехал я к Смоленску с приставом своим против прежнего звычая, и как учали въезжать на мост с городские стороны, чтоб проехать через мост на посад, и из города, из Королевские брамы, вышли порутчики и гайдуки с обухами в десять человек, и спросили, будто неведая: кто и куда едет? И пристав им сказал, что великого государя, его царского величества, гонец к королевскому величеству. И те поручики приказали, чтоб он меня поставил на улице, а на мещанские и ни на чьи дворы, без повеления подвоеводия, Петра Вяжевича, не пущал. И я, переехав мост, и приехал к мещанскому двору, где наперед сего яж и иные великого государя нашего, его царского величества, гонцы стаивали. И пристав остановил меня среди улицы на морозе и на грязи, до ночи годины за две и, оставя меня одного, пошел в город к подвоеводью. А дворы мещанские все были заперты. И потом вскоре подвоеводье, Петр Вяжевич, выслал из города бесчестить меня пахолков своих, и те пахолки, а с ними мещаня табашники, оступя меня на улице, бесчестили и лаяли многое время, и говорили: Добро б де подвоеводье учинил, чтоб камень на шею да с мосту в Днепр! А припоминали то, что у них на Москве табаку покупать было заказано».
Кунакова задержали в Дорогобуже три дня, в Смоленске четыре дня, в Орше шесть дней, и всюду слушал он ругань и упреки за то, что в Москве не было дозволено литовским людям торговать табаком. Выехав из Орши к Борисову, царский гонец испытал со стороны Вяжевича новое оскорбление. Вяжевич проехал в Варшаву, обогнав Кунакова на стане в Бобре, и устроил ему такую неприятность.
В третьем часу ночи, к господе, где гонец с приставом своим стоял, пришли Юрьева полку Тизнауза рейтары, Реймер да челядник его, Воравский, со многими людьми, и учали ломиться в ворота пьяны. И пристав на господу их не пустил; и они гонца и пристава лаяли и похвалялись грабежом и убойством, и приступали к воротам и к окнам всю ночь с саблями и из пищалей стреляли, и посылали по драгунов и по петарды. А гонец с приставом и с людьми своими, пристроя ружье, сидели в избе. А жид с женою и с детьми, у ково гонец стоял, видя такую от рейтар страсть, с двора бежали, пометав все свои животы».
Подобно тому, как нелепая ссора Хмельницкого с Чаплинским зажгла внутреннюю войну, бессмысленное нападение Важевича на царского гонца повело к войне внешней, и все потому, единственно потому, что горючие материалы были нагромождены в Польше и в Москве издавна. Недоставало только искры для воспламенения. С одного края польских владений запылал гибельный пожар из-за темной кокетки, которая вскоре была заподозрена в новой связи и погублена тем же Хмельницким, а с другой — готова была возгореться война между двух государств, по выражению панов рады, «за такую хлопскую штуку, за табак». Но если бы не было ни пограничной прелестницы с её завзятыми любовниками, ни табачной контрабанды в Москве под прикрытием посольства, — тысячи других мелких случаев привели бы прожитую двумя государствами жизнь к тому же самому результату.
Каждому народу, обществу и государству предстоит считаться в будущем за свое прошедшее. День судный рано или поздно настанет, и в этот судный день подведется силою вещей итог былого, — помянется не только всякое злое дело, но и всякое праздное слово. В придачу к своим злодеяниям, Польша наговорила о Москве много праздных слов, не только дома, но и за границею, — не только через посредство таких лаятелей, как смоленские пахолки да мещане, но и через посредство таких Цицеронов своих, как Оссолинский. А слова эти падали ядом на русские раны, еще не закрывшиеся со времен оных. Теперь наступил международный суд как за все памятное, так и за все сокрытое в забвенных могилах.
Добытые Кунаковым в Литовской стороне и в Польше сведения соответствовали традиционным взглядам Царской земли на безурядную шляхетскую державу. Не только ради воздаяния за меру мерою, но и ради своего спасения от новых покушений исконного врага на государственную pyccкую жизнь, должна была Москва возиметь виды на бессмысленную, по её воззрению, республику с королем во главе, или вернее — во хвосте. Как Новгороду и Пскову суждено было войти в систему российского государства, так неизбежно и необходимо следовало Польше с ополяченною Литвою дополнить замкнутый морями круг русских владений. «Москва волей и неволей расширяется»: эти слова Конецпольского предсказывали разлив России не только по обоим берегам Днепра, но и обоим берегам Вислы.
Кунаков, как бы в pendant с полученными в Москве вестями о малорусском голоде, доносил, что Дорогобужский уезд и порубежные места полны «прихожими мещанами и пашенными мужиками», которые беспрестанно идут к московской границе из польских и литовских городов «от голоду»... «А сказывают» (писал он), «что в тех местах хлеб не родился, а достальной де хлеб пограбили у них шляхта и жолнеры, и в польских, и в литовских городех от голоду бедные люди помирают, да и в Дорогобуже хлеб не родился, и ныне московскую четь ржи купят больши двурублев».
Потом он доносил царю, что в Дорогобужском уезде 300 человек мещан и холопей пошли в его государеву сторону ко Брянску, — что за ними была погоня, но не догнала до рубежа. «А к зиме» (продолжал он) «зговариваютца холопи и ссылаютца, и чаять что будет в государеву сторону больши 10.000 человек, только де иные пойдут от хлебного недороду, пометав жены свои и детей; а ныне поборы большие с пашенных мужиков: со всех без обходу правят по рублю, а говорят, что будет и больши того».
Это были многозначительные данные для хозяйливых царских советников. Не меньше важно было и следующее известие Кунакова.
«Паны-рада литовские с корунными в розни за то: литовские говорят, что они казакам никакие налоги не делали, а налога им учинилась и кровь многая разлилася от корунных, и ныне в том шкода учинилась всей Речи Посполитой; и на сейме де они, литовские, о том радить не будут: как они о том хотят, так пусть и делают. И боятся, что за тем сейм не окончится, и они чают войны; паче прежнего».
Независимо от пререканий с Литвою, Варшава была крайне недовольна Зборовским договором. Паны, тормозившие сборы короля в поход, удовлетворились бы только совершенным поражением неприятеля. Держа в руках договорные пункты, не хотели они слушать сочиненных иезуитскою факциею рассказов о подвигах, которые отвели Яну Казимиру почетное место между польскими полководцами, — рассказов о том: как во время похода шел он посреди войска, в пыли, под ветром, под дождем; с каким самозабвением водил он то одну, то другую часть войска в огонь; с каким жаром и величием обращал смущенных ротмистров к исполнению долга, восклицая к жолнерам: «За мной! я вам ротмистр»! Зная короля за границей и дома, в монашеском и светском звании, вельможные доматоры относились к деланной молве недоверчиво и находили заключенный королем договор позорным; а вельможные шалуны преследовали его в Варшаве пасквилями, наклеивали их на стенах, пели на улицах и даже на придворных празднествах, дававшихся по случаю победы над казаками и татарами. Королю советовали отыскать людей, которые не только позорили его, как государя, но представляли в унизительном виде и его домашнюю жизнь. Но Ян Казимир боялся публичной обороной вызвать на свет многое творившееся в потемках.
Ангелы хранители его распустили слух, будто бы он припомнил своим советникам замечание Тацита, писателя слишком для него серьезного, — что оскорбительная клевета теряет свою силу, когда ею пренебрегают, и внушает себе веру, когда на нее гневаются.
Как бы то ни было, только политическое развращение, усилившееся при Владиславе IV, приняло характер истинно зловещий при его брате. Панская республика покарала сама себя, низведя королевское достоинство с благотворной высоты его и облекши священным саном столь недостойную личность. Каков бы ни был Ян Казимир по своим умственным недостаткам и по своим сердечным порокам, но они были слишком явственны во время решения вопроса: кому царствовать в Польше? Теперь панам осталось только повторять нашу малорусскую пословицу: «бачили очі, що купували: їжте, хоч повилазьте».
Справедливо, или нет оценивал Кунаков силу сопротивления некогда грозной Польши, в случае, когда бы решено было покарать ее за все грехи, но из его донесений видно, что москали не высоко ценили теперь польскую воинственность. Эпоха царя Алексея Михайловича была началом усовершенствования московской рати, доконченного Петром Великим. Побитые под Смоленском царские люди озаботились лучшим устройством полков своих. Сами поляки, по словам Кунакова, говорили, что «ныне Москва стала суптельна и час от часу суптельнейши, и райтарского строю войско устроено ныне вновь — многие полки: также и на (московской) Украине все люди разного строю навычны, изучены вновь, чего перед тем николи не бывало; а жолнеры только свое панство плюндрують, а от казаков всегды утекают, нигде против них не стоять».
Польшу смущал страх новой войны с казаками. По донесению Кунакова, польские торговые люди твердили, что договор Хмельницкого с королем не крепок, а паны, — что «вечное докончанье с московским царем не подкреплено за пьянством и за табачною торговлею королевских великих послов. А ныне де король в обозе под Зборовым, поневоле, вечное докончанье с царским величеством нарушил: позволил крымскому хану через Польское и Литовское панство с войском ходить, куды ему будет потреба, и на том де король и присяг; а Крымскому де хану, опричь Московского Государьства, с войском своим через Королевское Панство ходить некуды. И только де то ведомо учинился царскому величеству, и по той де причине и с Московскую Сторону война. А есть ли де с войском царского величества съединится Богдан Хмельницкой, и то де крайняя Речи Посполитой погибель... Королю де и паном-раде от него отстояться будет не уметь, так же как и ныне в обозе Крымскому хану на всем его позволенье поступлено поневоле. А Хмельницкой де с ним одной веры; а Польша де ныне, за злым панским несогласьем, утрачена и войска польские и литовские побиты от казаков и от своих холопей многие, а достальные обедняли и устращены... Да у них же в Панстве от хлебного недороду голод, и им отовсюду стало тесно. А на сейме меж панов-рад и поветных послов добрые згоды нет: лише де паны рада вдались в пыху да в лакомство и в лупежство; а вперед себе и Речи Посполитой ничего не прочат. А духовенство де наипаче скарбы себе збирають и ни о чем добром не дбають, и грошей своих для покою Речи Посполитые нисколько дать не хотят... А польские де и литовские бискупы и кознодеи по волшебным книгам дочитываются: сего де пришлого 1650 року будет знаменье — два затменья в солнце и два затменья в месяце; и то де досвеченая речь, что то все на погибель Речи Посполитой, и одолеет де в Польше и Литве Римскую веру Грецкая вера вскоре. И та у них речь обносится во всех людех, и от того де наипаче в Польских и в Литовских людях ужесть Великая».
Все это были уличные и трактирные росказни; но эти россказни организовались в общественное мнение народа под влиянием разнообразных событий. Кунаков пытал по-своему духа народного, и видел, что польский дух падает перед русским. С такой точки зрения, достойны нашего внимания и следующие вести, сообщенные гонцом царскому правительству:
«Да у них же обносится речь, что Богдан Хмельницкой писал ныне к царскому величеству, чтоб Киев и всее Белую Русь и его Богдана со всем войском изволил великий государь, его царское величество принять под свою государскую высокую руку. Да Богдан же де Хмельницкой ныне в ноябре месяце писал к Крымскому хану, что Польского и Литовского народу вязней всех постинал, без всякого пожеленья, и не учинил бы того, что, для пожитку своего, ково из них живить: а даст де Бог в пришлую весну может он Польского и Литовского народу вязней наймать втрое того. А те де про Хмельницкого новины учинились в Варшаве от польских шпегов, которые были в Киеве и в Чигирине».
«Декабря в 4 день» (продолжает Кунаков) «сказывал гонцу пристав Петр Свяцкой, что того дни говорили в Посольской Избе поветные послове о поборах, чтоб с Смоленска, с Дорогобужа и с Белые и с иных мест поборы взять перед Литовскими городами в треть или четвертую долю, и о том де меж послов учинилась рознь, и маршалок де кола посольского, Богуслав Лещинской, говорил во всю Посольскую Избу: чего де вам, послом, да волать? Навесть де вам своею рознью и несогласьем на себя сверх нынешних невзгод Москву, а Смоленску де и Севершизне нечего фольговать: давно де они наготове; лише б Москва хоти мало наступила, и Смоленск и Севершизна — первые здрайцы, и замки им отворят. И так де от вашего панского несогласья и от непорядков у нас в Панстве во всем упадки и розоренье. А Москва де своими добрыми порядками стала ныне суптельна, и полки рейтарские строят не наково, аж не на нас; и вы б, послове, неслушные свои мовы и пыху и лакомство и несогласье отставили, и приступили к доброму делу всеми добрыми аффекты, и как бы всей Речи Посполитой к покою и к тишине. И послы де о тех маршалковых речах не дбают: голосовав много, разошлись ни с чем».
В виду такого оборота дел «верные Россы», навычные и вновь наученные ратному делу, естественно, ждали случая померяться силами с «кичливыми ляхами». Поэтому в Москве прочитали с удовольствием донесение Кунакова о том, как, по слухам, сам король третировал польское войско.
«А король от Збаража пошел в Люблин и велел всему своему войску, которые за побегами были в остатке и сидели с ним в осаде, выехать в поле всем. И приехав король к войску своему говорил: при предках наших поляки от давных лет были доброго (смелого) сердца, и рыцерством своим славу себе и потомству своему зналезли добрую, чего в иных монархиях нигде не оказалось: описуют то все кроники. А вы, нынешний злый (дрянной) народе, тое всю предков своих добрую славу згубили и всей отчизне злую гибель учинили, чего не годится и в кроники положито: меня, монарха своего, неприятелям нашим выдали было в вязни невинно злым своим утеканьем и хованьем в возы, а биться есте с неприятелем ведлуг повинности своей и отчизны боронить не хотели. Лепее вас учинилися пахолята ваши и кухаре, и уж есте нагодни добрые славы. И то вам поведаю под сумненьем своим королевским, что в предыдущие дни никгды с вами, злыми здрайцами, против неприятеля ходити не буду, а с сойму кажу с вас имати гроши, и буду наймать чужеземских людей, которые такие зрады, как от вас ныне показалось, чинить не навыкли. Уж есте показались отчизне горше неприятелей, и от мене вам ласки никакие не будет».
Эта речь, без сомнения, была сочинена и пущена в народ иезуитами, как противодействие варшавским пасквилям, характеризовавшим Яна Казимира по наблюдениям ближайших к нему людей, и насколько возвышала она иезуитскую марионетку в глазах шляхетского народа, настолько вредила Польше в собственном её сознании. Москва, напротив, возвышалась русским духом своим над польским и питала его даже такими вестями Кунакова, что «королевского войска поляки, панские дети и знатная шляхта, и короля (под Зборовым) видев, и его королевские слова слыша, на бой против казаков и против татар нихто не поехал, и хоронились в возы свои, а иные под возы, в попоны завиваяся. И король де, ходя пеш, тех нанят и шляхту из возов и из-под возов порол на бой палашем».
Так как Ян Казимир не раз высказывался, что ему приятнее смотреть на пса, чем на поляка, то не мудрено, что он и сам бравурствовал а posteriori в той роли, которую сочиняли для сцены ангелы хранители его, и с которой он сроднился до того, что и князь Вишневецкий, в его глазах, был недостаточно мужествен.
Москва, с самого начала Хмельнитчины, следила за Польским Разореньем с напряженным вниманием, и жадно ловила все слухи, пророчившие падение исконного врага. Это видно, между прочим, и из того «письма по статьям», которое было вручено Кунакову при царском наказе. Двенадцать статей этого письма говорят красноречиво о глубине русской политики. Они-то и послужили Кунакову руководством для его расспросов.
Что касается Хмельницкого, то царские советники, зная о его замысле воевать вместе с татарами московскую Украину, старались укротить его «царскою милостью и жалованьем, которое царь и впредь учнет держать, смотря по казацкой службе», от наступления же вместе с ним на поляков отговаривались тем, что «вечного утвержденья и крестного целованья без причины нарушить нельзя», а хоть и были наперед сего со стороны поляков неправды, то царь ожидает от них «исправленья». В сущности же москали давали двум одинаково противным для них республикам время ослабеть в своей беспорядочной борьбе. Не могла Москва не предвидеть, что палеи, колеи и резуны прибегнут под её безопасный кров из бесприютного и беззащитного руйновища, которое сами себе устроят. Общество, произведшее Тишайшего Государя, не могло пленяться подвигами казацкого батька, как пленялись ими наши кобзари и летописцы. Слух о предательстве туркам одного из древнейших русских городов, Каменца, приходил к царским боярам вместе с вестями о готовности русской орды воевать Московскую Русь в союзе с ордой татарскою. Москва не отталкивала предателя, но видимо сторонилась от него, и готовилась действовать независимо от его варварской силы для покорения под нозе своего царя извечного врага и супостата.
Кунаков привез из Литвы и Польши зловещую для панской республики уверенность. «Быть войне» (доносил он), «быть войне у Богдана Хмельницкого с поляки впрямь, — во-первых, потому что самого его казаки хотели убить за Зборовский договор; во-вторых, потому что паны-рада, земские послы и вся Речь Посполитая не согласны на пакты короля с Крымским ханом и с Богданом Хмельницким; а в-третьих, приехав ныне в Варшаву князь Еремей Вишневецкой говорил сенаторам и шляхте, которые к нему приезжали на двор всем вслух, что де король изволил меня призвать на сейм, обесчестя меня, и за мои многие службы и за оборону Речи Посполитой. Даю вам шляхетское слово свое под сумненьем своим: только нынешний сейм не на моем на всем позволенье станет, и я де наготовлю вам и всей Речи Посполитой пива горше Хмельницкого».
Одна мысль о возможности такого явления в Польском государстве, — а Царская Дума в ней не сомневалась, — поддерживала в Москве политику выжидания.
Преданный москворусской идее не менее Товарюкова и Бородатого, Кунаков доносил, что «Венгерской Ракоч со всем войском готов помогать Хмельницкому, которого (войска) 20.000 стоит наготове в Сочаве... «Сетуют все» (писал он о королевских панах в докладной записке) «и ходят вне ума своего, а многие де сенатори отпустили скарбы свои в Гданеск и хотят бежать за море. Такова де злова несогласья и во всех людех ужести николи в Польше и Литве не бывало».
По донесению Кунакова, к Хмельницкому собралось шесть тысяч шляхтичей, сделавшихся банитами, и эта шляхта (писал он) «паче всех Богдана Хмельницкого к войне на Польшу наговаривают: такие де нам поры николи не будет; теперь-то де их и смирить, покаместа не справились». Вместе с тем думный дьяк доносил, что «вышли из немец недавно практики, сиречь книги печатные звездочетов, в которых то угадывают, что нынешний Казимир — последний в Польше король, а Алексей Московский такой славы достигнет, как Александр Македонский».
Между докладом Кунакова и настроением правительственного общества в Москве существовала тесная связь. Зима, следовавшая за его поездкой в Польшу, решила наконец в принципе вопрос о воздаянии за все, в чем Польша была виновата перед Россией. В июне 1650 года царь отправил в Варшаву двух бояр своих, братьев Пушкиных, Григория да Степана, с товарищи. Неизвестно, какая была дана инструкция этим великим и полномочным послам, но они, как бы в отмщение за то, что претерпел царский думный дьяк от Важевича, вели себя с крайнею грубостью в свиданиях и переговорах с королевскими сановниками. Слова лжешь, дурак и еще покрепче того сыпались у них градом на сенаторов, которые и без того уже «ходили вне ума своего» при виде настоящих и в ожидании будущих бедствий шляхетского народа. В поведении предков того, кто сказал незабвенное слово «клеветникам России», не было ничего похожего на предшествовавшее посольство «царского дяди», боярина Стрешнева, очаровавшего Альбрехта Радивила своими «прекрасными обычаями».
«Кичливые ляхи» давали «верным россам» сдачи, говоря, что за такие речи у них бьют в рожу, и что посольское дело с такими грубиянами было бы приличнее вести панским гайдукам.
После взаимных приветствий в этом роде, царские послы говорили не обинуясь, что Господь изберет русских орудием своего мщения за польские кривды, и требовали от Речи Посполитой возвращения Смоленска с Северским и Черниговским княжествами, если она дорожит миром. По их словам, поляки нарушили крестное целование тем уже, что делали в царском титуле пропуски. За это московские послы домогались казни таких лиц, как Иеремия Вишневецкий. Несчастные паны должны были обещать им в принципе то, что в исполнении не было возможно ни для короля, ни для сейма. Польша путалась в расставленных ей кругом сетях. Ей было нужно, во что бы то ни стало, отсрочить разрыв с Москвою, чтобы не воевать с несколькими неприятелями разом. За злой умысел на христианское государство вместе с неприятелями Св. Креста, она казнилась уже нравственно.
Но царские послы заявили еще более унизительное для панской гордости требование, — чтобы все бесчестные книги были собраны и сожжены в их присутствии, а слагатели их, содержатели типографий, наборщики, печатники и даже владельцы маетностей, в которых находились типографии, были казнены смертью. Это была уже не на словах, а на самом деле, та наука, которую еще при Владиславе IV читали московские просторековатые бояре европейским знаменитостям Польши, — великая и святая для Москвы наука о том, как должно блюсти честь и достоинство своего государя.
Паны оправдывались весьма убедительно. «Стоит ли» (говорили они) «какое-нибудь оскорбительное слово, написанное по легкомыслию, или ошибка в титуле, произшедшая, быть может, от случайного недостатка чернил, — стоит ли все это того, чтобы проливать человеческую кровь?» Но сильный редко обходится без злоупотреблений относительно слабого. Теперь сила была на стороне Москвы, и Москва платила Польше её старинною монетой римской чеканки. Конечно, эта монета потеряла в московских руках тонкость отделки, но стоимость её не изменилась.
Отдавая ляхам что называется wet za wet, москали отвечали: «Господь возвеличил царя пред всеми владыками и монархами земными. Такие укоризны не только помазаннику Божию, но даже и простому человеку терпеть не пристало, у вас за то, по конституции 1637 года, положена казнь, латинским языком называемая пенам пердуеллионис: почему его царское величество и требует, чтоб оскорбители его были наказаны.
Это оскорбление причиняет нам большую кручину; поэтому мы не хотим вести с вами дальнейших переговоров, пока король не удовлетворит нас».
Насилу угомонили ревнителей царского достоинства просьбами, пирами, подарками и, наконец, сожжением перед ними бесчестных книг. Великие и полномочные послы уехали, уничижив представителей Польши неслыханными доселе грубостями и связав ее обещаниями, которые оправдывала она крайней нуждою, но которые исполнить не могла. Дамоклов меч был повешен над Речью Посполитою в самое трудное для неё время, когда Корсунь, Пилявцы и Зборов потрясли ее до основания, когда Малороссия была готова оторваться от неё навеки, войско находилось в беспорядке и жолнеры отказывались от службы за недоплату жалованья.
Так в царствование Шуйского стояли вещи в Москве, с тою только разницей, что в своем разоренье не сама она была виновата. Московское Разоренье было задумано в Риме и выполнено поляками через посредство русских людей, еще не в таком числе своем совращенных в католичество, но развращенных уже польскою гражданственностью. Казаки, эти орудия крушения Московского Царства в интересах Польши, готовы были теперь сделаться, в интересах Москвы, орудиями мщения за невинно разлитую кровь Москворусского народа, за сожжение москворусских городов, за расхищение царских сокровищ, за поругание народных святилищ. Но казаки, покамест, были только бунтовщиками. Манифестация московского царя, по словам Иоанна III, дедича и отчича литворусской и польскорусской земли, могла превратить их в национальную русскую силу. Поляки это знали, знали это прежде них просветители Польши. Поэтому-то и ходили паны сенаторы, сетуя вне ума своего, как выразился весьма метко царский думный дьяк.
Побитые собственными подданными, униженные и обобранные татарскою ордою, визжа, по собственному выражению, от всяческой боли, поляко-руссы паны были еще больше побиты в своей столице. Представители царя, которого даже воздержный Ян Замойский, в лице Бориса, называл хлопом, указывали им на то, что претерпели они от хлопов. «Теперь вы сами смотрите на торжество ваших хлопов над вами» (говорил им Григорий Пушкин). «Они ваше панство позорили, гордость вашу сломили, дома ограбили, наилучшие ваши войска побили, гетманов ваших в неволю взяли. Области ваши опустошены войною и вашими жолнерами до того, что мы от Смоленска до Станиславова поющего петуха не слыхали. Люди ваши умирают с голоду и продаются в наши края, моля великого государя о милостыне и прокормлении. А в нашем государстве всего довольно. Есть у нас и чужеземное войско, и даже шведов достаточно. Вы, паны-рада, сами себя восхваляете и называетесь учеными людьми, а в пятнадцать лет не можете научиться, как титуловать наших великих государей. Нам кажется, что вы глупее нас, неучей».
Современный нам польский историк подтверждает истину последних слов, говоря:
«В этих трактатах Пушкин показал спокойствие, остроумие и энергию в высокой степени». А современного боярам Пушкиным историка Польши поражали они своим умом так, что он удивлялся: «как эти люди неученые, не знающие вовсе по-латыни, недалекие в грамотности и незнакомые с первыми её основаниями — могли углубляться в самые трудные политические дела»!
«Под давлением угрожающей войны» (пишут в наше время поляки), «сенаторы и двор делали московским послам уступку за уступкой, и не спохватились, что, по требованию Пушкина, унижают отечество, покрывают правительство позором и ослабляют в народе патриотизм».
В Смутное Время Польского Государства, в бедственную и для самих разорителей эпоху Польского Разорения, природный русский ум, основанный на верности долгу, одержал над поляками такую победу, которой не забудут ни их, ни наши отдаленнейшие потомки. Не восторжествовал над этим умом и хитрец, который всех польских мудрецов обернул вокруг пальца. Все ухищрения казацкого батька против России, в конце концов, привели к тому, чего мог бы желать ей только преданнейший друг и почитатель творца её судеб — великорусского народа. Самые измены, посеянные им в будущем казачестве, послужили к возвышению России в собственном сознании и в глазах всего света.
Глава XXIV. Казако-турецкая политика. — Казако-татарский набег на Волощину. — Предпочтение варварства турецкого варварству казацкому. — Казаки воружают против панов соседние народы. — Мера за меру в борьбе двух вероисповеданий. — Чрезвычайный сейм.
Напрасно Хмельницкий переходил от угроз к ласкательству, напрасно писал к царским воеводам: «Того нет и не будет, чтобы татарские царики имели, побратавшихся с нами, православную Русь и веру нашу воевать». Кунаков донес царю обо всех казацких плутнях и, между прочим, о наследственном казацком плутовстве — самозванщине. В обширной записке, представленной им по возвращении в Москву, мы читаем, что Хмельницкий обзавелся каким-то царевичем Казанским, с целью восстановить Казанское царство. И не для одной Казани, он и для самой Москвы припас такого человека, который называл себя более законным обладателем русской земли, нежели Романовы. У казаков он слыл внуком царя Василия Ивановича Шуйского, а по словам царских людей, это был «человек самого простого чину и худые породы воришка, Тимошкою зовут, Акундинов». Как ни отнекивался Хмельницкий перед царскими гонцами в зловредном замысле произвести в Московском Государстве смуту, не верила ему Москва ни в одном слове. Маски с него не срывали, но видели под ней готовность на всевозможные предательства, и держали коварного Хмеля в почтительном отдалении.
Судя по политике казацкого батька, о которой нам говорит не столько его биография, сколько история казачества, Москва, в его уме, была последним, запасным поприщем казацкого грабежа, или последним казацким прибежищем, смотря по тому, как укажут непредвидимые обстоятельства. В Москве, с своей стороны, были уверены, что куда бы ни бросались казаки по замыслам вихреватого гетмана, — неизбежно придут они к старому своему убеждению, что кроме царского величества, деться им негде. Москва ждала и в выжидании событий заключалась её наибольшая мудрость.
В то время, когда царские пограничные воеводы были заняты своим, как они выражались, «бодроопасным», истинно московским радением по случаю казако-татарского движения, центром которого была Полтава, а поляки надеялись внутреннюю войну переменить на заграничную, — Хмельницкий разослал универсалы, чтобы не только реестровые, но и охочие казаки поголовно готовились к войне, а к какой, никому не было известно. Способ войны у него был татарский, а татары, по замечанию Варшавского Анонима, не любили двух вещей: проволочки времени и обнаружения тайны. «Советы» (пишет он) «соединены у них с самим делом, так что они скорее ударят, нежели замахнутся». По его рассказу, Хмельницкий приготовлением к набегу на Москву маскировал только задуманный набег на другую христианскую землю — на Волощину (czynil apparentia). Он торопился так в этом случае, как будто хотел вылететь (iz zlal sie wylcciec), — и обманул своих союзников.
Таковы были слухи, доходившие до мемуариста. Но мы обоснуемся на письме Ислам-Гирея к Яну Казимиру. По его словам, казацкий гетман уже садился на коня, как пришла к султан-калге весть о готовности польского войска наступить на казаков. Это заставило его остановиться с походом на Москву. «Тогда татарское войско» (писал хан), «имея в обычае не возвращаться домой без добычи, особенно беи и мурзы, да почти и все лучшее войско, упали калге султану в ноги, чтобы не возвращал их домой с пустыми руками (prozno) и, припомнив ему великие кривды со стороны волохов, просили горячо вести их в Волощину, как это и сделано».
В королевской же инструкции на сеймики совместный поход казаков и татар против Москвы был объявлен измышленным для того, чтобы тем удобнее броситься вместе за Днестр и сокрушить волошского государя, тайного союзника Польши.
Дружба казаков с татарами представлена в инструкции такою, что стоит одному кивнуть головою, другой уже знал, что ему делать (nie tylko consilia swoje in magna confidentia et majori secreto z soba odprawuja, ale i ad nutum eenli owego ten tego, owych exeduntur).
Трудно сказать наверное: оба ли хана, казацкий и татарский, морочили вместе короля, или казак дурачил, в этом случае, и ляха и татарина; только поход в Московщину переменился на поход в Волощину.
Так называемая казаками и панами Волощина (Woloszczyzna) по-нынешнему Молдавия в первой половине XVII века была государством славянским, по языку и обычаю — можно сказать малорусским. «Вера у них различная» (говорит Варшавский Аноним), «как и самый край населен различными людьми», (и в качестве латинца, на первом месте ставит папистов): «есть католики. Волошский бискуп назначается польским королем — то из францисканов, то из доминиканов. Русь держит веру схизматическую, и подчиняется константинопольскому патриарху».
Но она-то, эта русь, и была основою волошской национальности, не только по религии, по языку, но и по самой письменности, господствовавшей в Волощине. Мы так точно омалороссиянили Волощину, как, в свое время, Литовщину, и так точно, по нашим следам, вошла сюда Польша, переделывая наше православие в католичество, а нашу национальность — в польщизну.
Высшее сословие в сбродном населении Волощины составляли бояре, большею частью выходцы из Червонной Руси и вообще из Малороссии, потом — из Польши, Болгарии и русской Угорщины. Ниже бояр стояли магилы, а за ними следовали земяне и все прочее волошское поспольство. Могучий и потому главный элемент в волошском населении составляли потомки римских Даков, от которых ведут свое происхождение воспреобладавшие над всеми прочими элементами румыны. Но славян между даками-румынами было и до сих пор есть не меньше, как было наших русичей между коренными литвинами.
Торговое сословие образовали там греки, армяне и жиды, как в древней Польше — немцы, вместе с армянами и жидами, а подонками всего населения были цыгане.
Находясь между двух великих сил, христианской и магометанской, постоянно споривших за обладание дунайским, днестровским и днепровским черноморьем, Волощина носила на себе отпечаток той и другой силы. Воители реформированной по-идумейски веры Моисея и Иисуса не могли шагнуть за Мультаны и Волощину с мечом, искавшим Божией правды в скрещении своем с мечами иноверцев, — не могли потому, что защитники христианства в этой небольшой стране стояли против них упорнее, чем в обеих Империях, разделивших между собой цивилизованный свет.
Упорство обходилось мультянам и волохам не дешево. Магометанский меч, скрещенный здесь ради Божией правды с христианским, губил цвет населения края, а менее стойких захватывали вассалы турок татары, для продажи на европейских и азиатских базарах. Но подобно тому, как разреживаемый воздух тянет к себе густой; подобно тому, как наша Малороссия, Rossia bassa итальянских географов, тем сильнее влекла к себе колонистов из соплеменных и немецких стран, чем больше гибло их в защите плодородной почвы, — Волощина, равно как и Мультаны, населялась новыми искателями нового счастья по утрате старого. Редко встречаемое в других странах разнообразие пришельцев делало в Волощине то, что днепровский украинец, днестровский подгорец, подолянин, волынец и белорусс, и даже поляк — находили между Днестром и Дунаем, в смысле этнографическом, как бы другую родину. С нами, малоруссами, этот край соседская враждебность разделяла, а наше вечное искание хоть гіршої, аби іншої долі — связывало. Волощину мы даже воспевали, как замену родины, подчиненной пришельцам ляхам:
Бувай здоров, ляцький краю! Вже ж я тебе покидаю: Ой піду ж я в Волощину, І там же я не загину, В Волощині щирі люде, — І там мені добре буде.Старинные наши воспоминания о таких подвигах, какими прославились в Волощине герои нашей утраченной Илиады, братья Струси, делали этот край нам близким, как поприще борьбы с неверными, и дорогим, как место, где находили мы богатую поживу в тяжкой, часто голодной и всегда убогой пограничной, жизни.
Возможность низвергать господарей с арендуемого у турок престола и сажать на него таких, которых туркам было слишком трудно спихивать вооруженною рукою, — эта заманчивая возможность особенно влекла наш пылкий, не имевший лучших целей дух в постоянно опустошаемый и встающий в новом богатстве край. История нашего казачества полна былей и небылиц о подвигах Струсей, Байд, Филоненков и Канивченков за Днестром в Яссах, в Тягине, в Сочаве, на Киминском поле и на Черкене-долине. Общий взгляд на Волощину был у нас в XVII веке таков, что в Волощину стоит ходить за добычею и за спутницею добычи — казацкою славою. Такое впечатление делала на казаков Сагайдачного и Московщина, как при его жизни, так и по смерти. Там обогащала жителей роскошная природа, здесь — трудолюбивая промышленность. Как в одной, так и в другой стране преславное Запорожское войско, привыкшее пліндрувати і руйнувати во всю ширь «Божией милости» и «казацкого счастья», — не стеснялось ни единоплеменностью, ни единоверием. Этим оно свидетельствовало свое родство с татарами. Татарин, замышляя полонить людей для невольничьих базаров, говаривал: «Мы сильно уповаем на милость Божию», и титуловал себя счастливым и милосердым, а зачатый и рожденный им в незапамятные времена казак, мечтая о пожарах и кровавых речках, оставил нам по себе богохульную пословицу: «Бог не без милости, а казак не без щастя», и, сделавшись безопасным, зажиточным, даже просвещенным, благодаря Москве, гражданином, до сих пор напевает с дикою грустью:
Ой колись ми воювали, Та більше не будем: Того щастя й тої долі По вік не забудем!Три государства интересовались Волощиною в политических видах своих: Турция, как завоевательница; Польша, как покровительница завоеванных; Москва, как земля, единоверная с волохами. Испытав невозможность покорить задунайских христиан своему Пророку, правоверные мусульмане обрекли неверных, по своему закону, на рабство, и довольствовались наложенною на них данью, а чтоб эта плата за право жизни приходила в Стамбул без хлопот по взиманию, сделали сборщиком самого князя волошского, равно как и князя мультанского, называемых по-старославянски господарями.
Польша, посредством своих удальцов-русичей, Струсей, Мелецких, Сенявских, Вишневецких, помогала искателям княжеской чести и наживы свергать с престола волошских господарей, мирила своих ставленников с султаном, иногда ей удавалось и совсем освобождать их в свою пользу от султанского вассальства, как это было с господарями Могилами. Россия ограничивалась дружеским общением с господарским правительством, как единоверцами и политическими доброжелателями. Но днепровские казаки, эти черкасы позабытого происхождения, продолжали в Волощине традиционное ремесло свое в силу номадного положения своего среди народов культурных. Арендное престолонаследие волохов представляло им такие случаи к поживе, какой представился их наездническому товариществу в Смутное Время Московского Государства. В XVI столетии они признавали себя не столько подданными короля польского, сколько слугами царя московского, и с этой стороны московское влияние на волошские дела было равномерно с польским. Оно даже перевешивало польское, и именно с того времени, когда римская политика Польши велела ей влиять на воспитание Могил посредством иезуитов. Сделавшись политическим центром и упованием Славянщины Москва, даже не прилагая попечений о том, поддерживала в Волощине славянский элемент, как солнце поддерживает теплоту в планете, входящей в сферу центростремительной силы его.
Волошские господари, по церковной традиции, состояли в духовном вассальстве у России. Молдавская церковь была филиею церкви галицкой, и князья-господари, в качестве верховных ктиторов этой церкви, зависели от галицких митрополитов. Они печатали богослужебные книги во Львове. Этот же православный издревле город отливал для них колокола, и так как православная церковь, говоря вообще, стояла у нас на Украине в запустении, то волошские господари при своем дворе обучали церковному пению поповичей, которые потом являлись в Малороссии дьячками, а из дьячества «совершались в попы». Господари, желая, по примеру московских царей, быть у себя в крае опорою и образцом благочестия, принимали участие и в ставропигиальном львовском братстве, которое хранило в своих подземельях их сокровища. Один из них, Александр Лопушнян, дозволил даже вписать свое имя в число старших братчиков, подобно вельможным польско-русским панам. Иезуиты не сближали их тогда еще, как в последствии Могил, с католическою польщизною путем воспитания богатого юношества. Лопушнян не любил ляхов за их «кривую веру» до такой степени, что, устраивая праздничные трапезы для братства, наказывал, чтобы допускали ляхов за трапезный стол, но не дозволяли присутствовать при богослужении. «У нашем законе» (писал он) «того ся не годит. У стола могут седети и за нас Бога просити, а сами ваши милости пийте и ежте, и нас не забувайте».
Ставропигиальное братство угрожало тогда перейти в беспоповщину, под влиянием разлившегося по всей Польше протестантства. Господарь убеждал его не пренебрегать попом: «...попа ни за що маете» (писал он), «они в домы свои у дни недельный и праздничный, для благословения хлеба, не призываете... Поп межи вами только перекупничеством живится: сам идет до церкви, а попадя идет на рынок с хлебом и цыбулею, також у другого перекупивши, и што с того приторгует, тем ся живят».
Вместе с тем он охранял братство и от другого нечестия, — чтобы мужчины в братской церкви не стояли вместе с женщинами. Так было и у нас в Малороссии: для женщин назначались притворы, которые до сих пор называют бабинцами.
Все вместе показывает, что славянский элемент, и преимущественно малорусско-славянский, господствовал тогда за Днестром во всей своей силе и во всем бессилии.
Этот элемент боролся здесь издавна, со времен еще дако-римских, с элементом румынским, восторжествовавшим наконец при помощи политической махинации.
Казаки слагавшие головы за волошское господарство, и казаки, грабившие православный, почти русский заднестровский край, как Турецкую землю, наполненную по словам кобзарской думы, несчитанным сребром — златом, немерянными поставами сает, одамашков, кармазинов, блаватов, — все они, в войне и в мирных общениях, оглашали Волощину своим москво-русским и польско-русским говором, оживляли своими песнями, своими симпатиями и антипатиями. Они вспахивали копьем, взрыхляли мечом, засевали боевым удальством эту землю посильнее представителей элемента польского, который выставлял здесь одно государственное знамя. На формацию народного духа в Волощине польский элемент влиял только искусственно, из-за спины казацких буйтуров панов и не панов, которые бывали обращены к волохам то враждебною, то дружескою грудью. Когда накопец удалось Польше посадить на волошском престоле одного за другим трех Могил, и тогда еще славянский элемент за Днестром опирался на людей русских и единоверных с русскими. Иезуитская махинация, ознаменовав себя в Польше ополячением дома Острожских, готова была повториться в Волощине над домом приемышей Польши — Могил. Но тут румынский элемент, боровшийся с элементом славянским, выдвинул на поприще господарской деятельности такого человека, который своими способностями превосходил трех Могил и всех соперников их в арендаторском соискании господарского престола. То был Василий Лупул, родом грек, или албанец, или, как думают иные, серб.
Волошские господари Могилы: Иеремия, дядя нашего Петра Могилы, Симеон, отец его, Моисей, родной брат и наследник его, находились в родстве и дружбе с богатейшими польско-русскими домами. Той же политики родства и дружбы держался и Василий Молдавский (как называли Лупула, казаки), сделавшийся господарем в 1637 году. Он был такой же интригант, как и его предшественники, интригант по положению князя-господаря, или господаря-арендатора, присяжный, записной интригант; но далеко превосходил их искусством интриги. Служа нескольким господарям, особенно же Моисею Могиле, своим талантом пройдошества, он усвоил себе их житейскую практику, которая состояла в том, чтобы, поклоняясь от всей души мамоне, тем еще ревностнее кланяться Богу, разумеется, не «духом и истиною». Лупул умел служить не только двум, но и нескольким господам в одно и то же время, — служить не только согласным между собою, но и враждебным.
Так было необходимо поступать всем троим предшественникам его, Могилам, в их положении; так в особенности надобно было поступать ему самому.
Лупул в своей господствующей среде был homo novus. Из низменного положения в свете он возвысился на степень обладания светом, а возвышаться помогало ему чувство, выраженное Тацитом в изображении таланта, возобладавшего над толпой римской знати: «Они презирают мою новость, я — вялость их (Contemnant novitatem meam, ego ignaviam illorum)». Но это чувство двигало его вперед не облагороживая.
Будучи в начале жизни предметом презрения со стороны людей, которым богатство и знатность не дали энергии, он презирал богатых и знатных злобно: он вымещал претерпенное от них унижение на каждом, кого ни прибирал к своим рукам, как неудачника. Без всякой совести и без всякой жалости, он делал их пешками на шахматной доске игры своей в богатство и знатность. Он дурачил и предавал каждого по мере его неспособности к политике силы и власти: жертвуя равнодушно единицами, сотнями, тысячами людей, он был способен столь же равнодушно жертвовать и целыми народами.
Но если кто-либо имеет право презирать в их счастливой судьбе людей вялых, бездейственных и недалеких, то Василь Молдавский обладал этим правом вполне, будучи полон горячей энергии, неутомимого трудолюбия и того ума, основанием которого служит ловкость, изворотливость, ехидство и коварство. Сделавшись вистерником, то есть министром финансов, при господаре Грациани, Лупул попал было в тюрьму по подозрению в тайных сношениях с турецким правительством; но Грациани пал на Цецоре, и гибель господаря спасла вистерника для новых подвигов интриги и предательства. Лавируя в своем пройдошестве между Сциллой и Харибдой не хуже Улисса, Василь Молдавский пережил благополучно все последующие княжения: Александра Илии, Стефана Тисмисевича, иначе Томжи, Радо, Мирона Берновского, Александра Радо, опять Александра Илии, опять Мирона Берновского и наконец Моисея Могилы. Против Александра Илии он взбунтовал народ, воспользовавшись его ропотом на князя-господаря за то, что навел с собою греков и вводит в Волощину греческие порядки. Мирона Берновского оклеветал он перед султаном, и султан казнил его в Стамбуле смертью. Преемника Миронова, Моисея Могилу, очаровал он своею угадливостью, но, сделавшись у него великим дворником, то есть генерал-губернатором, и ходатайствуя в турецком Диване по его делам, столкнул его с престола и сделался господарем.
Но этого было мало для проходимца, жадного к обогащению и власти не менее нашего Хмеля. Чтобы создать себе прочный фундамент в дальнейших замыслах, необходимо было ему упереться в Трансильванские горы, в Дунай и Черное море.
Мысль эта, осуществленная в новейшее время одним почерком враждебного Славянству пера, возвышает Лупула во мнении румынских патриотов над всеми его злодействами, в числе которых история записала 14.000 подданных, казненных мучительною смертью в его царствование. Он у них считается первым законодателем, хотя его законы писаны человеческою кровью: по ним, за преступления гражданские выкалывали глаза, отрезывали руки, подвергали голых бичеванью уличной толпы. Он у них и великий господарь, и творец народного благоденствия, и воскреситель румынской национальности, и двигатель интеллектуальной культуры. Он у них почти то, что у наших казакоманов Богдан Хмельницкий, хотя наши казакоманы с гордостью могут сказать, что Василю Молдавскому далеко до такого человекоистребления, каким себя прославил казацкий батько.
Как бы то ни было, но великий ум героя румынского, по известной французской пословице, встретился с великим умом героя украинского, и вот почему его пройдошество получило известное значение в истории отпадения Малороссии от Польши, в истории русского воссоединения, в истории преобладания России над Славянством.
По ту сторону реки Молдавы, разделившей два подначальные Турции княжества, господарил такой же откупщик, Матвей Бессараб. Василь Молдавский вознамерился спихнуть его с престола. Но Бессараб умел держаться на своей аренде подарками, уклончивостью и воинственностью, которую поддерживал своими боевыми средствами сосед его, князь Трансильванский. Когда многоразличные средства, придумываемые Лупулом для пагубы князя соседа, оказались безуспешными, он обратился к такому средству, которому, в случае успеха, мог бы позавидовать и наш Хмель.
Чем усерднее служил он мамоне, тем еще более должен был служить Богу, чтобы вторым служением прикрывать первое: явление обыкновенное в жизни корыстолюбцев и тиранов, которые, за невозможностью обмануть Бога, весьма усердно обманывают людей, а иногда и собственную совесть. О сокровищах Василя Молдавского ходили баснословные слухи, и они подтверждались громадными, документально известными, его тратами, после которых он все-таки оставался богачом даже и между владельцами коронованными. Судя по характеру и поступкам Креза Волоха, как прозвали Лупула, надобно думать, что его богатство было нажито средствами, тревожившими его душу при мысли о Божеской каре в настоящей и в будущей жизни. XVII-й век был эпохою тех крайностей пиэтизма, которые должны были вызвать реакцию в скептицизме XVIII-го. В грубых правилах замаливанья грехов и покупки церковных отпущений был воспитан и Лупул. Он веровал, что нет греха, которого не было бы возможности перевесить на весах Божеского правосудия созиданием домов Божиих и благодетельствованием храмов святых. Под влиянием такой веры построил он в Яссах великолепную Трехсвятительскую церковь из красного камня, с дорогими арабесками снаружи, с богатою позолотой внутри стен, с роскошною ризницей и пр. и пр. При церкви завел он училище и типографию; выкупил у турок мощи Св. Параскевии за 250 кошельков золота, или за 125.000 дукатов, и перенес их из Тырнова в новопостроенную церковь, где они почивают и ныне; основал монастырь Галию и церкви в Оргиеве и Килии. На Трехсвятительской церкви создатель и благодетель святого и всечестного храма сего изображал альфреско подносящим его трем святителям, которые благословляют его с небес.
По старинному противоречию в жизни подобных подвижников благочестия, Василь Молдавский сочетался вторым браком с Черкешенкой магометанкой. Православники Турецкой Империи возроптали за это на великого подвижника; местная иерархия отказывала господарю в признании брака законным, а правоверные были оскорблены сожитием своей мусульманки с гяуром. Но если для богача господаря не было слишком трудно устраивать небесные свои дела, то земные устраивал он тем легче. Молдавская церковь зависела в начале от галицких митрополитов, а потом — от орхидского архиепископа, именовавшего себя болгарским патриархом, следовательно находилась в подчинении славянским иерархам. Турции нужно было подчинить своих православников центральной власти, то есть посредством готовых к услугам греков ослабить единение славян. Лупул это устроил могуществом своего золота, а как центральный константинопольский патриарх был главным орудием султана по гяурским делам, то Крез Волох получил от него разрешение на брак, заплатив ему 280 кошельков да 50.000 реалов султану за право женитьбы на мусульманке. Этим достопамятным актом положил он начало преобладанию в придунайских княжествах румынской национальности над славянскою. С подчинением молдаво-валахской церкви константинопольскому патриарху, в православном богослужении за Днестром стал употребляться, вместо церковно-славянского языка, румынский; а как румынские богослужебные книги заимствованы из Трансильвании, главного седалища кальвинства среди славян, то эти книги, будучи проникнуты протестантским учением, нарушили в придунайских княжествах чистоту православия и оторвали их от славянского единства. Местная историография называет это «штурмом, данным церковно-славянскому языку», и с эпохи Лупула да соревнователя его, Бессараба, ведет начало новой своей истории. Официальным языком в Молдавии оставался все-таки славянский до XVIII столетия: только тогда князья фанариоты заменили его греческим. Но со времен Лупула и Бессарабы румынская национальность получила такую поддержку со стороны правительства, что наш малорусский элемент сам собой принижался перед румынским, так точно, как он делал это на своей родной почве перед польским, и в последствии, по своей исторической несостоятельности перед великорусским.
Если бы наш Богдан Хмельницкий не был беспутний варвар, он мог бы сделать нечто грандиозное в судьбах Северной Славянщины. Наше давнишнее стремление из Польского края за Днестр мог бы он привести к тому, что область двоякого русского языка и обычая, под единоверным правительством, уперлась бы в Дунай и Трансильванию, а польский элемент растворился бы сам собою в энергическом русском больше нынешнего. Но, вечно пьяный от горилки и проливаемой зверски крови, не мог он воспользоваться горячим темпераментом древних русичей, отозвавшимся в днепровских добычниках, и разыграл роль стихийной силы, исчезающей без благотворного следа после разрушительного своего действия. Грек, албанец, или серб Лупул, унаследовавший культурные инстинкты древних народов, пытался воспользоваться этой стихийной силой для своих замыслов: но ни в его народе, ни в нем самом не было всепобеждающего творчества, которое проявил в себе народ великорусский вместе с выражавшим его дух правительством относительно превращения разрушительной казацкой силы в государственно-строительную.
С этой точки зрения, возня казатчины и созданного ею Хмеля Хмельницкого с ляхвою и волохами представляет для русского мыслителя интерес, печальный с одной стороны и торжественный с другой.
Как ни усердно служил Василь Молдавский Турецкому султану, не мог он овладеть всей территорией нынешней Румынии, посредством овладения двумя престолами.
Бессараб так был силен в своей аренде, что Лупул, превзойдя всех волошскнх арендаторов угодливостью, изворотливостью, подкупами и предательством не мог ничего ему сделать. Турки щадили ростовщика Лупула, и боялись покуситься на права воина Бессараба. Так наступило то время, когда Владислав IV поддался своим политическим ласкателям и возмечтал о господстве над христианским Востоком. Был еще жив тогда великий Конецпольский. Из его неизданной покамест переписки, сохранившейся в Императорской Публичной Библиотеке, мы знаем, что он смотрел на Лупула с благородным презрением, и не доверял его преданности Польше. Но Лупул, не любя ничего, кроме себя, полагался вполне на государство, создающее подобных воинов и политиков. Лупул, в этом отношении, был тот же Петр Могила, воспитавшийся в созерцании торжества Польши над Москвой, Турцией, шведами. Шляхетский народ не дошел еще тогда до погибельного унижения верховной власти. Заграничным наблюдателям Польша казалась еще чем-то таким, как изобразил ее красноречивый Оссолинский перед папою в присутствии представителей католической Европы. Василь Молдавский взирал на нее, как на безопасное убежище в случае грозы со стороны Турции, и с этой целью стал подражать политике своих предшественников, Могил, умевших, подобно князю Василию, соединять православие с противоположными ему верами в брачных союзах. Со своей стороны Польша, в лице своих панов, искала сближения с князьями откупщиками, и один из богатейших её представителей, князь Януш Радивил, с рыцарским постоянством домогался три года руки старшей дочери господаря Василия, Елены. В январе 1645 года дал наконец Василий Молдавский согласие на брак своей православной дочери с магнатом. Свадьба была царственная. Жених явился с двухтысячным почтом. Торжество длилось две недели. Молодых венчал митрополит Петр Могила в раззолоченной и разукрашенной церкви Трех Святителей. Кальвинист Радивил, полевой литовский гетман, полукальвинист и полумусульманин Лупул, господарь Волощины, полуправославник, полупапист Петр Могила, митрополит киевский и галицкий, молили втроем троих великих святителей о небесном благословении дома, столь высоко поднявшегося в земной славе своей, и небеса сияли, казалось, будущим счастьем над этим домом.
Между тем человеческие кривды и глупости достигли своей крайности и в Польше вместе с просвещенною ею Литвой, и в Волощине, где так блистательно княжил творец румунской будущности, и в области, избранной самим Петром Могилой для полонизации неополонизованной Руси. Все вместе сделало возможным появление на исторической сцене такого лицедея, как Хмельницкий, и даже освятило его подвиги в глазах многих. Василь Молдавский продолжал бороться с Бессарабом и, может быть, поборол бы его, но интересы того и другого столкнулись с интересами казацкого батька, и он выступил против них обоих, как лев при дележе звериной добычи.
Прочный фундамент ему был нужнее, чем кому-либо, а такого фундамента не обещала ему земля изменчивой, лукавой, малодушной черни. Две великие реки, горы с запада, море востока: вот что могло спасти казацкого батька, во-первых, от его детей, во-вторых, от ободранных панов-изгнанников, и в-третьих от негодующей на казацкую вольницу Москвы, противницы всех веч, всех панских сеймов и чернецких рад.
Об этом убежище мог он мечтать еще в то время, когда, после пилявецкого трехдневного пьянства, казаки воображали, что гетман ведет их с татарами за Белую Воду. Беспокойно посматривая тогда на Вислу, на Москву реку и на Босфор, неожиданно увидел он перед собой послов Лупула.
Волошский господарь, как и мультанский, увлекся было мечтой Владислава IV о Турецкой войне и, под влиянием своего зятя, Радивила, решился свергнуть с себя турецкое вассальство. Он только ждал перехода поляков через Дунай. Но Турецкая война исчезла, как мираж, и могущественная недавно Польша очутилась под ногами у казаков. Заподозренный в неверности Порте, Лупул в борьбе с Бессарабом прибегнул к помощи победителей панского войска.
Хмельницкий тогда же, должно быть, возымел мысль, которую преследовал до последней возможности с крайним упорством и риском: столкнуть обоих борющихся господарей-откупщиков с их мест, купить престолы их для себя да для своего сына и основать в заднестровской Малороссии княжество, невозможное в днепровской. Для этого ему нужно было всячески ладить с Портою, и он до тех пор не вошел с Лупулом ни в какую сделку о помощи, пока тот не представил ему разрешения Порты на призыв казаков против Бессараба. Отправленный в Волощину с надежными казаками Тимофей Хмельницкий, под опекой Тогай-бея и его татар, помог Лупулу взять верх над его противниками, но зато потребовал от него через Тогай-бея руки младшей дочери его, Роксанды. Лупул отвечал на грубое сватовство гордо. Руки Роксанды искали знатнейшие польско-русские дома, в том числе Петр Потоцкий, сын коронного великого гетмана, и князь Дмитрий Вишневецкий, племянник Иеремии. Что сравнительно с ними значил неотеса Тимошко Хмельниченко? Но иначе думал и чувствовал казацкий батько. О Хмельницком поэт мог бы сказать, как о Мазепе:
Что ни единой он обиды, С тех пор как жив, не забывал...Не простили господарю отказа и побратимы старого Хмеля. На возвратном пути из-под Зборова, крымские и буджакские орды ограбили по дороге Бессарабию. Вступаясь за своих подданных, волошский господарь послал за хищниками погоню.
Обремененных ясыром и другою добычею догнать и разбить было не трудно. Орда потерпела поражение и лишилась добычи своей при селе Братуленах, у Резины и в Лопушине. На языке хищников по ремеслу, это называлось «великими кривдами со стороны волохов», и эти-то кривды припомнили они, валяясь в ногах у султан-калги, когда не состоялся их поход в Московщину.
За свою личную кривду Хмельницкий, как видно, готовился отомстить Лупулу целый год. При посредстве Тогай-бея сватался он мирно; теперь снаряжал к Василю Молдавскому сватов, которых поляки прозвали кровавыми.
Но сперва в Яссах появилось его посольство с таким же гордым требованием, каким был господарский отказ. Это было еще в то время, когда казаки, вместе с достойным батьком своим, гремели против того, кто сидит на Москве.
Василь Молдавский знал, что казаки и татары делают; он, без сомнения, догадывался, что они и потом будут делать, как бессердечный философ обогащения и грубой силы, вечно работавший умом над эксплуатацией окружавшего его мира.
Поэтому с новыми сватами заговорил он другим, смиренным и льстивым языком. Он отвечал, что не может принять предлагаемой ему чести единственно потому, что боится оскорбить своего повелителя, султана, выдав дочь за молодого Хмельницкого.
Новый авантюрист поймал старого пройдоху на слове, и победил его превосходством интриги. Сила казацкая перевесила в Стамбуле силу подкупов: князь-господарь получил не только дозволение, но даже приказание.
Тогда Лупул обратился к польско-русской воинственности, которую в Збараже проявил блистательно князь Вишневецкий, а в Белоруссии — князь Радивил. Что значила реляция, распространенная в Европе о непобедимом победителе под Зборовым, он знал как нельзя лучше; но, взвешивая силу руинников с силой культурников, каковы ни есть одни и другие, он должен был провидеть, что Польши хватит еще надолго не только в борьбе с казаками, но и с Москвой. Полагаясь на своих родных и приятелей, он отказал сватам Хмельницкого, несмотря даже на султанское повеление.
Случайно ли, или по предусмотрительности Хмельницкого, вторичный отказ пришел к нему в то время, когда он стоял против Москвы во всеоружии казацкого согласия и татарского панибратства.
О казацком батьке дети его сказали бы, что на Василя Волошина он важким духом дыше; а что это был за дух, мы знаем из летописи старинного казакомана, который вкладывает Хмелю Хмельницкому в уста такие слова: «Оддай, господарю, дочку за мого сына, а не оддаси, дак я тебе изотру, изомну и прах твий рознесу по воздуси»!
По характеру малорусса, каков он есть ныне, нет ничего обиднее, как предложить красавице свою руку, а тем паче руку сына, (о сердце здесь напрасно говорить) и получить гарбуз. Можно поэтому судить, как обиделся казацкий батько, когда его Тимку дала гарбуза дочь презренного в его глазах богача, неспособного наживать богатство кровавою саблею. Наш старый Хмель, швырявший спьяна и Римскою Империей, не мог оставить без отмщения такого, как он, без сомнения, выражался жидюгу-рандаря, каким должен был представляться гордому добычнику волошский господарь. И час отмщения настал.
Но на дороге в Волощину стоял побеждавший казаков с малыми силами Николай Потоцкий, два года тому назад потерявший одного сына и домогавшийся невесты для другого: лицо трагическое в виду семьянистого и счастливого его несчастьем казацкого батька. Хмельницкий знал, что теперь он способен «давать битвы только в карете»; но чья юность не обновится в порыве отмщения за погибшего сына и в защите рыцарских прав живого? Хмельницкий это чуял, и потому стал у Ямполя с 20.000-м обсервационным корпусом, а другой корпус, под охраной ангелов и духов своих, татар, послал сватать золотое руно у дракона, отца красавицы Роксанды.
Недавние угрозы Хмельницкого сломать Москву не помешали ему, перед походом в Волощину, просить у царя по-прежнему помощи против поляков, если они будут воевать с казаками. Зазвав к себе путивльских купцов на обед в Миргороде, он старался покормить московского соловья баснями, точно польского, и говорил путивльцам такие вещи: «...хотя бы де для славы, государевых ратных людей было у него тысяч с шесть или с десять, и он бы де очистил и Польскую землю государю. А он де, гетман, со всем своим войском Запорожским великому государю служить рад всею своею душою, не токмо де что польские и литовские городы он, гетман, государю очистит, хотя де и Царь-город и до Ерусалима очистит и приведет под государеву высокую руку».
Но не успели эти просьбы и хвастливые обещания достигнуть места своего назначения, а магометане, сватавшие христианку за христианина, ограбили уже православную Волощину. Между тем король, видя в этом набеге на его союзника дело частное, как и его паны, выразительно повелел коронному великому гетману, стоявшему лагерем под Каменцом, не вмешиваться в волошские дела, или, как об этом говорили в шляхетском народе, «не обгонять чужого проса, бросив свое». Обеспеченный этим Хмельницкий вторгнулся тотчас по удалении Орды, с 16.000 войска в Волощину и принялся грабить и опустошать ее в свою очередь.
Поход его был популярен в казатчине и по своему мотиву, и по богатой добыче, затмившей славу царя Наливая. Казацкие кобзари воспели набег на благочестивых волохов с таким же кровожадным восторгом, как и набеги на злочестивцх ляхов, вместе с которыми погибали сотнями тысяч казацкие единоверцы всех сословий и состояний. В их Илиаде Василь Молдавский вопиет к Николаю Потоцкому следующими словами:
Ой гетьмане Потоцький, Що в тебе розум жіноцький! Ти за дорогими напитками, бенкетами уганяеш, А про мою пригоду нічого не знаєш: Що ж то в вас гетьман Хмельницький, русин, Всю мою землю Волоську обрушив, Все моє поле коп'єм ізорав, Усім моїм волохам, як галкам, З пліч голови поздіймав. Де були в полі стежки-доріжки, Волоськими головками повимощував; Де були в полі глибокі долини, Волоською кров'ю повиновлював....Как отражались эти события в панском обществе, всего лучше видно из приведенного уже рассказа Варшавского Анонима. По дошедшим до него слухам и толкам, Хмельницкий, озабоченный женитьбою сына, делал только вид (czynil apparentiа), что готовится к татаро-казацкому походу на Москву. Все дело состояло де в том, как заставить Орду, вместо Муравского и Свинного Шляху, броситься за Днестр?
Этот вопрос разрешил случай, может быть, самим же Хмельницким и устроенный.
На Днестре (рассказывает Аноним) в то время славились разбоями казаки Левенцы, известные и по долетевшим до нас отрывкам современной песенности. Левенцы, подобно позднейшим гайдамакам Мотренниско-монастырского леса, гнездились в байраковатом лесу Недоборах. Добычу свою сбывали они в Волощине за Днестром, а что добывали воровством и разбоем на волошском берегу Днестра, то променивали, продавали и пропивали на польском. Потоцкий отправил против них несколько хоругвей, под начальством Кондрацкого. Предводитель казаков Левенцев, Мудренко, попал Кондрацкому в плен с 20-ю товарищами. Потоцкий де велел посажать их на колья. Тогда разогнанная Кондрацким дружина Мудренкова бросилась к Хмельницкому. Хмельницкий провел израненных, окровавленных Левенцев по своим полкам в присутствии полка нуреддин-султанова. «Вот мир с ляхами!» (восклицал он, заплакав перед казаками и татарами). «Их мир жестокосердее войны». И, сделав хороший подарок послу, просил его донести нуреддину, что с одной стороны Кисель собирал в Киеве войско против турок, а с другой наступает Потоцкий с намерением искоренить казаков, если татары их не оборонят.
«Убежденный этим нурредин-султан» (пишет Аноним), «оставив предпринятый против Москвы поход, грозил гетману Потоцкому и донес об этом хану, который тотчас отправил Мехмет-Газы-Атталыка, сына кормилицы ханских детей, с жалобой, — что хан, как посредник, должен вступиться за эту казацкую кривду, как за свою собственную».
Действительно хан писал к королю из Бакчисарая, что послал к нему Махмет-Газы-Атталыка, и прибавил с азиатской непоследовательностью и неясностью: «Еслиб, однакож, запорожские казаки от вас... находились в страхе, то это было бы нехорошо: ибо мир между нами заключен таким способом, чтобы никто не смел мешаться в казацкие дела (ze оd tych czas w kozakow z naszej strony najmniejszej przyczynv nie mial sie nikt wazye wdawac), чтобы казаки оставались в своих домах безопасными, и ни один пан или староста ваш никакой войны к их вреду не поднимал; посему, если бы что либо такое вредное обнаружилось, то те клятвенные пакты должны б этим нарушиться. Но сверх того, и в ваших пактах первое и последнее условие таково: кто бы ни учинил запорожским казакам какую шкоду, тот ни другом, ни братом нашим быть не может»... Но тем не менее хан поручил своему послу изустно что-то такое, чем Польша могла бы сохранить за собой дружбу хана.
Далее рассказывает Аноним про посольство Хмельницкого к Потоцкому. Оно было переиначено молвою против того, как описал его находившийся в то время у Потоцкого подольский судья, Мясковский; но рассказ Анонима показывает, как представлялся Хмельницкий той публике, к которой принадлежал мемуарист.
«Посылает Хмельницкий к гетману Потоцкому казака Кравченка, который, не сделав подобающего гетману поклона, тотчас (будто бы) проговорил: «Чи ще ти, гетьмане, не напивсь козацької крові, ізорвеш Зборовські пакти? На що це без потреби стягаєш військо польське над лінією, казаків лякаєш, а люд посполитий губиш? Хоч він вам і підданий, та до такого ярма і мучительства не звик»! Гетман заметил высокомерному и глупому хлопу, чтоб он в другой раз осторожнее приближался и говорил с гетманом, а потом (будто бы) отвечал: «Стою здесь по королевскому ординансу, и буду стоять до получения нового ординанса, или другого случая, выступить отсюда. Старые казаки знают, что и в мирное время войско выходит в поле, а с приближением зимы расходится по зимним квартирам. Стою с войском над линией, хоть и за линией земля наша, Речи Посполитой. Пускай только казацкий гетман похвалится усердием к королю пану, если он верен королю. Для чего же вся Украина вооружается на войну, собираются купы людей, армуются полки? Неужели он думает, что я не замечаю измены его и хитрых поступков»?
«Хмельницкий» (продолжает Аноним, напоминающий с одной стороны нашего Самовидца, с другой — московского Кунакова), «Хмельницкий с умыслом прислал высокомерного хлопа, чтобы раздражить гетмана; но гетман Потоцкий намеревался покарать после невоздержный язык жолнерскою рукою. Проникал он в мысли Хмельницкого: в случае неудачи в Волощине, намеревался Хмельницкий вырвать у него Каменец, напавши на него неожиданно в своем бешенстве».
Так о Хмельницком и Потоцком гласила казако-шляхетская молва, которая изображает замешательства в общественных понятиях о том, что делается в государстве, и которую наша историография выдает нам за точные свидетельства.
Мясковский же писал к своему брату, что 16 октября прибыл к Потоцкому ханский ага в сопровождении Васька из Чигирина, хорунжего Хмельницкого, да Федора Брагиля, писаря его. Они отправляли посольство публично (publice). Отдав письмо от хана, ага требовал объяснения (expostulowаl): о собрании столь великого войска, о котором у них представляют, будто бы оно, по своей огромности, стоит тремя лагерями; о наступлении на казаков; о несоблюдении ни в чем относительно их Зборовского постановления: чему хан очень удивляется, и требует хранить братство с Хмельницким, считая кривду его своею собственною.
«Пан Краковский» (пишет Мясковский) «отвечал, что в нашем отечестве давнишний обычай ежегодно, жолнера, получающего жалованье, держать в обозе под открытым небом, а не в домах. Но этот обоз не причиняет казакам никакой кривды. Мы стоим в 20 милях от казацкой линии, и ничего враждебного не замышляем, хотя казаки поступают с нами неприятельски: ни слова, ни присяги не держат; не выходят не только из Брацлавского, но и из Подольского воеводства; имений наших не пускают; особенно я — слова пана Краковского — имея за Днепром 150.000 доходу, не получил еще и гроша, также его милость пан коронный хорунжий и многие другие. Словом, казаки делают, что хотят, и слуг наших, и шляхты, братии нашей, множество перебили в это время тирански.
На это хорунжий Хмельницкого дерзко (arroganter), не допустив переводчика толмачить, возразил: Не покажецця воно, милостивый пане гетмане: не наше казацьке дило розбивати мужикив: се ваши опришки справляют». Федор поддержал его. (Вот из чего молва сделала невозможную сцену между Потоцким и казаком Кравченком).
«Пан Краковский» (продолжает писать брат к брату, поучая малоруссов отличать былое от небывальщины) «представил доказательства справедливости своих слов: ибо и его собственных слуг за Днепром убили теперь несколько человек, и других перебили казаки, убили и пана Воляновского, и пана Костына, на которого конях ездит Нечай, а прочих подарил Хмельницкому [31]. Спор продолжался с полчаса, и когда переводчик все это пересказал ясно аге, тот сказал: Я сумею (bede to umial) рассказать об этом хану, и которая сторона виновна перед другою, и кто не соблюдет Зборовского постановления, против того будет стоять хан: так и велел он мне сказать.
При этом послы отдали, с низким поклоном письмо от Хмельницкого, в котором письме он настоятельно просит о распущении войска, присовокупляя, что он принужден держать на Синих Водах татар с великими издержками, доставляя из Украины стации, пока не разойдется войско.
После того послы были публично на обеде; их угощали с почетом (byli na obiedzie publice, traklowani honorifice), и после этого посольства уехали в Варшаву».
По словам Мясковского, между Потоцким и Хмельницким уже недели полторы перед тем были дружеские сношения, а неделю тому назад Потоцкий отправил с каким-то тайным поручением к хану Бечинского с Атталыком. Грозы как будто и не было на горизонте, но она чуялась в воздухе, потому-то и носились переделываемые каждым слухи о Хмельницком. Но никто не предвидел казако-татарского набега на Волощину, о котором я должен был прервать повествование, чтоб осветить истинным светом взаимные отношения трех интригующих сил в виду четвертой, лупуловской.
За неимением более точных известий о казацких похождениях в Волощине, приходится и мне повторить слухи, долетавшие до анонимного мемуариста, который, как можно догадываться, был адгерентом дома Замойских и жительствовал в Замостье.
«Вскоре» (пишет он) «полковники Носач, Пушкаренко и Дорошенко с 16.000 казаков ворвались к волохам и соединились под Сорокой с 20.000 Орды нуреддин-султана. Татарская голота, как муха на мед, бросилась на грабеж Волощины. Там люди зажиточные, есть что грабить, а если будут обороняться, то собственною кровью заплатят.
Волошский господарь Лупул, не имея столько войска, чтоб отразить внезапный набег татар и казаков, отослал жену и детей в замок Немец, за реку Серет, и велел там сделать засеку в густом лесу, в буковине, а сам скитался в неприступных горах, ущельях и нетрах. Поэтому неприятели не воевали, а сплошь грабя, опустошали край огнем и мечом, господарскую столицу сожгли, как сожжена из-за Елены Троя, и всю Волощину разорили. Господарь Василий посылал людей на высокие деревья, велел смотреть, в которой стороне видать огонь, и соображал руины. Было у него несколько приближенных поляков. По совету двоих из них, Кутнарского и Доброшевского, опытных в домашних и военных делах, решился он окупиться, и послал переговорить с неприятелем.
Орда уже довольно награбила; казаки опасались поляков, стоявших обозом на волошской границе; поэтому нуреддин-султан вступил охотно в переговоры, и получив 300.000 битых талеров, сверх подарков старшине, выступил из Волощины.
Хмельницкому также было полезно разграбление Волощины: ибо господарь обещал ему отдать дочку за его Тимошка, лишь бы только дал ему после этой руины немного осмотреться. Он до того был прижат к стене, что прежде у него присватывались, а теперь сам он сватался ради мира. Отсчитав жестоким сватам такую громадную сумму, оплакивал он выжженный и разоренный край свой, и поступил по давнишнему обычаю волохов, которые заискивают благоволения у всех и кланяются сильнейшему. Несчастное положение их было таково, что сысподу дым выедает глаза, а сверху на них каплет».
«Удавались эти штуки Хмельницкому» (продолжает эхо современной молвы, Аноним). «Счастливый десперат, он заохачивал Турцию к протекции над собою, Орду отвлек от Московской войны, Москву, обманутую видом предательской приязни, сделал неприятелями поляков, волошского господаря оклеветал, и не пропустил никакого случая повредить Польше. Великое диво! человек низкого происхождения одним природным умом доходил до таких предательских штук и прозорливых мыслей, что не только обманывал глупое поспольство, но обманывал и великих монархов и, словно помраченных чернокнижными чарами, вооружал и соединял на поляков.
Татары, от природы довольно проницательные, поверили, что поляки, будучи не в силах одолеть казаков, хотят выгубить обезоруженных под предлогом Зборовского трактата. Россиянин, устрашенный татарским могуществом, принял протекцию над казаками для обеспечения своего Московского царства; а турок, желая завоевать Украину, предложил им протекцию, и ослабив постоянною войною поляков, надеялся покорить их своей власти. Так-то (заключает с глубоким вздохом современник-мемуарист) одной головы Хмельницкого с его столь быстрым умом было достаточно, чтобы причинить Речи Посполитой такие тяжкие страдания, — того Хмельницкого, о котором все знали, что это был такой великий пьяница, что никогда не просыпался, и, однакож, он один был автором и выполнителем столь страшных руин, бед и кровопролития».
Совсем иной взгляд на казацкие подвиги и единоверной Молдавии усвоили себе от казаков наши предки малоруссы; а как от формации мнений зависят судьбы человеческих обществ, то заслуживают внимания историка и те мнения, которые поворачивают общественный ум вспять, вместо того, чтоб устремлять его вперед.
Казацкие воззрения не оставляют казацких потомков доныне, как и шляхетские — шляхетских. Малорусская историография до настоящего момента угощает публику вот какими взглядами на героя пожогов, руины и человекоистребления:
«Вся страна пылала. Яссы, оставленные жителями, были разорены и сожжены казаками и татарами. Гетман чувствовал себя в положении торжествовавшего победителя, могущего требовать покорности от своего противника, так недостойно его обманувшего и так грубо оскорбившего» [32].
В том крайнем положении, до которого была доведена страна и собственная семья Лупула, он был принужден откупиться и от казаков, как откупился от татар, обручить Роксанду с Тимошком Хмельниченком и дать в залог четырех богатейших бояр, в том числе и своего племянника, как удостоверение, что тотчас после Рождества Христова 1650 года будет свадьба. Но при всей низкопоклонности своей в бедственном положении, при всем своем корыстолюбии и свойственном корыстолюбцам жестокосердии, Василь Молдавский не был до конца лишен человеческого достоинства и сопровождающего достоинство мужества: он решился не выдавать свою Роксанду за казака. Если в этом нехотении участвовало взвешивание борющихся перед его глазами сил, то мужество его возвышается в наших глазах и дальновидным умом, которого не было у казацкого батька. Лупул отправил свою дочь и жену к своему зятю, Радивилу, а в Стамбуле хлопотал, чтоб его освободили от насильственного родства.
Но с Хмельницкого было мало сочетания сына с дочерью князя-господаря: ему хотелось овладеть и самим господарством. Достигнув случайно того, о чем и не думал в начале бунта, он потерял сообразительность, и ему теперь все казалось возможным, как человеку, не имевшему в основе своих действий традиции, наследственности, присущей всем явлениям постепенности и взаимной их зависимости. Пользуясь влиянием своим в Стамбуле, он, вместе с ханом, обвинял господаря в измене, домогался низвержения изменника и просил господарства для себя. Но на весах правившего Портою сераля соперники пройдохи перевешивали один другого. Великий визирь Ахмед запретил выдавать Роксанду за Хмельниченка и потребовал ее в Стамбул, как залог верности отца.
В этом требовании была та же самая горечь насилия над сердцем отца; но для Василя Молдавского магометанское насилие не было столь тяжким, как христиано-казацкое. Он, без сомнения, сам и устроил его, — принес, так сказать, жертву чудовищу Сцилле, лишь бы спастись от чудовища Харибды. Свобода выбора облегчала сердце тирана, не знавшего участия к страданиям чужих сердец, как и его достойный соперник, Хмель.
Казацкий батько между тем видел на своем горизонте бурю, и, в виду этой бури, должен был отсрочить посягательство на придунайские княжества. Он знал, что Польша не до конца расстроена. Он ждал войны, он даже сам вызывал войну, но вызывал, как злого духа, — ужасаясь; и только ангелы хранители его, татары, поддерживали в нем отчаянную дерзость. Чтоб ослабить естественных врагов казатчины, панов, и увеличить число панских неприятелей, подговорил он хана отправить в Стокгольм посольство, которое бы служило прикрытием его собственных сношений со шведами, — тех злотворных сношений, которыми были вызваны грозные для Польши события 1655 — 1659 годов.
В Стокгольме не забыли посягательств Сигизмунда III и Владислава IV на шведскую корону. Теперь Хмельницкий открывал шведам виды на польскую. С другой стороны Турция, желавшая только одного, чтоб казаки не разбойничали на Черном море, — была теперь к его услугам. Хмельницкий получил от султана титул не только Украинского или Запорожского князя, но и Стража Оттоманской Порты. По его просьбе хану было приказано идти к нему на помощь со всей Ордой, а силистрийскому баше — стягивать войска и вместе с обоими господарями присоединиться к Запорожскому войску. Не сомневался теперь Хмельницкий в окончательном покорении Польши под нозе её врагов и супостатов. Злой дух войны облекся перед ним в образ благовестника.
Он делал щедрые обещания своим соратникам, а в Крым писал игриво: «Приходите выбирать мед из Польши. Закуривши под нос ляхам, мы выгоним их прочь, как пчел».
Седмиградский князь, Ракочий, условился с ним — в данный момент сделать диверсию и ударить на Польшу с тыла, а чтобы выгубить шляхту до ноги, завзятый Хмель разослал две тысячи агентов по всему краю для взбунтования не только православной, но и католической черни. «Польская шляхта» (писал он к Ракочию), «идучи за королем, оставляет без обороны свои города и села. Я подговорил мужиков, чтобы вооружились и ударили неожиданно с тылу на занятых войной со мною. Наступи одновременно Турецким, Седмиградским и Венгерским Шляхами, возьми старый город Вавеля (Краков), и обрящешь в нем богатую добычу».
Один московский царь, наперекор молве, не вмешивался в толпу сообщников Хмельницкого, зная, что «вотчина» Иоанна III придет к нему, как выражались в Москве, судом Божиим. Поляки подозревали, что он подсылал Хмельницкому тайком оружие и пушки; но это были слухи одного происхождения с теми, какие через 117 лет были распущены поляками и гайдамаками о подсылке Екатериною великою ножей для Уманской Резни.
Николай Потоцкий стоял под Каменцом в видах прикрытия родной Подолии от казатчины и защиты землевладельцев от оказаченной черни. Отсюда следил он за казацкими сношениями с Турцией, дунайскими княжествами, Венгрией и сообщал о них королевскому правительству.
Волошский господарь горько жаловался ему на казаков, которым он, по его словам, давал убежище в своем княжестве во время июльских замешательств и со всеми обходился человеколюбиво (et omni tractabat humanitate), а они де так жестоко его придавили! Бедствия Польши обрушились и на него (писал он): ибо Хмельницкий выговаривал ему: зачем старался он в Крыму об освобождении гетманов? Для чего их на возвратном пути из плена так радушно принимал? Зачем дает королю деньги на войско? Зачем дружится с ляхами и уведомляет их обо всем, что делается у Порты?
Причиной постигших его, Лупула, бедствий, по его мнению, были также мультянский господарь Бессараб и седмиградский князь, Ракочий, заключившие с Хмельницким враждебный союз против Польши. А теперь (писал он) и его самого Хмельницкий довел до того, что должен был присягнуть ему в том же, сверх того дал письменное обязательство и обещал послать войско в помощь против короля. Сделал де он это по неволе (non tam libenter, quam reverenter): ибо у него над шеей висел неотвратимый (nie uchronny) меч; а этот изменник непременно хотел добыть его, Лупула, где бы то ни было (in omni loco) и добытого умертвить. В таком де положении дел своих прибегал он под покровительство короля, обещая ему всяческую преданность, на сколько это возможно при необходимости исполнить обязательства, данные Хмельницкому. Он готов нарушить вынужденную у него присягу, лишь бы не принадлежать к обществу этого изменника и укрыться под милостивыми крыльями королевского орла.
Так передавал его жалобы и мольбы Потоцкий в письме к королю от 22 октября 1650 года, и ходатайствовал, по его просьбе, о даровании ему польского индигената, дабы приобресть в нем союзника. Что же касается обещанной сыну Хмельницкого дочери, то Лупул, по словам Потоцкого, желал бы ловко уклониться (kcszfaltnie wysliznac) и от этого. Потоцкий просил короля написать к Хмельницкому, чтоб он оставил свое сватовство к подданной Турецкого цесаря, дабы не заподозрить своей верности Речи Посполитой. «Если же такой способ не подействует» (писал Потоцкий), «то, по моему мнению, надобно этот союз расторгнуть мечом, в избежание великой опасности, которая бы вытекла из успехов Хмельницкого в его замыслах», и здесь высказал он мысль, зародившуюся в казатчине еще при Косинском.
В течение полустолетия эта мысль развилась до того, что теперь казалась исполнимою многим. «Намерения этого предателя» (писал Потоцкий) «вот какие войска вашей королевской милости осадить; Ракочия с мультанским господарем выпустить к Кракову; шляхту искоренить (nobilitatem exstirpare); у вашей королевской милости престол отнять, и посадить на него кого-нибудь другого, едва ли не самого Ракочия».
Вместе с тем Потоцкий доносил, что Хмельницкий на те воеводства, которые он удерживает за собой против Зборовского договора, получил султанское знамя и обещал платить с них гарач. «Нам готовится страшное и неожиданное бедствие» (прибавлял он), «Я знаю, что теперь он будет ласкаться, но это для того, чтобы миновало неудобное для него зимнее время, и чтобы привести в исполнение то, что вознамерился и условился с соседями сделать весною. Теперь нам остается одно: или поразить казаков, или перенести войну за границы государства, поуспокоясь дома».
«Обоз» (писал Потоцкий) «распущу через три дня. Сидел бы в нем и дольше, хотя не знаю для чего, когда бы войско не было в такой страшной нужде (gdyby nie to, ze srodze xvojsko nedzne)». А войско Потоцкого, готового и поразить казаков, и перенести войну за пределы государства, не только терпело нужду, причиняемую, как всегда, скарбовою неурядицей, но, под гнетом нужды, и бунтовало. Мясковский писал о нем к брату так: «Того, что я застал в лагере нового, неслыханного и подающего дурной пример (novum inauditum et pessimi exempli), нe могу забыть. Чужеземцы, или лучше нашинцы, одетые по-чужеземски, почти выламывались уже из гетманской юрисдикции, и не допустили судить себя войсковым судьям по старинному войсковому закону.
После сигнала, делали многолюдные сборища, поднимали шум и крик против польского войска. Ударили было уже в бубны и наконец — разграбили базар».
В обществе рассказывали, что когда перед роспуском войска гетман делал смотр, у одного жолнера вспыхнул без выстрела порох на полке, и он сказал: «Это — за недоплаченное жалованье», а потом выстрелил из другого пистолета и сказал: «А это — за уплаченное». Все захохотали, и сам гетман сознался, что голодный и недоплаченный жолнер не исполняет команды.
Из этого лагеря кто-то писал к кому-то от 23 октября: «Хмель замер с войском своим (cicho zapadl z gadziiuy). Как бы не ожил снова, и найдальше — весною. С нами фальшивые, обманчивые церемонии. Тех, которые бегали (у него) из Волощины, обезглавливает и расстригает, а других посвящает».
Далее в безымянном письме следует не менее характеристическая черта по отношению к татарской помощи: «Был в великом страхе, потому что пришел в Украину только с 30.000. Татары все разошлись. Вот когда можно было его напугать или совсем уничтожить. Но он двинулся хитро (usus stratagemale ruszyi): прислал к пану Краковскому грозное посольство, готовясь наступить на обоз, а между тем поскорее убрался на Украину, и этак ускользнул от нас».
В заключение, безымянный корреспондент сетует на королевское запрещение вмешиваться в волошские дела — следующими словами: «Правда, его милость пан Краковский знал об этом, но трудно было что-нибудь делать со связанными руками (zwiazane гeсе majac)».
Кисель доносил королю из Киева от 26 октября, что из Волощины только часть Орды пошла в Крым, а другая за Чигирином в Диких Полях осела на кочевищах... «Здесь все говорят» (писал он), «что если не будут успокоены в религиозных притязаниях и не будут обеспечены заложниками, или присягою, то мир не может быть прочен».
Это значит, что Хмельницкий, действуя на Турецкого султана по-турецки, действовал на Московского царя по-московски, чтобы приготовить себе правоверное, или же православное убежище, смотря по обстоятельствам. То, что во времена оны киевское духовенство едва смело шептать казакам на ухо, теперь оно проповедовало с кровель. И почему же нет? скажут об этом его потомки. Независимо от казаков, которые держали в руках несколько воеводств и давали ему опору вещественную, на эту проповедь уполномочивали его нравственно такие душохваты, какими были Пизон, Поссевин, Скарга, Кунцевич, Рутский и пр. и пр. со всем неисчислимым иезуитским сонмом. Создание этого сонма, униаты, захватили и подчинили папе церкви, в которых были погребены предки людей православных, — не только таких, какие вписывали теперь это напоминание в грознопросительное письмо Хмельницкого к королю, но и таких, какими были Иоанн Вишенский, Иов Борецкий, Исаия Копинский и многие другие «преподобные мужи Россы, житием и богословием цветущие». Если позволительно было католическим прелатам вторгаться в вертоград христианства, насажденный учениками Кирилла и Мефодия, то кольми паче было позволительно потомкам этих учеников удалять папистов из захваченных так или иначе церквей, отнимать у них духовные хлебы и даже уничтожать католические насаждения, дабы они, в римском злочестии своем, не высасывали жизненных соков из почвы древнего русского благочестия. Ею же мерою мерили апостолы папства, возмерилось и им, да еще отмеренная в воздаяние мера была, по писанию, «мерою доброю, натоптанною». Древнейшие русские воспоминания и самое Повислие с его Краковами и Судомирами включало в область восточного проповедания христианской веры. Но мы не вторгались в захваченный у нас вертоград с насаждениями своего благочестия. Девизом нашей проповеди было: «имеяй уши слышати да слышит»... А деспотическое папство вторгнулось в православную паству насильственно, и мирным проповедникам нашим не стало от него житья. Оно исчезало и являлось под новыми видами бесконечно, не оставляя в целости ни древней славы нашей, ни пользования нашим церковным достоянием.
Беззаконие, облеченное в законность, рождало новые беззакония, а злочестие, прикрытое вольностью и равенством, сделалось источником нашей скорби и сетования на гробах благочестивых предков. Наконец, в Королевской земле не стало добра не только худшим, но и лучшим из нас. Тогда в силу закона жизни и свободы, в сущности неразделимых, Королевская земля сделалась Царскою; вольная и бедствующая Польша уступила место рабствующей и благоденствующей России. Оказаченные ляхи Косинские, отатаренные шляхтичи Хмельницкие были в исторических польско-русских судьбах только стихийными карами, ниспосланными регулирующею силою жизни на обладателей польского Содома — Кракова, и польской Гоморры — Варшавы, — на добровольных рабов римского папы, приукрашенных титлами великих монархов и великих панов.
Во что бы ни играл казацкий батько, грозя Москве, прислуживаясь Турции, живя, по-видимому, душа в душу с татарами, но союз хана с королем на пагубу Москвы не состоялся. Хмельницкий превзошел панов искусством загребать жар чужими руками.
Он платил союзникам не своим, а соседским добром. У него за все и про все отвечал неистощимый богач Лупул, которого он, словно ловкий паук резвую муху, запутал в свою паутину. Но хану было не по душе слишком уже ловкое запутывание такой крупной мухи, которая рвала до сих пор всевозможные паутины. Казаки сделались теперь сильны татарам, и именно тем, что турецкий султан смотрел на казацкую Украину, как на широкий шаг правоверных из-за Дуная в области проклятых Пророком гяуров. От него пришло строгое повеление помогать Хмельницкому, как Стражу Оттоманской Империи. Дружба злого к злому перешла в боязнь, и боязнь родила взаимную ненависть.
Согласно уверению силистрийского баши, Мегмет-Дервиша, Потоцкий думал, что туркам был не по вкусу союз татар с казаками; но турецкий вкус менялся с переменой султанских временщиков. Теперь от Босфора ветер дул в паруса Хмельницкого не хуже того, как в былое время с Низу Днепра. Хмельницкий торжествовал, точно Громобой перед рассчетом с дьяволом. Он был теперь, в полном смысле слова,
И сильных бич и слабых страх, И хищник, и грабитель.Откуда бы ни произошла сила, она производит явления соответственные.
Поклонники истины поклоняются ей духом и истиною до конца, а поклонники лжи и насилия рабствуют перед всяким успехом, готовые покинуть своего божка при первой неудаче. Хмелю Хмельницкому, этому «сору Речи Посполитой», стали кланяться не одни восточные попрошайки да киевские попы и монахи, но и гордые паны, о которых после Корсунского погрома пела «Муза яростной сатиры»:
Czyli w lem jakic przcdwieeziie wyroki,
Сzy grzcch nasz sprawil i zbyfcek gleboki,
Kicdy bujajac mysla nieba biizka,
Ledwie patrzymy na ziernig juz nizka. [33]
Хмелю Хмельницкому кланялся в злобе своей, и обветшалый, полуразрушенный «глубоким развратом» герой Кумеек, Боровицы, Старца Днепра. Николай Потоцкий послал ему в подарок оправную саблю с уверением, что королевское войско чуждается всякой враждебности. Потом опять писал к нему приятельский лист (list przyjazny), полный выражений расположенности (dobrego аffektu pelen); как об этом уведомлял брата подольский судья, Мясковский. Кисель объясняет нам, почему так делалось, в письме к королю от 26 октября: «Мила нам отчизна и её спокойствие, милы нам староства в Украине». И поэтому он советовал, — хоть бы секретно (chocby tez tacite) склонить Хмельницкого каким-нибудь почетным (zacnym) подарком к возвращению панам казацких захватов. «Ибо власть его такова» (писал почтенный миротворец) , «что казаки должны все сделать, что он велит». Изобретательный Свентольдович предлагал сделать с этой целью почин складчины в Киевском воеводстве, «лишь бы не явно (bule bylo tacitum). Иным способом» (твердил он готовому на всякую низость Яну Казимиру) «невозможно нам ныне свергнуть иго (excutere jugum) Орды в соединении с казаками и всею чернью, а если присоединится к ним турок, то невозможно и никогда».
Политика, оправдываемая горестною необходимостью, велела под Зборовым панам, а с ними и самому Хмельницкому, отдать в жертву татарскому огню и мечу десятки малорусских городов и сел. Политика, внушаемая отсутствием патриотизма, нагибала теперь им гордую выю перед тем, кого безымянный сатирик назвал «презренным сором». Их воспитали многие поколения в убеждении, что наследственная знатность не существует без богатства, а без знатности и богатства не существует и не должен существовать архичеловек, то есть пан и шляхтич. Самая церковь, основанная просветителями и руководителями их на развалинах церкви благочестивой, стояла, по своему римскому происхождению, на принципе, противоположном учению Христа; «царство мое не от мира сего», и в этом смысле правы были наши ревнители «древнего русского благочестия», называя свою веру не восточною, греческою, русскою, православною, благочестивою, а просто верою христианскою, в отличие от римской, латинской, католической, папской, польской. Перечитывая автентические свидетельства о былом, мы находим и такие факты панского поклонения Хмельницкому, что если бы не знали, как создался новый, так называемый христианский Рим, и как он созидал по образу своему и по подобию Польшу, то не верили бы собственным глазам. Дворянин коронного полевого гетмана, Мартина Калиновского, доносил своему пану из Чигирина от 26 ноября 1650 года нижеследующее:
«По по велению вашмости пана, приехав к пану гетману запорожскому, застал я его в Чигирине. Нашел я у него много послов: от его королевской милости — пана Воронича, а от пана Краковского — пана Загоровского. Этот прибыл с подарками. Был и московский посол с просьбой о мире. Взяв от него подарок, (Хмельницкий) отправил его не весьма любезно (именно с тем) что если (казаки) заключат удовлетворительный мир с Речью Посполитою, то зимой обещает быть к ним (Москалям [34]). Волошский митрополит был у него, прося назначить время свадьбы сына его, Тимка. Назначил (ему) время или на русские святки, или после Трех Королей русских. Отправил его весьма дружески, и послал ему что-то тайком (i cos mu skrycie poslal [35]). От князя Димитрия (Вишневецкого), также и от пана русского воеводы (Иеремии Вишневецкого) были послы с подарками и с просьбой — усмирить хлопское своевольство и привести (мужиков) к повиновению. Все это для них сделавши, благосклонно их отправил».
Интересно это письмо и до конца:
«Я только на третий день мог доложить ему поручение вашмость пана. Сперва принял он меня не очень любезно, за то что приехал к нему с пустыми руками (z niczem), и обиняками намекал, что у меня де множество послов польских королей (polskicil krolovv) и чужеземных монархов приезжало, но ни один с голыми руками не приехал. Я оправдывал вашмость пана, что вашмость находитесь в дороге. А вже ж! сказал он мне. Калиновский тепер худий пахолок, да треба його запомогти. К этому пришил он короля его милость. Король допевняецця в мене правосуддя, а сам його не чинить. Нехай же знає король його милость и Рич Посполитая: коли мени його милость король на сьому сейми Чаплинського не выдаст, до я буду його шукати в Варшави и Гданському, и вже не я його, а вин мий. Потом, обращаясь ко мне, сказал: Скажи ж вид мене пану Калиновському и князеви (Любомирскому): коли хочуть миру, дак нехай мени його видають: бо як тепер вас зачну до й скинчу. В мене татаре, волохи, мултяне, венгры: як вас тепер почну, до вже вична память... Благоволите же ваша милость судить, желает ли этот человек мира? Дело верное, что весной наступит всею силою, не дожидаясь военного времени. Он и так уж говорит: коли справди воювати».
Хмельницкий постоянно находился в противоречии с самим собою: то действовал он по внушению своего мстительного и ревнивого сердца, то внимал голосу практического ума, для обеспечения себя и своего семейства среди домашних завистников, среди разогорченных им панов, среди сторонних соискателей господства в Малороссии. Готовясь преследовать Чаплинского до отдаленнейших пределов Польши, он в то же самое время угождал великим панам, даже Потоцкому и Вишневецкому, а взволнованным им палиям, колиям, резунам и всяким иным истребителям панского кодла вещал своими универсалами точно сердитый Нептун бурным ветрам: «Я вас!»
Такой универсал (от 3 русского октября) был им разослан из Ямполя. В нем объявлял он, «как старшине, так и черни, товариществу войска его королевской милости Запорожского, как меж мещанам и селянам, подданным усим в воеводстви Киевським знайдуючимся», что в нынешнее время, когда пешее войско казацкое выступало в Волошскую землю, некоторые из принадлежащих к «подданству», не будучи панам своим послушными и доброжелательными, напротив будучи их неприятелями, «много шляхты, панов своих, потопили, поубивали», и теперь, не оставляя своего замысла, посягают на жизнь панов и не хотят быть послушными, а затевают бунты и своеволие. Посему, если бы явились еще такие своевольники, которые бы покушались на жизнь господ своих и не хотели им повиноваться, то чтобы таких своевольников сами паны, вместе с казацкими полковниками, белоцерковским или киевским, строго и даже смертью карали. Те же (писал Хмельницкий), которые кровь христианскую невинную пролили и мир нарушили, не избегнут «горлового каранья, якож и тут за тое не одного на горло скарали есмо».
С своей стороны хан колебался между Хмельницким и Яном Казимиром, между казаками и панами. Сперва он ластился к панам, сулил им завоевание Московского Царства, уверял, что казаки — их покорные слуги; теперь вошел в свою роль посредника между ними, и заговорил с королем угрожающим тоном судьи.
Угрозы хана и самого Хмельницкого привели польско-русских панов к необходимости созвать и в 1650 году чрезвычайный двухнедельный сейм. Окружавшие короля сенаторы и другие сановники шумели о казацкой дерзости, о пренебрежении Хмельницкого к королю и Речи Посполитой, о претерпеваемых шляхтою в Украине обидах и убийствах, о стремлении казацкого гетмана расторгнуть с Польшею последнюю связь и создать отдельное гетманство под протекцией султана. Были между ними такие, что, помня опасности последней войны, домогались всячески мира и доказывали, что силы Речи Посполитой слабы, тогда как её бунтовщики сделались могущественны турецкою протекцией; но большая часть представителей шляхетского народа, как в столице, так и в провинциях, взвешивая прошедшее и будущее, пришла к убеждению, что — или Речь Посполитая должна погибнуть, или казаки... Не приходило панам тогда в голову, что должны были неизбежно исчезнуть обе соперничающие республики: панская потому, что и без казаков сама собой губила свою общественность и государственность, а казацкая — потому, что не имела ни общественности, ни государственности.
И вот появился королевский универсал, созывающий поветовые сеймики на 7 день ноября, а генеральные на 22-й, с тем чтобы шляхетский народ готовился к центральному сейму на 5 день декабря. На этом чрезвычайном сейме предполагалось трактовать лишь о двух предметах: о защите Речи Посполитой и об уплате жолда жолнерам.
В инструкции королевского правительства, разосланной на сеймики, говорится,что никогда еще Польша не претерпевала более постыдных поражений, как в последнее время (ро wielkick а przeszlych wiekovv nigdy sromofniejszych kleskach), но что король, разогнав под Зборовым все бури и скопища (vrszystkie burze i navalnosci), осветил шляхту светом любезного и желанного мира (тиlego i poidanego pokoju swiatiem nas rozdwiecii). «Тем не менее» (продолжает инструкция) «обстоятельства велят озаботиться упрочением этого мира на будущие времена, чтобы не было больше повода к новому бунту и внутреннему несогласию»...
Но прежде всего надобно было устроить самый источник постыдных поражений, каких никогда еще не претерпевал шляхетский народ. Об этом в инструкции сказано премудро: «Как в человеческом теле скрытые болезни бывают самыми опасными и трудными для излечения, так и в теле Республики внутренние зла несравненно опаснее внешних. В этом столько раз уже удостоверялось наше отечество, когда от неуплаты жолнерам жолду появлялись вредоносные заговоры, и военное своевольство причиняло Речи Посполитой больше вреда, нежели самый могущественный неприятель. А теперь особенно кто из нас не испытал этого бедствия? Теперь от них пострадали не только духовные и государственные имущества, но и шляхетские. Вопли убогих людей и стоны бедных наверное прошибли небеса и, должно быть, они-то привели за собой и божеское мщение. От незаплаченного жолнера едва ли не в большей опасности была Речь Посполитая, нежели от самого неприятеля. Только счастье короля его милости и труды панов комиссаров (по регуляции скарба и удовлетворению войска) всё это успокоили».
Сознаваясь в государственной несостоятельности своей, правительство ставило вольному шляхетскому народу на вид, что ему предстоит борьба не с далеко находящимся неприятелем, а с таким, который пребывает в границах государства и может наступить недели через две. Оно умоляло своих граждан не делать больше так, как на прошлом сейме, что некоторые воеводства не согласились на налоги, а другие, согласясь, не представили их».
В это время Потоцкий сообщил королю свой взгляд на политику Хмельницкого, и король разослал дополнение инструкции, в котором вопиял к шляхте:
«Пришли к нам обстоятельные и несомненные известия о непрестанных кознях завзятого и заклятого врага Речи Посполитой. Извещаем о них всех писанием нашим. Заключенная Хмельницким дружба с татарами так нерасторжима, что не только совещаются между собой весьма интимно и с великою тайною, но и мановения друг друга взаимно исполняют. Речь Посполитая уже претерпела от этого много непоправимого вреда (irreparabili damno); но вот новое доказательство (их козней).
Распустив слух, будто хочет идти на Москву, Хмельницкий, под предлогом непрочного мира, бросился на доброжелательного Речи Посполитой волошского господаря, с намерением свергнуть его с престола, а потом, подавив и других соседей своею силою и окружив нас со всех сторон, довести Речь Посполитую до последней пагубы (in ultimum extreminium). Легко привел бы он в исполнение свои злостные замыслы, когда бы татары, взявши добрый окуп от волошского господаря и нахватав множество ясыру (opima praeda oblowiwszy sie), не вернулись в свои жилища. Вслед за этим скоплением казацкого войска, и взбунтованная им чернь начала неистовствовать (furere coepit), и несколько десятков шляхетских домов, которые, обеспечась миром, возвратились в свои жилища, истребила с женщинами и детьми. Не высидела бы в обозе горсть нашего войска, на которое он покушался (na ktore sie оп kaszat), и наверное не выдержала бы такой силы, когда бы татары, с таким изобильным (obfitym) полоном, не повредили его замыслам».
Этими словами инструкция снимала с короля ответственность за повеление «не обгонять чужого проса».
«Но предательский во всех поступках неприятель, не довольствуясь одной этой нерасторжимой лигой, ищет все новых и новых способов к увеличению силы своей (ad augendam potentiam suam) на угнетение Республики. Отдался под протекцию Турецкого цесаря, и сам хвалился этим (cum suo applausu), приняв турецких послов при наших послах, а там держит своих резидентов для взаимных сношений (ad communicata consilia). Но еще и в том не меньшее доказательство его предательских замыслов, что, по выходе татар из Волощины, сам опять напал на волошского господаря, и оружием принудил обещать свою дочь за его сына. Если это придет в исполнение, то каждый легко может судить, какие опасности угрожают Речи Посполитой. Прибавим еще то, что недавно татарский хан послал в Швецию своих послов, которые проехали через наше государство, а с чем ехали, не хотели сказать; но не можем иначе думать, как так, что — для возбуждения шведов против Речи Посполитой по внушению Хмельницкого, дабы тем удобнее напасть на развлеченную таким образом со всех сторон от разных неприятелей Республику, и потом придавить. Из всего этого следует, что к весне надобно ждать неизбежной казацкой войны».
Изобразив грозное положение дел, дополнительная инструкция отклоняла посполитое рушение по вытекающим из него неудобствам (incommoditates г niego sami to uwrizyc шоиесие), и предпочитала составить регулярное войско в количестве, достаточном для отражения неприятеля.
Глава XXV. Польша перестает быть государством светским. — Партизанская война в начале весны 1651 года. — Неудачные покушения казаков на Подольский Каменец.
Между тем как Польша была поставлена правительственным сообщением в известность о грозе, облегавшей её горизонт со всех сторон, Николай Потоцкий донес королю из Каменца, что Хмельницкий в Подольском воеводстве, за казацкой линией, записал не малое число селян в казаки, по мнению Потоцкого, для того, чтобы возбудить приверженность к себе в черни (concitandae plebis gratia) в видах предстоящего нашествия на панов.
Войско было сведено с поля 29 октября, но его так трудно было разместить по зимним квартирам, что Потоцкий, по его словам, предпочел бы дать несколько битв. Край был разорен; везде голод и дороговизна, а жолнерам нечем было уплатить жолду. Часть войска расположил Потоцкий вдали от казацкой линии, в близких к украинным воеводствах, а верхние воеводства откупились от постоя платою.
Но в это самое время кто-то писал к кому-то из Бара о казацких замыслах, то есть о ходячих в народе толках, страхах и ужасах. Была де у Хмельницкого рада, на которой казаки совещались: не оторваться ли им совсем от Польши? И что делать, если панское войско не уйдет в Польшу? Было де решено выдержать и вытерпеть всю зиму, а весной выступить вместе с татарами и ляхами потужно в Московщину и, доведя ляхов до московской границы, взять их между себя (wziasc miedzy sie), да и вырезать до ноги, так чтобы не ушел ни один лях (aby i jednego Laelia nogi nie upuscic), а потом запустить глубоко в Польшу татар. «Когда же после татар» (говорили казаки) «добьем ляхов (wybiwszy te Lachy ро Tatarach), тогда уже наша земля счистится, и мы будем пановать в мире». — «Но Господь Бог» (утешал себя писавший), «может быть, скорее счистит их моровым поветрием: уже они там страшно валятся, и лежат, как дрова, на Поднестрии около Шаргорода и далее к Брацлаву. Но мужики наши твердят, что у них что-то злое на уме: ибо наказано им через две недели иметь в готовности лошадей и сухари. Хмельницкий еще в Брацлаве, а татары стоят всюду около Савран».
Между тем казацкие послы прибыли в Варшаву, по современной переписке, «в одной своре с татарскими», а литовский канцлер заметил в дневнике, что они даже заняли общую квартиру.
Татары (говорит корреспондент), в качестве посредников и прокураторов, находили Хмельницкого (точно наши историки) вовсе невиновным в том, что он ходил в Волощину. Не согрешил он, по татарскому воззрению, и тем, что такое множество шляхты перебито; что посылал к турецкому султану послов и отдался ему в подданство. Татары настаивали на исполнении со стороны панов Зборовского договора. А казаки приехали свидетельствовать свое верноподданство (продолжает корреспондент), на все же укоры отвечали отрицанием и незнанием. Все дело было отложено до сейма.
Но мы прочтем так названные покорные petita Хмельницкого.
Уверяя короля, «Божия помазанника», в своем верноподданстве, Хмельницкий писал: «Посылаем наших послов только через эти petita, потому что мы, как простаки, не умеем ходатайствовать изустно (domowic sie nie inozemy). Мы просим о том, что наилучше утвердило бы мир. Пускай этим не оскорбляется маестат вашей королевской милости и освещенный сенат.
«Самый прочный и вечный мир всей Речи Посполитой в панстве вашей королевской милости был бы тогда, когда бы был утвержден присягою их милостей ксендза архиепископа гнезненского, ксендза архиепископа львовского, ксендза бискупа краковского, его милости пана Лянцкоронского, воеводы брацлавского, и его милости подканцлера коронного (Иеронима Радзеёвского), а в залог просим нам дать: князя его милость Вишневецкого, который не желает замешательства и милостиво (laskawie), с давнишних времен обходится с Запорожским войском и с подданными, его милость пана хорунжего коронного, который, прибыв на свои староства, привез нам стародавние привилегии на Чигирин, чтобы здеть резидовать; его милость старосту белоцерковского (князя Любомирского); его милость пана обозного коронного (Калиновского — сына), которые на своих маетностях резидуют, и пускай благоволят охранять мир без единой хоругви войска, а равно без великих дворов и ассистенций, да просим, чтоб они, будучи заложниками, обходились хорошо с нами».
Никогда еще волки не предлагали пастухам более наглого договора. Никогда казаки не думали так презрительно о здравом уме панов, — и они были правы. Перед изумляющимся потомством тех и других лежит письмо величайшего мудреца и глупца в панской республике, величайшего патриота и губителя панской среды своей, Адама Свентольдовича Киселя из Брусилова, от 26 октября 1650 года.
Кисель, назначенный на прошлом сейме, по его словам, «стражем мира», советовал королю, чтобы Речь Посполитая ждала будущего сейма спокойно, для того, чтобы, взвесивши свои и неприятельские силы, могла решить, чего ей держаться, и что замышляют в Крыму, и как у турок трактуют о волошском опустошении, и что затевают внутри (interne machinatur). Доказав ясно, как день, свою химеру, панский Нестор и Улисс приходит к такой мысли, что средством гарантии мира Польша достигла бы расторжения казако-татарской лиги, а это было бы величайшим для неё благополучием (summa ПеирцЫисае felicitas). «И хотя в этом» (продолжает Кисель) «видим нечто недостойное (indignitatem jak%s), но по мне — наибольшее достоинство — спасение Республики (salus Reipublicae, to najwiksza dignitas u mnie). А допустить этого человека до последнего отчаяния, в котором он поддался бы турку с войском и со всем поспольством, вот когда — сохрани Боже — была бы indignitas, а пожалуй, и последняя гибель наша... Когда дело дошло до крайности, всегда избирают меньшее из зол... Мы могли бы и взять и дать заложников, которые были бы вроде пленников у запорожского гетмана, но чтоб они резидовали на Украине за линией, в своих имениях, прилично своему положению. Что лучше: рисковать ли всем, или же все подвергнуть гибели? Можно бы и на присягу согласиться своим способом (swym sposobem) вместо того, чтобы возбудить еще ужаснейшую и злотворную войну. Этих заложников можно назвать комиссарами, и под этим названием передать в потомство, а они присягнули бы, как на комиссию». По мнению Киселя, этим способом, без всякого недостоинства (absque omni indignitate), можно бы удовлетворить и тому, чего желает запорожский гетман для своего обеспечения, и мир утвердить, и разорвать казацкий договор с Ордою, а себе (казаков) присвоить (sobie арргоргиаге) и от Москвы спасти, и мир, заключенный Киселем в её столице, осуществить.
Из этого документа видно, что Хмельницкий обработал стража панского мира с казаками сообразно своим целям, которые грубо, но верно, высказывались в толках поспольства о совместном походе казаков, татар и панского воинства в Московщину.
Еще мало было панам горьких разочарований! Или в самом деле у них, как у кобзарского Потоцкого, был розум жіноцький, доверчивый погибельно? Земля, удобренная кровью и орошенная потом прадедов, сделалась теперь маниею правнуков.
Лишаясь этой земли, вырванной из рук у голодных номадов, татар, несчастные поняли всю цену ей, как утраченному здоровью, как отнимаемой жизни... Только таким образом возможно нам объяснить себе то жалкое забвение национального достоинства, с которым они относились к предателям и разбойникам, лицемеря не только перед совренниками, но и перед потомством.
Но обратимся к покорным петитам «простаков», которые не умели ходатайствовать изустно.
«Просим, чтоб уния, начало всех зол, возмущающая (народ) с давнишних времен, была совсем уничтожена, как в Короне, так и в Великом Княжестве Литовском, а все владычества, кафедры, церкви, обращенные в костелы, или предоставленные униатам, и все имущества, наданные предками владычествам, кафедрам и церквам искони (antiquitus) были бы возвращены, чтобы отныне униты, как они привыкли, своими ухищрениями больше не пускали этого дела в проволочку, и вера наша никаких притеснений не терпела. Свобода богослужения русского, чтобы была невозбранна по старине в городах его королевской милости, как в Польской Короне, так и в Великом Княжестве Литовском. Ксендзы и светские паны римской церкви всяких духовных нашей веры, как в добрах вашей королевской милости, так и в дедичных (панских) не должны принуждать к своему послушанию (dо posiuszeiistwa swego) и взимать с них данин, ни десятин из церковных мест. Просим, чтоб униты, по уничтожении унии в Польской Короне и Великом Княжестве Литовском, тотчас отдали неунитам владычества, кафедры, церкви, грунты, добра; а кто бы оказался непослушным, на таких чтобы была установлена строгая кара. Священники старожитной русской веры, чтоб имели такие вольности, какие имеют ксендзы римской церкви, и никаким светским законам не подчинялись; также чтобы жолнеры у них постоем не стояли. Просим вашей королевской милости, чтобы село Перетынско было возвращено львовской кафедре, а село Кцелев — галицкой капитуле, в границах, означенных в привилегии князя Льва, первого фундатора. Доносим также до слуха вашей королевской милости, что русский народ терпит великие преследования от панов, как духовных, так и светских. Униженно просим, чтоб они никак не мстили. Если бы мы получили определенную линию, то просим вашей королевской милости, чтоб и по за линией наши духовные и русь оставались при своих вольностях и старожитных обрядах, и чтобы не терпели уже от унитов никаких нападков: ибо никакие веры и в чужих землях не подвергаются таким притеснениям и преследованиям, как в нашей земле».
Так желали говорить с королевским правительством те попы и мещане, которых лживые манифестации князя Острожского ввели в баницию. Таким языком имел бы полную возможность говорить он и сам, стоя во главе своего 15-ти или 20-ти тысячного ополчения, когда бы дом его не находился больше во власти иезуита Скарги, чем самого главы дома. Теперь языком, подобавшим ему больше, чем кому-либо, заговорили киевские паны и чернецы из-за спины православного Запорожского войска, которого послы, увы! прибыли в Варшаву «в одной своре» с новыми протекторами православия — татарами.
Как бы то ни было, но в Польше боролись уже не люди с людьми: в борьбу людей с людьми вмешались боги против богов, и вопрос междусословный сделался вопросом междуцерковным. Киевское духовенство заговорило наконец языком власть имеющего.
Тема починания предков под сению созданных и облагодетельствованных ими храмов была высказана в «покорных петитах» так выразительно, как будто все наши Святославы, Брячиславы и Мстиславы подали из-под родной земли голоса свои, — высказана была так требовательно, как будто сонмы зде лежащих проснулись для решения старого спора о том, чью веру следует признавать христианскою. В смешанных воскликах близких предков нам слышится приговор отдаленнейших, — приговор над пришельцами и отступниками: «Вы отнимали духовные хлебы у нашего потомства посредством Городельского и других подобных Городельскому, по вашему законных, актов. Ваши Ягеллоны, ваш Трансильванец Баторий и ваши шведы Вазы тревожили наш вечный сон возглашением в русских церквах того, от кого Русь не принимала веры. Идите же прочь из земли, просвещенной христианством, которое проповедали и утвердили в ней Антонии, Феодосии и другие преподобные мужи Россы, процветавшие и богословием, и самим житием своим. Нет вам, пришельцы-напастники, ни же вам, туземцы-отступники, друзья и слуги их, нет вам удела здесь, до черты той области, которую присвоили римскому папе ваши Войцехи да Владиславы! И вам среди нашего верного потомства нет удела, наследники древних русичей, совратившиеся в науку веры немецкую, родоначальницу ересей, отвергнутых единою соборною церковью, как и «кривая вера» латинская. Нет удела и вам, что сохранили на себе лишь образ древнего русского благочестия, духа же его давно отверглись. Ваши отцы и деды позволяли детям своим католичиться и еретичиться, предавая в руки иноверцев имения свои и подданных своих, а вы стоите ныне в одном стане с иноверцами против городов и сел, не признававших и не признающих вас ратоборцами церкви и веры своей. Изыдите из нашей земли вместе с тем, на служение которым выделили вы изсреди себя всех лучших и всех худших. Найдут себе потомки наши иных князей и вельмож, верою крепких, непоколебленных со времен крещения Руси, и будут с ними одно стадо, под единым пастырем, Христом».
Таков действительно был приговор живых представителей Малороссии от лица усопших, сказавшийся в «покорных петитах», — тех представителей, которых нам не стыдно называть малорусским народом, — и этот приговор оказался безапелляционным.
Не чуял в душе ничего подобного глава наших отверженцев, Адам Кисель.
Склоняя короля к уничтожению унии, он, со всею силою своего красноречия, уверял его, что сам он, Кисель, по милости Божией, благоприятствует католической вере (klorej и ja za lasku Boza przyjacielem jestem), и что переход из обряда в обряд равен перемене одной одежды на другую. Он писал, как о деле, известном королю иезуиту, что лет пятнадцать трудился с Оссолинским над соглашением православия с католичеством, и что эти труды оперлись о самый Рим (i te ргасе о sam Rzym орлиz у sio). Он, очевидно, считал соединение малорусской церкви с польскою только делом времени, в виду совершившегося уже соединения национальностей. Но католический Рим не делал попятного шага в своих притязаниях, чего бы они ни стоили подчинившимся им народам, и, как увидим ниже, потребовал от своих добровольных рабов, поляков, защиты «дела Божия», не обращая внимания на дела человеческие.
Зато и с другой стороны проявилась необычайная напряженность религиозного, вернее сказать — церковного чувства. Кто и благоприятствовал до сих пор, подобно Киселю, римской пропаганде в её апрошах, как его приятель, Сильвестр Косов, и те теперь молчали, идучи следом за массою киевского духовенства. По общей участи высоких идей, осуществляющихся в низменной среде, наше малорусское православие потеряло много той чистоты, которою сияло в трудную для него эпоху Вишенского и Борецкого: но тем не менее дух его проповеди оставался несоединимым с духом проповеди римской, по своей противоположности, и каковы бы ни были наши православники вообще, но между ними не переводились ни такие молчальники, каким был Исаия Копинский, ни такие застолпники, каким видим мы вопиющего в польско-русской пустыне Афанасия Филиповича. «Соль земли» не могла обуять в Малороссии, и «свет мира» не мог погаснуть в удаленных от мирской суеты убежищах богословия.
Знали это римские прелаты по многолетней стойкости Малороссии на своей вере, и стали в упор против нашей национальной церкви по вопросу о том, чтобы «не быть и самому имени унии». При невозможности покорить русскую схизму духовными средствами, они действовали средствами вещественными, казуистическими. Они опирались на законы, установленные беззаконно, и говорили: «Уния с римскою церковью установлена в национальном синоде и утверждена святым отцом: пускай таким образом и уничтожается». Другими словами это значило: скорее должна погибнуть Польша, чем прекратиться римское беззаконие в Польше. Считая волю святого отца законом, а противящихся ей беззаконными, поляки сделались патриотами во имя погибельной для них римской политики. Папское знамя заменило у них национальное, а церковь заняла место государства. Чего боялась при Владиславе шляхта, то постигло ее при Яне Казимире: Польша перестала быть государством светским, а это вело неизбежно к тому, чтоб она и совсем исчезла с карты государства.
В последнем заседании чрезвычайного сейма, 24 декабря, была объявлена церковная война всеми голосами. В ксендзовско-патриотическом энтузиазме, правительствующая шляхта решила — не только собирать подати для уплаты регулярному войску, но созвать и посполитое рушение. Явилось единодушие в постановлениях, единодушие в пожертвованиях, явилась даже строгость относительно собирания налогов.
В ответ на покорные petita Хмельницкого, представлявшие теперь уже ультиматум не только казацкого, но и малорусского народа, король отправил Украинскому комиссару Киселю ультиматум панский, для предъявления Хмельницкому. От казацкого гетмана паны требовали, чтоб он прежде всего (ante omnia) отрекся и отступил от всех союзов (foedera) с иноземцами, и чтобы войска свои вел туда, куда ему будет повелено, а именно против Порты, еслиб то было нужно. «Ибо он» (писал король Адаму Киселю) «запряг (auctoravit) шею свою в новые присяги язычникам, и сам же нам в письме своем хвастливо (jactanter) об этом сообщает, говоря, что никто этого союза не разорвет. Вот какие задатки мира со стороны самого Хмельницкого! Что же касается веры, то такой мир скорее можно назвать крайним порабощением (extremae imago servitutis): русину, который желает быть унитом, он велит быть дизунитом».
На это Кисель мог бы отвечать, что паны, с королями своими, никому не повелевали быть унитом, или католиком, однакож сделали так, что теперь он один только из православных сидел в сенаторских креслах, которые в среде литовских сенаторов принадлежали прежде, за исключением одного или двух, православным и протестантам. Но Кисель был конфидентом Оссолинского, Могилы и Косова по тем трудам, которые «оперлись о самый Рим». Он высказал одну только правду, да и то не королю. Убеждая Радзеёвского, теперь коронного подканцлера, сделать попытку к миру и после казацкого задора, и сожалея, что приласкали православных духовных, он писал: «Скажем другу правду: ссорят нас духовные с обеих сторон», и этим подтвердил слова пьяного Вешняка.
Рядом с достопамятным изречением об унитах, королевские советники написали от имени короля к Адаму Киселю следующее: «Что касается войска, то какая в том справедливость, что нашим хоругвям и в собственных стоянках не дозволяют сидеть у линии, а казаки присвоили себе право вымышлять и указывать ляхам границы? А в новой казацкой милиции какое это равенство и какая безопасность (jaka to paritas, jaka securitas), когда против нашей воли и выписчики, и реестровые пользуются свободой и саблей, а Речь Посполитая остается при умеренном войске»?
Паны, строители Польши из русских развалин, видели в чужом глазу сучек, а в собственном не замечали и бревна. Злоупотребления нравственным правом далеко превышали в Речи Посполитой вытекавшие из них злоупотребления революционным бесправием.
Уверенные в своей правоте, правительственные паны писали теперь от имени короля к Адаму Киселю: с энтузиазмом, достойным благоразумнейшего дела, что «сильно уповают на Бога, подавшего им в руки меч на оборону добрых и покаранье злых», и повелевали Киселю, дождавшись другого комиссара, Станислава Лянцкоронского, потребовать от Хмельницкого в заложники детей его для обеспечения комиссии среди черни и казаков. Они надеялись устрашить Хмельницкого сеймовым постановлением о двояком вооружении.
Здесь надобно вспомнить, что в их среде не стало того, кто, как видим, не напрасно уверял папу, что поляки больше занимаются борьбой с гражданами своими за веру, нежели безопасностью и целостью общего отечества. Оссолинский почил от славных и вредоносных дел своих 9 августа 1650 года. Дошедшие до нас пасквили говорят, что смерть поздно освободила от него Польшу, а соучастник шашней его, Ян Казимир, редко бывал так весел как в день его смерти: Оссолинский унес в могилу не одну тайну могущественнейшего и непобедимого монарха. Канцлерство сделалось теперь достоянием лица духовного бискупа Андрея Лещинского.
Ксендз канцлер уведомлял Киселя, что казацкими комиссарами назначены большею частью те, которых он сам предложил; что инструкция предстоящей ему комиссии будет двоякая: одна явная, другая тайная; что первая уже готова, но составление второй требует больше времени и хлопот. По его словам, паны искренно желали мира, но готовили и регулярное войско, и посполнтое рушение. Если удастся склонить Хмельницкого к миру, то оба войска, казацкое и панское, немедленно выступят против неприятеля Св. Креста.
Таким образом шляхетский народ, заплатив так дорого за свое противодействие Турецкой войне Владислава IV, теперь был готов осуществить его намерение.
Немудрено, что правительственные пигмеи, с пигмеем королем во главе, стали титуловать уничиженного ими короля Владиславом Великим.
От 5 января 1651 года Ян Казимир публиковал первые вици, долженствовавшие служить и за вторые, с тем чтобы шляхта, по получении третьих, садилась на коня.
14 февраля послан был сендомирский каштелян, Станислав Витовский, в Москву с просьбою, чтобы царские бояре сносились с королевскими полководцами и дозволяли добывать у себя съестные припасы; чтобы было дозволено польскому войску проходить через Московскую землю; чтобы донские татары царские ударили на крымских и ногайских, когда королевское войско наступит на неприятеля.
Кисель заблаговременно убрался из Киева и, в ожидании результатов чрезвычайного сейма, жил в своей Гоще. Он был так болен хирагрою, что писал чужой рукою и, между прочим, хлопотал о пожаловании ему богуславского староства, выставляя свою цноту в таком виде, что возбуждал смех даже в варшавских своих приятелях. Он спекулировал любовью к отечеству до самой смерти, и в этом смысле был истинный поляк, о котором русский поэт сказал:
«Не верю чести игрока, Любви к отчизне поляка».В числе подвигов, которыми Кисель гордился и которые паны, по своей женской доверчивости, считали чем-то серьёзным, были его переговоры с Хмельницким. Из Гощи он уведомлял короля, что убедил Хмельницкого отказаться от своего «нового, несносного требования в его петиции и от всяких враждебных действий», причем представлял изобретенные им средства, какими возможно умиротворить его сумасбродное варварство (vesanam barbariam) по предмету вышеозначенной просьбы. (Так относился Кисель к церковной унии). Он разослал универсал и к обывателям Киевского воеводства, обнадеживающий их в успехе его комиссарских внушений тому, кто столько раз уже и словом, и самим делом заявил, что удовлетворится только тогда, когда погубит и самое имя польское. В качестве «охранителя мира», как величал себя Кисель, он был похож на слепого сторожа горючих материалов. Король писал к нему, что казаки хозяйничают и за линией, а с другой стороны наказный брацлавский полковник, Кривенко, еще в ноябре жаловался брацлавскому воеводе, Лянцкоронскому, на панов-жолнеров, что они переходят за казацкую линию, берут провиант, грабят людей, причиняют казакам нестерпимые обиды и называют своими местечки Морахву, Красное и другие, уступленные казакам по Зборовскому договору. Теперь же по всей Польше тысячи голосов повторяли слова королевского воззвания: «Уповаем сильно на Бога, подавшего нам в руки меч на оборону добрых и на покаранье злых», разумея под добрыми шляхту и католиков, а под злыми — казаков и схизматиков. Недоставало только несчастного случая, чтобы горючие материалы воспламенились.
Слова Вешняка и слова Киселя, сказанные одним в пьяном, а другим в трезвом виде о духовенстве, ссорящем вооруженные массы с панской и с казацкой стороны, поясняют многое в истории Польской Руины. Мы знаем, как давно казаки начали хлопотать о том, чтобы поднять и мещан и селян против душманов и душохватов, вообще — против ляхов не только римской и немецкой, но и русской веры. Последних они обрекли на изгнание и на истребление не за веру и не за панство, а за то, что их русские кости обросли польским мясом. Злоствые посевы в сердцах поспольства, как со стороны поповствующих, так и со стороны казакующих, принесли теперь обильный урожай, и потому-то Хмельницкий войну за свои личные обиды соединил с войной за христианскую веру.
То же самое происходило и с противной стороны. Боги к богам всегда завистливы.
Были завистливы и все творившие богов по образу своему и по подобию. Но нигде и никогда божеская зависть не доходила до таких крайностей, как в католическом свете XVI и XVII столетий. Нигде и никогда не являлась она среди славян в таком погибельном бессмыслии, как в Польше. При Владиславе IV в следствие терпимости королевского правительства, она упала было до того, что католическая шляхта даже на сейме проклинала папу. Но иезуит-король во всем потакал духовенству и его дикой политике, а Хмельницкий, взявши кровавой рукой чистое знамя малорусского православия, подливал масла в пылающий фанатизм католической партии.
Варшавский Аноним, очевидно ксендз, вписал в историю Польского Разорения красноречивую страницу, когда пришлось ему описывать чрезвычайный сейм. По его взгляду на католичество и православие, даже Кисель был враг римского папы, и письмом, убеждающим короля к церковным уступкам, оскорблял религиозное чувство поляков.
«В этом письме» (говорит он) «дух схизмы бьет на униатскую веру, так как и сам он был схизматик. Кисель говорит: пускай восточная и западная церковь будут одна овчарня: ибо глава обеих — Христос, преемство у обеих идет от апостолов, одни святые учители и одно учение; одна без другой не может существовать; в церемониях и обрядах различаются по различию языков, но это не беда, когда они имеют: одни основания и начала от Господа Христа; и для чего же пороть Христову ризу не сшитую, называя (последователей той и другой) унитами и дизунитами? Для чего разделять церковь, которую соединил Бог? Когда мы примем и утвердим это основание, то не будет разницы в словах, не будет и диссиденции между народом, исчезнет соревнование, прекратится война.
«Кисель» (продолжает фанатик) «призвал во свидетели тех, которые вместе с ним трудились над Зборовским миром: они де согласились на уничтожение имени унии, но исполнить это обещали его товарищи словесно, не включая в публичный документ мира, дабы это было благодеянием согласного отечества, не вынужденным казацкою войною. Если де стоят этого тридцать униатских церквей, чтобы разорить и опустошить несколько тысяч храмов благочестивых, и через то погубить миллионы христианских душ; если эта малая летороль, отщепленная от греческой и не прирослая к римской, будет разумным основанием такой тяжкой войны, то лучше теперь совещаться о безопасности жизни и здоровья, а потом, успокоив отчизну, созвать на это синод, удовлетворяя волю духовенства, и на нем обсудить это различие».
«В ответ на это» (говорит Аноним) «поднялся страшный крик в Посольской Избе (не в Сенаторской, состоявшей на половину из бискупов, а в Посольской, где заседали представители светской шляхты)». Как козел не будет бараном (завопила шляхта), так схизматик не будет искренним охранителем католической веры; а тот, кто принадлежит к одной и той же вере с хлопами, не может оборонять шляхетские вольности. Вера это дар Св. Духа; Дух Святый это иероглиф вольности: где хочет и как хочет, дает он вдохновение. Как! для схизматиков да для обжорства и бунтов глупого хлопства, сделать невольниками шляхту и не дозволить им так веровать, как повелевает Святый Дух, а так (пусть веруют), как предписывает сумасшедшая и пьяная голова Хмельницкого, под предлогом обороны веры (prelext zmysliwszy obronv wiary)! Вот какой проявился новый доктор чертовской академии! Недавно выпущенный на волю чернорабочий хлоп отнимает у поляков дар Божий, святую веру. Если не нравится (им) слово уния, то (нам) не нравится схизма. Пускай же отрекутся учения своего схизматика патриарха, оскверненного арианскими ересями безумца, посвященного бисурманскою властью, и все соединятся с западною церковью и назовутся правоверными: на это Польша согласится легко, а Кисель, киевский воевода, пускай не будет проповедником казацкого учения, если хочет быть в числе польской шляхты, а не в звионзке казацкого бунта»!
Вот под каким знаменем выступила наконец Польша! под знаменем развратителей её государственности, общественности и семейности. Свободный паче всех народов шляхетский народ не признавал свободы совести в том народе, который раньше его принял христианство, и даже родоначальников польского имени видел крещенными по обряду церкви греческой. Признав девизом своим религиозную нетерпимость и проповедуя веру, как магометане, с мечом в руке, поляки оправдали казацкое вмешательство в церковные дела, и поставили московского царя в необходимость отстаивать присвоиваемые папистами владимировские и ярославовские храмы.
Но в составной польской нации было много иноверцев-иноплеменников, которые худой мир предпочитали доброй ссоре, и они-то способствовали образованию комиссии для переторжек с Хмельницким. С другой стороны и между казаками были такие, которые высказывали втайне, что Хмельницкий посягает на то, что ему не следует по народному праву, и должен сам нести ответственность за свое предприятие, они же готовы отстать от него, лишь бы наслаждаться спокойствием. Искушением Хмельницкий увлек на свой путь одних, а террором принудил идти за собой других; но прожитые с панами столетия делали в Малороссии свое дело, и многие из наших предков, казаковавших по воле и по неволе, оглядывались назад с сожалением и раскаянием. Этих людей Хмельницкий знал; он их вокруг себя чуял; он их боялся, — и вот почему, стоя во всеоружии нового покушения на панов, или как он выражался по-казацки, на ляхов, не отказывался от мирных переговоров. Притом же у него, как у демагога, не все ладилось одно с другим. Турки потому содействовали его союзу с татарами, что неудачи Венецианской войны пугали их; а татары потому ладили с ним, что не смели ослушаться султана. Но хан долго не соглашался лично участвовать в новой войне с панами, и отправил к нему в помощь нуреддин-султана с 10.000-м отрядом, дав при этом нуреддину тайный наказ избегать сражений и состоять при Хмельницком лишь в качестве стражи; только в случае крайней опасности, обещал хан прийти к казакам на помощь со всей ордою, когда наступит весна.
С обеих сторон, с панской и с казацкой, дела стояли в таком сомнительном положении, что иногда склонялись, по-видимому, к миру, а иногда — к войне. Кто чего сильно желал, тот и веровал — или в возможность мира, или в неизбежность войны.
Полагаясь на обещание хана и на вспомогательный отряд его второго соправителя, Хмельницкий, в феврале, выступил из Чигирина и направился к Бару. Слух о том, что казацкий батько идет кончати ляхив, поднял на ноги всю малорусскую голоту, чаявшую так называемого «панского добра». Оборвыши мечтали о кармазинных жупанах, босоногие говорили, как поют у нас и доныне об уманских гайдамаках:
«Будем драти, пане брате, С китайки онучі!..»бывшие гречкосеи вдохновлялись подвигами Перебийноса и Морозенка.
Оставляя без внимания королевских комиссаров, казаки старались предупредить соединение панских войск. Но это им не удалось. Главное начальство над войском, сколько было его в готовности, король поручил полевому гетману, Мартину Калиновскому, а Потоцкого удержал при себе, под тем предлогом, что ему необходимы советы главного сенатора, но правдоподобнее, как были слухи, потому, что не доверял его распорядительности. Впрочем коронные гетманы, враждовавшие и теперь один с другим, как под Корсунем, не были и порознь один лучше другого. Потоцкого одолевала дряхлость, Калиновского — запальчивость.
Очутясь, по милости короля, главнокомандующим, Калиновский стянул войско к Бару и, узнав, что мужики бунтуют в Браиловщине, решился разгонять их казакующие купы. 19 (9) февраля выступил он из Бара по направлению к Линцам, с целью преградить путь неприятелю. Остановясь вечером в местечке Станиславове, он узнал, что брацлавский полковник, Нечай, один из главных бунтовщиков, которого казаки считали, первым лицом после Хмельницкого, занял местечко Красное, принадлежавшее, по Зборовскому договору, к панской территории, а не к казацкой, как вопиял наказный Нечая.
В порыве запальчивости, Калиновский был неустрашимый воин. Его терзало воспоминание о Корсунском погроме, вину которого приписывал он справедливо Потоцкому. Не завися теперь от его старшинства, полевой гетман кипел жаждою боя, как юноша. Таков был в своем гайдамачестве и полковник Нечай, с придачею вдохновительного пьянства. Не обращая внимания на целое войны, оба полководца в смелом ударе видели всю её сущность, и вот они столкнулись, — пан, исключавший казака из жизни и её прав, как разбойника, казак, исключавший пана, как ляха и душмана.
Под начальством Калиновского воевали теперь многие шляхтичи с древними, прославленными именами, обездоленные нечаевцами, изгнанные из предковских займанщин, ожесточенные кровавыми утратами. Войска у него было всего 12.000; но еслиб оно свою жажду возмездия вдохнуло посполитакам, казаки были бы истреблены до ноги, как они желали истребить всех действительных и номинальных ляхов.
Выступление Нечая за казацкую линию Калиновский считал достаточным поводом к тому, чтобы возобновить Збаражскую и Зборовскую войну. В сущности война и не прекращалась, но кипела глухо, как отодвинутый от жару горшок. Теперь она заклокотала по-прежнему.
В авангард отправил коронный гетман брацлавского воеводу, Станислава Лянцкоронского, и в понедельник, на масляной, выступил из Станиславова с главным войском. Нечаевцы не предполагали в панах такой быстроты, и спокойно занялись провожаньем своей пьяной масляницы. Казацкая песня, в свободе своего творчества, заставляет и куму Нечая, гетманшу Хмельницкую, бражничать с казаками. Когда ему донесли, что идут ляхи, —
Козак Нечай Нечаенко На те не вважає, Та з кумою з Хмельницькою Мед-вино кружає. Бо поставив Нечаєнко Три сторожі в місті, А сам пійшов до кушоньки Щуку-рибу їсти...На русичей шли русичи, на православных — большею частью православные. В авангарде Лянцкоронского, потомка казацкого гетмана, были: черкасский староста, брат Адама Киселя, улановский староста, представитель недавно еще православных Песочинских (по-польски звавшихся теперь Пясечинскими), и другие русского происхождения паны. Пируя с казаками в Красном, Нечай не обратил внимания на появление в местечке ляхов. Он думал, что это пришел к нему из Мурахвы сотник Шпак. Но вскочить на коня и броситься в свалку было для него делом одной минуты. Песня, не умолкающая в Малороссии доныне, восхвалила знаменитого лыцаря словом крылатым:
Ой не встиг же Нечаєнко На коники спасти, Тай став ляхів, вражих синів, Як снопики класти...А славный современный мемуарист, участвовавший в походе, пишет, что хоть он был навеселе, но, вскочив на коня, стал сражаться, как подобало храброму юнаку, и перначем своим подгонял казаков к бою. Но, среди беспорядка и суматохи, не мог Нечай организовать сопротивления и, мужественно защищаясь, образцовый гайдамака, слава и краса казатчины, пал в битве со многими казаками.
В популярном Нечае Хмельницкий потерял столько же, как и в образованном по-иноземному Кричевском. За серебряный пернач казацкого лыцаря ссорились потом гетман Калиновский с воеводой Лянцкоронским, как за трофей, достойный спора коронных полководцев, и это лучшее, что казаки могли бы отметить в истории славы своей; но они были такие варвары, что их сыновья и внуки, желая славить отцовские и дедовские подвиги, только лгали про них, и потому любителю правды осталось угадывать ее только в сказаниях казацких врагов, среди естественных предубеждений.
До Варшавского Анонима дошел о Нечае такой слух, что с ним было 3.000 казаков ветеранов, кроме мещан; что панский авангард очутился было среди них в отчаянном положении, но к нему подоспел Косаковский, командовавший брацлавскою шляхтою, которую нечаевцы повыгнали из её домов; что вслед за Косаковским прибыли драгуны, вырубили палисад, зажгли местечко и выручили своих передовиков, «почти уже погибших» в торжестве над Нечаем. Обороняя брата Данила, погиб и Матвей Нечай.
Шляхетский мемуарист приписывает славу победы над знаменитым казаком какому-то Добосецкому, который де едва не схватил его живьем, но к Нечаю страшно было приступить и Добосецкий застрелил его. Кобзарская Илиада поет, что ляхи застрелили Нечая серебряной пуговкой, как характерника, которого пуля не брала. Мемуарист не мог отказать шляхетскому сердцу в отраде: по его рассказу, падшего наконец Нечая изрубила саблями шляхта, изгнанники Брацлавского воеводства, как хищника имений своих (jаtko wydzierce fortun swych)».
По рассказу Освецима, участвовавшего в походе Калиновского, знатные казацкие сотники Гавратынский, Красносельский, брат Нечая (Иван), Степко (Билоченко) и другие, с значительным количеством стрелков, отступили в замок. К замку можно было приступить лишь со стороны става, но и там защищали замок поделанные во льду проруби. Все-таки гетман послал иноземную пехоту на приступ, не давая казакам опомниться от первого удара. Казаки отразили приступ. Тогда панская конница, спешившись, поддержала пехоту, и с распущенными знаменами взбежала на валы. Не помогло и это. Битва была отсрочена до следующего дня. С рассветом начался новый приступ; спешившиеся всадники помогали пехоте; гетман командовал приступом лично; под ним даже был ранен конь. Но сколько ни горячился Калиновский, жолнеры к вечеру выбились из сил, и ночь опять развела сражавшихся. Казаки, однакож, потеряли уверенность в себе, и ночью многие пытались бежать. Не вписанный в казацкий реестр их сотник, шляхтич Гавратынский, попал в плен и был потом расстрелян. Жидкевич (или Жидовчин), писарь Нечая, также попал в плен, но впоследствии был освобожден.
Гетман отправил одни хоругви за бежавшими, а другие ворвались в замок и там изрубили всех казаков, как видно по рассказу, павших с оружием в руках. Когда кровопролитие кончилось, жолнеры нашли Нечая во гробу, над которым стояли попы и, не обращая внимания на тревогу, молились об упокоении души казацкого лыцаря.
23 (13) февраля коронный гетман сжег в Красном город вместе с замком, и двинулся в Мурахву, где собралось 2.000 казаков под начальством сотника Шпака, которого украинская песня представляет виновником оплошности Нечая:
Як заквилить-крикне пугач Із темного гаю: Загукали козаченьки: Втікаймо, Нечаю! Не честь мені, не подоба Зараз утікати, Славу мою козацькую Під ноги топтати. Є у мене Шпак Шпаченко, Козак вдовиченко; Ой той дасть Нечаю знати, Коли утікати.Если шляхта столь часто помышляла о бегстве, то казаки, родные чада шляхты, думали о нём еще чаще, и в таких случаях оказаченные города свои оставляли на произвол судьбы. Шпак Шпаченко убрался из Мурахвы куда-то к Днестру, который прежде был седалищем шляхетской, а теперь сделался притоном казацкой вольницы, как река пограничная. Мещане и мужики прозелиты казатчины затворились было в городе, однакож, не возмогли стоять против жолнеров и перешли из города в замок.
Здесь опять они сплоховали, выдали пушки и порох, принесли присягу и представили одного иссреды себя, как зачинщика бунта; наконец просили гетмана оставить у них в замке гарнизон, который бы защищал их от своевольных людей. Но разбой и грабеж был давнишнею болезнью Речи Посполитой Польской, особенно в Украине. Восстановители порядка, панские жолнеры, начали разбивать коморы, грабить провизию, мед и все прочее совершенно так, как это делали нарушители оного, казаки, со времен Гренковича, Косинского и Наливайка. Между гетманом и воеводою началась уже ссора за Нечаев пернач, и недавний татарский пленник, в пику герою Збаражского осадного сиденья, велел повесить одного из его жолнеров.
По словам лучшего из польских мемуаристов, Калиновский усмирил жителей Мурахвы лишь настолько, «насколько это было возможно в то время». Житейское море в Речи Поеполитой было воздвизаемо бурею напастей с разных сторон, и тихое пристанище обрели наконец только вопиявшие к Тишайшему Государю, да и в его страну казаки внесли волнение, продолжавшееся до времен Екатерины Великой.
Февраля 27 (17) войско двинулось в Шаргород. «Мещане этого города» (пишет Освецим) «озаботились заблаговременно своею безопасностью: за два дня до прихода войска, они прислали к гетману изъявление своей покорности и высказали готовность, как верные королевские подданные, впустить войско в город. Обещания свои они действительно сдержали. Когда войско простояло несколько дней на квартирах в Шаргороде, прибыла к гетману депутация от мещан из Черниевец с заявлением готовности выдать оружие и принести присягу верности; точно так же поступили и другие близлежащие города.
Повторялось то же явление, что и во времена похода Жовковского за Сулу. Бедный народ не знал, как ему быть между двух сил, из которых одна была своя, с примесью польщины, а другая своя, с примесью татарщины. Против первой вооружали его, без сомнения, натерпевшиеся от унии и от могилян попы; против другой не вооружал его никто, но казаки были друзья только до черного дня, и, кроме того, за казакованье с казаками приходилось ему рано или поздно считаться с панами, а не то — платить Орде за её помощь против панов своими женами, детьми и самими собою.
Но как бы ни были правы, даже святы, паны в собственном сознании и во мнении католической Европы перед русским населением Польши, — казуистическое насилие общего их правительства над русскою совестью по отношению к благочестивым предкам и грекорусской старине отчуждало их на веки от участия в тех правах на обладание древним русским займищем, которые присвоивали себе исключительно люди веры христианской, а такими людьми, по национальному, выработанному малорусскою церковью воззрению, были только те, чьи русские кости не обросли польским мясом, — те, которые не ходили на совет нечестивых, не стояли на пути грешных, не сидели на седалищах губителей; нечестивыми же, грешными и губителями, по суду афонских да печерских мужей Россов, вынесших в целости нашу национальность из потонной польщизны, были, как мы уже знаем, все князья и все паны без исключения. Не понимают, не хотят понять этого полономаны и в наше время; а в тот хаотический век мудрено было понять правду подобного суда Калиновским, Лянцкоронским и Киселям. Они только видели, что прут против рожна, и их раздражительность, равно как и их снисходительность, кротость, уступчивость были одинаково для них вредоносны. Тот же самый народ, который в одном городе казался им доверчивым, в другом с ними лукавил, а в третьем являлся диким. Кто правил умом и чувствами миллионной массы в её переменчивости, никогда бы паны не доискались, потому что сказанное шепотом слово делало с нею дивные превращения.
В начале римского марта Калиновский двинулся к Стине, в которой заперлись казаки и мужики из разных других местечек. На походе встретило его двое мещан из Стины с просьбою о мире от всех жителей, и взялись проводить панское войско. Но в окружавшие Стину хутора набежало множество мужиков, вооруженных самопалами, луками и другим оружием. Они стали стрелять, произносили угрозы, крутили ляхам дули [36] и даже выставляли задние части тела. Долго это христолюбивое воинство защищало вход в хутора и в нижний город, наконец его прогнали, овладели хуторами и нижним городом.
Защитники нижнего города отступили в верхний, обороняемый местоположением.
Попытка взять его приступом оказалась безуспешною. Начались переговоры.
Осажденные предлагали окуп в 4.000 злотых и просили гетмана пощадить их, уверяя, что они — верные подданные калусского старосты, Яна Замойского. Видя, что силой нельзя с ними ничего сделать, Калиновский согласился на контрибуцию, и удовлетворился только тем, что потребовал от них присяги. Но, присягнув, мещане доставили только 1.000 злотых. По общему совету, гетман возвратил им и эти деньги.
Неизвестно, что было говорено на панской раде, но дальнейшие поступки панов были верхом безрассудства. Отступив к Черниевцам, они оставили в одной долине близ города засаду. Ничего не опасаясь, мужики вышли из города на опустевшее панское становище. Тогда жолнеры бросились на них из засады с татарским криком Галла! Галла! и перебили их до полусотни.
«В тот же день» (пишет Освецим) «гетман послал полки князя воеводы русского и пана коронного хорунжего в местечко Ямполь. Они захватили Ямполь ночью врасплох, перерезали поголовно всех житеией и овладели богатою добычею; а войско, отступив от Стины, расположилось на трехдневный отдых в Черниевцах».
Другой мемуарист, называемый мною Анонимом, не только не видел в этом акте безрассудной свирепости, но распространился о нем сочувственно, точно наши историки о свирепости казацкой.
«Лянцкоронский» (пишет он) «вознамерился овладеть Ямполем, гнездом, как волошских, так и наших разбойников, а между тем пошла молва, что гетман Калиновский двинулся под Винницу. Лянцкоронский подступил к Ямполю секретно: ибо секрет на войне — душа триумфов, да и в мирное время секрет хорошее дело, потому что, разгласив, что думаешь, редко задуманное сделаешь.
Курица кудахчет, снеся одно яйцо, а ястреб ловит птиц потихоньку. Поэтому Ямполь ничего не опасался, да еще на то время собралась там ярмарка. Тихохонько подошли хоругви и вступили в отворенные ворота. Мещане только что проснулись, и стали отворять крамные коморы (kramy), как рынок наполнился польским войском.
Ударили в колокола, крикнули на оборону, но поляки стояли уже с голыми саблями над шеей. Все-таки мещане хотели защищаться, а приезжие бросились толпой бежать, но мост на реке обрушился. Обороняющиеся мещане были перебиты; ограбленный город был зажжен, а сколько Ямпольских мещан и гостей заходящее солнце оставило в покое, всех нашло оно вырубленными. Погибло там десять тысяч народу обоего пола, в том числе и три полка бунтовщиков. Достатки их расхватала жолнерская челядь».
Что эти похождения были делом произвола Калиновского и Лянцкоронского, видно из письма Адама Киселя, которым он старался ослабить впечатление, какое они должны были сделать в Украине.
Называя Хмельницкого милостивым паном гетманом, любезным паном и братом, Кисель писал, что от начала вселенной, «при костеле, а по нашему при церкви Божией», злой дух устраивает свою капеллу; что он, Кисель, вместе с Хмельницким, постоянно хлопотал о том, как бы спасти от гибели последнюю горсть русского народа (один ополячивая, другой отатаривая); что Хмельницкий верноподданнически горовал (horowal) и трудился для того, чтобы потушить вспыхнувший пожар, но что Нечай, которому де ныне да оставит Господь его прегрешения, привык было, без гетманского ведома, творить всякое зло: зазывать татар против соотечественников, проливать кровь, избивать шляхту. «Так и в последнее время» (писал Кисель) «он овладел артиллерией в Брацлаве, двинулся к Линцам и напал на квартиры польского войска, понося письмами и на словах знатных вождей и гетманов». Узнав де об этом столкновении и имея в виду охранение мира, он, Кисель, удержал королевским именем полевого гетмана и брацлавского воеводу от дальнейшего движения за пограничную черту, и теперь комиссия спокойно ожидает начала своего действия, а он де, Кисель, и полевой гетман, которого письмо к Хмельницкому при сем прилагается, считают мир ненарушенным. Когда комиссия откроется, брацлавский воевода предъявит в её заседании плюгавые письма и угрозы Нечая. Король де глубоко сожалеет об этом поступке и о возникшей ссоре, но уверен, что все это случилось без ведома Хмельницкого, и желает, чтобы комиссия поскорее начала свои действия, дабы собранные военные силы соединились против общего врага.
Гонцу своему Кисель назначил срок до 12 римского марта, и если де к этому сроку не получит ответа, то потеряет всякую надежду на комиссию и на миролюбивое окончание дела.
Это письмо было писано за два дня до истребления Ямполя, так что оно могло прийти к Хмельницкому одновременно с известием о подвиге Лянцкоронского. Но раньше, или позже достигло оно своего назначения, Хмельницкий был готов к вестям о начале войны. Он вызывал ее всеми неправдами, и, однакож, этой грязной душе было приятно или нужно представляться чистою. Казацкий батько отвечал панскому Нестору, — что он (Кисель) обеспечил его (Хмеля) комиссией и миром, а между тем брата своего отправил воевать вместе с Калиновским и Лянцкоронским. За эту де кривду и полег брат его (писано после того, что произошло под Винницей), которого (писал Хмельницкий) «мне жаль, как великого рыцаря и моего приятеля; но сам он того хотел. И так как ляхи начали войну, то и насытятся ею (beda jej syci)».
В знак разрыва дружеских отоошений (уведомлял Кисель одного из своих приятелей) Хмельницкий продал в свою пользу 2.000 мер его жита за несколько десятков тысяч злотых. Но Кисель был такой запасливый хозяин, что и после этой потери отправил обоз хлеба в лагерь коронного войска.
Между тем Калиновский держал военную раду и, по её решению, выступил, 6 марта, из Черниевец в Винницу. Войско шло через Мурахву, Красное, и 10 марта остановилось на ночлег в Сутиске. В ту же ночь гетман отправил вперед к Виннице брацлавского воеводу с его полком на рекогносцировку. От захваченных на пути языков Лянцкоронский узнал, что в Виннице расположился, в виде гарнизона, кальницкий полковник Богун с 3.000 казаков. Калиновский ускорил поход свой, несмотря на глубокий снег.
Так как казаки не поставили сторожевого отряда за мостом, то паны ворвались в предместья неожиданно. Конные и пешие казаки вышли на реку Бог, покрытую льдом, в котором они заблаговременно наделали прорубей, незаметных теперь под тонким слоем льда и снегом. Лянцкоронский с хоругвями черкасского старосты, Юрия Киселя, и новгородского подстолия, Николая Мелешка, также русина, бросился на казаков, не осмотрев местности. Он и сам насилу выбрался из проруби, а Кисель, Мелешко, один поручик, то есть панский наместник в походе, и много товарищей-жолнеров погибли.
«Тело Киселя» (пишет Аноним) «лежало потом непогребенное казаками, хоть он был и одной с ними веры», а звенигородский староста Гулевич (русин), в письме к приятелю из-под Винницы, прибавляет, что его съели собаки, осталась только голова и рука, так трудно было подступить к нему осаждавшим Богуна.
«Казаки» (рассказывает Освецим) «взяли знамя воеводы и оба знамени хоругвей. Хоругви отступили в беспорядке к замку, который между тем заняли драгуны, и расположились вокруг его укреплений, но сильно страдали от выстрелов казацкой артиллерии. Потом уже отыскали Лянцкоронского, который, выкарабкавшись из проруби, лежал на льду, избитый прикладами казацких самопалов, и он отправил к гетману гонца, чтобы спешил с главным войском».
По рассказу Анонима, Винница была полна поспольства, сбежавшегося отовсюду для казацкого промысла, так как в это Смутное Время Польского Государства села перебирались в местечки, и от того местечки делались многолюдными городами. О Богуне он говорит, что это был человек отважный во всех случайностях войны; что, при своей отваге, он был и разумен, и счастлив, как это редко соединяется в одном человеке. О его неутомимой деятельности и удальстве мемуарист говорит с удивлением и даже с любовью. Очевидно, что он выражал чувства рассказчиков-шляхтичей, относившихся к этому казаку с рыцарским уважением. Богун (пересказывает Аноним) выслал к гетману чернеца для переговоров и, воспользовавшись проволочкою трактата, выкрался ночью через прилегавший к замку монастырь с тремя сотнями комонника за Бог, чтоб разведать, не идет ли к нему от Хмельницкого подкрепление. В то же самое время и паны отправили подъезд на рекогносцировку. Панский подъезд был сильнее казацкой чаты, и Богун, столкнувшись с ним, побежал к Виннице. Жолнеры узнали его среди казаков по блестящему при месяце панцирю, и лучшие бойцы напрягали все силы, чтобы схватить живым знаменитого полковника. Богун уходил, обняв шею своего чубарого коня, а когда его заскочили и схватили за плечи, он стряхивал жолнеров так, что те падали с коней. В такой борьбе набежал Богун на одну из тех прорубей, которыми недавно обманул панов, и погрузился было в воду, но добрый конь вынес его из западни. Думали, что ледяная ванна охладит его боевой пыл; но на рассвете сам он атаковал панскую чату, и потом видали его всюду за ретраншаментами на чубаром коне. Узнав издали, паны спрашивали его о здоровье, и Богун благодарил, что ему отплатили за купанье купаньем. «Так мужественные кавалеры беседуют и бьются»! восклицает Аноним.
По сказанию того же мемуариста, Богун укрепил город, замок и монастырь таким образом, что мог безопасно перейти из одного места в другое, и свое фортификационное искусство сосредоточил на монастыре, занимавшем сильную позицию.
Об этого сочувственного противникам и уважаемого ими воина-казака разбился, как увидим, Калиновский в своей кипучей, но бестолковой завзятости.
Он пришел к Виннице 11 марта и расположил войско на позициях, но, поджидая артиллерии, не предпринимал военных действий. Войско стояло день и ночь в строю. Казаки, не доверяя своим силам, в полночь с субботы на воскресенье зажгли город во многих местах и заперлись в монастыре. Тогда паны вступили в город и, лишь только рассвело, пошли на приступ. Бой длился, с небольшими перерывами, целый день в воскресенье и всю следующую ночь ко вреду осаждающих. В понедельник, однакож казаки покинули первую линию палисада и сомкнулись во второй линии своих укреплений. С наступлением ночи, на них повели приступ со всех сторон, при непрерывной пальбе. Они мужественно защищались огнестрельным оружием, косами, дубьем, каменьем. Борьба продолжалась до полуночи. С обеих сторон погибло много людей. Ни та, ни другая сторона не торжествовала.
Богун повел с панами переговоры, очевидно, желая выиграть время. С панской стороны было сделано казакам гордое предложение — выдать пушки, знамена и полковника Богуна. Казаки предлагали панам 4.000 волов, соглашались наконец, по уверению Освецима, выдать пушки и знамена, но выдать полковника, или кого-либо из старшины отказались наотрез.
Здесь паны прибегнули к такой хитрости, которая должна была в случае удачи, только создать новое препятствие к примирению польского элемента с русским, панского — с казацким, в придачу к тысяче уже наделанных ими самими и в особенности их руководителями, ксендзами.
Освецим пишет следующее: «Переговоры кончились тем, что казаки обязались возвратить взятые у нас знамена и удовлетворить житомирского старосту (Тишковича), имущество которого они разграбили, а также возвратить лошадей, взятых у нас в стычке у прорубей, или уплатить их стоимость деньгами. Когда эти условия были заключены, они требовали, чтобы войско наше очистило поле перед монастырем. Жолнерам действительно было приказано отступить с поля и укрыться в замке, а также в улицах и среди домов в городе, но оставаться в строю. Предполагалось употребить следующую хитрость: когда казаки выйдут из укреплений, окружить их в поле со всех сторон и потребовать выдачи старшин и оружия, а если не согласятся, разгромить их окончательно. Намерение это не удалось исполнить»...
Начались новые переговоры. Участник осады Винницы, Гулевич, писал к приятелю, что после неудачного покушения к ночному бегству с 12 на 13 марта, казаки, к вечеру 13 числа, просили о помиловании. Гетман (продолжал он) послал на переговоры меня и брацлавского подстолия, Ревуского. Начали мы трактовать уже в сумерки. Трактовали часа четыре под самими их валами, и кой в чем согласились. На утро рано — опять, и было постановлено, что они отдадут хоругви, армату, лошадей, дадут заложников и разойдутся по своим домам, с тем чтобы не поднимать больше руки против королевского войска. Отдали после того хоругви, которые мы и получили, получили также и часть лошадей, но армату они хотели оставить на месте уходя. Заложниками взяли мы четырех весьма хороших сотников. Сверх того, присягал как сам Богун во всякой верности, так и войско, и когда все это было уже выполнено, казаки, неизвестно по какой причине, вернулись к своему упорству. Опять несколько дней драка; потом вторично просят о помиловании. Пришли мы снова под валы, я брацлавский подсудок и стражник Замойский. Но изменники показали себя изменниками и, вместо приветствия, убили гетманского трубача и моего хлопца. Думаем так, что это было делом или — чернецов, которые с ними сидят, или шляхты, которой у них 70 человек: ибо эти — или боятся за свою шкуру, или по крайней мере того, чтоб их не узнали, когда выйдут».
То, что в этой реляции говорится о хоругвях, о лошадях, о заложниках, очевидно, было только обещанием со стороны казаков, но не совершившимся фактом. Освецим пишет: «Прервав переговоры, казаки объявили, что все готовы погибнуть в бою. Действительно пошли было они напролом, но были отбиты с большим уроном. Тогда отступили за третью линию укреплений, укрепили ее, и в ней засели мужественно; при этом часть лошадей своих выгнали, и, когда наша челядь покушалась овладеть ими, многих перестреляли. Наши окружили казацкие укрепления валами, и постоянно сторожили, но не могли отрезать казаков от воды; громили осажденных пушечною пальбою, бросали в их табор бомбы; но бомбы казаки успевали гасить, и в сущности не могли мы им ничего сделать. Между тем войско наше выбилось из сил, так как все время жолнеры и лошадей не расседлывали, и сами не оставляли оружия».
18 марта, в субботу, коронный обозный, сын полового гетмана отправился в Кальник, полковой город Богуна, на рекогносцировку, с целью разведать, где находится Хмельницкий, и не подходит ли какое подкрепление на выручку Богуну. Он дошел только до Липовца, лежащего в 5 милях от Винницы, и отправил оттуда для разведок пана Кондрацкого по направлению к Кальнику. Но едва Кондрацкий выступил в поле, как наткнулся на казацкий передовой отряд, и заметил в стороне большое войско. В то же время другой конский отряд напал на молодого Калиновского, расположившегося в Липовцах, и привел жолнеров его в большое замешательство. Только выскочив из местечка в поле, удалось пану обозному привести в порядок свои хоругви, но все расседланные лошади были потеряны. Притом же казаки, прежде, чем напасть на Липовец, заняли дорогу в Кохановку, и потому та часть отряда, которая сопровождала возы с припасами, также потерпела значительный урон. Пан Кондрацкий едва успел спастись, потеряв много жолнеров, посланных с ним из разных хоругвей. Но молодой Калиновский, вернувшись к отцу 20 числа под вечер, все-таки привел несколько захваченных в плен казаков. Они показали, что Хмельницкий был в Белой Церкви, и уже выступил навстречу панскому войску.
Коронный полевой гетман решился отступить в какую-нибудь местность, более удобную для продовольствия войска: ибо лед на реке Боге уже тронулся, а по сю сторону реки не было возможности добыть фуража. Но прежде он хотел попытаться, не посчастливится ли ему взять приступом осажденных. Приступ начался с рассветом. Казаки сделали тотчас вылазку, но несколько человек их попало в плен; зато и они увели к себе двух пленников. «Вообще казаки сражались храбро», пишет Освецим. Было очевидно, что панам с ними не совладать, и тем более, что в панском стане знали о наступлении большего казацкого войска. Напротив казаки с каждым днем и часом ожидали помощи. Помощь пришла к ним во время самого приступа, спустя несколько часов после восхода солнца. На выручку Богуна подоспел уманский полковник, Глух, с 10.000 казаков. Для панов это было неожиданностью: не рассчитывали они так скоро столкнуться с превосходными неприятельскими силами. Казаки, с ужасающим криком, заняли новый город, отделенный от старого, занятого панами, только мостом, на расстоянии выстрела из лука.
«В нашем войске» (пишет Освецим) «произошло страшное замешательство. Жолнеры не слушали распоряжений и разорвали боевой строй. На трубах играли тревогу, что еще больше усиливало страх и смятение. Наконец наши, бросившись на лошадей, выскочили в поле к Якушинцам, и здесь построились в боевой порядок; но часть хоругвей осталась на прежнем месте, перед фронтом монастыря, в котором заперлись казаки. Пан воевода, с несколькими казаками (легко вооруженными, по-казацки) хоругвями, бросился к мосту, за которым стоял неприятель, и завел с ним перестрелку. Вся эта тревога была совершенно напрасна, хотя бы казаки явились и в большем количестве: Бог уже тронулся, и они не могли переправиться на сю сторону. Но челядь, бывшая у обоза, не обратив на это внимания, побросала возы, лошадей и обратилась в бегство. Её примеру последовали и товарищи из разных хоругвей; другие же, видя, что возы оставлены без присмотра, бросились к ним, и свои стали грабить своих. Дело вышло похожее на Пилявецкую битву, с тою разницею, что пехота и часть хоругвей, оставшаяся в строю, сомкнулись, и в порядке отступили по направлению к Бару. На прощанье, казаки, взбежав на валы, провожали наших обычными криками, прилагая к ляхам разные оскорбительные эпитеты. Цыгане! утикачи! безмозглые! пилявчики! кричали они. Утикайте дальше за Вислу! не тут ваше дило! [37] Гетман был очень смущен от этого беспорядка и слишком поспешного отступления. Жолнеры негодовали на него за отсутствие распорядительности. Они сами были страшно изнурены, лошадей измучили и, в заключение, лишились возов, запасных лошадей, челяди, съестных и боевых припасов. В большом смятении, усилившем самоуверенность неприятеля, отступило войско от Винницы, прекратив осаду, и направилось в Бар, куда пришло 24 числа».
Так разбил себя Калиновский о Богуна, который — то подставлял ему железные бока свои, то выигрывал время по-казацки лукавыми переговорами. Постыдное бегство его Освецим снисходительно назвал беспорядочным отступлением, но прибавил к нему такие характеристические черты обоих панских полководцев, которые низводят их до уровня грубиянов, крутивших дули и т. п.
«Главною причиною смятения и беспорядка нашего» (пишет он) «было соперничество и ссоры вождей, то есть полевого гетмана и брацлавского воеводы. Последний желал распоряжаться независимо от гетмана; притом он хотел удержать у себя серебряный пернач Нечая, но должен был отдать его гетману, который выбранил его по этому случаю. Другой раз они столкнулись в Шаргороде: здесь, во время разговора, воевода упомянул о том, что он увещевал жолнеров повиноваться гетману; но гетман, вспылив, ответил: Ваши увещания имели столько же веса, как этот кукиш, причем он показал кукиш воеводе. Поистине стыдно и позорно для вождей заниматься такими школьными выходками. Воевода ничего не ответил, но вышел из комнаты. В третий раз гетман обругал воеводу, когда тот попрекнул его тем, что он, в письмах к королю, исключительно себе приписывает всякое успешное действие».
«Как образец безобразия» (продолжает Освецим), «до которого войско дошло вследствие этих ссор и неуважения подчиненных к вождям, приведу очень грустный случай. Когда 18 марта казаки очистили Прилуку, туда отправилось для собрания фуража несколько тысяч войсковой челяди. На обратном пути, жолнеры из полков гетманского и князя воеводы русского ограбили жолнеров брацлавского воеводы. Утверждали, что зачинщиком беспорядка был какой-то товарищ из хоругви князя Вишневецкого. Брацлавский воевода, требуя по этому поводу удовлетворения у гетмана, попрекал указанного товарища. Присутствовавший при этом наш Незабитовский, поручик той роты, в которой служил товарищ, заметил воеводе: «Ваша милость постоянно к нам придираетесь». Разговор обострился. Наконец воевода сказал Незабитовскому: «Тебе пристало скорее быть быком, чем жолнером». Пан Незабитовский ответил на это: «А тебе подобает скорее быть козьим пастухом, нежели сенатором». Воевода замолчал, а пан Незабитовский вышел. Разговор происходил в присутствии гетмана; но, когда воевода ему пожаловался, он за него не вступился, и отвечал пословицей: «где бреют, там и бьют»; потому воевода чувствовал себя оскорбленным в этом случае больше гетманом, чем Незабитовским».
Картину разбившегося о казацкий авангард панского войска доканчивает Войцех Мясковский, автор дневника Переяславской комиссии, теперь наместник хоругви калишского каштеляна, Розражевского. «Уверяю вас» (писал он, как видно, к Розражевскому), «что нынешние наши труды превзошли Збаражское осадное сиденье: ежедневные приступы, беспрестанные стражи, — так что, стоя три дня и три ночи на страже, не разводя огней, должны были мы отмораживать носы, руки, ноги. А подъезды! Счастливая была та неделя, в которую мы не по три раза чатовали, — так что кони у нас выбились наконец из сил. Пять недель не сходят с них седла, — страшные ссадины, горше чем под Збаражем. В Липовце все бы мы остались на месте, когда бы сам Господь Бог не оборонял нас. На одну нашу (Розражевского) хоругвь ударила вся неприятельская сила, с которой, столкнувшись в тесных улицах (oplolkacb) темною ночью, секлись мы два часа, и только днем, прийдя в порядок и взявши 19 добрых языков, вернулись к войску. Каким это образом случилось, что его милость пан гетман не знал о неприятеле, пока не увидел его перед собой, — не могу понять. От этого произошло страшное смятение, превосходившее и Пилявецкое. С хоругвями одни (бросились) в ворота, другие через вал, одни верхом, другие пешком, и еслиб его милость пан воевода брацлавский не уперся на мосту, то легла бы там вся пехота.
Стояли мы до полуночи в строю, потом двинулись в Бар, сведя с поля пехоту и покинув с тысячу больных и раненных. Шла за нами сволочь (colluvies) до наших переправ, не без (нашего) урону: ибо от неосторожности старших, не оставивших ни одного полка в арьергарде, оторвали у нас несколько сот возов и столько же челяди. Отступив таким образом в смятении, в страшном беспорядке, в проклятом расстройстве (w przeklelej spravie), притащились мы сюда на Барский пост, где нам придется до остатка повялить измученных лошадей и самим бездейственно погибать в страшной истоме».
В тот же самый день Калиновский доносил королю по Яно-Казимировски, что если бы ему прислали подкрепления, то Хмельницкому давно был бы конец, и храбро прибавлял: «За мною дело не стоит»... А услужливый сочинитель дневника «казацкой экспедиции от 19 до 24 марта» написал даже, что, «получив известие о прибытии не малых казацких сил на помощь осажденным, его милость пан гетман велел войску выходить в поле и табором идти к Бару». Липовецкое дело молодого Калиновского также здесь названо счастливым, а потери его покрыты молчанием.
Стесняясь в средствах для прокормления войска в пределах одного барского староства, Калиновский распределил его всюду, где мог, чтоб дать ему оправиться. Но движение казаков заставляло панов думать об охране внутренних провинций. Лянцкоронский, идучи в Хмельник на указанную его жолнерам квартировку, видел на пути своем в Летичеве, 30 марта, многих жителей Константинова, бежавших от Орды и казаков. Отправленные для разведок две хоругви прискакали в Константинов к полночи. Ночевавшие там пьяные казаки полковника Крысенка, вместе с татарами, бежали в испуге, побросав свои прикметы и лошадей, как верховых, так и вьючных. Убито их было немного, но гораздо больше потонуло в реке Боге. Счастливые казако-татарским испугом хоругви, захватив несколько казаков, двоих татар и до 20 татарских лошадей, поспешили удалиться, чтобы неприятель не напал на них, опомнясь от своей паники. Действительно утром казаки Крысенка возвратились в город, собрали покинутое там добро свое, перерезали многих людей, город сожгли и отступили в Хмельник, где расположились в замке и в городе. Для охраны себя от панских подъездов, они сожгли постройки на панской стороне реки Бога и разрушили мост. Лянцкоронский, вместо Хмельника, должен был квартировать в Летичеве, сильно страдая от голода.
Получив известие о движении казаков и татар, Калиновский предпочел ожидать их в более безопасном месте, у Каменца, а в Баре оставил гарнизон. Об этом писал он к королю из Бара от 2 апреля: «Не видя больше возможности противостоять неприятельской силе, снабдил я Бар гарнизоном, и выступаю (progredior) с войском далее, под Каменец: так как нет сомнения, что все полки, и заднепровские, и здешние, приблизились к войску с немалыми татарскими вспоможениями. Боюсь поэтому, чтоб и войска не обмануть (abyni i wojska nie zawiodl), и Речь Посполитую не привести к пагубе, и гневу вашей королевской милости не подвергнуться... Провожу время не праздно и ныне: ибо нет у меня такого дня, чтобы не добывал подъездами языков и не истреблял неприятеля».
Приказ направляться к Каменцу был горестною необходимостью для отрядов, шедших на отдых в Бар. Красноставский староста, Марк Собиский, писал к приятелю от 6 апреля из-под Зенькова, что войско держало там раду, куда бы ему обратиться для отдыха, «пока неприятель позволит»: ибо, в противном случае, осталось бы оно без лошадей, «невыразимо измученных и изнуренных». Было решено расквартировать войско полками под Каменцом так, чтобы, в случае наступления неприятеля, оно могло собраться к полевому гетману в одни сутки. «Не мы виновны в том» (продолжал бедный русин), «что так дурно идут дела: виновны подкрепления, которые к нам не подходят, а наше войско ежедневно уменьшается. На бумаге был представлен сейму большой компут войска, а пришло к нам только 16 хоругвей; прочие ползут как раки, и неизвестно, придут ли к нам. Речь Посполитая сама перед собой виновна. Рванулись мы слишком скоро и зашли слишком далеко, а теперь не можем найти себе нигде места, кроме Каменца»... А подольский судья Лукаш Мясковский прибавляет к этому от 7 апреля из Микулинец: «Прибежал ко мне товарищ (рядовой шляхтич) его милости полевого гетмана, ища челяди, бежавшей со своими почтовыми (принадлежавшими к почту) лошадьми. О войске нашем говорит, что оно отступило по причине голода».
В то время, когда один полководец разбился о Богуна в Виннице и привел под Каменец остатки войска, как пишет Мясковский, проголодавшегося, унылого, выморенного, измученного (zglotlzoncgo, opieszalego, wymorzunego, wymeczoiugo), — другой (Лянцкоронский), ободренный несколькими стычками с неприятельскими чатами, писал к королю, что не нужно было уже никакого войска на казаков, и обещал ему успокоить Украину в несколько недель. Копии писем его, присланные из Варшавы, произвели в обломках войска Калиновского крик величайшего негодования. И таким-то вождям, лебезящим наперерыв перед королем польских королей, предстояло спасать Польшу от Малороссии, вооружившейся варварски против её варварского господства.
Апреля 12 варвары номады напали на варваров цивилизаторов, охранявших Бар. Три легкие хоругви, назначенные для обороны города, слыша, но ничего не зная, о громадных силах неприятеля, отступили к войску, не добыв даже языка, а 300 человек немцев ушли из замка. Но мужики хмельничане, ограбив местечко, на замок не покусились, и, погуляв здесь «по-казацки» несколько часов, исчезли, к стыду польской цивилизации и гражданственности.
В это время достойный такого государства король повелел коронному великому гетману собрать все вновь навербованные отряды войска у Владимира, и сам выехал, для примера польским королям, как справедливо называл панов Хмельницкий. Узнав, что Потоцкий основал обоз у Владимира, Калиновский стянул все свои хоругви под самый Каменец, и 23 апреля расположился по ту сторону реки, у замка. Каждый стал по возможности запасаться провиантом, который пришлось покупать по небывало высоким ценам. Мясковский писал еще 7 апреля, что жолнеры платили за осьмачку овса по червонцу и дороже, да и тем не могли поправить лошадей, «не вставая пять недель с седла»: не было времени кормить их (choc bylo czein, ale nie bylo kiedy). Неприятеля ждали ежедневно, и так простояли лагерем целую неделю. Наконец военная рада решила — идти на соединение с главными силами, пробиваясь на пути сквозь казако-татарские отряды.
Мая 7 войско двинулось, а между тем Хмельницкий сосредоточил свои силы на урочище Ганчарихе, между Межибожем и Старым Константиновым. Ему следовало не допустить полевого гетмана соединиться с королем, и он отправил вперед несколько отборных полков конницы, да несколько тысяч татар, с приказанием — захватить у панского войска лошадей, чтоб остановить, или, по крайней мере, задержать его движение, пока сам не подойдет с остальными силами.
Гонитва его за панами и их жолнерами представляла опасность со стороны Литвы, где погиб незаменимый никем Кричевский, где пал не боявшийся ни огня, ни меча, ни болотных топей Голота, где, вместе с мужественным бойцом Подобайлом перетонуло в болотах и реках много таки отчаянных казарлюг, какими заявили себя Наливайковы мартыновцы. Внук Радивила Перуна и сын того Криштофа Радивила, который, по словам Иова Борецкого, был достоин в памяти всех грядущих веков за оборону православных иерархов, был страшилищем псевдовоителя за малорусскую церковь.
Чтоб остановить его грозное движение в Украину, которого боялись, и в Збаражчину, Хмельницкий отправил три полка: полтавский, переяславский и черниговский, составившие 20.000-й корпус, под начальством Небабы, по отзыву панов, опытного и хорошего воина, и поручил им не допускать литовского войска переправляться через Днепр.
Мысль овладеть Каменцом постоянно занимала Хмельнцкого, не умевшего взять всеми своими силами и средствами збаражской западни. Этой мысли сочувствовали и лучшие казаки, которых наша историография представляет патриотами. Под начальством таких сыновей казацкого отечества, отправил Хмель надежнейших соратников своих, среди которых, вероятно, находился и будущий предатель Каменца Магомету IV, Петро Дорошенко. Рьяные воины пробежали, с татарской быстротой, 12 миль в одни сутки, и явились под скалистым городом, хранительным устоем поколебленной Польши; но воевать было уже не с кем, а каменного гнезда древних русичей не мог взять и Перебийнос, утопивший в женской крови Полонное и гордо заявивший во Львове свое равенство с Хмелем. Тем не менее хмельничане сделали попытку овладеть Подольским Каменцом, и вон как доносил об этом один из его защитников коронному полевому гетману.
«Пишу кратко о нашем сиденье в осаде, продолжавшемся три дня. Когда наш обоз двинулся из-под Каменца с понедельника на вторник, неприятель сжег и вырезал Дунай город, все окрестности Каменца уничтожил поголовно (zniszczyl na glowg), и на бегущих людях въехал рано утром в предместье. Мы сперва думали, что это наше войско, потому что сперва подошло под город едва 300 человек их передней стражи. С голыми саблями на темляках, они отнимали у бегущих в город скот. Но на возвышенности старого лагеря появились татары, и рассыпались, как муравейник, одни к Паневцам, а другие к Чернокозеницам. Тогда салютовали из замковых пушек, а между тем наступили казацкие полки, которых считали «80.000 языков», да татар 12.000. Казаки остановились на горе, и сделали первый приступ к городу пехотою, которая так сильно ударила на наши две конные хоругви и на 200 немцев, что они отступили в город; а между тем хлопство напало под замком на скот и на табор мужиков, бегущих в город. Забравши у них множество скота, овец и одежды, оно удалилось к своему обозу. После обеда того дня и ночью не было нам от них беспокойства, однакож они послали несколько тысяч войска к Чернокозеницам и Паневцам. Чернокозеницы оборонялись хорошо. Замок со шляхтой освободился; город казаки сожгли. Паневцы взяли на третий день предательством Тршилятковского, слуги пана каневского старосты, который выдал им одежды, серебро, обои, несколько турецких коней, и сам ушел к ним с каким-то Гловацким; но они Тршилятковского обезглавили, хотя прежде обещали ему полковничество, а Гловацкому дали хоругвь. В среду сделали один приступ (к городу), а другой к Русской браме, ударив отважно. Но, так как мы сожгли Каравансер, и домики под скалой, чтоб нам оттуда не вредили, то наша пехота била их там хорошо и прогнала на самую гору. Выехал также с 300 комонника и пан староста каменецкий (Петр Потоцкий). Разили их и конница, и замковые пушки так сильно, что они бежали под Кешеню. Там наши отняли у них 60 возов с добычею, награбленною в Паневцах, и добыли много казацких и татарских языков, которые показывали согласно, что сюда под Каменец Хмельницкий выслал отборное войско, чтоб занимало квартяков и не допустило их соединиться с королем... С середы на четверг устроило себе русское хлопство кругом (circumcirca) под самой скалой шанцы, из которых целый день причиняло великий вред городу и людям. Но их также хорошо щупали (tnacano) в тех шанцах с замка и башен пушечною пальбою, так что принуждены были бежать, покидая хоругви. После обеда вышло несколько сот пешего охотника и две сотни немецкой пехоты пана Зыхлинского к старому становищу, а с другой стороны от замка к Кешени выбежал пан староста в несколько сот конницы. Там дважды наши двинули (ruszyli) их из шанцев, и отняли несколько хоругвей, но не могли устоять против их силы, потому что их наводил (naxvodzil) хорошо Богун, под которым также из замковой пушки убили коня, и сам он едва убрался в табор. Много перебили этого хлопства из пушек и ружей, так что не досчитались между собой целого полка. Хватаясь за сабли, порывались они к своему наказному (do pol nego), Демку, за то что, против воли и приказа Хмельницкого, потерял так много людей под Каменцом, как это показали нам их языки. В полночь с четверга на пятницу пришел к ним горячий (goracy) универсал, чтоб оставили совершенно все и шли одни комонником за нашим войском, а другие ему (Хмельницкому) навстречу. Заиграли у них зорю в трубы, в шиноши (szyposze), и едва погребли свои трупы, зарывая с ними сухари, сала, ветчину, водку в фляжках [38]. На своем таборище, которое растянули от самих Зенкович до Мокши и под Недобор, побросали много взятого скота и баранов, жаркого на рожнах, муки, хлеба, возов, так что каменецкое убожество собирало все это после них три дня. Но, что всего удивительнее, казаки и татары отпустили на волю много пленных разного пола и состояния. Эти пленники рассказывали, что в ту ночь такая у них в таборе сделалась тревога, что перекопский бей и татары, получив какое-то нерадостное известие о Хмелевых казаках, рвали на себе волосы и бились в землю... Не даром они так спешили, что и под Гуменцами бросили несколько возов, нагруженных разного рода крупою. Пошли по следам вашей милости и, слышно, сожгли скалу. Татары, однакож, упорствовали идти за ними, и, видно, что-то случилось у них (snac ich sain cos zapadlo): видно, не хотят наступать; говорят, что им Бог на эту войну идти не велит».
Летучие казацкие чаты настигли панов римского 9 мая, у переправы через небольшую речку у местечка Пробожной, в нынешнем Чортковском округе Галиции. Помешать переправе были они бессильны, а угнаться за их свежими лошадьми не могли паны на своих лошадях, истощенных походами да подъездами. Одного казака поймали таки живьем, да накануне один из панских подъездов привел к гетману нескольких татар.
Мая 10, переправляясь через реку Серет у Янова (в Тернопольском округе Галиции), паны, в виду затруднительной переправы, ожидали появления казаков; но ожидание было напрасным, потому (как это сделалось известным после от пленников), что казацкие полковники напились через меру горилки.
Не менее трудную переправу встретил Калиновский и 12 мая у Купчинец (в Бережанском округе Галиции), на реке Стрыне. Полковники успели опохмелиться, догнали панов, но дали им почти совсем переправиться. На казацком берегу оставался только полк молодого Калиновского. Казаки напали на него внезапно, так что он едва успел построиться. Отбиваясь, Калиновский начал отступать на другую сторону, расположив у переправы пехоту под начальством того Бутлера, который в 1630 году, вместе с ротмистром Жолтовским, оборонил от казаков-тарасовцев тогдашнего архимандрита Киево-печерской Лавры, Петра Могилу, и его монастырь. Здесь Бутлер пал с несколькими десятками своих воинов. Казаки не раз истребляли наемных немцев до остатка. Так хотели они поступить с верными хранителями панов и теперь; а панская конница не могла подать немцам помощи вовремя. Сильно теснимые немцы стали отступать, и в это время погиб ветеран Бутлер. Ободренные успехом, казаки и татары начали отважно переправляться, а переправясь, развернулись в тылу панского войска и налегли на его арьергард и на обоз, но были согнаны с поля, и оставили нескольких татар и казаков пленниками, в том числе Нетычай-мурзу, из знатной фамилии даерских мурз, и каневского сотника, Шабельниченка. После боя, панское войско простояло всю ночь в строю под проливным холодным дождем. Казаки не отважились напасть на него.
Между тем приехал налегке новый коронный подканцлер, Иероним Радзеевский, и передал Мартину Калиновскому послание Николая Потоцкого, передвинувшего уже свое войско из-под Владимира к Сокалю (в Злочевском округе Галиции). Дело в том, что корсунское несогласие между главами коронного войска пережило их пленение. Радзеевский, воспитанный в школе отца, рассчетливо щедрого хлебосола, умел говорить и с казацкими, и с панскими своевольниками. По поручению короля, он подготовил уже в Сокале Потоцкого к совместному служению отечеству с соперником; точно то же должен был он сделать и с Калиновским.
13 мая переправились паны в Поморяны. Казаки показывались на пути маленькими чатами от 10 до 20 всадников, но приблизиться не смели. Калиновский знал, что сзади быстро наступает Хмельницкий, чтоб отрезать его от Сокальского войска. В Поморянах паны сожгли все возы, которых оставалось еще по 10 на каждую хоругвь; две пушки, порох и больных оставили в поморянском замке, и спешили соединиться с королевским ополчением, проходя по две и по три мили ежедневно. Казаки ждали их у Зборова; но они круто повернули в другую сторону, и без дальнейших приключений, достигли королевского лагеря.
В королевском лагере представили они из себя не воинов, споривших с дикарями за обладание возделанным ими краем, а дикарей-беглецов, покусившихся на чужую землю, которою владеть было не по их нравственным и вещественным силам.
Преследовавшие Калиновского туземцы, в числе 18.000, с прибавкою 2.000 татар, довели его до крайнего изнурения, в каком был некогда заклятый враг его деда, царь Наливай, ускользнувший, «как лесной зверь», в таинственную тогда Уманию к мифическим Синим Водам. Оборванные и расстроенные жолнеры Калиновского, в глазах защитников польского отечества, представляли не больше ценности, как остатки разбитого на голову и разбежавшегося войска.
Но калиновцы, как увидим далее, не были контрастом среди соединившихся в Сокале помогал.
Глава XXVI. Воюющие стороны, неспособные к правоте. — Папский лагерь под Сокалем. — Война римлян с греками посредством панов, а греков с римлянами посредством казаков. — Достоинство московского правительства в виду зтой борьбы. — Движение панского войска к Берестечку. — Казацкое становище и приход крымского хана к казакам. — Первая битва под Берестечком.
Несчастен был тот народ, который вверял свою судьбу колонизаторам нашей опустелой от татарского Лихолетья Малороссии, сколько бы ни было между ними аборигенов. Колонизаторы прельщали этот сбродный народ, как бы новых египетских беглецов, мечтали о земле, текущей молоком и медом, но не были способны воспользоваться благодатною почвою нашей родины, и допановались в ней до того, что голодали на самих берегах молочных и медовых рек, наконец были подавлены и изгнаны с бесчестием подражателями их самоуправства, казаками. Доверчивый и увлеченный панами в обетованную землю народ оказался в ней бедствующим. Но не меньше выпало бедствий и на долю тех, которые, в качестве передовиков его, двинулись в роскошные пустыни из зажитых и прославленных древним русским, литво-русским, польско-русским, немецко-русским мужеством. Они сделались рабами рабов своих, изгнанниками из земли древнейших предков своих.
И вот, изгнанные и изгоняющие собираются перед нами на последнем человеческом суде за содеянные обеими воюющими сторонами неправды, те и другие преисполненные чувством правоты своей, те и другие равно жалкие в наших глазах неспособностью к правоте.
С такими чувствами приходится потомкам осадников и осадчих старой Малороссии проповедовать спасительную идею русского воссоединения в изображении междусословного спора, который, с течением времени, сделался междуцерковным и наконец — международным.
Всмотримся сперва в панское войско — глазами самих потомков панских, которых большая часть позабыла свое русское имя ради имени польского.
Предводитель панского войска, Ян Казимир, называемый Казимиром V в воспоминание о Казимире IV Великом, прибыл 27 мая в лагерь, соединявший в себе всю вооруженную Польшу. Прибыл он, великий монарх, непобедимый победитель, — и ему (рассказывают сами поляки) представилось поразительное, страшное зрелище.
Польский лагерь под Сокалем (говорят они) был готовою для неприятеля добычею. Вместо того, чтобы представлять грозный редут вольного шляхетского народа, опору могущества польских королей и короля королей польских, он казался громадным лазаретом: так ужасно разбились паны о собственных мужиков своих во всех столкновениях за право владеть землею, — от Желтоводского до Крупчинецкого включительно. Голодный тиф похищал храбрых жолнеров одного за другим с большею быстротой и беспомощностью, чем похищает голодный коршун цыплят. Вокруг боевого лагеря, последней опоры славы и вольности шляхетской, не было ни валов, ни шанцев. Босые оборвыши жолнеры оставались без оружия, — изнемогшие львы без когтей и зубов. Квартяки Калиновского, не уступавшие в личной отваге Богуну и его отчаянным шляхтичам, таяли здесь от всяких недугов поразительно. Они были набраны из ветеранов Тридцатилетней войны да переформированы из старых полков покойного короля, победителя многоцарственной Москвы, готовившегося к покорению недопокоренного македонским героем Востока. Изнуренные беспрестанною борьбою с неприятелем и многочисленным, и повсеместным, уменьшенные и расстроенные бегством — сперва из-под Винницы, потом из-под Каменца, одесятствованные болезнью голода — тифом, эти мужественные и выносчивые воины сделались негодны для войны. Они были теперь способны истреблять не казаков и татар, а тех, которые приняли их, немощных беглецов, к себе в лагерь, — истреблять посредством заразы.
Из первоначального количества калиновцев, из 12.000 лучших на свете бойцов, уцелело всего 5.985 человек, и это число с каждым днем уменьшалось. Седые усачи и бородачи, смотревшие недавно еще львами, служившие под начальством генералов Густава Адольфа, или в прославленных походах Владислава IV, до рокового 1648 года ужас казацкой гидры, — теперь нищие лохмотники, с печатью голодной горячки на лицах, едва держались на ногах в строю под своим надломанным оружием. Недавно наводили они страх на всю Европу; теперь, стыдясь убожества своего, молча валились на солому и умирали без ропота; а государство, нанявшее их на службу, не давало им даже того, что получал каждый попрошайка на дороге, каждый конь и вол у хозяина (Слова историка-поляка).
Король очутился под Сокалем в ужасающем положении. Над непобедимым победителем здесь должен был повториться, если не Зборов, то Корсунь. Толпы малорусских мужиков, «пуская на пожар» и грабя все, что было можно истребить, или унести с собой, валили на Волынь к главному казацкому табору. 100.000 татар шло на помощь казакам из-за Днепра. Надобно было двинуться вперед, непременно вперед, чтобы не дать бесчисленному неприятелю усилиться и соединиться с Ордою, как это всуе проповедовал Вишневецкий после Корсунского погрома. Но предводители объявляли, что голодный и неоплаченный жолнер не двинется с места.
В Сокальском монастыре-замке находилась в спряту почти вся дорогая движимость окрестной шляхты. Жители южных воеводств свезли сюда все свои ценные вещи в серебре, золоте и наличные деньги, под защиту войска. Военная рада, с королевского разрешения, изрекла отчаянное постановление — обревизовать денежные склады и взять их в виде займа, лишь бы удовлетворить войско.
После Пилявецкого бегства, нечто подобное произошло во Львове, и Речь Посполитая тогдашний военный произвол заклеймила названием разбоя. Теперь сам король с сенаторскою радою предпринял то, что было опозорено шляхетским народом в других, и выслал представителей третьего государственного сословия ломать замки у чужих сундуков. Но находившаяся тут же в лагере шляхта не дала прикоснуться к своей собственности: добро отсутствующих она припрятала, а в оставшихся ящиках не было найдено ничего. Когда эта позорная экзекуция оказалась безуспешною, король обратился к иному способу. Собрано было 18.000 злотых складчины и роздано по полкам. Жолнеры должны были удовольствоваться скудною подачкою. Кисель умудрился привезти в лагерь хлеба, но хлеб к этому времени вышел, и голод снова приступил к войску страшнее всякого неприятеля.
Тогда отчаяние внушило королевским советникам такую меру, какая была возможна только в Польском псевдогосударстве. Распустили слух, что хан соединился уже с Хмельницким, и оба намерены разом ударить на королевский лагерь. Король объявил, что останется в лагере, велел сыпать валы, как бы с намерением выдержать осаду подобно збаражскому герою Вишневецкому, и, при звуках труб, отдал войску приказ запасаться съестными припасами посредством грабежа (wolnego wszedzie brania).
Поляки скрывают международное значение необычайного приказа, характеризующего и самого Яна Казимира, и тогдашнее религиозное, то есть польско-национальное настроение войска. Я повторю подлинным текстом опущенное польскою историографией свидетельство Освецима, панского Самовидца. Освецим пишет в своем дневнике следующее: «Это было поводом к разорению всей Волыни (со bylо okazya zrujnowania wszystkiego Wolynia): ибо охочая челядь и чужеземцы, разойдясь после такого дозволения тотчас на чаты в разные стороны, не довольствовались скотом, съестными припасами и другими достатками, находившимися в убогих домах у подданных, но даже вторгались толпами по-неприятельски в дома и замочки, в которых шляхта с своими подданными заперлась для обороны от неприятеля, и, как в неприятельской земле, своих же, под предлогом, что они русской веры, истребляли мечом и огнем (swoich ze pod pretextem wkryluskiej, mieczem i ogniern znosili)».
Знал старый Хмель, кого посадить на польском престоле: разоряя русских людей на Волыни, потому что они сохранили веру предков своих, Ян Казимир оправдывал казацкие подвиги во мнении столь страшного противника Польши, как раздраженное латинцами в течение веков Московское Царство, и вооружал против Польши самих прозелитов полонизма, владельцев укрепленных дворов и замочков. Соименник великого Казимира, «короля хлопов», как его прозвали недовольные величием его, отблагодарил казакам за корону так, как не смел надеяться и сам Хмель, при всем презрении своем к уму расстриги-иезуита.
Снабдив таким способом голодное войско съестными припасами, король созвал знатнейших панов на совещание о дальнейшем походе. На этом совещании князь Иеремия Вишневецкий доказывал, что сперва надобно подвинуться прямо к Тернополю, где находился тогда Хмельницкий, и ударить неожиданно на неприятеля, пока не соединился он со своими союзниками. Другие советовали королю занять Глиняны под Львовом, чтобы не дать Хмельницкому соединиться с Ракочим. Все же вообще решили, что лучше будет обождать, пока соберется шляхта, так как силы Хмельницкого, со времени прибытия короля в лагерь, выросли, и мериться с ним невозможно, а между тем и посполитаки, и квартяки, находясь уже недалеко, в дороге, могли прийти в лагерь через несколько дней, Вишневецкий и его воинственная партия, были оставлены в тени.
Действительно, вскоре по прибытии короля в лагерь, начали стягиваться отряды посполитого рушения. С каждым днем приходили с боевым громом нарядные дружины посполитаков, представлявшие воеводства, земли, поветы, приходили богатые полки великих панов, вербованные хоругви с толпами слуг и с возовыми таборами, точно как будто вся Польша поднялась для возобновления панской колонизации, уничтожаемой казаками, татарами, и собственными её руинниками, с королем во главе, разорившими Волынь и по-казацки, и по-татарски.
Но собственные руинники не принимались ею во внимание, когда она воодушевлялась решимостью подавить иноверных. Не только наемные дружины да панская челядь заставляли в Польше убогих людей всякого звания «прошибать небеса воплями», даже великодушные рыцари, волонтеры, принадлежавшие к древним и славным домам, нередко занимались грабежом, не обращая внимания на различие вероисповеданий и, вместо того, чтобы спешить на помощь присяжным патриотам, предпочитали возвращаться с награбленной добычей домой, как с трофеями боевого мужества. Что касается таких дел какое хотел совершить король над шляхетскими сундуками и какое совершил над шляхетскими домамии и замочками, то эти дела не смущали ни его самого, ни его приближенных.
Так как поход был в некотором роде крестовый, то христолюбивому панскому воинству по ночам являлись видения, знаменовавшие будущее величие Польши и её короля. Освецим рассказывает весьма серьезно, что ротмистр канцлерской хоругви (а канцлером был теперь ксендз-бискуп), стоя на часах с пехотинцами, видел в облаках короля, сидящего на золотом престоле между двух ангелов, из которых один держал корону, а другой — меч над его головой. Это было на одной стороне лагеря. На другой — венгерцы видели среди голубого облака зелёный вертоград, очень красивый, в средине которого они прочли латинскую надпись: lmperatог mundi [39], начертанную большими золотыми буквами. Они подтвердили присягою (удостоверяет Освецим), что действительно читали надпись.
Пройдя молчанием окончательное разорение волынской шляхты под тем предлогом, что она была русской веры, польская историография говорит с умилением, что представляемая походным народом Польша была настроена «чрезвычайно набожно».
Подобно тому как у Яна Казимира, во время его забав собаками и кой-чем похуже, ежедневно служили иезуиты в передней комнате святую мшу, здесь беспрерывно отправлялось богослужение, а королевский навес, в котором стоял чудотворный образ Богоматери, день и ночь был полон молящихся людей. Под влиянием беспрерывного богослужения и назиданий, дозволяющих разорять не только казакующую, но и полякующую Русь, ночью 31 мая хоругвь Станислава Потоцкого видела женщину, которая покрывала своим плащем весь польский лагерь. Жолнеры, признавши в ней Божию Матерь, соскочили с лошадей, упали на колени и начали петь Litaniam Lauretanam.....
Пускай бы они пели себе в отраду латинские гимны, но грустно думать, что это были наши подоляне, отщепленные от веры предков своих, как и их паны, Потоцкие, полонизованные на началах отвращения ко всему русскому и натравленные сперва против Великой, а теперь и против Малой Руси.
Но одного натравливанья было с ксендзов, «народных пророков» польских, мало. Чудотворный образ, привезенный ими в лагерь, принадлежал нашей соборной церкви в Холме, однакож молитвословили перед ним не православные священники, а католические ксендзы. Русская часть королевского войска, молясь под их молитвословие перед своей святыней, претворялась этим способом в сообщников тех, которые из их родного края делали Новую Польшу.
Замечательно, однакож, к чему вели польское воинство многочисленные ночные явления по замечанию современного нам историка поляка. Он говорит, что эти явления «держали умы одних в горячечном напряжении, а у других ослабляли энергию и мужество до ханжества (az do dewocyi), или совершенной безнадежности (zwatpienia)».
Положение шляхетского народа, консолидированного под Сокалем, вытекало из его исторической формации. Голова у этого некогда могущественного политического тела была панская, торс — шляхетский, а руки и ноги — простонародные, мещаномужицкие, по-польски вообще хлопские. И вот, в то время, когда вся умственная и нравственная энергия Польши была олицетворена Сокальским соборищем, ее колебали вести, приходившие из Надвислия, из Великой Польши, из воеводств Люблинского, Русского, о хлопских бунтах, которые грозили резнею панским и шляхетским семействам, — вести о революции рук и ног против их собственного тела.
В то же самое время Ракочий угрожал нападением со стороны Кракова; а перед глазами у панов стояли казаки с оказаченною чернью и палеями мужиками, которые были вооружены списами, ножами, косами, пращами, цепами и киями: милиция, грозная многочисленностью и самым диким, жартующим свирепством. Еслиб и было возможно презирать эту страшную гидру с возобновляющимися вечно головами, то диверсию панским силам ежеминутно могли сделать Оттоманская Империя, Московское Царство и даже Швеция. Между тем оборона государства лежала на плечах западных воеводств, которые составляли едва третью часть его, так как Белоруссия должна была обороняться дома. В лагере под Сокалем находились все силы и последние средства Речи Посполитой. В случае проигрыша дела, полякам, по словам польского историка, незачем было возвращаться домой.
«Зная это» (продолжает он), «паны стояли бездейственно, в то время, когда неприятель соединялся и выростал силою, и было у них довольно времени и справедливых причин для критики своих вождей, для предчувствий, тревог и безнадежности. Не доставало человека, который бы эти массы взял в сильные руки, увлек их за собою, вдохновил верою в себя и воспламенил надеждою победы, войско не имело никакой уверенности в гетманах: их прошедшее не давало для того основания. Короля не любили и ценили низко. Упрекали его в легкомыслии, в изменчивости и в совершенной неспособности к ведению войны. Средства, которыми он содержал войско, отняли у него и последнее достоинство. Постоянные смотры и маневры, посредством которых он хотел править войском, не имея об этом никакого понятия, делали его смешным в глазах старых воинов. Его императорская гримаса (mina imperatorska) не импонировала никому. Его благосклонность к иностранным офицерам досадовала польских предводителей; строгость, посредством которой силился он ввести в лагере соподчинение, давала совершенно противный результат, а постоянные перемены в военных планах лишали всех надежды на успех. Это непостоянство в намерениях было для всего войска наибольшим поводом к соблазну. Что ни постановила бы военная рада, как дело неизменное, было извращаемо всяким частным наитием. Первая нелепая весть путала отданные приказы и все приготовления вождей, сделанные по общему согласию. Другим злом была несоподчиненность в войске, увеличивавшаяся с каждым днем, а поводом к ней была беспорядочность военного судопроизводства. В прежние времена, когда польский король находился в лагере, высшая войсковая власть была всегда у него в руках, но в судопроизводстве вожди и сановники действовали самостоятельно и непреложно. Каждый исполнял свою обязанность, и жолнер знал, откуда может постигнуть его кара. Теперь же, по совету иностранцев, которые хотели присвоить себе достоинство военных сановников, король миновал старых должностных лиц, и лежащие на них обязанности поручал исполнять лицам новым. Гетманы не были гетманами, обозный не был обозным, стражник не был стражником, потому что сам король хотел быть гетманом, обозным, стражником, — хотел быть всем, а для занятия своего места употреблял такие личности, которым ничто не давало права заниматься этими делами. Потому-то жолнер обращал мало внимания на новых и прежних начальников, а офицеры, видя, что их миновали и пренебрегли, не заботились о порядке и субординации: так как о деле, о котором пекутся все, никто не печется.
Отсюда полная неурядица в войске; отсюда ежечасная перемена постановлений; отсюда беззаботность о знании неприятельских замыслов. Один оглядывался на другого, никто не исполнял своей обязанности, никто ни о чем не ведал. Король не имел никакой уверенности в способностях своих офицеров, а те взаимно себя чернили и постоянно ссорились. Когда доходило дело до рады, члены её подавали самые противоположные мнения, и казалось, что никто не знал, зачем прибыл в лагерь: ибо все были склонны больше к трактатам, нежели к битве. К счастью (прибавляет польский историк), «в королевском войске находилось два человека, которые в настоящем случае могли бы спасти Речь Посполитую от окончательной гибели. Первый из них, князь Иеремия Вишневецкий, любимец всего народа, за которого грудью могла бы дышать спокойно вся отчизна, держался скромно, в стороне; но его слова, произнесенные в решительный момент, были всегда сигналом и веленьем для всех, и не было сомнения, что в случае крайности, вся шляхта без колебанья отдалась бы в руки того, который, по словам одного из его поклонников, сделавшимися популярными, любил славу и ходил в ней, как в солнечном сиянии (w slawie sie kocliai i w niej, jak po sloncu, chodzil). Другой был мало в то время известный поручик (наместник) коронного великого гетмана Стефан Чарнецкий, но ежедневно, однакож, выраставший влиянием и значением у короля. И вот битва под Берестечком для первого из них была ярким отблеском заходящего солнца, а для другого — зарею восходящей славы богатыря», — увы! (скажет русский читатель) «богатыря бесплодного мщения, которое ожесточило непримиримых врагов больше прежнего».
Война, начавшаяся из-за ничтожной женщины и мелкопоместного хозяйства в глуши Чигиринщины, разбудила в двух нациях воспоминания столетий, обнаружила симпатии и антипатии великих народов, затронула интересы политических систем и превратилась наконец в подобие крестового похода одних последователей Христа на других, не признававших взаимно друг друга христианами. Не католики шли против сарацин, как в оных славных и богопротивных походах темного времени. Два духовные стада, образовавшиеся во имя одного и того же божественного пастыря, две церкви, создавшиеся во славу одного и того же зиждителя, встали друг на друга, как правоверные против кривоверных и как благочестивые против злочестивых. Святой отец, вместо денег, которых у него просили северные обожатели его, прислал всем идущим на брань отпущение грехов, да какие-то мощи, да золотую розу, шляпу и освященный меч королю; а святейшие патриархи восточные прислали к казакам коринфского митрополита, снабженного грамотою константинопольского патриарха, в которой он восхвалял благочестие Хмельницкого и одобрял войну его с врагами и угнетателями православия, изменниками истинной веры, разорителями христианской церкви, орудиями сатаны, то есть — с папистами. Патриарх писал к Сильвестру Косу, прося его быть дружелюбным с Хмельницким и осенить своим благословением его предприятие, а коринфского митрополита хвалил за то, что он состоит при Хмельницком, и ободрял его на духовные подвиги в защиту православной веры.
Достойный мусульманского господства грек препоясал казацкого батька мечом, который был освящен патриархом не в Риме, а на самом Гробе Господнем, вручил ему частицы св. мощей, принесенные им из Греции, кропил святой водою казацкое войско, и вызвался сопутствовать ему на брань, в сопровождении казацкого духовенства.
Это было нововведение в преславном Запорожском войске: казаки и при Сагайдачном, выступая против турок, отвергли благой совет «киевских обывателей» допустить в казацкие таборы священников для исповеди и причащения. Но в то время православная шляхта не была еще изгнана из Малороссии заодно с иноверною во имя её ляшества. В то время казаки противопоставлялись панам только в смысле малорусской милиции. За отпадение от отеческой церкви Острожских, Радивилов, Сопиг, Замойских, Чорторыйских, Любомирских, Жовковских, Потоцких и других великих панских домов, в устах таких апостолов древнего русского благочестия, как Иоанн Вишенский, подверглась роковому отчуждению и вся меньшая панская братия: а между тем паписты, видя в крушении аристократических столбов православия победу над греческою схизмою в Малороссии, повели слишком уже смело свою пропаганду церковным и воспитательным путем. Когда буря казацкого мятежа и мужицкого разбоя обняла большую половину государства, окатоличенные и оеретичившиеся по примеру польских панов русичи, вместе с теми, чьи русские кости обросли польским мясом, оказались отверженцами родного племени и очутились изгнанниками собственных домочадцев и захребетников. Теперь они шли завоевывать свое наследие по благочестивых предках, — шли вместе с коренными папистами, вместе с прозелитами, вместе с еретиками папизма и благочестия, следовательно — под знаменем веры, злочестивой во мнении той простонародной братии, которая осталась при своем исконном духовенстве, — и казаки выставили против них, точно как бы во свидетельство вечного отвержения, не только искренних, но и терроризуемых богомольцев своих. Так многие из приветствовавших в Киеве Потоцкого за подвиг усмирения ребеллизантов очутились теперь волей и неволей во главе тех самых ребеллизантов... Чего доброго! сюда мог попасть и маслоставский проповедник Петра Могилы, как попал митрополит Сильвестр в процессию, приветствовавшую тех самых казаков, которых тогда могиляне вразумляли евангельскими словесами. Трагикомедия беспримерная!
Коринфский митрополит Иоасаф, проживая в Украине, послал в Москву своего двоюродного брата, грека Илью, как называли его москвичи, и уверял через него царя в доброжелательстве казацкого гетмана. Фальшь этого уверения явствует из того, что и сам митрополит, и брат его старательно скрывали от царя сношения Хмельницкого с турецким султаном, и представляли дело в таком виде, будто бы султан сам предлагал Хмельницкому войско, да Хмельницкий де вовсе в нем не нуждается. Однакож, не нуждаясь в войске, Хмельницкий подкрепил свой поход отрядом румелийских турок да тут же и у царя просил через Иоасафа помощи на ляхов.
Честный грек подъезжал к царю и с другой стороны. «Подлинно видим и слышим» (писал он, как переводили в Москве с греческого по-русски), «что их всех будут ляхов победить казаки, а подлинно слышал (я) из уст у гетмана, что никако миру с ними не быть: хочет их до конца разорить и посадить короля на королевство хрнстианского».
Этим христианским королем греки старались представить в Москве Ракочия, который будто бы обещал Хмельницкому, вступив на польский престол, принять православную веру. Но ни ласкательством, ни угрозами не могли казацкие агенты отклонить московских политиков от того пути, которым русское воссоединение было достигнуто без унижения царского правительства.
Хмельницкий держал при себе и другого восточного митрополита, Гавриила назаретского. Выступая в поход, он отправил его в Москву с письмом, в котором умолял царя прислать ему ратную помощь и изъявлял готовность поступить в его подданство со всей Украиною. Но ратные люди обладателя Русии подали руку помощи разбойникам только тогда, когда разбойники, видя, что им кроме Восточного царя негде деться, прибежали, вместе с обманутым и запуганным ими народом, под высокую царскую руку. Только в качестве подданных московского самодержца получили они значение христианских воинов. С подданными не стыдно и не грешно было идти под одним знаменем. Подданные не смели воевать за Божии храмы под мусульманскими бунчуками. Подданные у «единого сияющего под солнцем православного царя» не могли расплачиваться с Ордою христианским ясыром, как они сделали у злочестивого короля. За подданных казаков царь принимал на себя ответственность перед судом Божиим и перед судом подданных не казаков, которым дорожил, в своем самодержавном величии, несравненно больше короля королей-республиканцев.
Хмельницкий находился теперь, как и всегда, в положении опасном. Поход 1649 года разочаровал мужиков на счет обильного грабежа под казако-татарскими бунчуками. Голод и нищета, наступившие после внезапного обогащения, обратили многих на путь, оставленный ради неверного казацкого промысла. Мужики предпочитали быть хлеборобами и гречкосеями под какой бы то ни было властью, вместо того чтоб идти с казаками под татарские нагайки да буздыганы на войну и в татарские лыка с войны. Хмельницкого проклинали даже после первых его успехов за предательство поспольства татарам. Теперь уже не стеснялись петь про него насмешливые и грозящие песни, которых он старался не слышать, но которые, без сомнения, доходили до него через его бесчисленных шпионов и доносчиков. Татарская охота за казацкими женами и детьми вооружила против него даже тех, которые обогатились добычею, как он сам. Дошло до того, что некоторые значные казаки, при самом начале новой войны, предложили свои услуги панам против казацкого батька. Какими средствами казатчина выросла, такими же должна была себя и поддерживать; а поддержка бунта более завзятым бунтом и войны более кровавой войною вела к истощению массы, из которой казатчина начерпала новые и новые боевые силы, или же — к её восстанию против казацких злодеяний. Хмельницкому предстояло то и другое.
Около двух недель уже юртовалось (употреблю здесь казако-татарекое слово) панское войско в своем бездействии, давая неприятелю время стянуть все свои силы. Юртовалась бы шляхетная орда и дольше в своем лагере-юрте, когда бы не пришла весть, что крымский хан соединился с украинским. Получено было также известие, что неприятель занял проходы под Тернополем, попортил переправы и подвигается ужи к Вишневцу и Кременцу, между тем как его чати приближаются к реке Стыру. Все сводилось к тому, что соединенные казако-татарские силы перейдут Стыр под Берестечком, и вскоре явятся под Сокалем.
Застоявшиеся в лагере паны всполошились. Немедленно был послан Александр Конецпольский с 4.000 войска занять под Берестечком переправы, а в Сокальском стане собралась военная рада. В ней принимали участие предводители десяти корпусов, на которые делилось войско, все министры и сенаторы, каштеляны и старосты, в качестве вождей посполитого рушения, все высшие офицеры, инженеры и войсковые чиновники.
Оба коронные гетмана объявили решительно, что надобно оставаться на месте, укрепить лагерь сильнее и ждать неприятеля. Большая часть полководцев была того же мнения. Все они не допускали возможности одолеть соединенные неприятельские силы, и советовали ждать, пока не прибудут воеводства Великопольское и Мазовецкое, так как, в противном случае, неприятель может их отрезать и уничтожить.
Но главным аргументом, таившимся в душе каждого, (пишет историк поляк) было опасение неопытности и легкомыслия короля. Бессознательный сотрудник Хмельницкого в уничижении Польши, Ян Казимир, теперь, когда приближался последний момент войны, вдохновлялся всё большею и большею «ревностью не по разуму».
К счастью для панов, русин-католик Стефан Чернецкий начал уже входить в славу знатока стратегии и тактики. В противность большинству вождей, он соглашался с теми, которые советовали идти под Берестечко. Две недели уже твердил он королю и сенаторам, что надобно воспользоваться отсутствием хана и ударить на Хмельницкого: иначе — ожидание и бездействие ослабят бодрость духа в войске и усилят казаков. На гетманского любимца не обращали внимания; видели в нем только талантливого теоретика и смельчака. Теперь же большая часть вождей смотрела на него, как на вредного и опасного человека, который пользуется неопытностью короля, предубежденного в его пользу. Его слушали нетерпеливо, его даже ненавидели, но всех удерживало от резкости внимание, с каким генералы Пршиемский, Мандель, Убальд выслушивали его доводы.
Три дня боролся Чернецкий с противниками своего плана, и наконец движение под Берестечко представилось большинству, как необходимость и как единственное спасение войска и Речи Посполитой. Аргументы поляко-русса Чернецкого отличались тою простотой, с которой обыкновенно высказываются глубокие и многосложные соображения таланта. Остаться под Сокалем значило — отдать Волынь и Полесье в жертву неприятелю, значило — позволить ему подкрепить себя новыми массами мужиков и соединиться правым крылом с литво-казацким ополчением, от чего силы противника возросли бы до полумиллиона. Под Сокалем не было удобного места для полевой битвы. Окрестность была голодна и пустынна. Пришлось бы — или уходить, или подвергнуться осаде, и в таком случае тысяч 15 посполитаков были бы — или отрезаны, или истреблены, а король и Речь Посполитая, не имея никакой надежды на спасение, зависели бы от благосклонности судьбы, или неприятеля. Напротив под Берестечком было место, удобное для битвы. Оно представляло все шансы победы: ибо, хотя бы неприятель был втрое и вчетверо многочисленнее, то не мог бы развернуть всех своих сил. Паши для лошадей было достаточно. Река Стыр и болота речки Пресни защищали лагерь. В случае проигрыша, можно было спокойно отступить, а если бы неприятель, как были слухи, имел намерение отступать к Киеву и протянуть войну, оттуда легко было в этом ему помешать.
Когда было наконец решено, что войско двинется к Берестечку, Чернецкий выступил с другим, еще более смелым планом: двинуться под Берестечко комонником, то есть возы и челядь оставить под Сокалем.
Чтобы понять, какое значение придавал Чернецкий своему плану, надобно знать, что это были за возы и вся обозная челядь вместе с её господами, по описанию самих поляков. Каждый даже не богатый шляхтич (убогие служили в надворных хоругвях) брал из дому палатку, вооружение, военные снаряды и съестные припасы для себя, для слуг и для лошадей в таком количестве, чтобы во время кампании не терпеть голода.
Сам он ехал на возу, «казак» [40] его ехал на верховой лошади, а возница — на козлах.
Торных дорог, в те времена не было. Кони погрязали в топких местах, в песке или же в размягченном дождями черноземе. Поэтому возы долженствовали быть малы и легки на ходу. Колеса делались дома; ободья не отличались правильностью, а оси не всегда подмазывались. Во время похода поднималось такое скрипенье, как у половцев, о которых наш древний баян говорит: «кричат телеги в полунощи, рцы лебеди роспущени». На скрипучем возу утверждался высокий плетеный кош (по-татарски кхош), и во всей постройке походной колесницы не было ни кусочка железа. Самый убогий шляхтич, отправляясь на войну, брал с собой обыкновенно два воза, три или четыре коня и двоих слуг. Можно судить, сколько их брал богач, не отказывавший себе в удобствах походной жизни. Возили за собой паны полную кухню, целую пивницу, удобные и нарядные шатры, дворовую прислугу в составе королевского двора, экипажи и цуговых парадных лошадей. Вельможи вступали в лагерь целыми таборами, так что под Пилявцами на 34.000 посполитаков было 200.000 слуг, а беглецы оставили на месте 160.000 возов. Под Берестечком не было уже такой роскоши и щеголеватости, но зато в лагере находился король со двором, все министры Речи Посполитой, 40.000 шляхты, более 20.000 лановых и дворовых жолнеров и 36.000 регулярного войска, которые также требовали значительного числа возов. Очевидец насчитал их полмиллиона под Сокалем, а потому было там не менее полумиллиона слуг и миллиона полутора лошадей: цифра невероятная, но она основывается на общем убеждении, что в панском лагере возы надобно было считать не десятками, а сотнями тысяч.
Эти возы были причиною, что шляхта, кочуя обозом удобно, не охотно переменяла место, и никоим образом не допускала над собой дисциплинарной строгости. Она и здесь помнила, что шляхтич в городе равен воеводе, все равно как и казак помнил везде, что он вольный казак, хоть и гнали его на бой сзади, все равно как и татарин знал, что хану повинуется Орда только в Крыму, и то не всегда. Под Берестечко сошлись на бой три вольницы: цивилизованная, полудикая и совсем дикая.
Столь огромный табор, и независимо от атавизма, именуемого шляхетскою вольностью, делал невозможным всякое энергическое движение, и так как, при такой массе людей, лошадей и возов, нельзя было сохранить в походе порядка, то панскому лагерю ежеминутно угрожала опасность, что нападение неприятеля, расположенного невдалеке от Стыра, могло разорвать беспорядочную громадину на части. По этой-то причине Чернецкий предлагал оставить возы и челядь в укрепленном лагере под Сокалем, с некоторою частью пехоты и конницы для обороны и порядка, а с остальным войском и необходимым багажом двинуться под Берестечко комонником.
Большая часть вождей не хотела рисковать своею популярностью у всемогущей шляхты и отказаться от походных удобств. Популярники и сибариты объявили напрямик, что — или совсем не следовало двигаться с места, или двигаться в полном составе. Но, так как этого мнения не поддержали они никаким аргументом, то король объявил военной раде своей, что войско пойдет комонником, и с этим отпустил гетманов и тех, которые умели противоречить, но не могли придумать ничего убедительного. В другой, более ограниченной, раде было постановлено — в следующий же день готовиться к походу; 15 мая, на рассвете, войско выступит одной дорогой, а необходимые фургоны и возы пойдут тремя дорогами. В два дня надеялись прийти под Берестечко.
Лишь только этот приказ протрубили в лагере, шляхта бросилась в собственную раду. Воеводства, земли и поветы собрались каждое в свой круг (коло), и выбрали послов для генерального кола. Генеральное коло отправило посольство к гетманам, и так как не было недостатка в людях, умевших искать своих выгод под прикрытием общественных интересов, то пущена была в ход мысль, что эти огромные толпы челяди, оставленные в лагере, могут поднять бунт и, в отсутствие своих панов, разграбят их имущество, что поведет Речь Посполитую к последней гибели.
Мысль эта послужила сигналом общего ропота. Предчувствуя грозящее отечеству несчастье от рук и ног, которые голова и торс исключали из политического тела, посполитаки отправили к королю послов; но король не допустил их к себе, и они обратились к генералу Пршиемскому с мольбой от всей шляхты спасать отечество.
Пршиемский, в качестве полевого писаря, побежал к королю, бросился ему к ногам и так настойчиво умолял его, что король испугался собственного решения. Отдан был приказ готовиться к походу с возами.
Чтобы сохранить, однакож, какой-нибудь порядок в громадном передвижении, королевская канцелярия разделила войско на три дивизии, начертила весь поход на бумаге и раздала чертеж во многих экземплярах по полкам, а возы каждой дивизии велела сперва обозначить разными красками. Способ этот, практикованный с пользою в голландском войске, произвел новое замешательство. Посыпались упреки и грубости на вождей: зачем такое новое дело сделано частным образом, без соглашения с посполитаками! Шляхетский популярник, Николай Потоцкий, «счастливый тем, что думал одинаково со всеми», начал публично порицать короля, теребил себе бороду, бросил на землю булаву и отрекался от гетманства, а когда его упрашивали, чтоб этого не делал, он, по примеру Ходковича под Москвою, готов был собственноручно расправиться с подчиненными булавою, но, как булавы не было уже в руках, то кричал трагически: «Прочь от меня, а то пихну ножом».
В придачу к кукишу коронного вице-фельдмаршала, эта выходка характеризует голову Речи Посполитой, боявшуюся, вместе с торсом, рук и ног своих. И вот как готовились паны к великому походу под Берестечко, который только игрою внешних обстоятельств не сделался для них повторением Пилявецкого бегства.
Утро 15 (5) июня было туманное. Далее четверти мили не видать было ничего. Изредка только восходящее солнце продиралось меж облаков. На рассвете двинулись крикливые возы, за ними — войско; но тотчас же наступил такой беспорядок, что канцелярские чертежи послужили только к общему замешательству. От короля и коронного гетмана до последнего посполитака, за исключением немногих бедствовавших среди них, умных людей, всех можно было назвать сумасшедшими.
Непобедимый победитель стоял на лагерных шанцах, и перед ним необозримая масса нескольких сотен тысяч возов, с полумиллионом людей и лошадей, сбилась в непонятное месиво, и никоим образом не могла двинуться с места. Призывы, крики, проклятия, топот и ржанье лошадей, скрипенье возов — представляли омут и хаос, который, по словам польского историка, «увлекал каждого в свой черторый (wir), отнимал ум и сознание».
Король разослал сильные стражи во все стороны, опасаясь повторения зборовской внезапности, а сам шептал молитвы, как заклинания против непостижимого для него смятения. Едва около полудня перестала шляхта кружиться как в лабиринте и двинулась по направлению своей дороги. Кто-то и как-то поставил рейтарские полки на фронте; кто-то вытянул крайние ряды один возле другого на дорогу, кто-то рубил и громил ослушников... наконец весь табор тронулся с места.
Двое суток выступали возы и войско из-под Сокаля. Пространство в 8 миль, отделявшее от них Берестечко, которое можно пройти форсированным маршем в одни сутки, панское войско шло целых пять суток. В первый день отодвинулось оно от заколдованного места только на одну милю.
На половине пути, под Стояновым, случилось происшествие, которое, по словам почтенного историка, свидетельствует, что польскому жолнеру, привычному к боевой жизни, «недоставало только железной руки полководца». Король, окончив смотр полков на равнине, ввел их около 8 часов вечера в лагерь, который был расположен между селами Брамою и Долом. Едва жолнеры разместились по палаткам, как челядь, стоявшая в отдалении при лошадях и возах, затеяла между собой драку и стала рубиться. Её паны бросились к ней с обнаженными саблями, и челядь побежала в королевский лагерь.
От этой тревоги распространился в лагере слух, что наступает неприятель. Все войско бросилось к оружию, вылетело в поле хоругвями и построилось как нельзя лучше в боевой порядок. Король, разбуженный Якубом Михаловским, составителем бесценной книги документов (Ksiega Pamietnicza), выбежал из палатки и велел трубить тревогу.
Вожди были сконфужены, не видя неприятеля и найдя свое войско совершенно готовым к бою. Король смешался больше всех, и, вместо того чтобы восхищаться войсковою традицией, бранил окружавших его самыми скверными словами (klal brzydko na wszystkich dokola).
19 июня вся походная масса стояла над Стыром. Никто не запомнил, чтобы военный народ собрался в таком количестве. Король с квартяным войском расположился над Щуровцами, в двух милях к югу от Берестечка, прикрывая переправу таборов и посполитаков, которые готовились два дня к переходу через реку.
Шляхта не хотела переходить за Стыр, ни соединиться с войском, пока не подошли великопольские воеводства.
Король, видя новое упорство шляхты, начал игнорировать ее; переправился через реку с квартяным войском местах в пятнадцати, и 22 числа расположился на Берестечской равнине, велев укрепить лагерь только слегка, так как не знал, долго ли придется стоять. Во время похода он получил известие, что неприятель хочет протянуть кампанию и решительно замышляет отступить к Киеву. Чтобы воспрепятствовать отступлению, король вознамерился двинуться к Дубну.
Перед фронтом лагеря, стоявшего под Берестечком, расстилалось широкое, длинное, необозримое поле, весьма удобное для битвы таких огромных войск. Посреди сухой и длинной равнины возвышалось несколько холмов. С правой стороны Берестечское поле замыкали густые леса, тянувшиеся к Леснёву и Щуровичам. С левой — протекала к северу речка Пляшова, и от села, называвшегося Королевскою Пляшовою, вливалась в топи и обширные непроходимые болота. В тылу лагеря находилось местечко Берестечко и река Стыр, обнятая с обеих сторон болотами, а над нею с одной стороны село Струмелец, а с другой — замок Перемиль, оба в миле от Берестечка.
Весь лагерь был обращен к востоку, как бы ждал неприятеля с поля, между селом Силенкою и нынешнею Пляшовкою. Он занимал обширное пространство, без всякого порядка. Каждый становился там, где кому нравилось, не обращая внимания на указания обозного. Однакож, местность имела ту важную выгоду, что кругом было много паши для лошадей, и что королевское войско, в случае битвы, могло на этих полях развернуться соответственно своим силам, не рискуя быть окруженным, тогда как у неприятеля поприще было сравнительно узкое, неровное и болотистое, так что превосходство его численности скорее могло вредить ему, нежели помогать.
В это время агенты Хмельницкого делали уже свое — как назвали бы киевские атависты — достославное дело. Велико- и малопольские мужики подняли бунт против единоверной шляхты, и готовились вырезывать все, что жило в панских дворах, или держало сторону помещиков, во время их отсутствия. Король отправил в Краков 1.000 посполитаков против предводителя задуманной резни, Костки Нанерского. Другую тысячу послал он оборонять Радивилову Олыку от Богуна, который скоро и отступил от неё. Александр Конецпольский отправился к Дубну, чтобы занять переправы и выбрать место для лагеря. Гавриил Стемпковский был послан с подъездом к Вишневцу, а на Стефана Чернецкого возложено самое важное дело: разведать основательно о положении неприятеля. От его известий зависело решение: оставаться ли войску под Берестечком, или передвинуться к Дубну.
Казаки и татары стояли над болотистым Горынем. На полях за Роковцами кочевал нуреддин-султан, и на правом берегу соединялся с Ордою, кочевавшею между Жираком и Горынем, а на левом — раскинулся Хмельницкий по Колодинским полям.
Задачу трудную взял на себя Чернецкий. Он должен был идти вдоль Слоновки через Икву и Алексинец, беспрестанно сталкивался с неприятельскими подъездами, а переправиться через горынские болота не осмеливался: его могли бы отрезать.
Вестей от него ждали в королевском войске с крайним нетерпением. Оставшаяся за Стыром шляхта сеймиковала, и через послов своих требовала от короля, чтобы, согласно праву и обычаю, он оставался в лагере посполитаков и командовал ими в качестве высочайшего гетмана. В противном случае, грозила избрать себе генералиссимуса. Не нравилось ей, что король опять намерен передвинуться, что не хочет видеть её войска, не хочет слушать по обычаю представления шляхетских послов и отвечать на их требования. Король отвернулся от посольства шляхты и ушел, не сказав ни слова.
В то же самое время начались распри между немцами и поляко-руссами, а в лагере сделалась такая дороговизна, что ломоть хлеба, стоивший полтора гроша, продавался по 18 грошей. Король не стал искать «благовидных» способов прокормления войска, и велел протрубить, чтобы войско само себе добывало живность, разрешив ему таким образом грабительство. Квартяки, челядь и даже подъезды бросились опять, как под Сокалем, опустошать окрестности, изображая собою не защиту края от казако-татарской орды, а хищную и беспощадную орду королевскую. Грабеж и под Берестечком оправдывался тем, что разоряют не ортодоксальных жителей, а схизматиков, на которых двинулось посполитое рушение: оправдание, гибельное для будущности поляков, как нации шляхетской, которую оставленная в невежестве чернь продолжала уничтожать при всякой возможности, и на которую даже в наше время готова броситься по первому велению сильного, как на «ляхову, що сховалась пид австрияком». Но жалкие жолнеры жалкого короля, подобно своим выродкам, казакам, не стеснялись в набегах ни единоверством, ни единоплеменностью: у брацлавского каштеляна, Стемпковского, находившегося тут же в лагере, королевский подъезд захватил 10.000 штук рогатого скота, а замок в Свимухах лагерная челядь вместе с немцами брала приступом три дня и наконец одолела. В замке у Стемпковского сидели, без сомнения, такие же ляхи, каким был по рождению, или сделался по воспитанию и вере, он сам; но эти ляхи правили подзамчанами русскими, и рогатый скот был захвачен в имении Стемпковского не иначе, как с избиением и увечьем его русских подданных. Все это причлось «безмозглым» к старому нашему с ними счету, начавшемуся при Ягайле и при его тесте, Людовике Венгерском, а проценты на проценты в предубеждениях ничего не взвешивающей народной Немезиды росли с быстротой погибельной.
Польская историография, безотрадная в своей верности правде факта, равно как и в софистическом самооправдании, изображает беспримерное развращение шляхетского народа его развращенным правительством в следующих выражениях.
Подъезды отказались повиноваться; жолнер не хотел исполнять своих обязанностей; в лагере с каждым днем беспорядки увеличивались, и никто не знал, что делать (nikt nio wiedzial со robie)».
Вот какая вера, вот какая общественность, вот какая государственность (скажет русский читатель) усиливались воспреобладать в Малороссии! Казаки, как беззаветные руинники, были еще большим злом; но яд, приподнесенный нам в виде созданной римской политикой культуры, требовал антикультурного противоядия. Приняв именуемый казатчиной и гетманщиной антидот, в ужасающей дозе, мы не совсем выздоровели даже и ныне, но русское самосознание к нам возвращается, и русского воссоединения «в духе и истине» мы чаем.
Небольшие подъезды и чаты, высылаемые на добывание языков, приводили их множество, но ничего верного нельзя было от них добиться. Вести, собранные в походе Чернецким и Стемпковским, не имели важного значения. Оба доносили, что главная казацкая сила стоит под Колодным, в миле от Збаража; что Хмельницкий замышляет бороться выносчивостью и хочет заманить короля в голодные области, которые теперь опустошают огнем и мечом; что хан прибыл 21 числа на казацкие кочевья; что под королевским обозом увивается множество казацких чат с целью добыть языка... Вестей набралось много, но ничего в них положительного не было. Одни были уверены, что Хмельницкий двигается в Украину, что будет все истреблять на своем пути, которым будет преследовать его король. Других смущала мысль, что посполитое рушение обратится в ничто. Если шляхта не пойдет комонником, то ленивым табором никогда не доберется до неприятеля. Если Хмельницкий удалится за Днепр, то вся кампания кончится ничем: ибо посполитаки должны будут вернуться домой, а войско без них будет не в силах идти за Днепр. Были и такие, что ожидали с каждой минутой татар в лагере. Но здесь не было коноплянников, как под Зборовым, где в убежище храбрецов нашли даже брошенные знамена.
Уже первые два дня, проведенные в бездействии под Берестечком, угрожали падением военной дисциплины. Король хотел постановить нечто верное, и вот, в день своих именин, приняв молча подарки от панов (оружие, лошадей, мисюрки, параменники), велел им остаться для совещания. Было решено прождать еще два дня, и если бы не было новых вестей, двинуться к Дубну. Опять возник вопрос о комоннике и ленивом таборе, но остался без разрешения. Было только приказано протрубить в лагере, чтобы войско было готово к выступлению 27 (17) июля.
Между тем подъезд Чернецкого пропадал где-то без вести. Не вернулись и посланные вслед отряды. Дисциплина падала в конец. Неприятель мог появиться внезапно, как под Зборовым. В лагере господствовала болезненная апатия как в умирающем теле и в отжившем свой век государстве.
Когда великий монарх, избранный на царство разбойником среди кичливых полонусов, помогал ему таким образом губить настоящее и будущее Польши, — сам разбойник притаился где-то в пустынях, которые сбросили с себя полувековую работу культурников, как дикарь сбрасывает не пригодную для его примитивного быта одежду, и снова сделались голыми. Было известно, что главные силы страшного в своей таинственности Хмеля стоят между Тернополом и Збаражем, но где находился он сам, сколько у него войска и куда намеревался двинуться, этого не был в состоянии выследить никакой подъезд.
Чтобы скрыть свои силы и планы, Хмельницкий разделил казацкую орду на многолюдные таборы тем способом, каким кочевали в Буджаках татары. Табор отделялся от табора пространством в несколько миль. Жолнеры, наткнувшись на казаков, не знали, что вступили в архипелаг отдельных кочевьев, а Хмельницкий искусным расположением таборов и выбором местности так умел маскировать свою позицию, что нельзя было распознать, что это: отдельный ли корпус главной армии, или же более значительная часть казацкой силы. Если случайно добывали жолнеры языка, то и он им ничего не мог сказать ни об остальном, ни о самом гетмане.
Многолюдные казацкие таборы, обставленные кругом сильными чатами, передвигались по временам с места на место; а за линией чат, их безопасность охраняли тысячи разведчиков, тогда как сам гетман сидел в панских окопах под Збаражем.
Хмельницкий отправил в так называемую Литву часть войска своего с 700 крымцев (число символическое [41]), под начальством киевского полковника Антона Ждановича, и стягивал теперь остальные силы к себе. Сильнейшими отрядами занимал он, по возможности, панское войско и подсылал к нему шпионов, которые притворялись беглецами, обманывали шпионов королевских, туманили их сказками и, разведав обо всем панском лагере, возвращались к своему батьку.
Позиция Хмельницкого была такова, что, не опасаясь нападения со стороны короля, он мог в двои сутки передвинуться под Сокаль, или под Львов. Не позволял он королю ни разделить войска, ни подвинуться далеко вперед. Становищем своим парализовал он неприятеля, мог легко соединиться с татарами, сообщаться с Ракочием и собрать турецкие подкрепления. Наказный полковник Стасенко, состоявший при походной канцелярии Хмельницкого в Збараже, мог, без всякого затруднения, сноситься с целою тучею агентов, разосланных по схизматической и католической Польше для взбунтования черни.
Теперь уже вся, можно сказать, польская Русь, в лице своих полонофобов, находилась в таборах казацкого батька. Среди наплыва черни и в самом войске толпилось множество попов и монахов. В прежние казацкие ополчения на панов ляхов, пойманные по подозрению ляхами паны оправдывались убедительным фактом, что казаки не допускают попа в походные таборы, а в 1621 году, благочестивые киевские «обыватели» напрасно писали к Сагайдачному: «чому бы и нам, покинувши поганские ворожки, же (что) поп на всякую потребу (битву) нещасливый, — положивши на Бога надею, для исповеди и для причастя завше (всегда) своих попов, людей духовных и богобойных, у войску не мети»? [42] Теперь три колокола, висевшие на подвижной колокольне, ежедневно сзывали казаков на молитву, а в походной церкви, составленной из множества палаток, отправлялось архиерейское богослужение. Казаки выступали, как воители обобранной, приниженной и поруганной малорусской церкви.
Но творец этой благочестивой новизны, очевидно для всех, терзался какими-то непонятными никому чувствами. Сделав так много, как не сделали казаки со времен царя Наливая, казацкий батько казался теперь чужим собственному делу. Может быть, он лучше кого-либо из казаков понимал, что прочность этого дела основывается не на собственных силах и средствах, — что она зависит от непредвидимых случайностей. Может быть, в тайных счетах с рассудком и совестью, он провидел и такие события, какие сопровождали кончину его старшего сына при его жизни, а младшего — по смерти. Тогда к чему эти кровавые реки, слезы стольких матерей, гибель стольких сирот?
И после своего похода ко Львову и Замостью, после возведения на престол, в насмешку над врагами, худшего из них, после триумфального вступления в Киев, Хмельницкий бывал, что называется, не при себе: то лежал ниц на церковном помосте, то предавался мертвому пьянству. Теперь его болезнь разлада с самим собой усилилась.
Наблюдавшие поступки Хмеля в таборе под Берестечком описывают его полусумасшедшим. Он бродил по табору, сам не зная, зачем; вдруг, как будто проснувшись, изрыгал кровавые повеления, восставал против правительств и народов, отвергая всяческие законы общественной жизни, кощунствовал, проклинал, и снова впадал в апатию, а потом предавался обычному пьянству на целые дни и ночи.
Много было толков о причине душевного расстройства казацкого батька и поляки, с дикой отрадой, повторяют их доныне, забывая, что это было родное детище их шляхетского народа. Несомненно одно, — что Хмельницкий нашел в женщине, которую любил, то, что Шекспиров Троил — в Кресильде. От горячей любви к смертельной ненависти у такого человека был один только шаг, и этот шаг он сделал в то время, когда попал опять в такую грозную зависимость от хана, какую хан дал ему почувствовать под Зборовым. Нагроможденные в Суботове и в Чигирине сокровища требовали для своей охраны дракона. В качестве такового Хмельницкий приставил к своему золотому руну своего достойного сына, Тимофея. Какого рода была между отцом и сыном переписка, да и была ли, этого нельзя сказать, зная, что и Князь Василий сносился иногда с Князем Перуном, в избежание случайностей, через посредство живого слова; но дракон, в один прекрасный день, получил повеление быть палачом своей мачехи, и казацкой Кресильды не стало. Кто знает, какую роль разыграл в семейной драме Тимко Хмельниченко? В жажде богатства и власти он мог быть похож на отца. Между ним и отцом стояла женщина, и эта женщина пользовалась таким влиянием, что, как мы видели, могла отвести пьяную руку мужа от убийства гостей и послов. Притом же эта прелестница дважды перешла в его объятия из чужих. Старый любовник верит клевете скорее молодого, а такие грязные личности, как Богдан Хмельницкий, способны, в мрачную минуту, мстить и за чужую вину, не только за собственную. Как бы то ни было, только известие о казни Чаплинской пришло к королю 9 римского июня, когда он стоял еще под Сокалем, и король угостил своих приближенных за ужином рассказом, невероятным по своим гадким подробностям. Сам ли Ян Казимир придумал их, или помогли ему и здесь готовые на все иезуиты, — дело не в том, а в том, что, каковы бы ни были Хмельницкие, эти божки наших киевских атавистов, допускать с их стороны публичное разоблачение семейной драмы прилично только их малорусским панегиристам [43] да их смертельным врагам, польско-русским панам. Освецим, в отраду польскому потомству своему, сохранил всю скабрезность приукрашенного враждебною молвою романа, и засвидетельствовал источник её словами: «Это наш сам король за своим ужином с радостью докладывал (z uciecha referowal)».
Военные действия зависели теперь от того, был ли казацкий батько пьян, или трезв. От того же зависела и соподчиненность в его войске. Когда он пировал, пировало все войско, и тогда не было речи о послушании: тогда полковники прятались в палатках; толпы черни бросались одни на другие и, как выражались казаки, жаковали возы. Так рассказывают поляки, и, зная безобразия казацкой республики из русских источников, нечем нам опровергать подобные рассказы.
Хотя казацкое войско было вдвое многочисленнее панского, но Хмельницкий не двинулся с места до прихода хана, «крымського добродия», как называет его иронически украинская песня. Без татар, он мало полагался на стойкость казаков. Даже славный гайдамака Нечай, в роковой для него схватке, подгонял соратников к бою серебряным перначом своим. Булава Хмельницкого также имела двоякое назначение; но, без таких понудителей, как татары, не сделал бы казацкий батько на своей карьере больше Павлюка, Скидана, Острянина и Гуни. Татары в походах старого Хмеля играли важную роль не столько в смысле подкрепления казацких сил, сколько в смысле водворения в казаках «воли и думы единой», то есть в смысле террора. И желтоводским, и корсунским победителям — умирать от ляшеской сабли и немецкой пули, картечи, бомбы казалось не столь ужасным, как попасть в татарские лыка вместе с казачками и казачатами. Без татарского побратимства, казацкое скопище давно бы уже не существовало: оно — или было бы рассеяно такими полководцами, как Вишневецкий и Чернецкий, или разделилось бы на ся, подобно сподвижникам Наливайка, Жмайла, Тараса Федоровича, Павлюка, Остряницы. Того мало, что хан своим присутствием ставил казацкие полчища в необходимость идти на бой: татары отрезывали им путь к бегству, и нередко гнали панское войско одним своим криком.
Положение наших добычников на прославленных и опозоренных Збараже-Зборовских равнинах становилось затруднительным. Край был опустошен войною 1649 года, а в прошлом году саранча съела полевые урожаи. Съестные припасы доставлялись издали. В казацком войске, как и в панском, открылась повальная болезнь, и в то же время начал чувствоваться голод. Хмельницкий берег харч на время боевое, и только по временам лакомил хищных деток своих жакованьем возов. Но «кримський добродий» приближался; пилявецкие сцены трехсуточного пира оживляли казацкое воображение, и поднимали казацкий дух из упадка.
Слух о намерении казаков отступить в Киевщину и продлить кампанию паны приписывали изобретательности Хмельницкого. Гораздо вероятнее, что этот слух был проявлением общего чувства казацкой массы, всегда готовой разбежаться, когда нечего было жечь и грабить. Иначе — не долетел бы до нас из позабывшей себя старины казацкий вопль:
Ой раді б ми вернутися, — Гетьман не пускає!Что касается до казацких вожаков, не исключая и самого Хмельницкого, то надобно отдать честь их рассчетливости: выступая в поход, они всегда намечали и обеспечивали себе дорогу бегства — если не в христианскую, то в мусульманскую землю. Так объясняют и быстрый поворот казацкого батька от задуманного с Ислам-Гиреем и Киселем похода к набегу на Волощину. Если это объяснение справедливо, то Хмельницкий, отвлекши хана от Московской войны своими каверзами, являлся теперь в некотором роде спасителем царя от ляхо-казако-татарского нашествия. Не мог простить этого плут ордынец плуту казаку, и приготовился так или иначе отомстить ему за недочет в широко рассчитанной добыче, а пожалуй — и за потерянный случай к восстановлению двух татарских царств.
Было у Ислам-Гирея и другое побуждение к задуманному коварству; а коварством он даже тщеславился в переделках с джавурами: султан повелел ему, наследнику древней кипчакской славы, «хорошо править конем» на службе беглому рабу татарских пленников, польских панов.
Ослушаться своего сюзерена было бы не безопасно; ощетиниться против стамбульского калифа-султана было бы греховно. Но мужество и робость, победоносный разум и позорное затмение ума ниспосылаются одним и тем же Аллахом. Так должен был размышлять уповающий сильно на Божию милость хищник, и, может быть, этим размышлением предрасположил себя к бегству из-под Берестечка.
В то время, когда король вступал в лагерь под Сокалем, хан стоял уже над Днепром. Там отдыхал он три дня и разделил Орду на три войска. Первое войско, распадавшееся на две половины, составляло правое и левое крыло главного полчища, заключавшего в себе две трети Орды. Во время пути, главный корпус шел в ровной линии с крыльями, делая шесть миль ежедневно, без остановок, но каждый час все войско приостанавливалось на 15 минут, чтобы кони перевели дух. В это время татары сходили с лошадей и, исправив, что кому было нужно, летели «гневом Божиим саранчою» дальше.
По мере того как Ислам-Гирей приближался с востока, Хмельницкий подвигался к северу, чтобы заслонить Орду от панских подъездов и сойтись в походе с союзниками.
Когда таким образом татары достигли Винницы, он подвинулся на Колодинское поле и сделал там свою главную квартиру. Оттуда двинулся он с частью войска к Вишневцу, из Вишневца протянул свои посты до Казимирова, и распустил чаты к Стыру. В это самое время передняя стража татарская, под начальством султан-нуреддина, пришла к Вишневцу. Хмельницкий выехал из Вишневца со всеми полковниками приветствовать хана, встретил его под Лябишином, и вместе с ним въехал в татарский кош при восклицаниях Орды. Загребатель жару чужими руками был счастлив: 100.000 отборных татар готовы были к его услугам. Оставалось только выкурить польских пчел и выбирать мед, как под Пилявцами. Кони и люди были у татар в наилучшем виде, повиновение беям и мурзам полное, в батовах большой запас провизии, и по пути не сделали они в казацкой области никакого грабежа. Словом, татарский хан явил свою орду образцом и для казацкой, и для панской орды.
На пространстве между Сокалем и Колодным стояло теперь три силы готовые к бою: образцовый хан с двумя братьями соправителями своими, с отборною Ордою, с беями, агами, мурзами; казацкий гетман со всем, что мог вывезти из Украины соблазном и террором, и король с министрами, с большею половиною светских сенаторов и почты со всей коронной шляхтою; а бой предстоял теперь уже не за казацкие вольности, давно завоеванные, не за татарский гарач, возмещенный с лихвою, а за две христианские веры, из которых одну предоставлялось магометанину возвысить, а другую унизить.
Обезпечив себя татарами, Хмельницкий имел все шансы для торжества над панами в небывалом еще богословском диспуте; но, при всей своей радости, скоро почуял, что играет в рискованную игру. Ислам-Гирей дал ему заметить, что между ними нет прежнего согласия. Хану была не по сердцу дружба казаков с турками: казаки, чего доброго, могли сделаться уздою на татар в руках Дивана. Падишах уж слишком настоятельно погнал его, перекопского и крымского царя, на помощь панским бунтовщикам. По мнению Ислам-Гирея, Чингисхановичам, а не Османам следовало бы царствовать и в самом Стамбуле. Если не обман со стороны Хмельницкого в походе на Москву, обещавшем хану так много, то помыканье крымским величеством через посредство турецкого султана, одно из двух, превратило дружбу татарского хана с ханом казацким в тайную боязнь и следовательно в ненависть.
Ища выхода из своей запутанной роли, Хмельницкий перебрал меру в разнообразных заискиваньях, и теперь видел, что у побратима татарина что-то недоброе на уме. Не успокоило его и лестное обещание Ислам-Гирея посетить союзника в казацком таборе. Весь рассчет на успех основывался теперь у казацкого батька на уверенности, что татары запугают своими лыками его детушек и принудят к отчаянному бою. Но и этот рассчет сделался сомнительным от приема, какой он сделал «крымскому добрбдею» у себя в таборе, поддавшись обычному своему пьянству, в котором находил лекарство от удручавшей его грусти.
Чтобы маскировать свое охлаждение к гетману, хан возвратил ему визит на другой день. Ислам-Гирей приехал в сопровождении князей и баронов Крымского юрта, на дорогих, богато украшенных лошадях, в легких фригийских шапках, в длинных холщевых епанчах. Загремело 60 пушек, зазвонили колокола, загудели бубны и сурмы; но гетман хана не встретил: он лежал пьяный. Невозможно было скрыть это от царственного гостя. Гетманский наказный Джеджалла должен был объявить своим соплеменникам правду. Хан оскорбился странным приемом, и не скрывал своего отвращения к пьянице.
После взаимного пересмотра войска, оказалось, что у Хмельницкого было 90.000 регулярной пехоты, 12.000 конницы и более 100.000 затяжцев мужиков. Пехота была вооружена так называемыми семипядными пищалями. Конница имела такие же самопалы, но сидела на плохих лошадях, которые служили ей прикрытием во время пешей пальбы. Мужики были вооружены, кто как мог: дрекольем, вилами, набивными цепами и самопалами, как их описывает казацкая Илиада:
Которий козак шаблі булатної Пищалі семипядної Не має, Той кия на плечі забирає, За гетьманом Хмельницьким у поход поспішає.На военной раде казаки и татары решили — притвориться отступающими к Киеву, согласно носившейся до прихода хана молве, 25 (15) июня двинуться весьма таинственно к Берестечку и дать ляхам битву. Хан и Хмельницкий, с 12.000 татар и с таким же количеством казацкого комонника, должны были явиться первые под Берестечком для обозрения поля битвы, и если бы король, как они надеялись, двинулся к Дубну, напасть на него в походе. За ними должна была идти Орда и полк Богуна, а потом пойдут все таборы и батовы, войска и казацкие гарматы [44].
Когда казаки и татары готовились к нападению, паны, не получив от подъезда Чернецкого никакой верной вести и думая, что неприятель отступает к Киеву, решались идти к Дубну.
27 (17) июня лагерь снялся с места. Уже некоторые возы выехали в поле; пехота и конница стояли наготове; королевский отряд сидел перед навесом и ждал окончания мши, чтобы выступить вместе с королем, как из подъезда титулярного казацкого гетмана Забугского прискакал гонец с донесением, что хан и Хмельницкий уже в походе, а Богун, с несколькими десятками тысяч народной стражи, достиг уже реки Горынки, чтобы занять переправы.
Вслед за гонцом Забугского, от подъезда князя Иеремии Вишневецкого пришло известие, что неприятель двинулся с Колодинского поля и залег по сю сторону Вишневца в лесах, чтоб ударить на королевское войско при переправе через Икву.
Гетманы стали убеждать короля, чтоб дозволил войску остаться в лагере еще один день, как подъезды прислали языка, именно шесть казаков и одного попа, которые показали единогласно, что два неприятельские полка стоят уже под Перенятиным, в полуторе милях от Берестечка, и намерены в тот же день напасть на королевское войско.
Немедленно отправили Чернецкого вернуть возы в лагерь; войску велели занимать валы; выслали сильные отряды для занятия всех проходов и переправ; инженеры принялись поправлять окопы и шанцы.
Не было никакого сомнения, что казаки и татары приближаются. Ежеминутно прибывали новые вестники наступающей грозы. Панские подъезды, столкнувшись с татарскими, прятались в лагерь; посполитаки торопливо переправлялись; возы возвращались в окопы; а к вечеру далекое зарево на горизонте и глухой гул в воздухе давали знать о приближении 300.000-го войска.
Пехота и челядь сыпали целую ночь шанцы. Всё войско стояло под оружием, и было запрещено, под смертною казнью, отдаляться от лагеря. Но дерзкая челядь, Зборовские герои, несмотря на запрещение, выгнали несколько тысяч лошадей на пашу, и все эти лошади сделались добычею татарских чат.
Рассчитывая на походное движение панских ополчений и не встретив никакого похода на своем пути, Хмельницкий остановился в недоумении в полуторе милях от панского лагеря. Ночью, со вторника на среду 27 (17) июня, стал он переправлять свое войско и табор, устроив переправы в двух местах. На одной из них наткнулся на него подъезд князя Вишневецкого, под начальством Бейдковского, и был совершенно разгромлен. Беглецы принесли верные вести о неприятеле.
В то же самое время возвратился из разъезда Чернецкий. По отзыву Освецима, он уронил свою репутацию тем, что, вместо языка и точных известий о намерениях неприятеля, пригнал лишь несколько тысяч голов рогатого скота, захваченных им на Волыни и едва не подверг все войско величайшей опасности, подав ложное известие об отступлении казаков и татар. Но мы уже знаем, что сами казаки были поставлены Хмельницким в невозможность узнать о его намерениях, и для нас ясно, что он умышленно не тревожил скотогонительства Чернецкого, дабы край показался ему оставляемым неприятелем, якобы испугавшимся королевской силы. Упрекает Освецим знаменитого воина и в том, что он вспомоществовал лишь разорению края. Здесь он указал на самую печальную черту подвигов Чернецкого. Стефан Чернецкий всего больше прославился у поляков разорением. Умирая после громких, как пустой звук, деяний своих на руках у походного исповедника иезуита, не мог он утешать себя мыслью, что оставляет присвоенную Польшею землю, текущею снова молоком и медом. Напротив, его слава, истинно польская, в дурном смысле слова, уподобилась той славе казацкой, которую восхваляли перед московским царем турецкие интриганы, греки, говоря о Хмельницком, что он, идучи с татарами, «все разоряет до основания, будто николи ничего нигде не бывало».
Июня 28 (18), в среду, утром, было получено известие, что неприятель переправился и приближается к панскому обозу, а татары уже столкнулись с панскими разъездами около переправы через речку Пляшову. Жолнеры собрались толпами слушать богослужение. В лагере протрубили целодневный пост по случаю кануна Свв. Петра и Павла. Стоявшая под Корницами панская стража прискакала с известием, что видела неприятеля собственными глазами. Выслали на рекогносцировку князя Богуслава Радивила, генерала от инфантерии. Когда он с полком своим достигнул базара, ему представилось то, что наши кобзари называют великими пылами-туманами, и, около полудня, показались первые татарские отряды. Перешедши речку Пляшову, они заняли мелкими отрядами взгорья, поля, леса и заросли укрывши в зарослях казацкого комонника.
Панская конница стояла наготове между валов и шанцев. Войсковой стражник, Яскульский, расположился с несколькими отрядами конницы перед валами, держа неприятельские купы в надлежащем отдалении, а между тем коронный стражник, Замойский, проезжал по рядам, и именем короля запрещал выезжать на гарцы. Только в 5 часов по полудни, когда уже знали наверное, что неприятель не выведет больших сил на боевое поле, было дозволено самым опытным ветеранам выехать в поле.
Татары давно уже подъезжали под шанцы и валы панского обоза, с намерением, под видом гарцев, навести жолнеров на казацкие засады. Началась ловитва людей, так как в гарцах не о том старались, чтоб убить противника, а о том, чтобы схватить его живьем. Всех больше обращал на себя внимание наездническим искусством татарин, сидевший на дорогом пегом коне. Гонялся за ним старый Мазур и, видя, что схватить его живьем нельзя, застрелил из ружья. Татарин упал головой в тыл, к стороне своего войска: примета зловещая у татар. Раззадоренные удачей польского гарцовника, ордынцы сбегаются в одну купу, строятся и летят к шанцам.
Александр Конецпольский смыл уже с себя пятно Пилявецкого бегства под Збаражем. Под Берестечком, он, «в глазах всего войска» (пишет Освецим) «разыграл первую сцену военной драмы». С горстью дружинников он врезался в целую тучу татар. За ним бросился с полком своим Опалинский, коронный маршал, посланный в помощь отважному бойцу. Три раза выбивался Конецпольский из татарской тучи, и три раза бросался снова на неприятеля, к удивлению всего войска. Видя, что он рискует головой, выслали князя Иеремию Вишневецкого, с частью казацких, то есть легко вооруженных хоругвей, и Стефана Чернецкого с гусарскою ротою, — двух знаменитейших русинов на выручку стоившего того поляка. «Целый час» (рассказывает Освецим) «продолжался смешанный бой, среди криков и замешательства. Наконец неприятель не выдержал боя на саблях, и обратился в стремительное бегство. Наши преследовали его на расстоянии целой мили, до болотной переправы, где должны были остановиться по причине приближения ночи... Взято было в плен более 20 всадников и один мурза. Они показали, что этот передовой отряд состоял из 12.000 отборной казацкой конницы и Белогородских, Крымских, Урумбеевых татар, отправленный для предварительного испытания наших сил. Некоторые утверждали, что с ними находились хан и Хмельницкий, но что они заблаговременно удалились».
По другим польским известиям, в пробном бою, как это и естественно, начальствовали оба хана, татарский и казацкий. Счастливые любовники своих жен-сестер, Конецпольский и Вишневецкий, бросились в кипучую свалку очертя голову. Несчастный любовник чужой жены, Хмельницкий, казалось бы, должен был заглушить свою досаду встречею с теми людьми, которым он приписывал казако-панскую усобицу. Но это был герой иного закала; он заглушал досаду на свои неудачи пьянством, и вдохновлялся только рассчетом на успех войны, кто бы ни помогал ему, какими бы средствами ни помогал, и чем бы ни пришлось платить за помощь.
В 10 часов панское войско сошло с поля. Изнуренные жолнеры только ночью подкрепили силы свои едою.
В это самое время (как узнали паны в последствии) Ислам-Гирей, недовольный пробным боем, созвал на раду своих беев, аг и мурз, с намерением войти в договор с панами. Сведав об этом, Хмельницкий прибыл с полковниками своими на татарское совещание, и начал разуверять хана в его наблюдениях. Он уменьшал панские силы, уничижал шляхетский способ ведения войны, и, между прочим, сказал: «Это у них только первый пыл, а лишь только покоштуют гармат и куль да попробуют лагерной нужды, слякоти, жары, бессонных ночей, чатованья, голоду, когда, наконец, все повыпьют, тогда, непривычные к воде, к холоду, голоду и непогодам, начнут бунтовать, ссориться, и самого короля своего бросят в поле. Нам бы только перебить квартяков; тогда все посполитаки пойдут в рассыпную. Вот уже третий день, как несколько полков, поссорясь с королем, разошлись по домам».
На казако-татарской раде было постановлено: завтра хану со всей Ордой, которая подошла только вечером, и со всей казацкой конницей, переправиться через Пляшову, и, занимая панов боем, овладеть берестечскими переправами и равнинами, а между тем Хмельницкий соединит все свои таборы, пехоту и гарматы, которые медленно приближались, и приготовится к переправе.
На рассвете 29 (19) июня все панское войско выступило в поле, и расположилось в значительном расстоянии от окопов, между тем как остальные полки стояли наготове в лагере. Левым крылом командовал коронный полевой гетман, Мартин Калиновский, в центре стояли посполитаки, а на правом крыле — брацлавский воевода, Станислав Лянцкоронский. Все желали решительного боя.
День был ясный. Утром, со стороны Корыня, появились над переправой татарские отряды. По ним стреляли из пушек, из ружей, и прогнали за переправу. Около 11 часов ударил неприятель большими силами, и овладел переправами, которые были слабо защищены отрядами драгун и полевыми пушками. Многолюдные толпы татар двинулись на равнины, и начали, по обыкновению, свои гарцы, подъезжая к панскому войску и вызывая на состязание в наездническом искусстве.
Вскоре затем со всех сторон показались столбы дыма: костелы, панские дворы, села горели на пространстве в несколько миль. Стотысячная Орда и вся казацкая конница разлились по равнине, в расстоянии полуторы мили от панского войска. Поля и леса были заняты наступающими.
Через полчаса прискакало множество мелких татарских отделов, более сгущенных, нежели в прошлый день, и расположилось широко отворенным полукругом, в полумиле от панского войска, зажегши все соседние села, для стращания ляхов. На центральном взгорье появился главный татарский корпус, вместе с казацкой конницей, направляясь к левому крылу панского войска. Между тем как оба хана смотрели издали в зрительную трубу, началась битва, какой никто из жолнеров не видал, битва 200.000 всадников.
Левое крыло панское подвинулось вперед; центр и правое крыло стояли неподвижно.
Главная татарская сила ударила на левое крыло, и окружила его при первой же стычке. Трижды панские полки выбивались из татарской массы; трижды она их поглощала снова. Казалось уже, что левое крыло не выдержит боя; но сильный удар подольского воеводы, Станислава Потоцкого, который подкреплял это крыло с левой стороны, выручил его, потеряв ротмистра и десятка полтора товарищей.
Вся казацкая сила ударила тогда на центр. Против неё выступило ополчение брестокуявской шляхты. Поддержал его Лянцкоронский. За ним спешили полевой гетман и князь Иеремия Вишневецкий. Из самого центра двинулись полки великого коронного гетмана и коронного маршала. Они ринулись на наступающую Орду, прорвали татарскую массу, и смешались с нею так, что только бунчуки и хоругви обозначали в воздухе, где паны, а где ордынцы. Наконец удалось им отступить под полевые пушки, которые сильным огнем остановили татар.
Яростнее всего кипел бой на левом крыле. Две свежие хоругви, которые бросились выручать ослабевающее войско, вернулись изрубленными; оба её предводителя пали со множеством «знаменитых рыцарей». Здесь, на кровавой сцене появились творцы её — казаки. Королевский полк ударил на них копьями с энтузиазмом. За ним двинулись полки Собиских и подольская шляхта, всё наши ополяченные, недополяченные, и переполяченные русичи, ожесточенные соперники казатчины. Перемешанная с латинцами, папистами и антипапистами литвинами русь воевала с русью, перемешанною с татарами, турками и всяким сбродом, «верующим и неверующим в Бога», как доносили панам подпанки. Татары дрались яростно, и взяли гетманское знамя, причем знаменоносец остался невредим. По всей линии битва кипела без распределения, без плана, без команды. Каждый вождь предпринимал, что хотел. Это пишут сами поляки, свидетельствуя тем самым, что европейская тактика в Польше не далеко ушла от азиатской.
Бой прекращался и возобновлялся несколько раз. Некоторые хоругви загнались, в жару отваги, слишком далеко, и были вырублены поголовно. Бились до двух часов дня.
Наконец Орда отступила. Паны понесли страшные потери, что делает их традиционной жолнерии великую честь. Но потери произошли от того, что гетманили одновременно и Ян Казимир, и Николай Потоцкий. Один был неспособен к гетманству по природе и воспитанию, другой — по своей дряхлости и потому, что потерял доверие у соратников, — доверие к его счастью; а вера в боевое счастье до того смешивалась тогда с талантом полководца, что Потоцкого стали называть головой немощной (niedoleinq). С панской стороны пало 200 таких воинов, которые слыли знаменитыми рыцарями, то есть такими, которые составляли душу боевого тела, и что еще хуже — неприятель удержал за собой позицию, занявши взгорье, проходы, переправы и отрезавши пашу для лошадей.
Но и татары не радовались. У них было до тысячи убитых и раненных, погибло много мурз, и в числе их славный Тогай-бей, а Муфач-мурзу, молодого и храброго воина, близкого родственника ханского и крымского казначея, взяли паны в плен.
Панское войско упало духом, и справедливо ему казалось, что не устоит оно, если татары и казаки ударят на него всеми силами. Но военная рада королевская состояла не из одних Потоцких да Киселей, и такие люди как Вишневецкий, Чернецкий, Конецпольский, Лянцкоронский, предпочитая смерть позорной жизни, взяли верх над миротворцами. Было решено — выступить утром против неприятеля и попытать окончательного решения судьбы: быть или не быть Польше.
Во что бы то ни стало, надобно было новою битвою поддержать колеблющееся мужество в руководящих воинах и оттеснить неприятеля от паши: а то в панском лагере начинали уже кормить лошадей дубовым листьем.
Здесь выступили на сцену действия передовики военной науки, процветавшей за границею кровавым цветом на могилах миллионов, падших за то, чтобы читать или не читать без попа Библию, чтобы веровать так или иначе в небесного Отца всего человечества, в исхождение Св. Духа, в пресуществление тела и крови Христовых, в приобщение тайнам его под одним или под двумя видами, и т. п. Эти передовики настояли на том, чтобы завтра построить войско в боевой порядок не таборным, а иностранным строем. Главную роль между членами военной рады играл генерал Убальд, иначе Губальд, тот, который в страшный день под Зборовым, явился таким же спасителем шляхты, как и её челядь.
В 2 часа пополуночи король слушал мшу не так, как во время оно, когда он забавлялся бывало собаками, карликами и кой-чем другим, а иезуиты прикрывали его забавы своею святостью: слушал с верою и надеждою, но, конечно, без любви, которой природа не отпустила на его пай и столько, как посадившему его на престоле казаку. В 3 часа, оставив 3.000 пехоты в замкнутом лагере, вывел он в поле все войско, которого насчитывали 80.000, бывших действительно в бою под Берестечком. Начали строить войско иностранным строем.
Хмельницкий, с своей стороны, целую ночь перемещал таборы, гарматы, пехоту. Чуть рассвело, начал он вместе с ханом распределять казако-татарские силы.
Густая мгла, залившая поля и леса, предвещала им победу, так как татары воевали счастливее всего в такую погоду, подобно тому, как их побратимы, казаки, самые гениальные подвиги свои совершали ночью, которую потому и звали своею матерью.
Эта «страшная» для панского войска мгла не давала кровавым соперникам видеть себя взаимно до 10 часов. Только тогда увидел каждый и свою и неприятельскую силу.
Грозная теперь для хана боевая линия панского войска тянулась на целую русскую милю. Перед фронтом стояли пушки, под начальством генерала Пршиемского. Правым крылом командовал Лянцкоронский, так как Николай Потоцкий в этот день хворал; иностранным войском — генерал гвардии, Богуслав Радивил, конюший Великого Княжества Литовского. На правом крыле полком и дивизиею коронного великого гетмана командовали Стефан Чернецкий и Адам Калиновский. Кроме того стояли там: полк Ляховецкого, дивизия Щавинского, полк Льва Сопиги, подкаплера литовского, одноименника знаменитого канцлера, противника церковной унии, полк познанского воеводы, Опалинского, и дивизия Собиских, полк Юрия Любомирского, коронного маршала, и часть великопольских и мазовецких посполитаков. В арьергарде крыла стоял Александр Конецпольский с дивизиею своею. Левым крылом командовали полевой гетман, Калиновский, и русский воевода, князь Вишневецкий. В их заведывании стояли три регимента иностранного войска, которыми командовал генерал-майор Убальд, а также — с полками своими Станислав Потоцкий и князь Доминик Заславский. За ними следовали полки гетмана Калиновского и его сына, коронного обозного, дивизии князя Димитрия Вишневецкого и Яна Замойского, а в арьергарде — шляхта воеводств Краковского и Сендомирского. Центром командовал король. В тылу центра находилась полевая артиллерия, под начальством генерала Пршиемского...
Все это рисуется увлекательно для польского чувства под пером польских историков, называющих день 30 (20) июня одним из великих дней национальной славы. Но повторяющий повесть их по-своему историк русского воссоединения в этой национальной славе видит погибельное для Польши отпадение от неё Малороссии, которого поляки не видели в опьянении победою своею, — победою, не меньше жалкою, как и та, которую торжествовали казаки под Пилявцами. Берестечское ополчение Польши представляет ему длинную шеренгу древнерусских имен, выступающих вместе с обольстителями Руси, с похитителями её святилищ и фундаций, с насилователями её религиозной совести, с прямыми виновниками злотворного развития казатчины, процветания Хмельнитчины и возвращения в Южную Русь Батыевщины, — выступающих под иноверным знаменем и противоположным русской идее девизом. Маленькая и слабосильная в дотатарскую эпоху Польша взросла и расширилась на счет разгромленной и разогнанной Батыем Руси. Она прославилась в Европе вооружением Руси Малой против Руси Великой. Она претворяла наш русский элемент в польский, и совершала военные и умственные подвиги посредством талантливых русичей, но русское наше имя, как и русскую нашу веру, уничижала; теперь же выступила против той и другой с ослепленною русскою силою, воображая, что недобитое казуистическою политикою возможно добить оружием... Увы! в торжественный свой день погубила она не нашу, а свою собственную будущность.
Но докончим картину бедственного ополчения Польши. С правой стороны левого крыла стоял генерал Убальд с тремя региментами, а с левой стороны правого — полковник Боргеман на челе регимента Замойского, командуемого Богуславом Радивилом, так что немецкая пехота с правого и левого крыла входила своими боками в центр. За пехотой, в третьем её отделении, в самом центре, стоял король, можно сказать — под командою состоявших при его особе четырех рыцарей. С одной и с другой стороны короля стояло по 500 гусар, выбранных изо всего войска, под командою Казимира Тишковича и Януша Вешля. Сзади короля стоял полк пешей гвардии Фромгольда Вольфа де Людисгаузен и при нем рейтарские регименты Людовика Вейера, князя Богуслава Радивила и сокальского старосты, Денгофа. Поляки берегли дар Хмельницкого, в избежание новых выборов и новых издержек на королеву. В резерве стояли регименты конных драгун Якова Вейера и Янка Розражевского, в числе 15 хоругвей. За ними эскадроны Грудзинского, Лещинских и 500 человек прусского князя, наконец шляхта воеводств Серадзского, Лянчицкого и Бресто-Куявского, к которой были прикомандированы два полка королевича Карла, под командой Юрия графа Шаунготше и Крембса. За левым крылом стоял резерв всей армии, и в нем дивизия князя Острожского, одного из Заславских, носившего по наследству это славное и вместе позорное имя, а за его выправные хоругви воеводств Люблинского и Русского. Панский лагерь находился под защитой венгерской пехоты и, в случае крайности, никем не признанных героев, челядников шляхетских.
Число всего панского войска доходило до 100.000, а конные люзаки, то есть подпомощники гусар, еще увеличивали цифру.
Глава XXVII. Вторая битва под Берестечком. — Бегство татарского хана и казацкого гетмана. — Блокада казацкого табора. — Бегство казаков. — Находки в казацком таборе. — Окончательное превращение польско-русских дворян в поляков. — Католическая Хмельнитчина в Краковском округе.
Если бы король Владислав IV не был испорчен отцовским воспитанием, а шляхта — злоупотреблениями свободы, и сошлись бы они во взаимной оценке, и выставили бы такие, как теперь, силы против азиатцев, обезобразивших территорию грекорусской культуры, — не было бы тогда на польско-русском имени корсунского, пилявецкого, зборовского пятен, и не сидел бы, по милости казака, на польском престоле расстрига иезуит, еще менее способный царствовать, нежели тот, которого паны посадили на престоле московском, и пользовалась бы Польша разумною веротерпимостью, и не погибла б она, захлебнувшись в польско-русской крови, и даже положение наше, которые гордимся великою Империей своей, было бы далеко прогрессивнее. Но Рим и его иезуиты погубили знаменитую своими идеалами Королевскую Республику, а Королевская Республика, процветая, в виде русского паразита, под их руководством и погибая в виде гонителя Руси по их коварству, нанесла нам такие раны, которые будут болеть и тогда, когда мы достигнем полного развития духовных и вещественных наших преимуществ.
В изображаемый мною момент, силу русского гения, дикую силу показал на поляках разбойник русин, которого стратегическим, организаторским и политическим способностям пострадавшие от них удивляются больше, нежели мы, восторжествовавшие над ними. Поляки должны дивиться даже субординации и единодушию, которые наш Хмель умел поддерживать в толпе сообщников своего бунта, и которые для них ни в военное, ни в мирное время не были возможны. Они должны всего больше дивиться тому, что этот могучий в своих злодеяниях дух, потеряв разом все, что создал титанически в короткое время, встал из своего падения еще более для них опасным, нежели был в моменты величайших успехов своих, тогда как они, пав с высоты своего политического величия, остались навсегда притчею во языцех и покиванием главы в людех.
Два хана, казацкий и татарский, выставили против панов поляко-руссов 300.000 войска. Громадный табор свой расположили они на взгорье, поместивши в нем оказаченных мужиков и гарматы. Левое крыло казако-татарского полчища находилось под командою султан-Амурата, одного из ханских братьев, лучшего из татарских полководцев. Он уже дал себя знать панам под Збаражем и Зборовым, и если Тогай-бей был для них татарином-Патроклом, то султану-Амурату надобно дать имя татарина-Ахилла. Правым крылом командовал змей горынич, дивное доныне для поляков чудо-юдо, Зиновий Богдан Хмельницкий, единовладник и самодержец казацкий, князь украинский, страж Порты Оттоманской. Одна лапа у змея горынича была казацкая, другая татарская. Одно смертоносное крыло его изображали собою подкрепления турецкие, правоверные, другое — «и верующие и неверующие в Бога» головорезы, поддерживаемые летучими соправителями ханскими, султан-калгою и султан-нуреддином. Ядовитым зевом и зубами кровожадного чудовища были губительные чаты гарцовников, сверкающие яркими нарядами и блестящим оружием, а подобие ненасытного чрева и чешуйчатого хвоста представлял далеко тянувшийся позади табор, рыгающий из себя огонь, дым, чугун и свинец... Центра в этой азиатской армии не было, потому что она, в общем начертании, имела фигуру священного у магометан знака — полумесяца, которого рога, загибаясь на пространстве от Инда до Гибралтара, долженствовали все человечество, в виде борющихся наций, истребить, или же покорить господству правоверных.
В 10 часов утра иезуитская Европа и чужеядная Азия придвинулись немного одна к другой, как бы всматриваясь друг в друга и поражаясь взаимным безобразием. Паны остановились у последнего своего шанца. Орда начала свой обычный татарский танец; казаки, по своему обычаю, закрутили веремія. Но выезжать и участвовать в той и другой игре на жизнь и на смерть было запрещено в панском войске под смертною казнью. Оба стражника, коронный и обозный, стояли впереди войска, каждый с своею командой, которые отпугивали наездников и не давали смельчакам выезжать на боевое состязание.
Когда таким образом два громадные войска стояли одно против другого и каждое ожидало атаки со стороны неприятеля, спустился хан со взгорья к самым передним рядам Орды своей, осмотрел в зрительную трубку панские силы и сказал сопровождавшим его казацким полковникам: «Ну что? проспался уже ваш Хмель? Он обманывал меня нелепыми баснями, что польское войско слабо и молодо. Ступайте к нему, пускай идет сперва сам выбирать мед у этих пчел, да пускай прогонит прочь такое множество жал».
Об известном читателю зазыве татар на добычу и о сарказме Ислам-Гирея можно сказать с Итальянцами: si non e vero, е ben trovato [45]. Но старый Хмель наш действительно попал в такое положение, что и шесть десятков его гармат, и десятки тысяч казацких самопалов, мушкетов, пищалей оказывались бессильными выкурить польских пчел из указанного Чернецким становища для пасеки. Если хан, воин ума посредственного, смекнул так или иначе делом, то наш гениальный сочинитель стольких разбойничьих походов должен был предчувствовать результат великого боя.
Вся его надежда была на татар, а татары лизали свои раны с собачьим визгом. Созвал Хмель старшину на совет, как быть, — он, в намерения которого не проникали «ни чуры казацкие, ни мужи громадские», — он, который никогда не затруднялся вопросом: как вокруг ляхов закрутити веремія? По всей вероятности, Хмельницкий, зная о выраженной ханом готовности войти переговоры с королем, опасался вновь очутиться между двух сил, как под Зборовым. Но того, что вскоре произошло с Крымским Добродием, не мог он допустить в потомке великого завоевателя Чингиса.
Блестящий панский отряд, озиравший панское войско, обратил на себя внимание тех опытных рыцарей, у которых Ян Казимир находился под командой. Позвали шляхтича Отвиновского, долго жившего в Крыму и хорошо знавшего татарские обычаи; дали ему посмотреть в телескоп, и спросили: что значил бы этот отряд на левом татарском крыле? Отвиновский тотчас заметил три бунчука и показал хорошо, где стоит хан. Туда велели пушкарю нацелить пушку. Выстрел был меток. Ядро сорвало бунчужного, и хан, раненный в ногу, убрался поскорее из рекогносцировки. Такова была первая версия лагерной молвы; после узнали, что хана ядро не тронуло, но убило нескольких мурз.
Оба войска стояли бездейственно до трех часов пополудни. Пушки прогнали гарцовников с поля. Король отправил к хану парламентера с вызовом на битву, но не получил никакого ответа. Паны совещались уже о том, чтоб отложить битву до утра, а король едва ли не с тем и звал хана на бой, чтоб навести его на мысль о переторжке, как прискакал от Вишневецкого бидговский староста, Денгоф, с настоятельной просьбой не откладывать битвы. Король принял гонца за счастливое предзнаменование, сделал на воздухе крест и повелел Вишневецкому начинать.
Затрубили трубы, загудели бубны. Из левого крыла выскочило в поле 18 хоругвей в трех эскадронах. (Я следую повести польской во всем, что касается польской национальной славы, равно как и бесславия). Впереди хоругвей летел ненавистный и страшный казакам князь Ярема с обнаженной саблею, без панциря, без шапки. Его боевому вдохновению и быстрому движению левого фланга приписывали многие всю славу дня. В помощь наступающим поднялся вихрь, и ударил песком в глаза хмельничанам, а солнечные лучи помогали песку. Но казаки бросились навстречу ляхам стремительно всею массою конницы и наступили табором. Они опередили султанских татар, силистрийских турок, и первые приняли панский удар. В поддержку Вишневецкому, ринулась в битву шляхта воеводств Краковского, Сендомирского, Лэнчицкого и других. По почину пламенного русича, поляки «позвонили в дедовскую славу» не хуже отступников родной национальности. «Весь этот фланг» (пишет польский Самовидец) «вскоре потерялся в толпе неприятелей, и долго не было видно начинателей боя, только слышен был гул от пушечной и ружейной пальбы. Наши полагали, что никто из них не возвратится. Оказалось, однакож, что атака увенчалась успехом. Стремительным напором они заставили податься все казацкое войско и разорвали было (si е vero) табор, хотя при этом и сами понесли чувствительные потери.
В помощь казакам пришли татары с левого фланга, и тогда ряды наши, будучи не в силах удержать напора слишком численного неприятеля, стали ослабевать и отступать к редутам. Но тут они оправились, и возобновили нападение столь успешно, что неприятель, побежденный нашею решимостью, должен был наконец податься назад. Казаки отступили в свой табор, — хотя он в начале и был разорван, но они успели его восстановить, — Орда же удалилась на близлежащую возвышенность».
Между тем иезуиты научили короля ездить по рядам и заохочивать войско к бою за веру, за поруганные святилища, за «божеское право», неважно, что одни из его слушателей исповедовали «веру Хмельницкого», последователя «Наливайковой секты», а другие истребляли даже своих единоверцев pod prеtextеm wiary ruskiej, следовательво шли в бой, как неверные.
Теперь коронным канцлером был бискуп. Окруженный духовенством, именующим национальную веру туземцев схизмою, он велел поднять высоко над валами польский кршиж с польским Иезусом, истребляемый всюду казаками, и всего прежде в могилинском Заднеприи. Польского короля — иезуита и кардинала окружало много лиц, подобных Адаму Киселю, а в рядах его воинов наверное было больше православных, полуправославных и вовсе неправославных русичей, нежели коренных полонусов, и все это поклонилось до земли под католический гимн, прося польского Иезуса помочь им против тех, которые идут на брань под знаменем русского Иисуса и, увы! Магомета.
Просимая помощь естественно делала их обязанными помощнику: этим способом они исключали себя из состава родной нации. Ни паны, ни казаки, ни польские ксендзы, ни русские попы не предусматривали такого разделения польской Руси на ся. Но ксендзовская и поповская работа над религиозной совестью наших предков увенчалась в известной мере горестным успехом. Попы удержали за собой одну часть нашего древнего займища, а ксендзы оторвали на свой пай другую. Но поклонники папы вместе с землей захватили под свою власть и образованную часть малорусского народа, захватили почти все высшее сословие наше. В этом смысле Хмельнитчина, будучи прямым освобождением черни от панской власти, была, вместе с тем, косвенною причиною крещения лучшей части малорусских людей в папизм и в польщизну. Чего не могли сделать Кисели, Древинские, Могилы, Косы, Тризны, то сделал Хмель с Перебийносами, Нечаями, Морозенками, Джеджалами. «Национальные герои» наших казакоманов привели Малороссию к новому крещению.
Крещение совершалось огнем и мечом. При громе пушек, лучшие малоруссы пошли мужественно против худших вместе с поляками, которых одних видят в панском войске польские, да, правду сказать, и наши историки. По сказанию ксендзов, полякам явился в воздухе Свенты Михал, гонящий хана и грозящий ему мечом. Но святый Михаил не явился своим поклонникам ни с панской, ни с казако-татарской стороны: там не хотел он помогать благочестивым, так как они воевали заодно со злочестивыми; здесь еще больше не подобало ему воодушевлять православных, ратовавших под эгидою магометан. Он предпочел сиять спокойно Золотым Верхом своим в Киеве, в обители Иова Борецкого, зная, что русское благочестие восторжествует над польским злочестием и без кровавых пьяниц-казаков, татарских побратимов.
Но каковы бы ни были вымыслы эксплуататоров нашей знати, нашей духовной и светской интеллигенции, облака пыли мешали им видеть не только воздушные чудеса, но и земную действительность. Только из позднейших реляций узнали они, что хоругви князя Вишневецкого, оправясь под прикрытием шанцев, сильнее прежнего ударили на хмельничан, — старшие братья-недоляшки на меньших братьев-потурнаков, те и другие под иноверной эгидою, и рубились взаимно не хуже древних братьев русичей, не знавших еще злобы разноверия и вдохновлявшихся только задором областного соперничества.
В это время нуреддин-султан смял Краковян и Сандомирцев. Но полонизованный русин Вишневецкий, растоптав плохих казацких лошадей своими сильными конями, оборонил поляков от татарина. Казаки между тем заперлись в таборе. Бросился было Байдич вторично на табор, но он по-прежнему был скован цепями в десять рядов, и стоял, точно дышащая огнем крепость. Не испугался пламенный князь Ярема казацкого огня, и начал было разрывать скованные возы, как в оной памятной казакам битве на Суле, но в это время султан-калга помог оправиться султан-нуреддину, и ханские соправители ударили дружно на Вишневецкого. Польский Ахилл отступил грозно к шанцам.
Из современного рассказа о бое на панском центре видно, что легко вооруженные татары пришли на зов Хмельницкого выбирать польский мед, можно сказать, голыми руками. Не мудрено, что «поляки вдохновлялись непобедимым почти мужеством (Роиасу пиеzwyciezonego prawie nabierali serea)», как выражаются их историки. Под прикрытием немецкой пальбы из пушек и ружей, они были не пчелами, а смертоносными шмелями, обороняющими гнездо свое. Но старый наш Хмель и тут едва не напоил своих сватов, как бы сказал древний баян. Он притаился с лучшими стрелками в лесу, мимо которого должно было проходить правое крыло панской армии.
К счастью панов, засада была открыта вовремя.
Бой кипел уже три часа. Видя перед собой сто тысяч наездников, наступающих по всей боевой линии, и не догадываясь, что это были атаки фальшивые, паны не обратили внимания на то, что главная неприятельская сила, табор, пехота и гарматы, не принимает никакого участия в битве, и только защищается. Между тем змей-горынич засел, с корпусом стрелков, под заслоной Щуровецких лесов. Главное начальство в таборе вверил он казаку-татарину, Джеджалле, и велел ему только тогда двинуться с табором вперед, когда сам он займет невидимую неприятелем позицию. Во все это время татары должны были развлекать внимание панов фальшивыми нападениями.
В данный момент Джеджалла начал спускаться со взгорья на боевое поле, грозя королевскому центру тысячами смертей, а между тем командовавшие правым крылом Лянцкоронский и Любомирский получили известие, что в боковом лесу скрывается засада. Только тогда стало им ясно, что Хмельницкий, располагая втрое большими силами, намеревается занять леса, захватить переправы, запереть неприятеля между болот Стыра и Пляшовой с тем, чтоб окружить его шанцами и морить голодом.
Грозная опасность заставила командиров крыла сохранять свою позицию в то время, когда центр и левое крыло наступили на татар энергически.
Между тем татары принесли несколько десятков убитых мурз к ногам хана. Наконец и ханский брат, татарский Ахилл, Амурат, пал среди ужаснувшейся Орды, пораженный ядром в грудь. Орда начала мешаться, и вскоре за тем, как бы по данному знаку, рассыпалась во все стороны. Побежал и сам хан, покинув свой рыдван, огромный призывный бубен и палатку на высоте, вместе со множеством ясыра. Изо всей татарской силы осталось только тысяч 15 комонника в арьергарде.
При виде бегущих татар, громадный казацкий табор остановился, и тихо двинулся вспять. Паны не смели на него ударить; послали только несколько региментов занять ближайшие высоты.
Джеджалла отступил в совершенном порядке к речке Пляшовой, и тотчас начал окапываться.
Видя бегущую Орду, Хмельницкий оставил своих стрелков и полетел верхом к табору. Там он сделал наскоро кой-какие распоряжения, и поскакал вместе с Выговским за ханом, чтобы вернуть его на боевище.
Ислам-гирей, окруженный трупами своих полководцев, переменил коня и спешил в дальнейший путь, как перед ним явился его искуситель. Не дав Хмелю промолвить слова, назвал его хан изменником, велел связать ему ноги под брюхом у коня и гнал перед собой две мили к Вишневцу того же дня. Так, по крайней мере, говорили за столом у короля, z uciecha, z najwieksza uciecha, какую когда-либо испытывало польское сердце. Богуслав Радивил, участник боя и преследования татар, писал только, что «Орда, захватив Хмельницкого, ушла».
Неожиданное, загадочное и во всяком случае постыдное бегство полководца 200.000 армии, коменданта несокрушимой для всей Польши подвижной крепости, диктатора-героя, называвшего своих противников жидами, страшного змея горынича, превратившегося в поджавшую хвост собаку, — это беспримерное в истории кровавых споров явление решило судьбу кампании. Половина панских врагов ушла, а половина осталась без головы, как бы в оправдание давнишних слов Киселя: «bellua sine capite» [46]. Панское войско заняло все взгорье. Александр Конецпольский, с легкими полками, двинулся в погоню за бегущими. В 9 часов боевое поле опустело. На нем остались только изумленные своею победой паны с разноплеменными и разноверными жолнерами.
Небо покрылось тяжелыми тучами. Молнии летали в темноте. Проливной дождь омывал кровавую землю. Панское войско, под руководством зрителей воздушных чудес, упало на колени, и воспело латинскую хвалу Богу за Его, как они уверяли, земное чудо. Русской хвалы не слыхало Берестечко. Туземный элемент на южном займище Рюриковичей представляли теперь, можно сказать, одни разбойники, если не считать чуждавшегося боязливо казатчины духовенства да тех «статечных людей», в городах и селах, которые не дали «диаволу сделать из себя смех», как сказал бы мой Самовидец. Среди малорусского мира, растленного папистами с одной стороны и развращенного казаками с другой, уцелели нравственно теперь только такие неведомые истории личности, как оные «преподобные мужи Россы, житием и богословием цветущие». Они-то и не дали бедным остаткам нашего народа потерять свою древнерусскую физиономию, по которой свободный от подобного растленья и разврата великорусс признает в малоруссе своего брата.
«Рассматривая подробности этого сражения» (пишет приверженец королевской партии, Освецим), «все единогласно были того мнения, что война могла бы быть окончена одним ударом, и отечество освободилось бы от дальнейших невзгод, если бы битва была начата раньше, так чтобы дневного света хватило для истребления врага, и особенно, если бы правый фланг действовал так же энергично, как левый, по крайней мере в то время, когда уже Орда обратилась в неудержимое бегство и казацкий табор был разорван левым флангом; но правый фланг сильно опоздал и отстал на полмили от среднего корпуса, вследствие чего и Орда имела время убежать, прикрыв свое бегство, и казаки, устроив свой левый фланг, не получавший подкрепления от правого, успели восстановить свой строй, сомкнувши табор, и отступили к болотам, где уже труднее было с ними совладать. Король несколько раз посылал брацлавскому воеводе и коронному маршалу приказ поскорее занять место во фронте на одном уровне с другими частями войска, угрожал даже смертью за ослушание; но те ответили, что предпочитают смерть гибели отечества и короля, оправдывая свою медлительность тем, будто в прилегавшем к ним лесу устроена засада, и требовали, чтобы король прислал им несколько пушек, обещая, обстреляв лес и удалив из него засаду, двинуться вперед и выровняться с общим фронтом. В последствии, в оправдание этого опасения они утверждали, что когда регимент Крейца с двумя эскадронами конницы и двумя пушками, присланными королем, проник наконец в тот лес, то заставил удалиться бывших неприятелей. Но странно, что они так долго сторожили засаду, и позволили ей отступить невредимо»...
Высказанное здесь Освецимом единогласное мнение всех было мнением королевских застольников, которые воображали, что одним ударом было возможно возвратить Польше то, что католическая партия так долго отторгала от неё своею соединительною политикою. Бездарное сборище придворных не щадило даже стратегика Берестечской войны, Стефана Чернецкого, которому панское войско всего больше было обязано своим успехом; оставило без внимания и то, что Лянцкоронский и Любомирский не были способны ни к сочинению грозной засады, ни к уклончивости в такой важный момент. Но Освецим точно рукою самого Яна Казимира пишет:
«Многие даже из числа находившихся на том фланге утверждали, что никакой засады не было, и что это была лишь пустая выдумка, придуманная для того, чтоб уклониться от опасности, предстоявшей при штурме казацкого табора». Это мнение характеризует больше своих составителей, нежели целый боевой корпус и его полководцев. По словам Освецима, «вся слава этой победы должна принадлежать королю, хотя» (продолжает он снисходительно) «должны быть упомянуты имена и тех лиц, которые помогали ему в значительной мере, а именно: Николая Потоцкого, князя Иеремии Вишневецкого, коронного хорунжего Александра Конецпольского, полевого писаря Пршиемского и генерала Губальта» (что напоминает прием иезуита проповедника, поставившего короля наравне с героями збаражской осады).
И такое жалкое общество, которое даже в лице знаменитого мемуариста, подчинялось клике ничтожнейшего из королей, такое общество мечтало покорить себе народ, глубоко проникнутый ненавистью к нему и в лучших, и в худших своих представителях!
Но панское сердце, измученное столькими государственными, общественными, и что было всего для него больнее, домашними утратами, нуждалось в живительной отраде. Оно предалось инстинктивно той иллюзии, которую природа человеческого духа хранит в запасе для несчастнейших из его деятелей. Наивный орган польской жизни, Освецим, в заключение придворных толков о казацкой засаде, пишет:
«.....Пришлось нам удовлетвориться, хотя и неполною, Богом нам ниспосланною, победою. Она тем не менее была знаменита. Мы победили народы варварские, бесчисленные, сбежавшиеся с отдаленнейших стран. Перед саблею короля преклонились и в паническом страхе бежали дикие татарские орды: Силистрийская, Урумельская, Добруджская, также турки, волохи, урумбеки, пятигорцы. Полчища, созванные от берегов Ледовитого моря, от подножия Гиперборейских гор и от Каспийского моря. Важнее всего то, что мы поразили в поле зловредного зверя, Хмельницкого, и бесчисленную запорожскую саранчу, загнали их с большим уроном в табор и предоставили дальнейшей мести победоносного королевского оружия. Вероятно, со времени битвы под Грюнвальдом, отечество наше, а, может быть, и весь мир, не видали столь знаменитого сражения. С обеих сторон в нем принимало участие по меньшей мере 500.000 человек. Этому не поверят ни иностранцы, ни, может быть, даже наши потомки. Очевидцы сами больше изумлялись, нежели верили. В течение нескольких часов случилось то, что мы считали невозможным, именно: произошел разрыв Орды с Хмельницким. Правда с нашей стороны шаг был отчаянный: мы бросили кости, поставив за один раз на кон существование нашего отечества. Но Господу неугодно было допустить посрамления своего помазанника, святой католической веры и находившихся под его охраной костелов. В этой трехдневной битве мы потеряли до 700 человек, главным образом из числа товарищей и шляхты воеводств: Краковского, Сендомирского и Лэнчицкого. Казаков легло бесконечно больше; татары же своих убитых тотчас подбирали, стараясь даже не допускать их падать с лошадей. Об этой битве можно сказать то, что сказано о битве Римлян с Югуртою: никогда мы не сражались с таким успехом и со столь малым пролитием нашей крови».
Вот какой елей отрады проливал шляхетский народ на свои раны, в предчувствии бесконечной агонии на руках своих губителей, иезуитов!
Наступило наконец для несчастных панов давно желанное время отмщения за разорение хозяйства их, за поругание их женщин, за избиение детей и старцев их, за изгнание их самих из края, отвоеванного их отцами и дедами у таких же хищных номадов, какими были казаки. Боги поднесли таки к панским устам чашу сладчайшего из напитков, хранимого ими для собственного употребления. Ни усталость, ни проливной дождь не подавили в озлобленных культурниках, панах, и в казацких наставниках, шляхтичах, жажды к божескому наслаждению. Столь же пылкие в начинании, как неспособные к довершению дела, они тотчас наступили на казацкий табор. Но, видя, что вломиться в него при свете молний, раздиравших дождевые тучи, нельзя, решились не дать казакам возможности уйти под покровом их матери — ночи.
Припоминая знаменитые ночные ретирады Дмитрия Гуни под Кумейками и на Суле, жолнеры остались ночевать на боевом поле. Мстители-землевладельцы бодрствовали всю ночь в виду логова людоедов. Напротив жолнеры-безземельники, которым не за что было слишком злобствовать на казаков, ложились боевыми рядами на мокрую землю и спали таким крепким спом, что утром нельзя было их добудиться.
Король в эту ночь не ложился спать. Он, как и хан, — гласила молва — был ранен осколком ядра в ногу, но, превозмогая боль, объезжал стражи, в предупреждение оплошности, которая могла лишить его славы истребителя драконов. Впрочем для него вывезли в поле каретку, и он от времени до времени отдыхал в ней.
На другой день усталость людей и лошадей превозмогли в королевском ополчении все другие чувства, и торжествующее войско целые три дня провело только в охранении кровавой добычи своей. Паны всего больше радовались, что в трехдневной битве под Берестечком пало у них только 700 человек. Они видели в этом особенную милость Божию к шляхетскому народу и, в уповании на божескую поблажку их неспособности к общественным делам, продолжали бездействовать.
Между тем безглавое скопище окружало себя все высшим и высшим валом, как со стороны панского становища, так и со стороны болота. Оно боялось, чтобы паны не переправились на другую сторону болотистой речки, и грозно гремело своими гарматами. В казацком таборе, занявшем почти целую милю, сидело не меньше 200.000 человек, не считая женщин и детей, которых набралось множество. Численностью превосходили казаки вдвое тех, которые держали их в западне, и могли бы, даже без татар, запереть панов между болот и затопистых речек. Но без татар казацкая завзятость была против панов бессильна даже и под бунчуком Хмельницкого. Еще стоя под Сокалем, паны слышали от захваченного в плен «доброго реестрового казака», что Хмельницкий, проведав о расположенности хана к мирным переговорам с королем, ударил в бубны, созвал чернецкую (состоящую из одной черни) раду и спрашивал у казаков: согласны ли они на мир? но казаки отвечали: «батьку гетьмане! и Бог, и вийсько того хочуть, щоб мы с королем нияк не мирились: бо на те мы одважились и на те мы сюды прийшли, що хочбы й Орда нас покинула, до мы вси при твоий повази помиратимем. Або сами вси згинемо, або всих ляхив выгубимо»... Казалось бы, чего больше? Но казацкая чернь была предана своему гетману лишь под условием успеха; в таком же положении, как настоящее, только татары поддержали бы ту повагу Хмельницкого, при которой она была готова помирати.
Наместник гетмана, Джеджалла, был одним из главных участников его первоначального бунта. Он прежде всех взбунтовал несколько сотен реестровиков, и приветствовал с ними казацкого Моисея в пустыне, на Желтых Водах. Оставшись под Берестечком в самом разгаре боя, Джеджалла оправдал звание наказного гетмана грозным отступлением и превосходным выбором становища. Он поместил табор под лесом и густыми зарослями. По окраинам табора стояли мочары, а в тылу находились непереходимые топи и болотистое озеро.
Сидел он точно в вилах и казался неодолимым. Оказаченные мужики день и ночь работали на окопах и шанцах.
Поохладев от первого жару возмездия, паны поняли, что имеют дело не с толпой взбунтованной черни, а с неприступною крепостью. Теперь и сам Вишневецкий не отваживался разрывать казацкий табор, как покушался на это в пылу боевой горячки, когда панцирь стеснял его завзятое сердце, а подложенная сталью шапка казалась ему охраной недостойною. В числе 700, купивших нежданно негаданно торжество над ужасным Хмелем, пало много людей, которых не напрасно величали знаменитыми рыцарями. Они были знамениты способностью возбуждать в соратниках мужество, как знамениты барды, вдохновляющие словом своим слушателей. Смерть унесла с ними самую пламенную часть собирательной души шляхетского народа. Приступ к табору грозил этой душе утратами многочисленными, и потому паны решились выжидать голода или вернее — результата казацких драк, которые начались в таборе тотчас после бегства Хмельницкого. На военной раде своей паны определили — начать правильную блокаду. Послали в Броды и во Львов за тяжелыми пушками. Генералам Губальту и Пршиемскому да инженеру Гильдгауту было приказано окружить казаков шанцами, поделать на болотах мосты и плотины для штурма с тем, чтобы загромоздить возами затылки табора, и, если нельзя будет взять казаков приступом, то — выморить голодом.
Но голода казаки не боялись: съестных припасов было у них достаточно. Запасы аммуниции казались неисчерпаемыми. Полководцы отличались боевыми способностями. Недоставало только того, кто все это организовал под своеобразною диктатурою, да и ему самому для диктатуры недоставало бы татар. Бегство гетмана подавляло казацкий народ, задавшийся задачей — или погибнуть, или погубить народ шляхетский. Отрезанный панами от поприща своих пожогов, убийств и грабежей, не мог он даже проведать, что делается с его путеводителем в безвыходном лабиринте злодеяний: пал ли он трупом, или бежал с татарами, или бросился к литовскому своему войску для замены им Орды, и никому не приходило в голову, чтобы хан поступил с казацким батьком, как поступает нечистая сила с человеком, который на нее положился. Тем не менее исчезновение батька из 200.000-й семьи в такой важный момент возымело на нее свое действие.
По рассказу Освецима, казаки уже на третий день, 2 римского июля, в воскресенье, прислали к королю письменную просьбу о помиловании. Другое письмо прислал к Вишневецкому Чигиринский полковник Крыса, по фамилии Великорусс (иначе был бы он не Крыса, а Пацюк). Этот просил уверить короля, что казаки через два дня сдадутся.
Было слышно, что Джеджалла не хотел гетманить казаками, но что его к тому принудили, как это у них случалось нередко с их избранниками. Все-таки он принял гетманство лишь на несколько дней, зная, что может поплатиться головой за свой высокий сан, если не теперь от казаков — в случае неудачи, то в последствии от Хмельницкого — в случае удачи.
«Многие хотели перебегать в наш лагерь» (пишет Освецим), «но король приказал стрелять по перебежчикам, а для того, чтоб они не могли спастись бегством, приказано было князьям Вишневецкому и Радивилу, с несколькими тысячами войска, переправиться через речку и занять позиции сзади казацкого табора. Но приказ этот не был исполнен, потому что князь Вишневецкий потребовал 15.000 войска, а король не хотел дать ему такого количества».
Здесь невольно вспоминается, как долго Ян Казимир держал великого воина в Збаражской западне, медля выручкою, и как охотно дал веру, что он предлагал окуп. Не смея штурмовать казаков с огромным войском и его челядью, он подставлял Вишневецкого под 200.000 отчаянных беглецов с несколькими тысячами.
«Между тем» (продолжает Освецим) «совещались по поводу просьбы о помиловании. Одни заявляли, что следует оказать милосердие, казнить смертью только старшину и выдающихся особенно бунтовщиков. Другие настаивали на том, чтобы, дав слово касательно прощения, отнять потом у казаков пушки и оружие, распределить пленных по полкам, перебить их поголовно, лишить остальных всех привилегий, запретить на вечные времена оружие и истребить их веру, — в виду этого предложения, киевский воевода, Адам Кисель, был удален из рады под благовидным предлогом, — и навсегда уничтожить самое имя казаков. Так препираясь, не пришли ни к какому окончательному решению. Неприятель же, пользуясь нашим бездействием, не упускал никакого средства к своему спасению. Он отстреливался с валов и, выбирая удобное время, делал вылазки. В ту же ночь казаки подкрались ползком к одному из наших редутов, напали на утомленных пехотинцев, 8 человек убили, а многих переранили косами, чуть было не овладели самим редутом, и только подоспевшее вовремя подкрепление оттеснило их».
Другой участник Берестечской войны писал из панского лагеря, что казаки напали тихо на шанцы в ночь с 4 на 5 римского июля и принялись резать жолнеров; «но когда начала лаять собака, наши догадались о неприятеле и отплатили за свое: 80 казаков убили, остальных преследовали до табора. Видя нашу осторожность, казаки для надежнейшей обороны стеснили свой табор, в котором для себя и для лошадей рыли ямы (doly) от пушечной пальбы. Но это мало им поможет: ибо они стоят возле топей».
«Июля 3, в понедельник» (продолжает Освецим), «стали перебегать к нам шляхтичи, утверждавшие, что находились в рядах бунтовщиков по принуждению, и будто их насильно заставляли принимать участие в войне. На самом же деле они, потерявши все имущество, искали исхода в казацкой службе»: свидетельство драгоценное. Еще бискуп Верещинский, в 1583 году, следовательно за десять лет до Косинщины, писал в сеймовой брошюре, что промотавшая свои наследства шляхта — или грабит на Низу турецких чабанов, или вытряхивает в бору у прохожих лукошки. Из дебатов Посольской Избы мы знаем, что вытесненные ксендзами да монахами из имений шляхтичи жили среди казаков. Из донесений Кунакова нам известно, что баниты целыми сотнями вписывались в реестровые казаки. Вот какие люди были двигателями казацких бунтов и коноводами казацких предательств! Теперь они спасались под крыльями тех, которые были готовы истребить казацкую веру, уничтожить навсегда самое имя казаков, а потом привели развращенную ими массу под высокую руку православного царя. Под высокой царской рукою мутили они воду, для своей корысти, от Выговского до Мазепы, от Мазепы до Железняка, Голты, Калныша, Глобы и, между прочим, закрепостили себе героев Корсунщины, Пилявщины и т. д., а более крупных своих сподвижников ссылали в Сибирь через посредство напуганной казацким предательством Москвы, и если титло казацкого батька принадлежало Хмелю справедливо, то шляхтичи-баниты и перебежчики были его чадами по преимуществу.
«Эти-то перебежчики» (продолжает Освецим) «известили, что среди казаков возникли несогласия... Вечером, когда отборные наемные полки наши вернулись в лагерь, на горе же, возвышавшейся над казацким табором, были оставлены только два полка, — неприятель, сознавая неудобство для себя этой нашей позиции, наступил на них всеми своими силами, и они, не получив подкрепления, должны были, отстреливаясь, отступить, не без урона, в лагерь. Неприятель занял гору, но недолго мог удержать эту позицию: ибо на рассвете коронный хорунжий, выступив с несколькими полками из лагеря, заставил его бежать обратно в табор, причем казаки во множестве были перебиты и потоплены в озере, позиция же занята нами вновь».
«Июля 4 хотя и происходили военные действия, но вообще можно сказать о нас, что мы разбитому, объятому страхом и ожидавшему окончательной гибели неприятелю дозволили отдохнуть, оправиться, совершенно восстановить упавшую было бодрость духа и возвести сильные укрепления, себе же затруднили путь к скорому и окончательному истреблению его и сделали сомнительным результат дальнейших действий, которые, при большей поспешности, могли увенчаться успехом.
Чтобы не оставаться без дела, король в этот день подвинул войско из прежнего лагеря, находившегося у Берестечка, ближе к неприятельскому табору» (а в старом лагере были оставлены возы с челядью и с несколькими полками пехоты под начальством Николая Потоцкого). «Принято было решение окружить неприятеля со всех сторон окопами, снабдить их войском, сзади же войско обезопасить возами, и таким образом подавить казаков голодом, так как приступом взять их было невозможно. В тот же день воздвигнули множество шанцев, редутов и почти вся работа была завершена».
В это время посполитаки снова начали бунты и ссоры, как бы во свидетельство своего родства с казаками. Им не понравилась прикомандировка их к полкам квартяным в подражание Хмельницкому, который оказаченную чернь поделил между казацких полков. Шляхта послала к королю посольство. Король отвечал раздраженным голосом: «Здесь вам не Посольская Изба! Исполняйте, что вам приказано. Вы находитесь в войсковом ведомстве, и должны повиноваться». Новый канцлер еще усилил слова короля, может быть, раскаявшись в своих выходках против того, кто мог бы не допустить Хмельнитчины, и шляхта принуждена была смириться. Но она ждала случая отплатить королю сугубо. Покамест посполитаки роптали только на его неуменье воспользоваться дарованною Богом победой, а это неуменье до того было очевидно, что даже роялист Освецим, как мы видели, возмущался против него до глубины души.
Итак, шляхетские ополчения поделили на части и присоединили к отрядам наемного, иначе регулярного, а еще иначе — квартяного войска. Из числа их ополчения Краковское, Сендомирское, Познанское и Калишское (прихода последнего еще ожидали) присоединили к полку королевскому. Ополчения Волынское, Подлясское и Русское сопротивлялись этой мере, потому что «не хотели идти, согласно приказу, на ту сторону речки, где казаки часто нападали бы на них».
«Между тем неприятель» (продолжает Освецим), «поняв наше намерение и встревожась от приближения нашего войска, вышел с большою решимостью из своего табора и из шанцев на гору и отважно решился вступить в битву; но наши оттеснили его к табору, причем погибло несколько сот казаков. Досталась не даром эта победа и нам... Пушки целый день гремели с обеих сторон, но наши были большего калибра и причиняли больше вреда, а казацкие ядра, хотя на многих наводили страх, но немногих подвергали опасности... Ночью хлопы беспрестанно старались нас беспокоить и тревожить и даже решились стремительным напором ворваться в наш лагерь; но их зловредные намерения были расстроены предусмотрительностью короля и региментарей, а также светом луны, сиявшей ночью в полном блеске.
Утром 5 июня, татарин Мегмет-Челебей, состоящий на службе у краковского кастеляна, доставил взятого им в плен Муртаза-агу. Мурза был брошен во время бегства татарами, которые не могли увезти его с собою по той причине, что от полученных ран не мог он сидеть верхом и должен был ехать на повозке. Муртаза-ага — человек знатного происхождения и родственник бывшего хана. Все дела в Крыму решались по усмотрению его и ханского визиря. Он был ранен картечью в руку, в бок и на силу мог говорить, когда его взяли в плен. Теперь он предлагал 10.000 Мегмет-Челебею за то, чтобы тот препроводил его к хану, а не в наш лагерь. Вообще татары оставили по дороге до 1.000 человек раненных и убитых. Этого прежде не случалось: ибо они считают грехом бросать трупы убитых; но теперь они были в замешательстве и в упадке духа. Утверждают, что в течение трех дней было убито 1.000 татар. Дело неслыханное, чтобы татары понесли столь великую потерю в открытом сражении».
От 5 июля один из участников Берестечской войны уведомлял кого-то, что король разослал универсалы к малорусской черни по всем гродам, городам, торгам и церквам, чтоб она казаков и татар везде избивала, и в этом универсале давал знать о себе, что будет стоять лагерем под Берестечком.
«День этот» (пишет Освецим) «прошел спокойно. Ночью казаки приготовлялись к сильной вылазке; но ливень, продолжавшийся в течение целой ночи, помешал им, причинив значительный вред и нашему войску, из числа которого 10.000 находилось в строю и кроме того Калишский полк, только что подоспевший в лагерь, стоял на страже. Поздно вечером пан Балабан с 1.000 человек перебрался на ту сторону для того, чтобы стать в тылу казаков, не дозволять им выходить за провиантом и мешать бегству, так как они начали уходить мелкими отрядами в несколько сот человек. Притом он должен был добыть точное известие о хане: ибо ходили слухи, что хан, по просьбе Хмельницкого, остановился в 4 милях от Вишневца.
«Июля 6, в четверг, наша артиллерия открыла сильный огонь с нескольких сторон. Около полудня прибыли в посольстве три полковника. Крыса, полковник чигиринский, красивый мужчина, и, как говорят, расположенный к нам, Гладкий и Переяславец. Их провели прежде к краковскому кастеляну, который прочитал им хорошую нотацию, перечисливши все их преступления. «Вы изменники, которым подобных нет на свете», говорил он. «Вы уже не христиане, потому что побратались с татарами и турками. Вы недостойны явиться пред лицо короля» и т. д. Потом, с разрешения военного совета, их позвали к королю. Они, с земными поклонами, просили помилования, и на все предложенные ими вопросы отвечали только, что просят милосердия. Всю вину слагали на Хмельницкого, а также, по своему обыкновению, на свои грехи. Всем сенаторам они поочередно целовали руки и края одежды; словом, заявили достаточно смирения, лишь бы не притворного. После продолжительного совещания король объявил им через канцлера, что хотя они за совершенные ими преступления, равных которым нет во вселенной, и недостойны помилования, но что король, как монарх милосердый, уподобляясь милосердому Богу, склоняется к помилованию их, если только их смирение будет искреннее, и что условия оного будут объявлены им завтра, сегодня же они должны, в доказательство искренности, оставить в лагере одного из среды себя. Остался, по собственной просьбе, Крыса, хотя не без некоторого страха».
Так повествует о казако-панской транзакции один из благородных её свидетелей. К сожалению, с 26 римского июня находился он в откомандировке, и конец Берестечской войны описан в его дневнике по рассказам других очевидцев. Некто уведомлял кого-то, что по показанию языков, полковник Крыса хотел еще прежде уйти от казаков, но чернь караулила его. По этому известию казацкие послы были одеты довольно хорошо и прилично, но Крыса — лучше других.
Ветер начинал дуть в польские паруса, но пловцы правили кораблем не в одну сторону. Этому кораблю и в прошлую войну облегчил опасное плавание полонизованный литво-русский князь, Януш Радивил, уничтожив Голоту, Подобайла, Кричевского. Теперь он одолел Небабу в самое то время, когда литовский или белорусский корпус Хмельницкого мог бы приспеть на помощь осажденным под Берестечком.
Одновременно с походом Хмельницкого на Волынь казацкие загоны двинулись в Белоруссию, чтобы занять войною литовские боевые силы и не дать Радивилу идти в Украину. В июне наполнили они уже Овручский край, но здесь литовцы били их успешно. В местечке Нарадищах заперлись казаки в церквах, но их там поджигали и истребляли. Били их и в Норинске. Казацкие сотники отстаивали свои прикмети до упаду. Радивиловы ротмистры напрягали все силы, чтобы взять живыми Лащовца (очевидно, питомца славного банита) и Сагайдачного (может быть, родственника Конашевичева), «но острая сабля» (рапортовали они) «была принуждена положить их трупами». Что касается Небабы, то приятельское письмо одного из участников битвы, сохраненное для нас Освецимом, описывает погром его корпуса так:
«Пан стражник Мирский, переправясь на ту сторону Днепра, напал на казацкий гарнизон в укреплениях, состоявший из 300 всадников. Он истребил его так, что только немногие спаслись бегством. Беглецы дали знать Небабе о том, что ляхи заняли уже ретраншаменты, но что отряд их немногочислен. Небаба, желая разгромить Мирского, двинулся из-под Чернигова со всем войском, которого было 15.000. Он наступил на Мирского, не зная о том, что в четверти мили дальше переправляется через Днепр гетман Януш Радивил. Последний, успев переправить лишь часть своего войска, немедленно атаковал Небабу с фланга. Дело обошлось даже без выстрела: ибо, быстро окружив эту сволочь, мы рукопашным боем истребили ее наповал. Не знаю, спаслось ли их хоть несколько человек. Небаба, видя опасность, сошел с коня и сражался пеший. На него напал один товарищ из хоругви мозырского старосты. Он храбро и долго защищался. Товарищ должен был также сойти с коня и они вступили в рукопашный бой. В это время подоспел на помощь другой товарищ и они стали вдвоем одолевать. Однако, Небаба не допустил взять себя в плен. Когда ему изранили правую руку, он оборонялся левою, пока его не убили. После этого счастливого вчерашнего дела, сегодня 200 казаков пеших, вооруженных самопалами, не зная о поражении своих, препровождали возы с провиантом в свой табор. Наши окружили их и всех забрали в плен. Пленные сказывали, что в полку Небабы было 20.000 человек, но 3.000 послал он в сторону Кричева, а 2.000 отправил собирать провиант, так что при нем оставалось только 15.000. Черниговские мещане приезжали к князю с изъявлением покорности. Они просили только о сохранении жизни своей и своих детей и обещали выдать несколько тысяч паробков-броварников, которые начали собираться на помощь Небабе. Битва эта происходила в пяти милях от Чернигова. Одержав победу, князь отправился в Любеч, а часть войска отправил в Чернигов».
Было слышно, что одни белорусские паны пошли к Припети, а другие — на выручку Кричева. По пути к Кричеву встретили паны 500 человек казацкого комонника, разбили их, и 150 человек положили на месте. На другой день бились они с 3000 конниц Небабы. Казаки стояли крепко, но были разбиты и рассеяны. С панской стороны пало 20 знатных шляхтичей и 200 человек рядовых. Кричев защищался мужественно, и уже семь раз отразил казацкий приступ. Вообще в Польше думали, что «Господь покровительствовал литовскому войску», хотя мудрено было бы сказать за что. На русский взгляд, в так называемой Литве родной нам элемент сохранился цельнее от помеси с чужеядным польским, и самый протестантизм, распространенный здесь больше, нежели где-либо, не допускал в белорусской шляхте такого растления духа и тела, какое производило в польских семьях католическое духовенство. Что касается казаков, то видно, что здесь их сила, при отсутствии татар, опиралась на сотников и полковников, вернее — на кадры опытных бунтовщиков.
«Между тем под Берестечком» (пишет Освецим) «июля 7, в пятницу утром, приехали казаки, чтобы получить условия капитуляции. Об них рассуждали в военной раде так, что стыдно и сказать. Успех расслабил нас до того, что никто энергичного предложения и не высказал. Им предложили следующие условия: выдать 16 человек, перечисленных поименно, старшины, в виде заложников, но не безусловно относительно их кары; выдать артиллерию; доставить Хмельницкого, сына его Тимоша и Выговского; выдать присоединившихся к казакам шляхтичей; чернь распустить по домам; предоставить королевской милости и решению будущего сейма дальнейшие распоряжения относительно устройства казацкого войска [47]. Казацкие послы ответили, что Хмельницкого готовы они разыскивать; что старшину, артиллерию и шляхтичей выдать трудно, но что они предложат условия своей раде. Крыса остался окончательно в нашем лагере. Вечером казаки дали знать, что старшина и казаки находятся вне лагеря на пастбищах, а чернь перепилась, и потому не могут покамест столковаться. Весь этот день прошел мирно, и они допускали наших едва ли не вовнутрь своих укреплений».
Но паны не доверяли казацкому миролюбию, и советовали один другому держать за пазухой камень (z nimi trzeba traktowae kamien majac w zanadrzu). Это тем больше было необходимо, что казаки однообразно в 2 часа пополуночи гремели своей музыкой и заглушали свои трубы и шипоши боевым криком, а призывные котлы у них были такие огромные, что панам казалось, будто это бьют на майдане тревогу.
«Июля 8, в субботу», (продолжает Освецим) «казаки на предложенные им королем условия ответили в следующих приблизительно выражениях:
«Милостивый, светлейший король! Умоляя о пощаде, мы уповали на милосердие вашей королевской милости; но нам предложены условия невозможные. Выдать старшину мы не можем, и не выдадим: так решила рада войска и черни. Артиллерии выдать не можем. Шляхтичей выдать не можем, и не выдадим, так как, по Зборовскому договору, им обещано прощение вашей королевской милости. Хмельницкого, его сына и Выговского, изменивших и вашей королевской милости и нам выдали бы мы охотно, но их нет среди нас. Однако, мы обещаем их разыскивать не только в нашем крае, но и в Крыму, и выдать вашей королевской милости, как лиц, сбивших нас, точно овец, с пути. Обещаем разорвать всякую связь с татарами. Просим, чтобы казаки и чернь оставались на таких правах, какие были условлены по Зборовскому договору. Паны пускай благополучно возвращаются в свои маетности на Украину, но без военных хоругвей: в противном случае, произойдет великий голод. Вообще просим вашу королевскую милость принять нас под свое покровительство, как детей и верных подданных. Сим окончив, подписываем: войско вашей королевской милости Запорожское со всею чернью» [48].
Далее следовали подписи полковников; но Джеджалла не подписался, потому что был согласен, как и Крыса, на все условия помилования. Не было это самопожертвование; не было это и безнадежность дальнейшей борьбы с панами ляхами: это был благоразумный выбор меньшего из зол. Как ни ужасною казалась казаку сила европейской тактики против его азиатчины, но казацкий террор над старшиною был такое страшилище, от которого сам казацкий батько, после Пилявецкого успеха, прятался под королевскою властью. Джеджалла был прямодушнее Хмеля, и откровенно высказал свое мнение, что лучше идти под королевский меч, нежели под казацкие кии, которые, в случае неудачи, грозили всякому запорожскому лыцарю, как оному славному Филоненку. Охлократия в нашей казацкой республике имела такие же безобразные крайности, как олигархия — в республике панской.
«Разгневанный этим ответом король» (продолжает Освецим) «приказал немедленно палить в табор из пушек со всех сторон. Несколько больших орудий уже доставили из Брод, другие поспешно везли из Львова».
«Июля 9, вновь прибыли казацкие послы, возобновили просьбу о помиловании и обещали выдать 16 старшин. Но король не хотел этим удовлетвориться, и строго пригрозил им. Они писали письма к сенаторам, постоянно прося помилования, но вовсе не соглашались на предложенные условия и настаивали на сохранении Зборовского договора. Их отпустили ни с чем. Краковский кастелян разорвал присланное ему письмо не читая, и строго сказал им: «Пошли вон, хлопы! Вы скоро узнаете, что такое Зборовский договор».
«Между тем наши, лишь бы делать хоть что-нибудь среди этих колебаний, стали устраивать плотины на речке, рассчитывая на то, что, если удастся запрудить воду, то большая половина казацкого табора, расположенная над речкой и у болот, будет потоплена, и что устроенные ими переправы будут наводнены и уничтожены. Сделано было это по совету казака Крысы, который остался добровольно у нас, не смотря на то, что казаки требовали его выдачи, как посла. Он притом указал на нашу оплошность в двух обстоятельствах: во-первых в том, что мы не отправили несколько тысяч людей в погоню за татарами, когда они бежали, объятые страхом, и когда их легко можно было разгромить и уничтожить; во-вторых в том, что мы поныне дозволяли казакам иметь свободное сообщение с другим берегом. Пока это будет продолжаться, до тех пор, по его словам, невозможно будет смирить их, ибо они постоянно будут надеяться на возможность отступления. Впрочем советам его последовали слишком поздно, и потому они не имели надлежащего успеха.
Притом на военной раде было решено, чтобы, в случае, если погода будет благоприятствовать, предпринять приступ. Для участия в нем было предположено командировать пехоту, челядь и Мазовецкое ополчение, которое в этот день подошло. Остальные отряды посполитаков, — за исключением прусских воеводств, — должны поддерживать приступ в качестве резерва. Решение это было вызвано показаниями волохов и казаков, перебежавших к нам в тот день. Они утверждали, что казаки решились бежать, и уже в нескольких местах с большим старанием подготовляют переправы. Все войско получило приказ быть наготове ночью.
В тот же день вновь получено известие, будто хан и Хмельницкий остановились у Вишневца. Наши были этим сильно встревожены. Для того, чтобы собрать точные известия, отправили несколько отрядов в разные стороны. С наступлением ночи, полки полевого гетмана, русского воеводы, брацлавского воеводы и коронного хорунжего должны были выступить против Орды. В случае же, если бы татар не оказалось, им было приказано — немедленно вернуться и занять позицию в тылу казацкого табора, за речкою, куда наши давно уже собирались. Ночью вернулся из разъезда Суходольский и объявил, что он был за несколько миль по ту сторону Вишневца, но нигде нет и слуха о татарах. Вследствие чего предположенная экскурсия была отложена. Приступ же и вообще все другие постановления рады не состоялись от неурядицы и беспорядка. Только брацлавский воевода отважился переправить на ту сторону в тыл неприятельского табора 2.000 человек» (тот, которого заподозрили в умышленной мешкотности и боязни).
Частное уведомление из-под Берестечка, от 8 июля, говорит что еще в среду вечером пан Балабан, с отрядом в 200 человек, отбивая у казаков пашу за речкою, узнал, что осажденные начали уходить из табора по нескольку сот человек, под предлогом паши и добывания дров. Но его донесение не вызвало никаких предупредительных мер в панском лагере.
Наконец, под вечер 8 июля (по известию очевидца) передался панам молодцеватый (hozy) казак, и объявил, что в таборе готовят переправу через болотистое озеро, грузя хворост, возы, наметы, кожухи, кобеняки, и хотят бежать; что возов оставляют для ретирады только по два на сотню, а съестное вьючат на лошадей. И это донесение пустили паны мимо ушей, несмотря на то, что голод у них одолевал пехоту, что конница отбывала вместо неё стражу, и даже лошадьми (по выражению писавшего) колыхал ветер (i konie u nas wiatr powiewa).
Когда таким образом ни представители казацкой, ни представители панской республики не знали, на что решиться и что делать, неожиданное стечение обстоятельств привело тех и других в новое движение.
Посланные казакам условия помилования произвели в их таборе полное расстройство и внутренний раздор. Казаки помнили такие случаи, как порывы наливайцев к бегству лободинцев, как бегство самого Кремпского от солоницких недобитков, — такие случаи, как стоянье реестровиков против Тарасова ополчения под Переяславом, — как предательское отступление казацкого комонника под Кумейками и позорное бегство Остряницы к московскому рубежу из-под Сулы. Даже и теперь перебегали от них в панский лагерь их руководители шляхтичи, а чигиринский полковник, Крыса, сделался даже панским советником на их пагубу. Зная и видя все это, казацкая чернь имела полное основание ожидать всего от людей, которые завлекали ее в свой опасный промысел обманом, понуждали к битвам посредством Орды и загребали жар их руками. Старшине своей доверяли казаки и чернь еще меньше, нежели шляхта — своим панам. Не подписавший общей петиции Джеджалла вчера еще был в их глазах наместником батька Богдана; сегодня он сделался у них зрадником и недоляшком. Сам батько Богдан с его сыном и Выговским, эта троица казацкого поклонения, обвинены ими всенародно в том, что сбили их с пути, как овец, и Запорожское войско торжественно вызывалось искать их даже в Крыму для выдачи ляхам... Чтоб успокоить казаков и чернь, Джеджалла предлагал ей выдать королю старшину, в том числе и самого его, искупить этим общие грехи, и спасти от истребления войско. Но чернь истолковывала такое самопожертвование коварством.
Она состояла из таких же единиц, как и её старшина: состояла из людей, готовых на всевозможное предательство, — из питомцев одной и той же казатчины. Напрасно вызывался Джеджалла отдаться первым в руки победителей: этим он делался, в её глазах, последователем Крысы и перебежчиков-шляхтичей. «Геть зрадника! Геть панського пидлизу»! завопила чернецкая рада, и Джеджалла, с тайною радостью, положил Богданову булаву перед преславным Запорожским войском.
Если бы казаки «стали в ради, як малі діти», по выражению кобзарской думы; еслиб они вверились Джеджалле, как самому Хмельницкому, — 200.000 бойцов за казацкие вольности были бы целы, и, бежав ночью хотя бы даже без оружия, скоро явились бы с киями на плечах, перед милостивыми панами, чтоб отнять у них свое оружие, подобно тому, как помилованные под Пятком, деды их явились под Черкассами, или пощаженные в Медвежьих Лозах, их отцы собрались в мятежные купы под Переяславом, и т. д. Что касается казацких вождей, то паны больше восхищались их дикими доблестями, нежели злились на их злодейства, как это мы видим и на современных нам польских историках. По своей природной, почти женской доверчивости, они были готовы поверить казацким клятвам в десятый раз, и, без сомнения, в десятый раз были бы обмануты.
Но, к счастью человечества, казацкая орда губила сама себя, как татарская. В настоящем случае, гибели её способствовало греческое духовенство, так точно, как это делало относительно шляхты духовенство латинское. Купленный окровавленным золотом агент восточного патриарха, коринфский митрополит, противодействовал всячески договорам с «врагами Божиими, держащими кривую веру». Слуги его, попы и монахи, бегали по всему табору и пугали чернь такою поголовною резнею, какую сочинил, или доверчиво записал велебный автор Львовской Летописи. Они убеждали дождаться Хмельницкого и во всем поступать согласно его воле. Но их присутствие в казацком таборе, дотоле небывалое и потом не повторившееся, еще больше смущало умы суеверною приметою о поповском оке. В смущении своем, казаки забывали о фортелях, которыми был окружен их табор, и обо всех своих преимуществах перед панами.
Хмельницкий нагромоздил под Берестечком столько возов со всяческими запасами, что казаки целый месяц, даже два и три месяца, могли бы с своих окопов отпускать панам такие пушки в качестве осажденных, какими угощали их под Збаражем в качестве осаждающих. Будь они только умереннее в своей подозрительности к старшине; будь старшина только меньше напугана расправой черни за боевые неудачи; не прийди только Вешняк с подобными ему вольнодумцами к убеждению, что и попы, и ксендзы в сущности одно и то же, — Хмельницкий наверное поспешил бы к осажденным под Берестечком не так медленно, как спешил Ян Казимир к Збаражу, и тогда бы свет увидел и в Польше, и в Литве резню пожесточе кривоносовской в Полонном. Но судьба лишила малорусскую историографию новых восторгов, и еще однажды дала полякам (хотя, правду сказать, напрасно) время образумиться.
На место Джеджаллы, казацкая чернь провозгласила своим гетманом Богуна. Это был ученик той школы, которая воспитала незабвенного по своему дикому гению Дмитрия Гуню. Он унаследовал и боевые способности Гуни, и его искусство ретироваться.
Держа в руках Богданову булаву, и не подвергаясь, как Джеджалла, общему замечанию: «до булавы треба головы», Богун повелел казакам и черни день и ночь сыпать три гребни через болотистое озеро, с тем чтобы ночью с понедельника на вторник переправить весь табор на другую сторону речки. Потому ли, что не было времени вгонять сваи и возить землю, или ради самой таинственности работы, на постройку гребень употребляли возы, оставляя только по два на сотню, грузили седла, наметы, катряги, упряжь и даже кожухи. Высоко стоял Богун во мнении казаков и черни; но прецеденты у него были, видно все-таки не те, что у Гуни, чудесным, сверхъестественным способом ускользнувшего от казацких победителей, да и бегство казацкого батька значило для оставленного войска не то, что бегство с берегов Сулы ничем не прослабившего себя Остряницы. Притом же Богун, воспитанник Хмельницкого, должен был скрывать от самих чур и громадских мужей свои намерения. Не внушив такого доверия к своему разуму, как Хмельницкий, Богун поставил свой кош и табор в недоумение. Мужики не понимали, что вокруг них делается, бегали с окопов да молили о пощаде, а казаки с своей стороны были настроены тревожно. Вера в непреодолимость их крепости и в стойкость вождей была поколеблена. Попы, женщины, дети ослабляли казацкий дух самим присутствием своим среди бойцов. Вспоминали, может быть, казаки, что и Наливайщина из-за детей да женщин пришла к погибельному концу. Теперь была нарушена и другая относительно боевого счастья традиция казатчины. Уже по двум этим причинам могла распространить в таборе суеверная боязнь в перемену фортуны, тем более, что казаки ждали решительного приступа, не зная всего того беспорядка и неурядицы, которые раскрывались вполне перед панским мемуаристом. Таким образом одна часть казацкого народа, ведя переговоры с народом шляхетским, проволакивала умышленно время и таинственно готовилась к отступлению, а другая вдавалась больше и больше в малорусскую тугу. Упадок духа и того единомыслия, которое умел вселять между казаков, с помощью татар, Хмельницкий, увеличивался еще от уверенности, что татары не вернутся в свои кочевья с пустыми руками, и нахватают ясыру в Украине.
Но ни в панском, ни в казацком стане вообще не знали, что делается и что кому грозит. Когда молва гласила, что хан погнал перед собой Хмельницкого со связанными под конем ногами, казаки перебегали в панский лагерь. Но когда здесь разнеслась весть, что хан и Хмельницкий остановились в Вишневце и заходят королю в тыл, перебежчики бросались из панского лагеря среди бела дня под выстрелами, и заставляли панов переменять свой лозунг.
Первым делом новоизбранного гетмана было импровизировать переправу; вторым — обеспечить ретираду от перешедших через речку Пляшову жолнеров. Взявши с собой казацкую старшину и конницу, то есть надежнейшую боевую силу, Богун вышел, на рассвете 10 (1) июля, в понедельник с двумя пушками из табора, чтоб, уничтожив отряд Лянцкоронского, общим советом решить на месте, как действовать во время отступления. Озабоченной важным делом старшине не пришла в голову мысль, что её таинственная вылазка может напомнить кой-кому два предательские эпизода войны 1637 и 1638 годов; а между тем в оставленном его таборе нашелся человек, может быть, видевший и самого Хмеля, бегущего из-под Кумеек в составе комонника, и Острянина, покинувшего пехоту под саблею князя Яремы на Суле. Поставив конницу в арьергарде, Богун, с надежным отрядом старшины, двинулся вперед, чтоб осмотреть позицию Лянцкоронского. В таборе между тем шли своим чередом приготовления к ночной переправе, которая, в случае успеха, затмила бы славу и самого Гуни. Вдруг кто-то закричал: «Зрада! Старшина втікає»!
Еслиб это пагубное подозрение было справедливо, то старшина, во-первых, бежала бы не среди бела дня, а под покровом казацкой матери — ночи, или по крайней мере при свете казацкого солнца — месяца, а во-вторых, уходить ей было бы гораздо безопаснее со всем комонником. Но пускай поляки остаются при своей мысли, что подозрение было справедливым. Дело в том, что оно произвело в остальном войске панику хуже пилявецкой. Ближайшие к задним переправам и возовым бронам казаки выбежали смотреть, где старшина и конница. Они увидели, что все обстоит как следует, но уже не могли вернуться в табор. На них, точно хлынувшая сквозь громадную запруду река, валила безумная масса беглецов.
Таборные сторожи были опрокинуты; цепи, соединявшие возы, разорваны; возовые броны сокрушены. С неудержимой силой ринулось все живое на греблю и чатки, душа и потопляя один другого в бегстве.
Подвигавшаяся в арьергарде за Богуном конница, видя громадное толпище и слыша крик 200.000 голосов, естественно бросилась врассыпную, как это делали в опасных случаях татары.
Крик был так ужасен, движение было так непостижимо, что Лянцкоронский вообразил обратное наступление Орды, и полетел к своей переправе.
Богун, с казацкой старшиной, поскакал навстречу валящей к нему массы. Но в то время не было уже для казаков и черни ни гетмана, ни полковников: казацкая армия, созданная чародейским словом на ляхів! расточилась от чародейского слова зрада! Обезумевшая в ужасе панской кары толпа импровизировала себе новые гребли из собственных тел, растоптанных бегущими. Все тонуло, задыхалось и гибло хаотически.
К сожалению, панский Самовидец не присутствовал при казацкой катастрофе. Он вернулся под Берестечко только тогда, когда трагедия была сыграна, и окровавленная сцена опустела. Всё-таки ему принадлежит первое место между современными историками борьбы разноплеменных и разноверных армий в пользу русского воссоединения, и мы за ним последуем, как за сравнительно достоверным повествователем.
«Беглецы (пишет он) «бросили табор со всем бывшим в нем добром, и оставили множество скота, лошадей, провианта, пушек, пороху и знамен. Когда известие об этом бегстве распространилось в нашем войске, наши немедленно бросились в табор и стали пользоваться добычей. Кто не поленился, тот мог приобрести значительную долю имущества. В то время другие хоругви бросились в погоню за бегущими, но прежде должны были пройти трудные переправы, весьма узкие и вязкие, так что лошади могли по ним идти лишь гуськом. Между тем казацкая конница, числом до 20.000, успела сформироваться и направиться вскачь далее. Брацлавский воевода, который перешел было на ту сторону с отрядом в 2.000 человек, для того чтобы препятствовать казакам пользоваться пастбищами, — жаль, что это было предпринято слишком поздно и с незначительным количеством войска, а то все казаки остались бы в западне, — увидев такое множество врагов, и полагая, что это нападение сделано против него, отступил к Козину, чтоб обеспечить себе переправу. Между тем огромное количество наших выступило из лагеря, и отправилось в погоню за бегущими, убивая всех запоздавших и отставших на пути. Едва ли нашелся бы кто-либо, кому бы не довелось убить казака [49]. Наконец брацлавский воевода понял, что казаки обращены в бегство, и, оправясь от испуга, старался вознаградить потерянное время. Немедленно пустился он в погоню и производил ее с таким жаром, что вернулся последним... В это время король делал смотр ополчению Плоцкого воеводства, и велел ему преследовать неприятеля... Посполитаки били казаков до пресыщения в лесу, в кустарниках и болотах. Весь день, пока не стемнело, наши, подвигаясь облавою, производили кровавую бойню, вытаскивая казаков из кустов и болот, расстреливая и рубя головы, хотя и они наносили вред нашим, в случае неосмотрительности. Целый день продолжалось убийство и кровопролитие.
Роли на широкой сцене человекоистребления переменились. Прежде война представляла зрелища, воспетые кобзарями Хмельницкого:
Тоді козак і лісом конем бижить, Коли ж дивицця, аж кущ дрижить; Коли гляне, аж у кущі лях як жлукто, лежить. То козак козацький звичай знає, Із коня ссідає І келепом ляха по ребрах торкає...Теперь кусты дрожали от прятавшихся казаков, а жолнеры сделались храбрецами все, от первого и до последнего. Теперь и те, которые побросали знамена в Зборовских коноплянниках, смотрели такими героями, как совращенный в латинство литво-русский князь, Корибут Вишневецкий.
Но даже и в последней беде, какая может озадачить воина, когда творец отважного и беспримерно удачного бунта покинул свое войско, а войско покинуло свою неодолимую крепость, — даже и в этом безнадежном положении, многих беглецов, унесенных силою паники, можно было назвать образцовыми воинами. Несколько примеров геройской решимости, не имеющей ничего подобного в бегстве панов пилявчиков, сохранила для нас польская историография.
800 казаков, засекшись в леску, защищались так, как Вишневецкий в Збаражской западне. С одной стороны бил их свой же брат, русин, князь Богуслав Радивил, с другой — такой же русин, Стефан Чернецкий. Они отвергли все условия предлагаемой им пощады, и все легли на месте до последнего, дав урок своим отступникам, как надобно стоять за свободу с более высокими целями, нежели свобода казацкая.
Другой отряд казаков, состоявший из двух или трех сотен, укрепился на острове и решился выпить горькую чашу смерти до дна с таким спокойствием, с каким были распиты и разлиты добрые горилки, меды и вина под Пилявцами. Долго защищались казаки без всякой надежды на спасение, превосходя в этом случае героя Збаражского, которого надежда на выручку не покидала до конца. Дивясь их мужеству, Николай Потоцкий предлагал им помилование. Не захотели они принять помилование от ляха, от перевертня. В знак презрения к пекельникам и их дару, высыпали казаки из чересов деньги в воду, а сами так сильно поражали нападающих, что только пехота, наступив на них колонною, разорвала их и загнала в болото. Не поддались и там завзятые. Стоя по пояс в воде, оборонялись они до тех пор, пока не перестреляли их поодиночке. Один из этой горсти героев-разбойников добрался как-то до челнока, и несколько часов играл с неминуемою смертью, отвергая помилование. Стреляли по нем с обоих берегов реки.
«Не знаю» (пишет, пересказывая об этом Освецим), «стрелки ли в него не попадали, или, может быть, его не брали пули». Наконец, один Мазур, раздевшись до нага, вошел по шею в воду, и нанес ему удар косою, а жолдак пробил копьем. «Король» (говорит очевидец) «долго смотрел с большим вниманием и радостью на эту трагедию. Многих, точно уток, ловили по болотам, вытаскивали и убивали; никого не щадили, даже женщин и детей, но всех истребляли мечом».
То была в самом деле сцена из последнего акта трагедии, которой «начало» видел столь же достойный зритель — наш «святопамятный».
Добыча, полученная в казацком таборе, была значительная, хотя, безо всякого сравнения, не такая, какая досталась казакам под Пилявцами, «потому» (замечает Освецим), «что казаки на серебре не едали и цугами в каретах не езжали». Взяли победители без победы весь скарб Хмельницкого, а было в нем, по показанию Крысы, две бочки талеров для уплаты Орде. Жолнеры так поживились при этом, что одному товарищу досталось 1.500 дукатов. Взяли также паны 60 пушек, из которых 18 оказались прекрасной работы, с лафетами, 7 бочек пороху, кроме того, что было расхватано жолнерами, бесчисленное множество огнестрельного и холодного оружия и до 20 знамен, — в том числе знамя, которое послал король Хмельницкому через комиссаров. Оно было красного цвета, с изображением белого орла и двух русских крестов. Другое знамя, в том же числе голубое, было то, которое дал казакам Владислав IV в 1646 году, зазывая в Турецкую войну. На нем был изображен орел, пополам белый и красный.
В плен взяли турецкого посла, втоптанного в болото, и посла от константинопольского патриарха, присланного к Хмельницкому с благословением на войну и с освященною на Господнем Гробе саблею. Из коринфского митрополита, Иоасафа, поляки сделали александрийского патриарха, Евдоксия, даже константинопольского патриарха, «или, вернее, обманщика (albo raczej impostora)»... О нем рассказывают и в наше время польские историки, что он рассчитывал на свою величественную бороду и на важность своего сана, как на оборону от смерти. Он де вышел в золотом облачении, в огромной митре из красного бархата, покрытой кругом кусками золота в виде крестов, сопровождаемый священством, крестами, свечами, церковными хоругвями; но ему тем не менее отсекли голову. Это бумагочернильное утешение подобает нам предоставить нашим иноверным завистникам, хотя бы в действительности смерть постигла Иоасафа без всякого народа. Казаки наши, будучи на их месте, говорили бы то же самое z uсiecha о смерти бискупа и арцыбискупа в панической давке, а тем еще паче, когда бы злостная фантазия вмешала в эту давку римского папу, которого наши православники, подзадоренные протестантами, давно уже заклеймили не только именем обманщика, но и антихриста, предоставляя потомству судить, кто насколько действовал обманом и поступал противно учению Христа. Польская историография включила и митрополита Сильвестра Косова в число беглецов, ускользнувших из казацкого табора. Но Хмель не мог держать Коса в своем походе под надзором казацкой полиции; а что Кос не веровал в его фортуну, или гнушался его подвигами, видно из его письма к Радзеёвскому. «Лишь только долетело до меня перо вашей милости» (писал он), «в тот же момент (in eodem jtundo) послал я к его милости пану гетману запорожскому свои отсоветования от войны во внутренности отечества (dissuasorias od wojny in visceribus palriac). Ответ получил я вот какой» (и прописал его целиком).
Весь церковный аппарат, вместе с тремя колоколами, печатью Запорожского войска и серебряным портфелем Хмельницкого, уцелел от расхищения, как трофей панской победы. В портфеле Хмельницкого хранились: султанский диплом на русское княжество, договор с Ракочием, войсковой реестр, счет приходам и расходам. Если бы в бумагах беглого гетмана были найдены следы казни гетманши, пани Чаплинской, то об этом разгласил бы сам король z wielka uciecha. Но вместо утешительных для панов и их коронованного совместника находок, оказалась находка весьма печальная и постыдная: в казацкой канцелярии были открыты сеймовые диариуши и специальные реляции всего, что ни делалось наисекретнейшего на сеймах, на сенаторских радах и даже в королевских покоях. «Доблестные поляки» Оссолинского продавали разбойнику свое «свободное королевство, охраняемое» (по словам знаменитого канцлера) «стеною любви к отечеству и взаимного доверия». Хмельницкий (возьму здесь меткое слово казацкого Самовидца) «смазывал им шкуру их же собственным салом»: грабя у них золото, платил им этим золотом за предательство милой отчизны.
Подобно тому, как наши казакоманы издавна твердили своей публике о мурованных столбах, о медных быках, о зверском терзании, среди собравшихся в Варшаве сановников, наших героев чести и веры вместе с их женами и детьми, о поголовном истреблении руси за то, что она — русь, и всю эту ложь завещали для обработки нынешним ученым историкам, да гениальным беллетристам, — подобно этому и в панских ополчениях разжигатели международной вражды находили множество верующих в то, что казацкий табор (хотя это гораздо правдоподобнее) был полон полунедомученных пленников, ободранных живьем, жаренных на рожнах и пр. и пр.
Но если в казацком таборе и не было таких мучеников, то по одному воспоминанию о том, что делали казаки над панскими женщинами, старцами, детьми и сосущими младенцами, подогретые своими проповедниками жолнеры имели теперь случай доказать, что в бесчеловечии не уступали они своим противникам, казакам. Здесь было много седовласых старцев, и почтенных матрон, убежденных в святости казацких деяний не менее звягельской кушнерки, — много красавиц девиц и нежного возраста детей. Во имя церкви и веры, сатана мог быть угощен в казацком таборе таким пиром, каким чествовал его в Полонном славный Перебийнос.
Я с удовольствием отмечаю, что благородный, насколько это было возможно под иезуитским режимом, Освецим не говорит о найденных в казацком таборе мучениках-ляхах. Молчит он и о том, чтобы жолнеры были так жартовливы в свирепстве, как наши казаки. Убивали без пощады все живое — и только. По свидетельству же одного из очевидцев, казацкие пленники, как например походный наместник литовского подканцлера, Вилямовский, вышли из табора живыми и здоровыми. Ободранные живьем и жаренные на рожнах ляхи нужны были только ксендзам, братьям по ремеслу таких ревнителей веры и церкви, каким был автор Львовской Летописи.
Как быстро охватила казацкий табор тревога, видно из того, что в нем жолнеры нашли пылающие огни, кобеняки, шапки, горох в горшках, говядину в котлах и недоеденное жаркое. Малорусская поговорка: «покидай печене й варене» могла явиться после такого случая. С хохотом рассказывала торжествующая шляхта, что казаки, сидя за своим сниданьем полуодетые, бежали с ложками во рту. До самой ночи поляки и полякоруссы резали беглецов. Легло их под Берестечком, по свидетельству панской Немезиды, более 20.000. Но неожиданное торжество над неприятелем от веселого смеха и радостного созерцания бойни перешло наконец в горестное сознание напрасного человекоистребления. Никому в панском войске не пришло в голову воспеть Te Deum, как после бегства татар и Хмельницкого. Сохранилось даже предание, что уединенный отряд королевской гвардии, проезжая по молчаливому побоищу при свете месяца, плакал.
Если в самом деле так было, то в этом глубокочеловечном плаче надобно видеть предчувствие грядущих зол, которые были посеяны и казаками, и панами в моменты безрассудного торжества одних над другими.
В тишине ночи, под кротким сиянием полного месяца, сцена избиения безоружных людей воскресала в полном ужасе. Сколько можно было завидеть оком, валялись человеческие тела, и потоки еще не застывшей крови изливались доречьем в Пляшовую. В этой крови, точно в сатанинском подражании водам Иордана, крестилась теперь наша Русь, еще не докрещенная папистами. После того, что произошло между представителями двух республик под Берестечком, солидарность веры панской с верой казацкою во имя Христа — исчезла, и даже толки Киселей об этой солидарности умолкли. Победа под Берестечком была победой не только панов над казаками, но и Кадлубков, Длугошей, Пизонов, Скарг и прозелитов папства, Потеев, Терлецких, Кусевичей, Рутских над «преподобными мужами Россами», которых воззвания и увещания, обращенные к польско-русским панам, оказались напрасными. Подобно тому, как мнимый протектор православия, Острожский, соединив судьбы своего дома с судьбами католиков и протестантов, был православным князем только снаружи, — все подобные ему православники, не попавшие в сети Лойолы, Лютера и Кальвина, давно уже только назывались последователями греческой веры, в духе же своем были завоеваны римскою церковью, и Берестечко довершило завоевание.
Кровавым днем 10 июля закончилась для панов знаменитая кампания, но не казацкая война. По мнению Освецима, причиною тому была медлительность представителей Польши. «Вместо того» (пишет он), чтоб ударить на встревоженного неприятеля с решимостью после первоначальной победы, мы стали действовать медленно, будто на досуге; дозволили ему опомниться, собраться с силами и спастись бегством. Указывали много причин этой медлительности: частые перемены в решениях военной рады, беспорядок и отсутствие дисциплины, слитком недостаточное количество пехоты, необходимой для приступа: ибо невозможно было действовать конницею по причине валов, окружавших табор, широких и многочисленных рвов, защищавших его внутри... Много повлияло на вялое ведение дела и весть о том, будто хан и Хмельницкий остановились у Вишневца: она произвела было в нашем войске совершенный упадок духа, хотя, по моему мнению, в виду этой вести, следовало тем с большею энергией идти на приступ, чтобы предупредить приход новых сил к неприятелю. Те лица, которые, по-видимому, знали тайные побуждения и намерения короля, утверждали, что какой-то астролог уверил его, будто бы числа 5, 6, 11 и 12 июля для него несчастны, но что конец месяца будет для него неимоверно счастливее... Король решился обождать, пока не минуют означенные дни. Между тем среди праздности, продолжавшейся 10 дней, силы наши ослабевали, войско стало терпеть нужду, многие солдаты в иностранных и польских региментах умирали от недостатка пищи, мужество и пыл улеглись, и среди нас воцарился такой беспорядок, и чувствовался такой недостаток во всем, что хотя, по-видимому, мы осаждали неприятеля, но скорее сами чувствовали себя в осаде, подобно тому, как сказано в старой, но остроумной поговорке: «я поймал татарина, но он меня не пускает». Неприятель же наш набирался храбрости, усиливался, возвел укрепления и мужественно в них держался. Казаки беспокоили наших постоянными вылазками днем и ночью, и не оставляли без внимания ничего того, что могло послужить им в защиту.
Наконец, когда они побежали из табора, то успели спастись и ускользнуть из наших рук, так как мы не позаботились заградить им путь за речкою.
«То, что происходило в нашем лагере после этого бегства и погрома казаков, досадно и стыдно передавать потомству: ибо опасно, чтоб оно не вздумало подражать в подобном случае позорному примеру предков [50]. Не говоря уже о многочисленных упущениях, допущенных после битвы, происходившей в пятницу 30 июня, как-то: что мы не преследовали разбитых татар; что сейчас же не окружили растерявшихся и встревоженных казаков; что в течение десяти дней оставались праздными, и что, наконец, оставили свободный проход для бегущих казаков, — теперь, после победы, как тогда казалось, окончательной, было сделано еще больше ошибок и упущений, будто нарочно, к величайшему стыду нашего народа...»
«Король» (продолжает Освецим), «следуя совету опытных вождей, решился тотчас двинуться за рассеявшимися казаками, чтобы подавить окончательно неприятеля и добиться наконец прочного мира в пользу нашей веры и отечества. Он хотел увлечь в дальнейший поход не только регулярное войско, сильно ослабевшее и утомленное, но и посполитое рушение. Но лишь только объявил это через посредство сенаторов, как вся шляхта, составлявшая поголовное ополчение, подняла вопль. Основываясь на законе, что посполитое рушение обязано защищать отечество только в продолжение двух недель, шляхта даже сенаторам угрожала саблями, и отправила к королю решение, что дальше идти не намерена... Король и сенаторы умоляли шляхту, чтоб она оставалась в походе хоть еще две недели, или, по крайней мере, прошла к Старому Константинову для устрашения неприятеля».
И князь Вишневецкий, и полевой коронный гетман, Калиновский, теперь более популярный, чем дряхлый подагрик Потоцкий, поддерживали короля в его увещаниях.
Их выслушали, как и самого короля, молча, а потом обвиняли его в беззаботности, даже в продажности и измене. Подозревали, что он добровольно и умышленно выпустил казаков из табора, что он взял с казаков 800.000 злотых окупа, и рассказывали множество других выдумок, «которые» (пишет Освецим) «даже и вспоминать позорно для нашего народа».
«Шляхту» (говорит очевидец) «тянуло к женам, хозяйству и к пуховикам. Для прикрытия своей лени, выбирала она из-под земли аргументы»... Сенаторы, с своей стороны, не слишком усердно ее увещевали, потому что угощение «младшей братии», поддерживавшей старшую на выборах и сеймиках, а также содержание многочисленного двора для оказалости, стоили им дорого.
Наконец шляхта предложила королю уплатить за себя деньги в виде военной субсидии, или снарядить милицию соразмерно с зажиточностью каждого из них. Пришлось принять и эту помощь, при невозможности добиться чего-нибудь более существенного. Но то были только слова. Дело кончилось тем, что собранные далеко не вполне деньги пришлось выдать в счет жалованья более нуждавшимся хоругвям регулярного войска.
Пока шли переговоры, многие шляхтичи, то в одиночку, то целыми толпами, уходили из лагеря, и даже целые поветы бежали за Стыр... «Несчастная наша Речь Посполитая» (пишет Освецим): «бесчинства многих ценятся в ней больше, нежели благоразумие немногих избранных... Мы до того выродились, что не захотели пожертвовать две недели времени для сохранения того, что предки некогда приобрели, щедро жертвуя кровью.
«Король» (продолжает он) «не захотел прощаться с дворянскими ополчениями. За их позорное поведение им следовало бы, по примеру Болеслава Храброго, послать прялки и заячьи меха, особенно тем, которые не были в битве и с умыслом опоздали приходом, чтобы битва произошла без них. А между тем эти-то ополчения больше всего настаивали на том, чтобы вернуться скорее домой, и скорее других бежали за Стыр, бросая возы с провизией и заботясь лишь о том, чтобы, не обнажив сабли, обеспечить себе путь к постыдному отступлению. Знатные вельможи, особенно из Великой Польши, владеющие богатыми маетностями и бенефициями, притом придворные чиновники, как надворный маршал и коронный подканцлер, не согласились сопровождать короля даже на расстоянии одной мили».
Одною из загадок тогдашних панских и казацких деяний остался факт, что хан предвидел сопротивление шляхты. 30 римского июня написал он к королю письмо, полученное 10 июля. Хан извещал короля, что отступил исключительно потому, что, среди окруженной болотами местности, у Берестечка, не имел достаточно простора, и что будет ждать его там, где нет болот и лесов, а в заключение прибавил: «Хотя Бог даровал тебе победу, но мы знаем, что ты не пойдешь в Украину, а только твои панята пойдут за нами». Так хорошо была известна хану шляхта, эти домашние казаки польские, эти кровные родственники Хмельницких и Выговских, даже в своем разноверии.
Тому назад недели две, Ян Казимир, точно в чудесном сне, очутился на высоте великого, могущественнейшего и непобедимейшего монарха. Хан перед ним бежит. Хмельницкий перед ним бежит. Сперва 100.000 татар, а наконец и 200.000 казаков разбегаются перед ним в ужасе, бросая все для них дорогое и святое. Но повеления великого монарха не исполняются; шляхетский народ непобедимому победителю не повинуется, и даже придворные сановники поворачивают от него восвояси. Не мог, однакож, Ян Казимир спуститься в один день с высоты своего величия. По словам Освецима, он «предначертал себе путь в Украину, с намерением преследовать неприятеля до самых его кочевий, и там его истребить». Он выступил 14 июля в поход, по словам, очевидио иронизующего его Освецима, «с непоколебимою твердостью», в сопровождении только наемного войска, польского и иностранного, и остановился на ночлег в полумиле от Козина, в имении пана Фирлея.
«Здесь он увидел» (пишет Освецим), «что количество его войска уменьшилось в поражающих размерах»: ибо вместе с посполитым рушением ушли все добровольцы, панские хоругви, надворные хоругви воевод и других сенаторов и при них множество товарищей, челяди и пехоты, даже из наемного войска, под тем предлогом, что они намерены поступить в ряды предполагавшихся новых милиций» (и полководец узнал обо всем этом только в походе). «Притом» (продожает Освецим) «и оставшиеся наемные хоругви представляли печальное зрелище: они имели вид нищенский. Пехота, блиставшая прежде серебряными украшениями мундиров, теперь была оборвана; регименты весьма малочисленны, и немцы безнаказанно бежали из них, как будто война была уже совершенно кончена».
Тем не менее великий монарх, упорный там, где упорство похоже на детский каприз, «продолжал предначертанный путь с намерением преследовать врага до самых его кочевий, и там его истребить». Эти слова панского Самовидца, вероятно, принадлежали самому королю. «Но, сообразив» (продолжает Освецим с иронической серьезностью), «что, при такой малочисленности своего войска, если он отправится лично в неприятельскую область, то подвергает великой опасности и себя, и всю Речь Посполитую, созвал раду для обсуждения, не будет ли полезнее отправить гетманов с войском в Украину, самому же вернуться для того, чтобы руководить доставкою новых средств для продолжения кампании. Тщательно взвешены были все побуждения, клонившиеся в ту и другую сторону; наконец, в воскресенье, став лагерем у Орли, в полуторе милях от Кременца и в миле от передового отряда, — с которым шел Калиновский, — король объявил, что возвратится со своим двором. Многие офицеры протестовали весьма грубо против этого решения, особенно же князь Вишневецкий, требовавший, чтобы король непременно отправился в дальнейший поход с войском. Из придворных сановников к этому же мнению склонялся канцлер. Но король заставил их замолчать, напомнив Вишневецкому, что сам он не захотел отправиться в тыл казацкого табора иначе, как в сопровождении 15.000 войска, теперь же требует, чтобы король с половиной этого количества отправился в далекий поход [51].
«Июля 17» (продолжает Освецим) «король, перед выездом, пожелал произвести генеральный смотр войску, и с этой целью отправился в Кременец. Но так как случились в это время проливные дожди, то он отменил смотр, и во вторник уехал в одном только экипаже, даже не попрощавшись с теми полками, которые находились в передней страже. Во время его путешествия, постоянно шел проливной дождь. Приходилось ехать по грязи, оставивши все возы и подвергаясь всяким неудобствам. Королю этот путь опротивел в десять раз больше, чем пребывание в лагере...
Июля 21 король прибыл во Львов. Он явился incognito, и до ночи остановился в одном частном саду. Затем ночь провел в забавах и развлечениях, вместо того, чтобы начать с благодарственного молебствия Господу за ниспосланный по его милости неожиданный успех кампании».
Под пером придворного и роялиста, в этих словах таился смысл, объясняемый следующими за ними словами: «Во Львове король остановился недели на две, потому что заболел вследствие неудобств лагерной жизни. Затем, излечившись, он уехал в Варшаву».
В отчаяньи от королевских порядков, Освецим обо всей выигранной кампании написал следующее сдержанно высказанное мнение: «...подлинно можно сказать, что сам Господь за нас воюет: ибо мы сами ничего не делаем так, как следует, хотя наши жолнеры и доблестно сражались в течение трех дней».
Если из позорной транзакции под Зборовым придворные Яна Казимира сделали такую пышную манифестацию в Европе, то бегство хана и Хмельницкого представило им возможность объявить своего короля вторым Казимиром Великим. Появились его портреты с хвалебными надписями в прозе и в стихах. Французы не умели даже назвать побежденного польским королем Кромвеля: он был у них Smilinski, но трубили в католическую трубу изо всей силы. Было выгодно и нужно томным личностям выставлять героем беспутного расстригу иезуита, как выгодно было и нашим жалким православникам трубить по всему свету про доблести мизерного эгоиста и предателя, князя Константина-Василия Острожского и других подобных ему низменных созданий своего века и общества. Наконец Ян Казимир, под пером доктора Кубали, явился в польской историографии с естественной своей физиономией, тогда как наши убогие собиратели чужих суждений и вестей все еще славословят князя Василия, как «даровитейшего и совершеннейшего во всех отношениях человека» [52], а вслед за ним восхваляют и других негодяев, еще более постыдных для малорусской народности. Впрочем и тогда в польско-русском обществе было не без добросовестных людей. В то время, когда в Риме, Париже и Вене торжественно благодарили Бога за попрание врага и супостата католичества, в Польше, наряду с похвалами Берестечской виктории, читались повсеместно пасквили. В одном из них сказано прямо, что услугу фортуны под Берестечком уничтожила панская факция, а она-то и группировалась вокруг Яна Казимира.
В тот опасный и поучительный для гражданских обществ момент, когда третье сословие Польского государства разъединялось со вторым и оба они с первым, Хмельнитчина вызвала разъединение между шляхтой и тем народом, который не имел у неё сословных прав, — вызвала не только в воеводствах, обнятых казацким бунтом, но и в католической Польше. Бунтуя всю чернь, которой не было дела до казацкого девиза за віру, Хмельницкий звал Ракочия в Краков, чтоб он вместе с бунтовщиками подавил доматорствующую шляхту в то время, как сам он расправлялся со шляхтою воинствующею.
По селам, по шляхетским дворам и по городам появилось множество чужих, никому не известных попрошаек, с виду здоровых, сильных и наглых. В народе стали расходиться странные вести, неправдоподобные, но тем не менее повторяемые: будто бы шляхта выступает на рокош против короля; будто бы она замышляет вырезать хлопов; будто бы казаки идут на помощь королю... Шляхта, конечно, видела в этом хлопскую глупость, как ныне мы видим ее в возобновляющихся среди нашей сельской черни слухах о раздаче мужикам панской земли; однакож, предсказываемые в разных местах пожары и угрозы беспокоили ее, и в таком тревожном настроении духа двинулись посполитаки против Хмельницкого. Из донесений, полученных королем под Сокалем, они с ужасом видели, что рутина казацких бунтов, опустошавших Волынь, Белоруссию и Украину в течение полустолетия, не чужда и народу не-русскому, не-схизматическому. Мужицкое движение сзади посполитого рушения шляхты, в случае несчастья на боевом поле, предвещало Польше господство кочевников на обеих сторонах Вислы. 350.000 хмельничан, в соединении со 100.000 отборной Орды, готовы были двинуться в самую средину объятой пожарами шляхетчины. Опасность была так велика, что, по выражению польского историка, «только незнание всей её громадности могло поддержать в сердцах надежду; только слепая судьба могла дать полякам победу».
По замыслу взбунтовать против землевладельцев чернь от Тесмина до Одера, от Карпатских гор до Балтики, Хмельницкий принадлежит к таким кровавым гениям, как Аттилла, Чингис и Тамерлан. Недоставало только исполниться этому гениальному замыслу для умственного наслаждения людей, возводящих казатчину в апофеоз человеческой славы. Закулисным движением польских мужиков управлял у Хмельницкого полковник Стасенко с помощью двух тысяч агентов. Состоя при канцелярии казацкого гетмана, этот почтенный деятель руины рассылал их во все стороны по указанию казака Тамерлана. Пожары и грабежи, подобные украинским, волынским, белорусским должны были начаться по выступлении посполитаков, а повсеместная резня отложена до слушного часу: выражение, не позабытое и в наше время малорусскою чернью.
Так как Хмельницкому не удалось в этом преприятии пожать Геростратовские лавры, то не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что в возмущении католической и православной черни на западе Королевской земли участвовали и наши попы. В Великой Польше отличался предательским рвением какой-то Грибовский: имя, напоминающее одного из возмутителей в Павлюковщину. Но всего больше встревожилось королевское правительство известием об Александре Леоне из Штернберка Костке, иначе Наперском, который поддельными королевскими листами вербовал в Силезии иностранных жолнеров и бунтовал чернь в Краковском воеводстве, — под видом услуги королю, овладел пограничным замком Чорштыном [53], и готовился к широкому бунту. Несмотря на предстоявшую под Берестечком битву, отправили против него значительный отряд: ибо со стороны Чорштына надобно было ждать вторжения Ракочия.
В этом отряде участвовал и польский Самовидец. По его рассказу, Костка-Наперский, подобно Хмельницкому, старался приобрести популярность, в темной массе заботами о неприкосновенности святилищ, и охранял их своими универсалами, в роде следующего:
«Я, нижеподписанный, поручаю и сурово повелеваю жолнерам, находящимся под моею властью, чтоб они сохраняли в целости и неприкосновенности монастырь Тынец и принадлежащие ему села, под опасением смертной казни всякому не повинующемуся сему военному выданному для охраны монастыря повелению, которое скрепляю моею подписью и печатью. Дан в Тынце 8 мая 1651 года. Александр Лев из Штернберка».
В настоящее время казакоманы присоединяют уже и Шпака, и Гонту с Железняком к героям малорусского народа, разумеемого ими по-казацки. Соглашаясь, что это были герои одного и того же пошиба, начиная с Гренковича и Косинского, вношу в пантеон их чествования Костку-Наперского, которого бунт захватывал и русскую чернь в Польше, не взбунтованную самим Хмельницким. Притом же он является последователем нашего Наливайка по части вовлечения в разбой мещан. Подобно тому, как царь Наливай сделал своим наперсником брацлавского войта Романа Тиковича, Костка-Наперский сдружился с Станиславом Лентовским, маршалом солтысов, или свободных землевладельцев-нешляхтичей, обязанных только военною службою в пользу государства. Сохраненное нам Освецимом письмо к нему Костки сделало бы честь и самому Хмельницкому:
«Милостивый пане Лентовский, мой милостивый пан и друг! Слыша о ваших великих рыцарских доблестях» (Лентовский был известен разбоями), «я только восхваляю их и благодарю Бога. При сем униженно прошу, чтобы вы с вашим полком приходили как можно скорее, в возможно большем количестве людей, внушая им, чтобы припомнили себе все кривды от своих панов, как убогий народ угнетен и обременен, и что теперь представляется им прекрасный случай. Пускай же им пользуются: ибо, если теперь пропустят его и не освободятся от бремени, то останутся вечными невольниками у своих панов. Итак приходите поскорее сами и другим, кому сочтете нужным, давайте знать. Только пана Здановского, чтобы оставили в покое, всю же другую шляхту пускай берут и делают с нею, что хотят. Вот какой пускай будет знак, когда пойдете с полком своим: сосновый венок на шесте: по нем опознаемся. Не забудьте, чтоб одни брали с собой топоры, а другие — заступы. Пойдем все под Краков и дальше по всей Польше, если будет (общая) воля. Мы договорились хорошо с Хмельницким и с татарами, и немецкое войско придет на помощь. Благоволите же известить прочих, а сами прибывайте. Остальное расскажет вам изустно податель этого письма. Ожидая вас нетерпеливо, остаюсь вашей милости братом и слугою — Александр Лев из Чорштына. 18 июня 1651 года. Всей братии нашей, принявшей нашу сторону, бью челом. Следует вручить поспешно моему любезному другу, пану Станиславу Лентовскому, маршалу братии нашей».
Разница между Косткой и Хмельницким только в том, что один попал, а другой не попал на кол. Разница между Косолапом, Разиным, Пугачевым и Хмельницким только в том, что тех поймали небольшою сравнительно облавою, а на украинского змея горынича, разбойного чуда-юду не хватало облавы ни у короля польского, ни у царя московского, ни даже у султана турецкого. Поэтому каждый из троих потентатов норовил схватить его за казацкую чуприну и нагнуть к подножию ног своих. Здесь нужна была уже не сила, а сноровка, и сноровки оказалось достаточно у наследника собирателей русской земли. Если бы всем названным разбойникам удалось, как Хмельницкому, злодействовать безнаказанно, карта Европы в настоящее время была бы совсем иная, и человечество опоздало бы многими столетиями в развитии человечности. Но следует помнить, что каждый из прославленных и каждый из заклейменных позором злодеев был продуктом своего общества, и что каждый из них был грозящим пальцем Судьбы для того гражданского общества, которое дало злодею славу, или бесславие. С этой точки зрения краковский Хмельницкий заслуживает такого же внимания, как и Чигиринский.
Костка-Наперский был побочный сын Владислава IV, и назывался Симоном Бзовским. Младенцем был он отдан на воспитание в богатый дом панов Костков, весьма уважаемый за свою древность и за родство с патроном Польши, Св. Станиславом. В последствии взяли ребенка к фрауциммеру королевы Ренаты. Там он рос, и получил воспитание при королевском дворе. Не достигнув еще 20-летнего возраста, говорил он на нескольких языках, легко писал стихи и показал себя хорошим офицером. Весьма быть может, что Хмельницкий, бывая в Варшаве, познакомился лично с побочным королевичем.
По смерти короля Владислава, Костка пребывал не известно где, может быть, и среди казаков, а может быть — при дворе Ракочия, но в 1651 году появился в окрестностях Кракова, в виде бунтовщика черни, с намерением занять горные проходы для Ракочия и овладеть Краковом.
Сперва он, под именем Костки из Штернберка, проживал в панских домах, изучал города и делал знакомства. Часто гостил в Кракове, и везде казался человеком знатного происхождения. Роста был небольшего, щуплый. Черный ус едва пробился у него. Носил остроконечную бородку. Длинные курчавые волосы были пристрижены у него по-шведски. Одевался он также по-шведски в черный цвет. Обладал необыкновенной способностью сближаться со всякого рода людьми, причем держал себя, что называлось в Польше — великим паном, «который никогда не имел надобности показывать себя гордым и не был никогда смиренным».
В апреле 1651 года явился он в городе Новом Тарге, лежащем в центре Краковского Подгорья, в роли королевского полковника, имеющего повеление вербовать войско на оборону границ от Ракочия по выступлении в поход посполитаков. С этой вербовки и началась его работа. Он вошел в разбойные связи с карпатскими горцами, которые относились к жителям соседних городов почти так, как запорожцы к городовой Украине. Во времена оны эти горцы воевали вместе с нашими казаками против турок и Москвы. Они в своих горах привыкли к такому молодечеству, каким казаки отличались на Запорожье. Панские хозяйства они ненавидели по подобным же причинам, и часто имели с ними столкновения. Двоих предводителей горских шаек, которых уже вели в Новом Тарге на казнь, Костка освободил, под предлогом вербовки в королевские дружины, и посредством такого военного экзампта сделал их атаманами своих новобранцев разбойников.
В то же самое время познакомился он с наместником новотаргского старосты, паном Здановским, который уже тридцать лет сидел на своей должности и, будучи человеком спокойным, сделался образцом старопольской захолустной жизни. Старик подстаростий полюбил блестящего и угодливого полковника, как сына, верил ему простодушно во всем, и своим патриархальным авторитетом способствовал тому, что все кругом смотрели на молодого авантюриста его глазами.
В самозванстве своем Костка открылся только одному человеку. Это был учитель одной из солтысских школ, Мартин Радоцкий, титулуемый из учтивости ректором.
Радоцкий лет сорок учительствовал в селе Пциме Мышеницкой волости, и был горячим приверженцем секты анабаптистов, которой остатки сохранялись в краковоподгорской глуши. Он всею душою жаждал водворения в народах мира о Христе Иисусе, а мир этот, по его воззрению, мог быть достигнут лишь полною свободою труждающихся и обремененных, которая бы дала им возможность прийти ко Христу для евангельского упокоения. Панская де власть и крепостная от неё зависимость были препятствиями к тому, чтобы последовать гласу Спасителя: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы»... В сущности своей, идеал школьного ректора был анабаптическим воспроизведением грубого идеала казацкого: «коли б хліб да одежа, то й їв би козак лежа». Освецим называет Радоцкого «постоянным бунтовщиком простонародья против всех краковских кастелянов», без сомнения, в смысле распространения мысли о панованье черни, к которому панские завистники, казаки, стремились посредством набегов, поджогов и убийств [54]. Костка подъехал к ректору с этой стороны, и фанатик мечтательного блаженства труждающихся и обремененных согласился с ним в иезуитском правиле — «цель оправдывает средства». Будучи искусным калиграфом, Мартин Радоцкий скопировал приповедный лист короля, выданный год назад какому-то Наперскому, вставил в него имя полковника Александра Льва из Штернберка Костки Наперского и подделал с того же оригинала печать. С этим документом в кармане, Костка выступил открыто среди местной шляхты, и стал вербовать новобранцев по всему воеводству, а через своих агентов — и за границею, в Силезии.
Когда таким образом все было подготовлено к бунту, Радоцкий и Лентовский разослали от себя к меньшим солтысствам и по окрестным селам письма, взывавшие к народу, чтоб он соединялся под предводительством Костки против жидов и шляхты «во имя Христа, которого жиды замучили, и найяснейшего короля, против которого шляхта замышляет бунт». Сообщникам разбоя обещали освобождение от чиншей, надел шляхетскими полями и лесами, казацкую помощь, и велели им убирать свои хаты зелеными ветками, чтобы проходящие войска не жгли их и не грабили. Все кругом начало быстро покрываться зеленью.
Между тем Костка занял во имя короля Чорштын, и сам послал в Краков донесение, что сделал это в предотвращение возможного посягательства на него со стороны венгров. Замок этот лежит под Дунайцем, на скалистой горе. Он замыкал тогда дорогу из Венгрии в Краков. Староста чорштынский, молодой Платтенберг, королевский покоёвый, отправился с королем в поход, и противозаконно оставил столь важный стратегический пункт без гарнизона. В пограничной крепости Польши, выставленной на первое нападение страшного уже тогда Ракочия, жило только несколько жидов, арендовавших старостинские имения.
В Кракове, между тем, получились отовсюду донесения, что народ по селам таинственно вечует и необычно убирает зеленью хаты. Краковский бискуп, Гембицкий, смекнув делом, послал к Чорштыну небольшой отряд конницы, под начальством добчиского старосты, Гордола. Но Костка отразил нападения, и описал свой подвиг приятелю своему, Здановскому, в стихах. Он изобразил себя львом, который залег на скалах, доступных только для орлицы. «С кем Господь Бог» (писал он), «против того трудно воевать», и окончил указанием на панское корыстолюбие и надменность, как на причину бедствия Польши:
«О nieszczesne lakomstwo! о przekleta pycho! Ktoras w Polske, — ach! ach! ach! wprowadzila licho» [55].В универсале своем, сохранившемся вполне, молодой сподвижник старого Хмеля объявляет мужикам, что шляхта задумала поднять рокош против короля, обещал всем всяческие вольности, дарил своим соратникам шляхетские дворы и все, что в них находится, и советовал не верить королевским универсалам, с какими бы подписями и печатями они ни были: ибо король должен был выдавать по принуждению шляхты.
Ректор-анабаптист Радоцкий сделался, можно сказать, кратером бунта. От 20 июня писал он к своему соумышленнику:
«Великомилостивый ко мне пан Леон, etс. По получении такого известия через это ваше писание, буду со всяким старанием и поспешностью объявлять о нем поспольству вместе с верными приверженцами Христовой правды, преданными также его милости найяснейшему пану Яну Казимиру, милостью Божиею королю польскому. Поспешите же снова обослать поспольство в своих краях вашим писанием, которому дадут иную веру, и потому охотнее будут соединяться. Ибо прежде сего многие из них говорили, что если бы слышали дозволение, или голос его милости короля, тогда бы даже сами, наступая на шляхетские дворы, уничтожали их, дабы не пановала на земле гордость и высокомерие с тиранскою злостью. Затем униженно отдаюсь милости вашей. В Пциме, die 20 Iuni 1651. W. R. rector scholae pcimensis. Следует вручить моему пану, господину Льву, верному подданному его королевской милости».
Согласно этому письму, Костка прислал Радоцкому следующий универсал:
«Мир Христов! Всем вообще и каждому в особенности подданным его королевской милости, нашего милостивого пана, желаю, при добром здоровье, от Всевышнего Господа Бога свободы и вольности, объявляя сперва волю Божию, а также и его милости короля, что шляхта хочет поднять рокош против его милости короля, милостивого нашего пана, и потому, кто привержен к его королевской милости, пускай ютится под мои крылья, под Чорштын, при пане ректоре пцимском, который, как верный подданный его королевской милости, приведет вас ко мне и будет вами региментовать, давая во всем наставления. При этом его королевская милость, милостивый наш пан, обещает все вольности всем тем, которые теперь будут при мне стоять, и дворы шляхетские, и что в них, все будет ваше, и потому-то сами старайтесь выбиться из этой тяжкой неволи, дорожа нынешним временем. Вместо того, чтоб они обратили вас в ничто до остатка, лучше вы их обратите. Довольно уже намучили вас эти панки, что уже голос ваш, плачущихся на них, взывает к Богу. А потому, отписывая уже другой раз его милости пану ректору, выдаю этот универсал, предостерегая и в том, чтобы вы, как это мне повелено от его милости короля, не давали веры никаким универсалам, хотя бы и с печатью и с подписью его королевской милости: ибо он принужден их выдавать, боясь шляхты. Но мы делаем, что должны делать, как возможно скорее, а на Св. Яна пойдем под Краков. Уже я разослал всюду универсалы к мужикам, которые охотно являются, а в новотаргском панстве все, а пан Станислав, маршалок, будет их полковником. Только прошу, чтоб идучи через Новый Тарг, не трогали его милость пана Здановского и тех всех, где увидите на шестах венки. Прошу также, чтобы костелам всегда была оборона: ибо мы будем воевать из-за Бога и кривды людской, из-за неповиновения королю его милости. Дан в Чорштыне 22 июня 1651. Доброго здоровья вам желающий Александр из Штернберка Костка, староста Чорштынский».
Польский двойник Хмельницкого, в случае успеха, доконал бы шляхетскую республику, и на широком пространстве между двух морей были бы поруганы предания о деятельности культурников республиками или ордами антикультурными.
Но шляхта и мещане вовремя вооружились, и Костка был выдан собственным гарнизоном. У него нашли универсалы Хмельницкого, возбуждающие чернь к овладению Краковом и к истреблению шляхетского сословия. Наливайкова мысль, как видим, переходила в Польше из поколения в поколение: она пришлась по душе темной, злобной и ленивой массе, на которой выехала Хмельнитчина.
С субъективной точки зрения малорусских летописцев и историков, польская шляхта должна была бы растерзать своего предателя, как терзала в Варшаве измышленного ими Остряницу. Вместо того, враги затеянной Косткою в Польше казатчины относились к нему без всякой суровости, и только сожалели о его безумстве. Следует помнить, что столь же мягко отнеслись они и к выданному им казаками Наливайку. С своей стороны и польский Хмель до конца сохранял ясность и присутствие духа, точно как будто считал свой замысел великодушною попыткою к спасению отечества от его беспутства. Даже когда его везли привязанного в телеге через Краков, он весело посматривал на толпившийся народ, и так как все фанатики принадлежат к идеалистам, а идеалистам свойственны и в отчаяньи, как в успехе, самые крайние грезы, то — кто знает? может быть, ему в толпе труждающихся и обремененных виделись будущие мстители хмельничане за погубленную славу его отца, величайшего по замыслам из всех монархов, особенно в глазах сына...
Государственная Фемида взяла с несчастного Костки полную дань: его пытали самыми жестокими средствами. Но он был нем, когда его допрашивали о сообщниках: все же, что составляло его собственные преступления, высказывал он даже в преувеличенном виде. Здесь проявился в нем побочный королевич, сын Владислава. 11 июля посадили Костку на кол, что король мог бы заменить иною казнью, но он был — Ян Казимир. Костка принял страшную казнь спокойно.
По поводу этого события, паны засвидетельствовали перед нами, что Оссолинские да Яны Казимиры были между ними выродки.
«Не понравилась полякам эта казнь» (говорит современный наш историк). «Молодость Костки, уважение к покойному королю, отвращение к Яну Казимиру, все соединилось для того, чтобы преступление бунтовщика с каждым днем уменьшалось и уменьшалось. Шляхта Краковского воеводства (в инструкции послам на варшавский сейм) назвала своего разбойника легким человеком. В Варшаве вообще думали, что надобно было пользоваться победою под Берестечком и, вместо Костки, казнить Хмельницкого; а Коховский отпустил королю весьма прозрачный сарказм в следующем двустишии:
«Nie wiem, со to za nowy kucharz sie pojawil: Miasto pieczeni, Kostke nam na rozen wprawil» [56].При этом впоминается Петр Могила, угрожавший таким рожном родному брату Иова Борецкого...
Зато шляхта, вернувшаяся из-под Берестечка, была вне себя от того, что ей готовили хлопы. Всюду начались розыски и суды, а в Краковском воеводстве целые села бежали в горы, жили разбоем, а не то — перебирались на венгерскую сторону Карпат. «В глазах польской шляхты» (пишет польский историк) «хлопское движение заслуживало большей кары, нежели казацкий бунт, потому что оно было неожиданным, производилось обманом, метило в безоборонные семейства и ознаменовало себя изменою, вопиющею о мщении».
В связи с хорошим делом казацкого батька в Краковщине, шесть русских шляхтичей православного исповедания работали по его же внушению в Познани и в Великой Польше. Они сперва прикинулись беглецами от казацкого террора, но в самый разгар войны составили из местных крестьян гайдамацкую шайку, которая начала возмущать народ обыкновенными казацкими способами — соблазном и запугиваньем.
Тогда князь Чорторыйский, с пятью сотнями всадников, разогнал и казнил четверых поборников православия; два остальные бежали к Хмельницкому, а разнесшийся вслед за тем слух о бегстве казаков из-под Берестечка окончательно успокоил землевладельцев на счет малорусских возмутителей Польши.
Если нас, наслаждающихся внутренним и внешним спокойствием, воображение терзает картинами прошлого и через два с половиною столетия, — терзает, можно сказать, вчуже, то каково было на сердце у тех, которые принесли столько великих жертв и потом, и кровью для превращения пустошей в цветущие колонии, и теперь видели «мерзость запустения» на святых для них по памяти былого местах! Освецим, по возвращении из экспедиции против Костки, бросил на эти места свой поэтически грустный взгляд, томительный и для польского, и для русского чувства.
«Августа 21» (пишет он) «приехал я в свое имение Закоморье, которое сильно опустошили и неприятели, и наши собственные жолнеры. Я прожил здесь несколько дней. В это время ездил я в Берестечко, для того чтобы осмотреть местность, прославленную столь важными битвами и победою. Я видел неприятельские окопы, весьма крепкие, как по местоположению, так и по произведенным фортификациям. Затем посетил я Броды, резиденцию покойного великого гетмана, Конецпольского. Город сожжен до основания; остался только замок, укрепленный наподобие голландских крепостей и превосходящий все другие замки роскошью украшений. В минувшие годы крепость эта выдержала в течение 12 недель осаду от 36.000 казаков, и успешно их отразила. Видел я также местечко Леснев. Оно все было обращено в пепел татарами, когда они впервые шли атаковать наше войско. С глубоким сожалением осматривал я Подгорцы, славившиеся некогда во всей Польше крепостью и прекрасным дворцом, украшенным фонтанами, гротами и каскадою. Дворец этот выстроил гетман Конецпольский, предназначив его служить местом отдыха после утомительных военных походов и других услуг Речи Посполитой. Мысль эту выразил он в следующей надписи, вырезанной на мраморной доске, помещавшейся над воротами:
Sudaris Martis — victoria, Victoriae — triumphus, Triumphi praemium — quies [57].Глава XXVIII. Поход панского войска из-под Борестечка в Украину. — Мародерство производит общее восстание. — Смерть лучшего из панских полководцев. — Поход литовского войска в Украину. — Вопрос о московском подданстве. — Белоцерковский договор.
Между тем паны колонизаторы шли с расстроенным и деморализованным королевскими порядками войском для завоевания своих имений, не принимая в соображение важного обстоятельства, что землевладельцы малорусские давно уже сделались иностранцами в глазах того класса туземцев, который был хранителем нашей национальности и нашей религиозной совести. Не обращали паны внимания и на то, что даже такие между ними, которых наши псевдоисторики величают святопамятными, отправляя своих сыновей в чужие края, напутствовали их словами:
«Помни, мой сын, что ты — поляк». Каковы бы ни были их доблести и права в собственном сознании, но Малороссия отвергла их еще до казацких бунтов устами лучших людей своих, и теперь им оставалось только завоевать родной свой край у худших.
Варшавский Аноним так исчисляет силу этих conquerrados новосозданной Польшею Америки: компутового войска было 18.000, пехоты 6.000; посполитое рушение, отходя, прибавило к ним несколько способных к походу (wyprаwnych) хоругвей, заключавших в себе 7.000 человек. В этом войске находились паны с собственными дружинами, как-то: князь Иеремия Вишневецкий, воевода русский; Станислав Потоцкий, воевода подольский; Лянцкоронский, воевода брацлавский; Щавинский, воевода брестокуявский; Павел Сопига, воевода витебский; Одривольский, кастелян черниговский; Цетнер, кастелян галицкий; Самуил Калиновский, обозный коронный; Пршиемский, генерал артиллерии; Марк Собиский, Вишневецкие, Даниловичи и другие русские паны; одних Потоцких было девять ротмистров, как в Риме против Вольсков (замечает наивно Аноним) девять Фабиев.
К панам, еще до выступления в поход, приходили о хане и Хмельницком различные вести. Не обладая казацкою способностью разведыванья, паны проверяли эти вести другими способами, и так как многое зависело от того, где и как обретаются два главные беглеца, то свидетелей допрашивали под присягою. Одна шляхтянка из-под Константинова клялась, что 1 июля, следовательно на другой день после бегства, видела в Константинове, как вязали Хмельницкого к коню среди народа, и слышала, как хан кричал на него: «Я пошлю тебя к королю и выкуплю тобою моих мурз». Другие рассказывали, что коня, к которому привязали Хмельницкого ногами под брюхом, гнали нагайками впереди хана до самого ночлега.
Но скоро видели Хмельницкого свободным. В Любартове кормил он лошадей. При нем было несколько казацких старшин и 2.000 татар. Старый Хмель спокойно обедал, и с двумя возами, полными съестных припасов, отправился в дальнейший путь. Говорили еще, что, отъезжая в Крым, хан оставил Хмельницкому 10.000 татар, которые должны были кочевать за Уманем, над Синими Водами, с тем чтобы сохранить за Хмельницким его власть, если бы его подданные вздумали бунтовать.
По всем этим слухам, два хана расстались так, как бы между ними ничего не произошло, а через месяц татарский хан писал к казацкому следующее:
«Приятель мой, запорожский гетман! Посылаю вам на помощь брата моего, нуреддин-султана, Сефер-Казы-агу, Субагазы-агу и других аг и беев со всем войском, какое нашлось, а в Крыму остаюсь только один. Каковое войско взявши без всякой гордости на помощь, давайте отпор неприятелю, да прошу, чтобы вы, как до сих пор, пьянством не занимались, а просили Бога о победе».
Поляки удивляются уверенности казацкого батька в себе после неслыханного приключения под Берестечком, удивляются его присутствию духа, не поддающегося стыду, бешенству и отчаянью в таком позоре и несчастье. Но перед нами таких удивительных людей проходило множество — и в виде Косинского, вчера валявшегося в ногах у князя Острожского, а завтра наступающего на князя Вишневецкого, и в виде царя Наливая, готового ударить на своих в пользу короля, и в виде Сулимы, поклоняющегося папе, разоряющего королевскую крепость и принимающего католичество, и в виде Павлюка, сходящего с эшафота для того, чтобы затеять новый мятеж. Каждый из таких представителей казатчины, колеблясь на скользкой вершине, чувствовал головокружение, замечаемое нами и в Хмельницком, но летя вниз, хватался за всякую подлость, лишь бы остаться при своем бесстыдстве, не предаваться бесполезному бешенству и не впадать в отчаяние.
Поляки, народ, созданный боевым счастьем да клерикальными интригами, считают Хмельницкого, талантливого стратегика и плохого тактика, неспособным к такой торговле человеческою кровью, к какой тяжкая необходимость принудила бездарного во всех отношениях Яна Казимира под Зборовым. Но, чадо их общественности, Хмельницкий превзошел и самого царя Наливая в предательстве своих соратников.
Еслиб казацкиии батько в самом деле сохранял уверенность в себе и присутствие духа, то он должен был предвидеть, что станется с его детьми без его булавы и головы; не оставил бы он их в такой момент ради надежды вернуть бегущих в панике татар...
Казацкии хан потерялся не меньше татарского под Берестечком, и, может быть, обязан только его угрозам тою уверенностью в себе и тем присутствием духа, не поддающимся стыду, бешенству и отчаянью, которому удивляются люди, не знавшие террора в своем прошедшем и не понимающие, что террорист прежде всего подчиняется террористу. Это доказали дети казацкого батька по отношению к нему самому; это доказал и казацкий батько по отношению к хану; доказала, наконец, это и вся казатчина по отношению к тем, которые поставили ее во фронт и скомандовали смирно!
Весьма внушительным был для Хмельницкого факт, что бегущая домой Орда жгла, грабила и, не довольствуясь ясыром, уничтожила 6.000 казаков, которые спешили под Берестечко из Паволочи, а чигиринцев, собравшихся на выручку казацкого табора, разогнала.
Один из панских разведчиков, Суходольский, вернувшись под Берестечко из-за Винницы, рассказывал, что татары везде во время своего бегства убивали и угоняли в неволю казаков. По словам Освецима, «Суходольский утверждал положительно, что чернь запирается в городах, и везде, где встретится с казаками, убивает их, даже истязает их жен в отместку за свои семьи, угнанные татарами в Крым. Так поступило» (продолжает Освецим) «ополчение черни, которое, в числе до 15.000, отправилось было в помощь казакам под начальством паволочского войта и, встретив по дороге татар, было ими истреблено на половину».
При таких обстоятельствах Хмельницкий мог найти прибежище только в Ислам-Гирее, на каких бы то ни было условиях. Этим и объясняется его уверенность в себе, которой удивляются враги его, поляки.
Весть о несчастье и неволе гетмана наполнила Украину тревогой и ропотом. Достигнуть оставленного табора не было ему никакой возможности. Вспомогательного войска взять было негде, а тут и Небабу разгромил Радивил. Хмельницкий послал под Берестечко фальшивое обещание татарской выручки, но оно попало в неприятельские руки. Ему ничего больше не оставалось, как принять от хана «без всякой гордости» гвардию, охранявшую особу его от раздраженной черни и державшую самого его под арестом. Ему оставалось только воздержаться по мере возможности от пьянства и просить магометанского, но уж никак не христианского, Бога о победе.
Князь Иеремия Вишневецкий еще однажды очутился лицом к лицу с человеком, оспаривавшим у него господство на восточной окраине Польши. Хотя традиция Речи Посполитой, царившая над умами панской факции, главное начальство предоставило Николаю Потоцкому с его товарищем, Мартином Калиновским, но в сущности дела путеводною звездою и надеждою панского войска, по вдохновенному указанию Катерины Слоневской, был всё тот же герой, которого поляки обыкновенно именовали русским воеводою, как бы в сознании, что польского воеводы у них нет. Но, увы! теперь этому беспримерному в Польше воеводе остался всего один месяц жизни, и она прервалась у самого входа в созданное им удельное княжество. У входа в обетованную землю, потерянную Польшею, скончался через три месяца после Вишневецкого и тот, кто был правой рукою великого, как и Вишневецкий, колонизатора в обуздании руинников, — кто нанес им тяжкие удары в 1637 и 1638 годах. Князь Иеремия умер в Паволочи, Потоцкий — в Хмельнике, и на конце военной карьеры оба полководца испытали самое худшее, что в ней встречается: борьбу с ненастьем, голодом и мором.
Мартирология панского войска началась в то время, когда причинивший ее король предавался забавам, развлечениям и даже заболел после забав и развлечений во Львове. Участвовавший в Украинском походе галицкий стольник, Андрей Мясковский, по особенному поручению, доносил Яну Казимиру обо всем, касающемся благосостояния всего войска. По его донесению, сперва оно «подверглось ужасной слякоти и непогоде, которая сильно повредила и лошадям, и пехоте, потом — такому голоду, о каком не слыхать на людской памяти, разве где-нибудь при самой жестокой осаде замков и городов. Но ни в Хотинском, ни в Московском войске (писал Мясковский) такого голода не видано. Пехота, принужденная к отвратительной пище (ad nefandos cibos compellitur), достать хлеба не может и за самую дорогую цену; а мяса, кроме конской падали, не видят; не пренебрегут и теми лошадьми, которые уже три дня гниют в грязи (lakze i tym, ktorc trzy dni jua vv blocie putrescunt, nie przepuszczq); принуждены питаться сырым житом, или травой и бурьяном, точно какие животные, к великой горести и состраданию всего войска. Невольно мы проливаем слезы (gdysz to nam laelirymas dicere musi), видя столь блестящую пехоту (tam florentem . peditatum) вашей королевской милости бесполезно погибающую от голода (шагпие fame pereuntem), а всего горше то, что нельзя придумать никакого способа к спасению голодных: ибо тот край, в котором имеем надежду на хлеб, еще далеко, но и он так опустошен, что о нем можно сказать: «земля же была неустроена и пуста». Ни городов, ни сел, только поле и пепел. Не видать ни людей, ни живых тварей, разве птицы на воздухе. Пан Краковский, не смотря на слабое здоровье, идет с возможною скоростью к хлебу (ea qua potest, celeritate ku cblebu ciqgnic), но опять вчерашняя и нынешняя страшная непогода замедляет движение (retardat cusrum). Не взирая на то, так как мы посвятили себя на эту службу, то уже придется здесь преодолевать фортуну твердостью духа (lortunain animo superare) и мужественно бороться с этим голодом и с этими небесными невзгодами (у г terni injuriis coeli viriliter lucrari), услаждая горести (cukrujqc sobie adversa) будущими, даст Бог, успехами. Воин о том ведь постоянно должен думать, к чему стремится, а не о том, что предстоит ему претерпеть (boo zawsze zotnirz quo tendat, non quid passurus est, ma uvazac). Авось либо всемогущий Бог поможет нам прийти в эту обетованную землю, где мы не только наедимся хлеба, но и привольно отдохнем после своих трудов. О Хмельницком, между разными вестями, самая верная, кажется, та, что он освободился уже от хана, не известно, искусством ли и хитростью, или деньгами. Он должен быть ныне в Чигирине, где хотел бы возбудить новое смешение, и разослал универсалы к черни, но чернь не поддается им, напротив намерена отправлять на Масловом Ставу чернецкую раду, на которую зовет и самого Хмельницкого, и, верно, не для чего иного, как для того, чтобы самой подвергнуть его каре (aby supplicium z niego sami sumere mogli). Орда вся пошла назад; с казаками вполне розбрат, и даже в нескольких местах бились, что весьма благоприятно для наших дел (со bardzo ии геш nostram militat). Бунты же черни, хотя бы и были какие-нибудь, разумею, по приближении войск коронного и литовского, — совсем угаснут, а если кой-какие и отзовутся, то, верно, только в глубине Украины: ибо у нас носится слух, что литовское войско вырубило уже Вышгород... Войско наше идет тремя отрядами (tripartito idzie): первый отряд составляет набранный из одних иностранцев полк воеводы брестского, полк воеводы брацлавского вместе с полевым гетманом; второй отряд составляет полк князя воеводы русского, воеводы подольского и старосты калусского (Яна Замойского); третью часть составляет полк коронного хорунжего вместе с некоторыми дополнительными отрядами. Пан Краковский посылает к митрополиту киевскому с объявлением, что идет с войском в Украину для успокоения бунтов, если бы какие были, а добрых и верных подданных уверить, что их жизнь и имущество останутся неприкосновенными. Из Паволочи приезжали уже люди с поклоном к старосте калусскому и с просьбой о гарнизоне. Но паволочский войт, наибольший бунтовщик, ушел к Хмельницкому. Волошский господарь уведомляет пана Краковского, что Хмельницкий все еще задерживается ханом, а хан до сих пор уже в Крыму: ибо весьма поспешно бежал, бросая множество больных, которых не мало погребено на дороге, и подстреленных лошадей; а наши пленники, возвращающиеся из языческих рук, утверждают, что хан уже под Лиманом переправился через Днепр, — потому так низко, что боится погони за собою, или — чтобы сами казаки не вздумали бить татар, как это сделал Глух, уманский полковник, сильно громивший Буджацкую Орду на возвратном пути, так что она была принуждена окупиться».
Таково было положение украинского дела по слухам и надеждам, когда несчастные победители казако-татарской силы стояли лагерем под Биличами, оставив за собой милях в двух Любартов. Еще во Львове, 27 июля, Ян Казимир получил от Потоцкого донесение, что немецкой пехоты у него частью вымерло, частью разбежалось полторы тысячи.
Стоя под Смархином, в 4 милях от Ямполя, один из участников похода писал на родину от 31 июля: «Теперь идем все более и более голодными краями; только трав обилие невыразимое, так что иного коня едва видать в траве; но хлеба и доброй воды для питья трудно добыть. Что у кого есть, тем и довольствуются, а другие мрут от голода, как пехота, которой убывает ежедневно. Ложатся по дороге и пухнут. Сегодня ранним утром двинемся далее, к Любартову: чаем там хлеба. О, приведи нас к нему, Господи Боже»!
Наконец, во время холодной слякоти, пришли в пустки, называвшиеся Любартовым. «Очень много людей перемерло и коней переколело» (приписал тот же корреспондент в своем неотправленном письме). «От страшного горя и вспоминать не хочу. Скажу только, что, видно, приходится нам горько, когда уже не только челядь и пехота, но и двое товарищей и семь рейтар от голода и дождя, в наших глазах, упавши с коней, умерли».
От 4 августа доносил также королю Мясковский, что страшная непогода, продолжавшаяся пять дней и пять ночей, воспрепятствовала отправить депешу. Не было возможности оставаться и в палатках сухим. Проходя по четверти мили в день, войско достигло, 3 августа, Любартова, «хотя пустого и голодного, но по крайней мере не сожженного», так что после стольких неудобств (lol incommoda), могли осушить себя от холодных, точно осенних дождей. В Любартове застали они не мало хлеба на корне, и так как на Случи не были сожжены мельницы, то можно было сколько-нибудь заготовить пехоте хлеба, а для получения скота были распределены между полками ближайшие города: Синява, Сенявка, Краснополе, Гранов, Белополе, предоставив им полную власть (pleniariam facultatem) как возможно больше добыть оттуда продовольствия. Но покамест голодные завоеватели родного края питались поджаренными на огне зернами.
Здесь они проведали, что «хлопство» идет к Хмелю таборами под Корсунь; что Выговский бунтует ему чернь по Заднеприю; что поднестровские хлопы хотят выбрать себе другого гетмана; что Богун собирает хлопство под Прилукой над Собом и с каждого хлопа взимает по талеру на татар, которые обещали прийти к нему в числе 40.000.
Между тем литовский гетман получил от киевлян и прислал Потоцкому следующую суплику:
«Ясно освещенным, ясно вельможным панам региментарям войска его королевской милости Великого Княжества Литовского, всему рыцарскому кругу отдавая нижайший поклон.
Со слезами просим милостивых панов явить милосердие, как нам, так домам Божиим и всему городу, не допуская хоругвей до опустошения: ибо не только никогда не поднимали руки против Божия помазанника и молили Божий маестат о счастливом его панованье, но еще во время этих смут сохраняли жизнь многим шляхтичам и шляхтянкам, которые сами о том засвидетельствуют. Давно бы уже мы отозвались к вашмостям милостивым панам с этою покорою нашею, когда бы нам был дозволен вольный проезд. Поэтому просим и вторично об обороне от военных импетов. В Киеве, у св. Софии, дня 21 июля 1651 года.
Сильвестр Косов, киевский, галицкий митрополит.
Иосиф Тризна, архимандрит киевский-печерский.
Войт, бурмистр, райцы города его королевской милости Киева».
Потоцкий с своей стороны послал к митрополиту удостоверение, что идет в Украину для успокоения бунтов, если какие-либо есть, и предостерегает всех верных подданных его королевской милости, чтобы все сидели в своих домах, не опасаясь никаких враждебных действий (nullam hostilitatem).
В трудном и голодном походе радовали жолнеров успехи литовского войска, о которых 8 августа уведомил Потоцкого нарочный из Белоруссии. Коронному великому гетману писали, что по разбитии Небабы Чернигов был взят и вырублен, что князь Радивил идет к Остру и Нежину, что казаки сильно побиты под Дымером, что и Киев прислал просьбу о помиловании (которая и сообщена Радивилом Потоцкому).
Любартовские «обыватели» рассказывали, что на своем побеге из-под Берестечка Хмельницкий, с сотнею конных казаков и пятью татарами, был в Любартове на попасе. «Ничего не сказал он тамошним людям» (писал Мясковский), «кроме того, что идет закладывать новый табор (ohoz foczye) в Украине для освобождения полков, оставшихся под Берестечком. Когда Орда хотела жечь Любартов, Хмельницкий послал к ней, чтоб этого не делали, а то будут наказаны царем (крымским), и тотчас Орда пошла через Случь на Острополь. Видно, не совсем потерял он кредит у Орды. Это подтверждает и литовское известие, что Хмельницкий собирает хлопство и Выговский бунтует ему чернь, в надежде на скорые вспоможения татарские. Каменецкий староста (Петр Потоцкий) также пишет о завзятости и остервенении поднепровских людей; рассказывает, как на Днестре становятся уже табором, и ляхов никогда не хотят иметь панами».
По походному дневнику, Потоцкий двинулся далее 4 августа, но проливной дождь не позволил ему пройти больше четверти мили. Зато его порадовало известие пана Мыслишевского, что он разгромил под Браиловым два таборка хлопов, которые шли к Хмельницкому. Прислал Мыслишевский и отнятое у них знамя. 5 августа, «переправлялась» через Любартов армата. Офицеры ездили подбирать по дороге больных и умирающих, а мертвых погребать. Умирали больше пехотинцы. Больные шли воевать здоровых, голодные — сытых, нищие — обеспеченных, иностранцы — туземцев. Паны медленно двигались похоронной процессией умирать в земле предков своих, после того как отверглись их веры, пренебрегли их народностью. Но русские предки не могли приютить полонизованных потомков даже в своих усыпальницах. Шли паны в Украину собственно для того, чтобы сделать поднепрян и поднестрян еще более завзятыми и остервенелыми против их ляшеского господства, ненавистного в своей святости еще больше, нежели в своей греховности. Люди, которых знаменитый дипломат, князь Криштоф Збаражский, заклеймил названием sceleste genus hominum, оказались в проклятиях могущественнее тех, которые прокляли их на Брестском синоде, — оказались могущественнее потому, что, по малорусской пословице: «в своей хате своя и правда». Проклятие католическое пронеслось из Литовского Бреста до самого Рима пустым эхом. Проклятие православное залегло в миллионах малорусских сердец, и поразило всех прямых и косвенных деятелей унии казатчиною.
Не поджидая своей арматы, Потоцкий прошел в этот день три мили с конницей на Трошлю, так как в Боговой Украине происходили волнения, и он одной вестью о приближении жолнеров надеялся остановить хлопов от скопления в купы. В дороге повстречали жолнеры едущего к коронному великому гетману городского писаря из Паволочи вместе с посланцом от киевлян, которому было поручено удостовериться собственными глазами, что коронное войско действительно идет в Украину. Не доверяли этому в Киеве, а между тем готовы были трактовать с коронным войском охотнее, нежели с литовским.
«Паволочский писарь» (сказано в походном дневнике) «много рассказывал о Хмельницком, как он во время бегства стоял три дня в Паволочи, и вынудил у мещан 3.000 злотых, которые тотчас отсчитал находившимся при нем пяти татарским мурзам. Когда мещане спросили, почему он идет один и почему назад, он сказал, что оставил двадцать полков добрых молодцов против короля, которые будут обороняться четверть года. У них де много живности и порохов, а вы знаете, как мы обороняемся в таборах, и как переносим голод. Потом его спрашивали о литовском войске, не будет ли оно в Украину. «Не будет» отвечал он: «ибо князь Равидил дал мне слово, что только на пограничье будет стоять». Между тем пил два дня и две ночи, как на третий день бежит изменник Хмелецкий из табора и спрашивает о гетмане, однакож со страхом. Просит паволочских мещан, чтоб смягчили к нему Хмеля. Лишь только на порог, Хмельницкий спросил: «А табор где?» Тот, пожав плечами, сказал: Уже у дьявола табор. — Почему же? — Потому что молодцы не хотели биться. — А знамена? — И знамена пропали. — А гарматы? а шкатула с червоными злотыми? — Про шкатулу не знаю... Тогда Хмельницкий начал рвать на себе чуб и проклинать. На эту меланхолию приезжает Джеджалла. Здоровались они с плачем. Потом — Гладкий. Но все полковники без казаков, только во сто, в полтораста коней. Один Пушкаренко пришел с десятью хоругвями, под которыми могло быть коней 600. Другого войска не было: ибо все пошли врассыпную».
К этому рассказу прибавлю из письма Мясковского к королю, что сообщил ему хозяин, у которого кормил Хмельницкий лошадей (pokarmowal). Садясь уже на коня, казацкий батько крикнул: «Хто з вас, дітки, не козакував, седіте й ждіте своїх панів, а хто казакував, сідайте (на коні) зараз зо мною в Україну: бо ляхи потоптом підуть за нами». В ответ на это, люди начали его проклинать (dopiero mu ludzie zlorzeczyc poczgli).
Слышал, или нет беглый гетман эти проклятия, но паволочане поплатились потом за свое охлаждение к казацкому промыслу. Стоя между двух огней, они, подобно другим горожанам, просили у своего пана охранительного гарнизона и получили его; но хмельничане воспользовались первым поворотом в их сторону фортуны, гарнизон Замайского прогнали, а местечко вырезали.
«Там же в Паволочи» (записано в дневнике) «пришла к Хмельницкому весть о погроме Небабы от литовского войска. Когда мещане упрекали Хмеля, что вот и литовское войско наступает, он отвечал на это: «Не додержав мени слова Радивил».
Тут пришли ханские универсалы полковникам и всей черни, в которых хан оправдывался, что хоть и отступил от Берестечка, но сделал это не из болезни, а по причинам болота и лесов; однакож не так отступил Запорожского войска, чтобы не возвратиться; нет, по всякому уведомлению об опасности от ляхов, готов прибыть со всеми ордами. Эти универсалы Хмельницкий велел читать публично, для утешения (pro consolatione) черни. Но судьба так велела, чтобы в следующий же день пришли от хана противные письма, когда он узнал, что уманский полковник Глух, бил татар на Синих Водах и на Царском Броду. Очень обиделся этим хан, и в последних письмах своих отказал Хмельницкому в дружбе, чем очень сконфуженный, уехал он из Паволочи».
Панские вестовщики прибавляли к этому рассказ, что хан отпустил Хмельницкого только в рубашке да в кожухе, отстегав его нагайками и содрав с него хороший окуп.
Легенду свою приправляли они приятными для панского слуха, хоть и неправдоподобными, словами Хмельницкого, который де хотел идти на Запорожье, но не желал, чтобы хлопство шло за ним, и говорил: «Я уже больше с моим паном (королем) воевать не буду, а вы, как прежде отправляли свои повинности, так и теперь чините своим панам».
Носился также слух, напоминающий нам беглого Наливайка — у Пикова и Брацлава, что будто бы чигиринцы не впустили в город ни Хмеля, ни татар.
Но вместе с радостными вестями о ссоре двух беглых ханов, паны завоеватели получили печальные известия о голоде в Баре, о составлении хлопских куп на Поднестрии и при этом — о моровом поветрии в Каменце, где перемерло множество и шляхты.
Когда панское войско вступило в Киевщину, и остановилось в полумиле по сю сторону Янушполя над Озерками, собравшиеся вожди его менялись различными вестями. Со смехом узнали паны от князя Вишневецкого, что Хмельницкий женился на казачке Пилипихе. Но им было не до смеху, когда полевой гетман объявил, что в Брацлаве посланцов его с универсалами перетопили, и что тамошний народ о подданстве не хочет и думать. «В это время» (рассказывает походный дневник) «сели мы за стол у пана воеводы брацлавского, который угостил нас порядочным ужином по прибытии из дому от Люблина подкрепления в живности и напитках, как прискакал брацлавский чесник, пан Кордыш, к пану Краковскому с письмом от брацлавской шляхты, вопиющей о спасении: ибо хлопы не хотят пускать ее в маетности, а некоторых убивают, села жгут, у пана воеводы Черниговского (полевого гетмана) все возле Винницы и Брацлава пожгли, а Богун собирает свое ополчение под Правковыми лесами».
По получении таких вестей, 7 августа сели паны в раде, и стали радить, что делать им в предотвращение хлопских бунтов. Ничего не могли они выдумать по этому великому вопросу, казавшемуся всё еще малым, — не могли уже по одному тому, что тут же в лагере присутствовали и руководили ими, как школьниками, просветители и, можно сказать, создатели Польши, агенты римской политики.
Предотвратить хлопские бунты можно было только в XVI столетии, когда такие паны, как Острожские, не женились еще на католичках, не принимали в свои дома воспитателями своих детей иезуитов Скарг и не скопляли в подземных скарбах по 20 миллионов для передачи их со всеми добрами своими в руки наследников — католиков.
Если бы «даровитейший и совершеннейший во всех отношениях человек» наших киевских профанов действительно одушевился мыслью собрать 15 или 20 тысяч воинов на защиту свободы русской совести от иезуитской казуистики, — он упрочил бы за панами то, чего не мог бы отвоевать и князь Вишневецкий при самых благоприятных для его таланта обстоятельствах. Теперь панам не было бы уже спасения в Украине и в таком случае, когда бы они тут же, перед глазами паствы Вишенских, Борецких, Копинских, изгнали иссреди себя злого духа в виде своих «душпастырей», и стали в ряды казаков, как предлагал Киселю Хмельницкий в Переяславе, — не было бы потому, что и казаки, и мужики с мещанами, и самое духовенство, с двуличным митрополитом во главе, были крайне извращены в своей религиозности, общественности и национальности. Теперь осталось Малороссии одно прибежище для возрождения в древнерусском образе — слияние с Великою Россиею; но и оно, как известно, совершилось посредством нашего крещения от польских грехов в потоках благороднейшей русской крови.
Надумались несчастные паны залить пожар ведром воды: постановили — послать каменецкому старосте в помощь шесть хоругвей с приказом идти к Виннице и делать, что велят обстоятельства, а все войско решились соединить за Махновкою.
Августа 9 стояли паны в Махновке, 10 шли под Бекловку, местечко, лежавшее уже за казацкой линией, «и потому» (говорит походный дневник) «застали мы уже отменный край: копы на поле густые; много всякого хлеба и скота по полям. Однако, товары свои хлопы перенесли в замок: ибо это держава пана короля Потоцкого. Случилось нам купить живности побожно, кроме напитков. Едва для пана Краковского нашли для покупки бочку меду за 160 злотых, а другую — весьма дурного пива за 80».
В это время под Киевом произошло, 10 августа, характеристическое столкновение между отрядом посланных вперед волохов князя Вишневецкого и пахоликами литовского войска. В пяти милях от литовского лагеря, пахолики, приняв этих волохов за казаков, ударили на них стремительно, но получили такой отпор, что полтораста человек легло трупом. Тогда волохи, узнав, что недобитые пахолики принадлежат к литовскому войску, отпустили их с миром, но сперва ограбили, волохи были люди православные; литовские пахолики — тоже православные. Такие случаи показывают, что значило единоверие для тех и других bravi.
Августа 11 приехал в панский лагерь посланный от киевского митрополита монах. Будучи черноризцем-могилянином, он приветствовал Николая Потоцкого прекрасною речью (mowa wуbоrna). Потоцкий отвечал, что отцу митрополиту следовало бы раньше выразить королю долг верноподданства. Монах-вития объяснял молчание Сильвестра Косова «завоеванным краем», и рассказывал о себе, что его мимовольно завернули к Хмельницкому, что и письма должен был он одни изорвать, а другие утаить, и что сперва хотел он пуститься в дорогу с ведома Хмельницкого. По его словам, казацкий гетман стоял тогда на Русаве, в 8 милях за Белою Церковью. У него было 15 пушек, но казаков не больше 5.000, а татар 150 коней. Мужики не спешили собираться к нему: ибо полки приходили только в 100 и в 200 человек. Поэтому де послал он с полковником Хмелецким в Белую Церковь одного татарина, который бы уверял, будто идет 20.000 татар.
Вечером того же дня прибыли паны в Рожин. Титулярный казацкий гетман Забугский прислал им туда «взятого на татарах в Белой Церкви доброго языка», казака, который показал, что хмельничан там 6.000. Полковник их, Громыка, хотел бы де попробовать счастья с панским войском, но чернь не допускает, и держит его за сторожею. Надеясь на татарскую помощь, чернь хочет — или обороняться, или бежать к Хмельницкому, а на королевские и польско-гетманские универсалы не обращает внимания.
«Здесь уже мы увидели» (пишет мемуарист) «как бы обетованную землю, полную хлеба и пасек; но, по неосторожности слуг пана калусского старосты, которые сами не держали в Рожине гарнизона, ни у пана Краковского не просили [58], пахолки напали с другой стороны на город, полный старого хлеба и других живностей, пив, медов, и при этом стали грабить коморы, между тем как войско с паном Краковским проходило по длинному и дурному мосту, под страшным дождем и громом. Пан воевода (Вишневецкий) бросился как можно скорее с гетманским знаком в город, и видит хлеб высыпанный, пивницы отбитые, пчелы разбитые, а к замку, в котором хранилось больше всего лучшего добра мужицкого, (католический) монах ведет на приступ пахоликов, между которыми были и жолнеры-товарищи. Подскочил он к одному, к другому с буздыганом, а одному товарищу досталось так, что хлеба не будет больше есть. Двоих вожаков-пахоликов тотчас повесили; других били киями в рынке перед глазами поспольства, и таким образом разогнал пан воевода эту саранчу. Но предводитель монах прибежал к пану Краковскому с жалобой, что не позволяют отомстить за кривду Божию и костелов Божиих. На вопрос пана Краковского: как так? он говорит, что в замке хлопы заперли в костеле скот, пчелы и посносили туда разные пожитки. Надобно было вам штурмовать этот замок. Там де по пивницам спрятаны орнаты. А твоя милость, милостивый пане, запрещаешь все это отыскивать. Однакож, не произвел своею речью никакого зазрения совести: ибо не с тем намерением благословил он пахоликов, чтобы мстили за Божию кривду, а чтобы нахватали скота и движимости».
Из-под Рожина Потоцкий хотел идти через Паволочь немедленно на Таборовку, прямо к Белой Церкви, но получил известие, что казаки под Хвастовом разбили звенигородского старосту Гулевича, и решился соединить все войско под Паволочью.
Августа 13 передовой отряд панского войска наткнулся под Таборовкой на 2.000 чату Хмельницкого, при которой было 500 коней татар. В этом отряде было семь выбранных изо всего войска хоругвей, по словам походного дневника, bardzo dobrych; но не известно, какой судьбой (quo fato), увидев неприятеля, они тотчас начали отступать, бросив неприятелю в добычу возы. За ними гнались до самой Паволочи, и они потеряли двух поручиков, со множеством товарищей. Спас их от совершенного поражения только ротмистр князя Вишневецкого, Войнилович, ударивший случайно на казаков и татар сбоку, причем захватил трех языков татарских [59]. На вопрос князя Вишневецкого: почему они загнались так далеко под войско? Татары отвечали, что их послал Хмельницкий для языка. Он де получил известие, что король с войском вернулся домой и все ляшеские войска разошлись, и потому хотел знать, кто идет в Украину. На вопрос: давно ли вы здесь? языки отвечали, что «когда отходил хан, мы здесь остались ради жолду.» — По чем же вам даст Хмельницкий? — Мурзам по 200 талеров, а нам по 10. — Много вас теперь? — Теперь при Хмельницком 2.000 считанных татар. Считали нас на одном мосту при переходе, и тотчас давали деньги. — А будет вас еще больше? — Будет скоро 4.000, а другие подпасывают коней. Однакож, хан, кажется, не будет в эту осень».
Эти вести заставили панов соединить свои отряды, а военная рада решила дожидаться пехоты и арматы под Паволочью, для того чтобы проложить себе путь к соединению с литовским войском. Между тем панов печалили получаемые вновь более точные вести о ретираде семи отборных хоругвей из-под Таборовки. Проходя через Паволочь, как и через другие города, доблестные воины набрали множество живности, серебра и других драгоценностей, но, при виде казаков и татар, бросили по-пилявецки весь табор, заключавший в себе больше тысячи возов. Теперь надобно было ждать еще более смелого отпора со стороны казаков. Автор походного дневника с горестью пишет: «Будут эти фанты скоро в Крыму для выставки добычи и для хвастовства победою». Вместе с возами (прибавляет он) погибла там и почти вся челядь.
В таком настроении духа, 16 августа, войско достигло Паволочи. Стоя под Паволочью, паны больше прежнего сетовали на разнузданность войска своего. «Господь Бог» (писали они) «восхотел несколько смирить нас погромом семи хоругвей наших и научить нас большей осторожности: ибо, когда пан Краковский, ради важных соображений (dia roznych wielkich respektow), послал эти хоругви впереди, они — да простят мне правду (parcant milii) — увлеклись больше добычей и волами. Не говорю о добрых воинах, а только о волонтерах и сволочи, которые за них цепляются. Одна Паволочь могла прокормить четыре таких войска, а они ее разграбили. Досталось и коморам; но всего больше нам жаль напитков: ибо в одной только пивнице рассекли они 24 бочки вина, которых не могли выпить, а сколько по другим пивницам попортили медов и горелок, тому нет конца и счету. А мы теперь, в эти жары, жаждем напитков... Неприятель не хочет уже пустить нас за Белую Церковь, и там укрепляет сильный табор, как на старожитной некогда казацкой линии (jako przy staroiytnej quondam linii kozackiej [60]). Хвастовым и Трилисами (казаки) овладели, не давая нам соединиться с литовским войском. Теперь мы окружены неприятелем; хлопы позади нас разоряют мосты и портят переправы, грозя нам, что когда бы мы захотели уйти, то и нога наша не уйдет. Но мы всю надежду возлагаем на свое мужество».
Было от чего призадуматься и самым отважным предводителям панского войска. Варшавский Аноним изображает этот поход самыми мрачными красками:
«Всего тяжеле было в нем голодающей пехоте. Всадники, чатуя, добывали себе живность хоть вдалеке, но этим подвергали и себя, и пехоту голоду: ибо жители не возили и для тех, кто обходился деньгами. Но и денег не было. Или офицеры растрачивали жолнерский жолд, или с поборцев не взыскали. Никаких запасов не было. А хоть пеший жолнер и получит жалованье, то пропьет и проиграет в кости, потом должен красть и этим питаться. Если нельзя украсть, то голодает, пухнет... О, как много расходует на них Речь Посполитая! А они, бродя по вербункам, грабят села и мужичков. Что схватит новозавербованный жолнер, то и пропьет. Между тем офицеры вымученные деньги берут себе. Ежедневные у них сделки, окупы. Получая в городах, местечках и селах побочные хлебы, они покрывают себя галунами, а жолнер, оборванный точно попрошайка, не скоро доставляется ими в лагерь, и необмундированный, необученный, принужден бежать. Все мы стонем, ропщем, жалуемся, переносим терпеливо такие грабительства, надувательства, а предотвращать их не стараемся, — и теперь вот нам награда, что голодные в замкнутом лагере жолнеры, вымерли во множестве от заразы»!
Не участвовавший в завоевательной экспедиции Освецим, по рассказам очевидцев, дает нам следующий эскиз похода:
«Едва 30 июля войско достигло Лабуня. Но город этот и замок в нем были сожжены раньше. Во время похода, наемные хоругви поступали весьма своевольно и, желая вознаградить себя за то, что не получали жалованья от Речи Посполитой, страшно грабили и опустошали местности, по которым проходили... Литовский гетман, князь Радивил, побуждал наших вождей, чтоб они скорее двигались к Киеву... Но наше войско не могло ускорить своего движения... Украинские хлопы сперва совершенно упали было духом, и были готовы отказаться от всяких бунтов, стали подчиняться панам и их приказчикам, стали исполнять свои обязанности; но когда узнали, что шляхта разъехалась по домам, что король оставил войско, и что войско наше еле двигается черепашьим ходом, — начали тотчас помышлять о бунте; вождей наших и войско без короля презирали, управителей стали прогонять, распоряжения их и письменные инструкции рвали, от исполнения повинностей отказывались и, побуждаемые универсалами Хмельницкого, начали вновь скопляться в купы... В течение месяца, неприятель, сразу смутившийся, не только ободрился, но успел вновь собрать значительные силы, так что был в состоянии вести не только оборонительную, но и наступательную войну... В Брацлавщине казаки захватили панские житницы, а шляхту ограбили и перебили... Среди мужиков ходили универсалы Хмельницкого, говорившие, что ляхи находятся у него в руках, и что уже несколько недель назад к нему пришло много татар... Наше войско, углубившись в страну, столь отдаленную, очутилось как бы в осаде. Неприятель захватил все дороги и пути сообщения, прервал все наши сношения, беспокоил нас частыми вылазками и, не допуская к лагерю подвоза припасов, произвел страшный голод. Хлопы в селах и местечках везде насмехались над нашими: ляхи отрезали нас от Днепра, а мы их — от Вислы».
Но еще жив был полководец, во имя которого войско, в лице лучших представителей своих, возлагало «всю надежду на мужество». Августа 13, за милю перед Паволочью, соединились все полки, и гетманы, вместе с региментарями, собрались на раду в палатке князя Вишневецкого. Он был здоров и весел. Его, без сомнения, радовала надежда возвратиться в тот край, который он колонизовал с таким успехом. На другой день, во время жажды, он поел с аппетитом огурцов, запил неосторожно медом, испортил себе желудок; врач его швагера, Замойского, ксендз Куназиус, не мог ему помочь; его перенесли в паволочский замок и утром 20 римского августа скончался.
Освецим пишет, что войско готово было бы своею кровью искупить его кончину, еслиб это было возможно. Теперь поняли все, чего лишились. Орган шляхетского воззрения, варшавский Аноним, приписывает королевской факции то, что Вишневецкому не дали довершить победу под Берестечком. Королю внушали, что Вишневецкий соперничает с ними в славе победы, и заставили талантливого полководца посторониться перед королевским триумфом: только по этому (говорит Аноним) казаки ушли из табора.
Так думала о нашем Байдиче, можно сказать, почти вся Польша, которой лучшая часть веровала в результаты битв, а худшая — в результаты политической казуистики, и обе ошибались вместе с погубленным польщизною русским героем.
Отправив залитый смолою гроб к безутешной Гризельде, панское войско рвалось в Украину, которая теперь отвергала уже не только отступников церкви и народности предков своих, но и всех, кого видала она под одним с ними знаменем. С другой стороны, казаки, слыша, что нет уже на свете грозного Князя Яремы, вдохновились новой завзятостью против ляхов и недоляшков. Когда паны подошли к местечку Трилисам, принадлежавшему к белоцерковскому староству, и остановились в небольшой миле от него, охотники-шляхтичи принялись восстановлять по-казацки славу побитых казаками хоругвей. Они грабили и жгли подгородные хутора; они избивали все живое, не сознавая, что сеют в обетованной земле драконовы зубы, которые будут без конца терзать их польское потомство. Казацкая чернь, в знак презрения к панам завоевателям, показывала им задние части, а некоторые, среди всяких других ругательств, кричали им: «ляхи! продайтесь нам? не псуйте коней: ато ни на чому буде втекати в Кракив».
Местечко сохранило в своем названии память о трех лесах, которые, может быть, видел Контарини в XV столетии, когда Rossia bassa состояла из безлюдных пустынь. От этих лесов уцелели вокруг него великанские дубы толщиною в пивную бочку, а множество других дубов употреблено было жителями для устройства частокола, который казался им непреодолимым. Кроме укрепленного таким образом вала, в Трилисах, как и во всяком тогдашнем городке, был замок, снабженный пушками. Из-за развесистых древних дубов эти пушки стреляли завзято по разорителям любезных украинцу хуторов и пасек. В Трилисах заперлось тысячи две черни и 600 казаков, предводимых сотником Богданом. Прилегавшее к местечку длинное, широкое, болотистое озеро придавало еще больше смелости его защитникам. Даже и женщины вооружились косами. Корсунский герой Потоцкий вознамерился застращать своих победителей истреблением Трилис. Остановив приступ к местечку, дождался он пехоты, а между тем велел приготовиться к бою по одной хоругви из каждого регимента.
На заре 24 (14) августа грянули пушки. Не устоял против них частокол из великанов-дубов. Множество волонтеров, обдирал и руинников даже родной шляхетчины, как бы творя поминки по князе Вишневецком, вломились в местечко вместе с пехотой и произвели поголовную резню, не щадя ни женщин, ни детей.
Уцелели только те женщины, которых служилые волохи и другие товарищи уводили к себе в лагерь за местечко (ktore niektorzy ochraniali, uwodzc za miasto, jako Wolosza i inne towarzystwo, tego sobie aabrawszy)... «По милости Божией» (пишет автор дневника, мокнув перо в горячую кровь) «теперь есть у нас чем оживить пехоту; только хлеба всего труднее добыть, так как его надобно молотить и печь, а напитков, без которых нам очень худо, если и покажется немного, то дорого: кварта горелки по 3 злотых, пива по 1 зл. и 15 грошей, мед по 2 зл. и 15 гр. гарнец, и то самое горшее, вино по 8 зл., петерцимент (испанское вино) по 10 зл. гарнец».
Возблагодарив за Божию милость резнею и грабежом, продолжавшимися целый день, — ночью, с обновленными силами, приступили жолнеры к замку. Служил в регименте Богуслава Радивила 60-летний ветеран религиозной войны, капитан Штраус. Этот мастер своего ремесла вломился в замок первый и гнал перед собой целую толпу казаков; но храбрая казачка нанесла ему два смертельных удара и пала с честью под мечами его дружины. Погиб и другой наемный немец, капитан королевской гвардии, Валл, вместе с 30 своими сподвижниками. Замок был взят лишь в 4 часа утром. Осажденные пытались бежать вплавь и на челнах через пруд, но их встречали ружейною пальбою. Спаслись весьма немногие. «Множество трупов» (пишет мемуарист) «валяется всюду по ямам, пивницам, коморам, кругом местечка и по полям, как мужчин, так и женщин с детьми... Все местечко с замком и хуторами обращено в пепел; погорели и церкви; даже дубы, окружавшие замок и местечко, мало чем тоньше пивных варецких бочек, и те сожжены; словом, все выгублено огнем и мечом. Скота досталось каждому войску страшное множество (bydia sroga rzecz wojsku dostaia sie kaidemu)».
Мясковский доносил королю о разорении Трилис в качестве стратегика и политика.
«Августа 23 остановились мы в двух с половиною милях под трилисскими пасеками среди необозримых пажитей, и в один час лагерь наполнился всякою живностью с казацких хуторов не только для необходимого, но и для роскоши (non solum ad necessitatem, ale i ad delicias), что трудно было воспретить голодным и гетманскою трубою. Но неукротимая чернь (effrenis plebs), видя перед глазами наше войско довольно огромное, не выслала и живой души с просьбой о помиловании, напротив, осыпала наших тысячью ругательств (mille conviciis impetebant)... Пан Краковский употреблял всякие средства, чтобы привести их к покорности, но они и слышать о том не хотели. Поэтому в день св. Варфоломея, который, как мученик, хотел ознаменовать свой день широким кровопролитием (jako Martyr, effuso cruore dzieii swoj chcial illustrare), пан полевой писарь (Пршиемский) пошел на самом рассвете, в Божий час, под местечко с 600 пехоты, прикомандированной из разных региментов, и 400 своих драгун да с четырьмя полевыми пушками, и, видя, что мы не могли никоим образом идти далее в Украину, не отворив этого прохода через речку Каменицу, которую миновать нигде не могли, а притом не слыша никакой просьбы о помиловании, велел ударить из пушек в крепкий частокол, составленный из цельных дубов, и, проломав его, должен был уже отважиться через ров, хотя сухой, но крутой и глубокий, на приступ, который, по милости Божией, совершил успешно (feliciter Z laski Boiej successit): ибо гарнизонные казаки, устрашенные нашею решимостью, начали отступать в замок, более крепкий, нежели местечко. По долгом казацком сопротивлении и по долгой кровавой игре, в которой пало два капитана и один хорунжий (Волет) вторгнулись наши в замочек, где поражением и истреблением всех, без различия пола и возраста, отомстили потерю своих, хотя и невозвратимую, — пощадили только тех, которых рассудительнейшие увлекли от ярости воинов (strage et caede kozakow, ulti sunt iacturam lubo incomparabilem suorum, sine discrimine poniekd sexus et aetatis, chyba ktorych baczniejszy sustraberunt furori militum). И трудно было, поистине, укротить жолнеров, жаждавших мести (avidum vindicatae cohibere militem)... Сотник их, комендант старинный с предков казак (Богдан) взят живым, и когда его спросили: что вас привело к такому упорству? Отвечал, что сегодня хотел нам Хмельницкий прислать ночью подкрепления из Хвастова, не думая, чтоб это местечко так скоро было взято. В Хвастов не могли уйти больше 20 казаков: ибо и тех, которые переплывали челнами, наши тотчас на берегу перенимали и убивали. В один час местечко сделалось жертвой огня с замком и прекрасною церковью... Думали, что это хлопское упорство легче преодолеть огнем и мечом (ta chlopska pernikacia facilius dometur szabla i ogniem), нежели угрозой и снисхождением».
Хмельницкий в тот же день, когда Мясковский доносил королю (26 римского августа) об истреблении Трилис, прислал к Николаю Потоцкому смиренное, миролюбивое и богобоязненное письмо, а это значило, что он готовит ему нечто противоположное.
«Видит Бог» (писал старый лицемер), «что мы не желали дальнейшего разлития крови и довольствовались ласкою его королевской милости. Но вот опять зачепка с обеих сторон! Которая сторона больше виновата, пускай судит Бог. Нам трудно было наклонять шею под меч: мы были принуждены обороняться. А на его милость короля, нашего милостивого пана, не поднимали рук: ибо и под Берестечком, где войско не испытало милосердия его королевской милости, мы должны были уступить ему, как своему пану, и идти к своим домам, желая уже впредь мира. Но, так как ваша милость изволит поступать с войском своим, мы знаем, что это клонится не к миру, а к большему разливу крови, и что это совсем (totaliter) не с нашей стороны делается, свидетельствуемся всемогущим Богом. А так как вашмость пан отправлял с нами экспедиции неоднократно, то с обеих сторон должна быть невознаградимая шкода: и теперь, если не употребишь сострадания, каждый готов умереть при своем убожестве, и восхочет положить голову: ибо всякая пташка охраняет свое гнездо, как может... Мы, однакож, о вашмость пане думаем, что, умилосердясь над христианством, чтобы с обеих сторон не разливалась невинная кровь, благоволишь желать святого мира. И мы его сильно желаем, и вашмость пана просим, чтобы вашмость пан, как primas regni, мудрым своим советом благоволил устроить, чтоб уже кровавый поток был остановлен, и внести к его королевской милости, нашему милостивому пану, предстательство о нас, чтоб он благоволил оставить нас при наших вольностях и возымел отеческое милосердие над своими подданными. Пускай бы уже в королевстве его королевской милости процветал желанный мир, и соединенные силы были готовы на службу его королевской милости; а чего бы вашмость пан требовал, благоволи вашмость, наш милостивый пан, объявить, не наступая с войсками: ибо мы уразумели, что вашмость пан, как это изволил выразить в универсале своем, писанном в Белую Церковь, не желаешь уже больше разлития крови. И мы также с войсками своими не будем двигаться, а будем ожидать милостивой декларации от вашмость пана, которую надеемся получить в понедельник. Просим и вторично вашмость пана, а за дознанное благодеяние и милость доживотно будем обязаны отслуживать нашему милостивому пану. Теперь же поручаем себя усердно с униженными нашими услугами. Дан с табора Явзеня... августа 1651».
На письмо Хмельницкого Потоцкий не счел нужным отвечать. Ответ взял на себя киевский воевода, Кисель. Узнав о судьбе Трилис, казаки оставили Хвастов, который был очень нужен Потоцкому для свободного сообщения с Полесьем, для помещения возов, которые, увеличиваясь в своем числе безмерно, затрудняли движение войска, а также для больных, которых было в войске много.
В Хвастове не застали паны и одного человека: казаки, в числе 4 000, бежали в Белую Церковь, где стоял Богун с значительною силою. Для нас непонятно, почему сотника Богдана, взятого в Трилисах, посадили в Хвастове на кол. Еще непонятнее факт, что ночью кто-то украл его вместе с колом. «Не известно куда он девался» (сказано в дневнике). «Велели смотреть, не похоронен ли он. Полевой гетман грозил тому, кто его украл (grozit sie na tego, kto go ukradl), и был бы наказан».
«Теперь уже войско приходит в себя» (пишет автор походного дневника): «ибо здесь, по милости Божией, края обильные урожаем хлебов; только надобно молотить, и кто умеет, молотит, или у кого есть такая челядь. И страшно большая здесь копа (srodze tu gesta кора), какой в Польше не увидишь».
Августа 30 (20) явился от киевского митрополита к коронному великому гетману монах с выражением от лица греческого духовенства покорности королю и с просьбой о покровительстве.
«Он оправдывался» (сказало в дневнике), «что, по причине завоевания этих краев, не мог никоим образом прибыть раньше. Вместе с тем поздравлял с победой, моля Господа Бога, чтоб его милость король мог скорее видеть свое королевство». А Кутнарский привез письма от волошского господаря, и вместе с ними отдал Потоцкому прекрасного коня, весьма богато оседланного, три кисти с драгоценными каменьями, еще от Солимана, турецкого императора, два персидские ковра, тканные золотом, и две штуки персидского златоглава.
Сентября 2 Потоцкий получил от князя Радивила уведомление, что он идет на соединение с коронным войском, как в это время прибыли и два посла от Хмельницкого, Роман Катержный и Самара. Их провели сперва через весь лагерь к Адаму Киселю, которому вручили покорное письмо Хмельницкого к Потоцкому. С ведома Потоцкого, Кисель читал им длинную проповедь о том, что коронный гетман тогда только будет трактовать с казаками, когда они — или Хмельницкого выдадут, или всю Орду, которая пришла к ним, вырежут, а мурз отдадут живыми.
На другой день привели Катержного и Самару к Потоцкому в то самое время, когда войско садилось на коней и вся военная музыка весело и громко играла. «Оба они» (пишет мемуарист) «упали к ногам пана Краковского и подали письмо. Прочитав его, пан Краковский выговаривал им все их злодейства, особенно же то ехидство, что Хмельницкий послал за Ордой, а они просят о помиловании». «Поэтому» (сказал им гетман) «не могу я отвечать на письмо Хмельницкого: ибо не признаю его вашим гетманом после того, как он поднял руку на его королевскую милость, а к вам, к вашему войску напишу, что его королевская милость дал мне в одну руку меч, а в другую — милосердие. Не могу я приступить к трактатам с вами иначе, как, если вы сделаете одно из двух, что вам пан воевода киевский напишет моим именем; а времени для образумления даю вам три дня, до среды: потом немедленно наступлю с литовским войском, и христианская кровь должна разлиться».
С этим один посол тотчас поскакал на Русаву, а другой остался в панском лагере.
В тот же день двинулся Потоцкий к Василькову. Приведенные к нему языки показали, что казаки в Белой Церкви мучили двоих пленных жолнеров, допытываясь, как велико панское войско, но те на пытках говорили в одно слово, что в Украину пришло все войско, бывшее под Берестечком, только нет короля, а посполитаки на свое место прислали жолнеров. «Потом их кропили горилкою и медом» (пишет мемуарист), «и хотели вынудить у них число войска; но те говорили то же, что и на муках». Конфессату их послали ночью к Хмельницкому, с просьбой, чтоб он — или позволил им покориться польскому войску, — или же позаботился о добрых подкреплениях. Там же посадили на колья десятка полтора немцев, а других жарили на рожнах за то, что сотника их, взятого в Трилисах, покарали колом. Поздно ввечеру митрополит прислал Потоцкому добрых напитков. Посланцы его рассказывали «о сожжении Киева», и какая великая добыча досталась литовскому войску, как в деньгах, так и в движимости. По их словам, ее надобно было считать миллионами: ибо только у трех купцов нашли 160.000, а сколько же у других в серебре и драгоценностях, которых большая часть осталась в Киеве после пилявецкой добычи!
По плану Хмельницкого, который он чертил себе перед началом войны, Литовским Княжеством предполагалось овладеть одновременно с Короною. Как Наперский-Костка должен был неожиданно наводнить взбунтованною чернью Краков, так с другого края сшивной Польши был послан какой-то Тарасенко для внезапного нападения на Рославль. Тарасенко, не тревожа Белоруссии слухами о наступлении нового Наливайка, провел как-то 4.000 казаков через московское пограничье. В Брянске привел он свое войско в порядок, снарядил окончательно, и вторгнулся в Рославль 16 июня, ночью, «без борьбы и кровопролития», как доносил своему воеводе под Берестечко смоленский подвоеводий, мстиславский подкоморий. Находившиеся там в незначительном количестве шляхтичи, а также и подстаростий, бежали. У Тарасенка было 7 пушек. Казаки его сидели на прекрасных лошадях и были одеты в белые свитки. Первое известие о них было получено, когда они отправили вперед свои чаты для собирания живности. Был слух (конечно, распущенный ими самими), что они получили царскую грамоту к пограничным воеводам, разрешавшую пропустить их в Литву еще на русского Николая (9 мая). Но брянский де воевода задержал их и послал просить вновь царского распоряжения, так как польские послы находились тогда в Смоленске и рассказывали, будто им, от имени царя, дан такой ответ: «Управьтесь вы сами со своими хлопами, а потом уже я помогу вам против татар». Кроме того, рассказывали они, будто бы с царского разрешения, казаки сами себе строили в Московской земле мосты для переправы.
Интереснее для нас из самих похождений Тарасенка в Белоруссии то, что посланный из Смоленска в Брянск лазутчик привез от бояр, живших в окрестностях Брянска, Леонтьева и Семеева, «весьма обстоятельные известия» о том, как провожали из Брянска казацкое войско, кто были провожатые и через какие села вели его. «Семеева» (писал подвоеводий), «я полагаю, ваша милость помнит. Вы встречали его веселящегося у меня, в последнюю вашу бытность. Это человек очень хороший. Он передал мне весьма обстоятельные известия. По его словам, по царскому указу и по распоряжению брянского воеводы, местные бояре провожали казацкое войско. Он даже назвал поименно бояр. Провожатыми именно были: он сам, Тимофей Голынов, Федор Безобразов, Алексей Требашный, Константин Мясоедов и до двадцати других, которых лазутчик не помнил. Из Брянска в Рославль они вели казаков по следующему маршруту: Брянск, Леденево, Бирощек, Миловники, Клевитов, Новоселки, Черебин, Горошково, Жарево... Сегодня (продолжает подвоеводий) опять получил я точное известие, что начальник этой сволочи, Тарасенко, уже разослал чаты из Рославля: одну в Прудки и Черепов, другую в Ельню и Дорогобуж. Последним городом они овладели, захватили в нем пушки и запас пороху, склонили к бунту все окрестные волости, и намерены из Дорогобужа идти в Кричев, Мстислав, Могилев, Оршу, и затем, овладев этими городами, покуситься на Смоленск. Пожар приближается к нам. Уже хлопы у нас бунтуют; а между тем я не располагаю никакими средствами защиты. В подъезды мне некого послать, кроме грунтовых казаков. Но они не годятся для разъездов: отправив их, я бы только доставил неприятелю языков: ибо казаки эти на клячах, взятых от сохи, не в состоянии ничего сделать, и сами, без нужды в том, погибнут. Из помещиков здесь нет никого. Они медлят; затеяли созвать сеймик, а между тем неприятель опустошает уже край, овладевает селами, и с каждым днем усиливается и становится опаснее. При казаках находится и отряд татар в 600 коней».
Хмельницкий сделал поджог с обеих сторон весьма искусно, да еще умудрился пустить слух, через покупных людей, и о царском вмешательстве в его каверзы. Но разгореться огню не дали, как со стороны Кракова, так и со стороны Рославля. Мы уже знаем, как был уничтожен Небаба. Хмельницкий возлагал на него такую же надежду, как и на погибшего в Белоруссии Кричевского. Сделанный Хмельницким в этом важном случае выбор можно уподобить выбору карикатурного Зевса относительно карикатурного Энея:
Чи бачиш, він який парнище? На світі мало є таких: Горілку, так мов брагу, хлище: Я в парубках кохаюсь сих.По словам Самовидца, казаки Небабы «зоставили беспечне, болшей бавячися пьянством, анежели осторожностию, розумеючи, же юже незвитяжоными зостали».
Своею войсковою несправностью, в которой упрекает его Самовидец, он погубил и Тарасенка, в котором украинская историография лишилась такого же предмета прославления, каким обещал ей быть и Костка-Наперский.
Разбив Небабу, князь Януш Радивил отправил Гонсевского на правую сторону Днепра, где Хмельницкий поставил на стороже в Чернобыле Горкушу, а под Киевом — киевского полковника, Антона Ждановича; сам же Радивил подступил к Чернигову, где казаки наготовили множество запасов. Казацкий гарнизон бежал из Чернигова. Радивил занял город и, как был в Польше слух, опустошил по-неприятельски окрестные места.
Между тем Гонсевский разбил Горкушу. Антон Жданович встретил литовское войско в 15 верстах от Киева, и пытался отразить; но, как объясняли царским людям в Чигирине, внял совету киевского митрополита и печерского архимандрита не подвергать казаков напрасной опасности и не раздражать Радивила против Киева, только выполнил благой совет с такой поспешностью, что, по словам жившего тогда в Печерском монастыре Ерлича, побросал в Киеве все, даже пушки.
Радивил занял Киев мирно, насколько это было возможно при известном хищничестве литовского войска. Лагерь свой расположил он в «старосветских валах» около Св. Софии, обезопасил Печерский монастырь сильною стражею, а сам занял квартиру в резиденции митрополита у Св. Софии («w pokojach Ojca Melropolity», пишет Ерлич). Но киевские мещане, еще до прихода Литвы, сели на байдаки вместе с казаками, и ушли к Переяславу, Черкассам и другим поднепровским убежищам, так что Радивил, по словам Самовидца, застал Подольское место мало не пустым.
В это время проезжал через Киев к Хмельницкому царский подъячий, Фомин, вместе с возвращавшимся из Москвы агентом Хмельницкого, назаретским митрополитом Гавриилом; но в донесении царю написал о своем пребывании в Киеве только следующие слова:
«А как у казаков (Ждановича) с поляки (т. e. с Литвою) был бой, и киевские мещане животы свои из Киева вывозили и сами выбежали за Днепр, и в те поры, с великого страхованья, друг друга топтали, и меж ими в Киеве по улицам и на перевозах теснота была большая. А митрополит (Гавриил) и подъячей в те поры от польских людей, будучи в Киеве, были в великом страхованье. А в Киеве города и никаких крепостей нет, и в осаде сидеть от воинских людей негде».
Сентября 4 Потоцкий получил уведомление, что князь Радивил идет на соединение с ним с 2.000 войска, оставив свой обоз и войско под Киевом. Но еще до прихода Радивила донесли Потоцкому, что 5.000 «хлопов», соединясь в двух милях от лагеря, идут к Днепру, неизвестно для чего. Полевой гетман двинулся против них с четырьмя полками и с тысячею пехоты, а великий, с нарядною кавалькадою, встретил в поле Радивила. С обеих сторон (сказано в дневнике) старались показать войсковую роскошь в лошадях, оружии, панцирях, щеголяя кирасами, леопардовыми, тигровыми шкурами, серебром и золотом (z wiclkim splendorem wojskowym z obu siron, konno, zbrojno, pancerno, od kirysow swietnych, lamparfow, tygrysov, Crebra i zlota).
Начались взаимные угощения, а между тем Калиновский, как было слышно, положил на месте 3.000 из 5.000 «хлопов», которые намеревались ударить на литовские байдаки под Киевом и, овладев ими, осадить немногочисленное литовское войско. Одновременно с этими «хлопами» спускались по Десне к Киеву казацкие чайки, и еслиб им удалось покушение, то оно было бы надлежащим комментарием смиренного, миролюбивого и богобоязенного письма казацкого батька к Потоцкому. Казацкая флотилия ударила на литовские байдаки 6 римского сентября, но без пособия пехоты ничего больше не сделала.
В Киеве между тем своевольники (как пишет Ерлич) зажгли «для грабежа» Подол. На другой день пожар возобновился. Сгорело 2.000 домов (одних шляхетских 300) и несколько церквей, в том числе и Пречистая в рынке, в которой хранились градские и земские книги; сгорели также и (братские) «школы».
Казаки чуяли, что конец их добычному промыслу приближается; что ляхи с одной стороны, а москали с другой, как народы хозяйливые, должны вступить в свои права; что только в единении с татарами возможно еще кочевать в тех местах, которые панский плуг, под защитой сабли, отвоевал у таких же, как они сами, чужеядников. К берестечским беглецам присоединялись все разоренные, споенные, развращенные казатчиной мужики, которых кобзари тесно связывают в своих думах с днепровским рыцарством:
Тоді козак і мужик за пана Хмельницького Бога просив, Що не один жидівський жупан зносив.Все бездомовное, все задорное, хищное, пьяное поднялось в казаки по-прежнему; а хоть и были такие селяне и мещане, как в Паволочи, которые на призыв казацкого батька отвечали проклятиями, то их, как вскоре и паволочан, не миновал казацкий террор в виде кровавого набега. Омужичившаяся Малороссия дышала по-прежнему войною, которую зажигали и мщение панам за их кары от имени королевского правительства, и жажда добычи, которою все разлакомились, подобно звягельской кушнерке, и отвращение к труду, от которого все отвыкли.
Интеллигенция церковная, полонизованная Петром Могилою, умолкла с своими наставлениями, обращенными к Хмельницкому, приветствовала классическою польщизною того самого Потоцкого, которого восхваляла за его победы над ребеллизантами поляки в облачении православного митрополита, и хлопотала лишь о том, как бы остались целы её духовные хлебы. Строгая школа иночества, филия «духовной школы» Афонской, казалось, умерла с великим представителем своим, столетним затворником, преподобным Иовом Почаевским, скончавшимся в этом году [61]. Над антипанской паствой Иоанна Вишенского, Иова Борецкого, Исаии Копинского господствовал безнравственный казак, и в глазах пьяной, грязной, кровавой черни был божком, достойным поклонения. Подобно тому, как в Турции по базарам и караван-сараям каждая победа янычар и снахов немедленно воспевалась присяжными турецкими и славянскими бардами, — среди наших малорусских рынков, во всем похожих теперь на азиатские, пелись казацкие легенды, имевшие целью возбуждать воинственный жар в слушателях. Хотя Хмельницкий говорил публично, что воевал сперва только за свою обиду, но базарные певцы делали его воителем христианской веры с самого начала его бунта:
Ой із день-години, Як стала трівога на Вкраїні, До ніхто не може ся обібрати За віру християнську одностайно стати; Тілько обізвавсь Барабаш та Хмельницький, Та Клиша Білоцерківський, и т. д.Теперь война за веру сделалась кличем и таких казаков, которые держали татарским обычаем по нескольку жен, и таких, которые продавали их на рынках вместе с прочею животиною, или, как поется в песне, променивали жинку за тютюн та люльку... Смерть недостойного коринфского митрополита под Берестечком сделалась в казако-мужицкой Малороссии печатью веры, и даже татарское людохватство среди казаков истолковывалось «гонением ляхов на благочестие». Между тем азиатские хищники, в руках казацкого батька, были мечом обоюдоострым. Кто бы противился новому походу на пекельников, кто бы захотел вернуться к прежнему порядку вещей, на того были у него палачи, быстрые в своем деле, как налет коршуна. По мановению казацкого батька исчезли бы с лица земли целые села и местечки, подобно Паволочи, а люди, отвергающие казатчину, очутились бы в татарских лыках.
Испытав дважды предательство Ислам-Гирея, Хмельницкий обратился к его казакам, к вольным мурзам, относившимся к ханской власти, как запорожские баниты к королевской. Толпы буджацких и других ордынцев, составлявшие революционный элемент самой татарщины, по соглашению с Хмельницким, прикочевали к Корсуню, и одним своим появлением обеспечивали ему господство над Малороссией. Об этом знали и в Москве, которая не упускала из виду борьбы, долженствовавшей рано или поздно привести польско-русскую землю под высокую царскую руку.
Подъячий Богданов, гостивший у Хмельницкого в Корсуне по 18 июля 1651 года, доносил царю, — что «около Корсуня верст по пяти и по шти и по десяти и больши в полях кочуют татаровя; а начальные люди у них Камамет-мурза, воевода перекопский, Ширин-мурза, Котлуша-мурза, а всех двадцать четыре человека; а татар с ними, сказывают, тысяч с тридцать» (число, преувеличенное беглым гетманом) «и больши; а остались от крымского царя и к гетману пришли на помочь, и кочуют под Корсунем без повеленья крымского царя, своею охотою».
Тот же царский подъячий доносил, что посыланных Хмельницким в Москву назаретский митрополит Гавриил, в его присутствии, дал Хмельницкому такой ответ: «Великий государь, его царское величество, гетмана за то, что он его государские милости и жалованья к себе ищет, милостиво похваляет, и впредь он, великий государь, его царское величество, его, гетмана, за его службу, в своей государевой милости и в жалованье держати будет».
Проговоря эти слова, Гавриил вручил Хмельницкому свою речь на бумаге. Она была написана «белорусским письмом» в Москве, «для того» (как объясняет Богданов), «чтобы ему, гетману, великого государя, его царского величества, милостивое заступленья вразуметь досконало». Отнестись к Хмельницкому прямой грамотой Москва не желала, очевидно, из опасения, чтобы казаки не пустили снова в ход царского имени, для большего успеха в своих варварских делах.
Прочитав написанное, Хмельницкий, по словам Богданова, «учал плакать», понимая, конечно, в досаде, что на него в Москве смотрят, как на опасного злодея, но, плача, выражал готовность (писал Богданов) «быть под государевою высокою рукою, так же, как у него, великого государя, всяких чинов люди в подданстве и во всей государской воле пребывают, и в том всею Малою Русью духовного чину и свецкого дать на себя договорное письмо за руками, и в том учинить присягу от велика и до мала».
Гавриил одобрил его намерение, и что он, гетман, великому государю служит и его государской милости ищет (говорил митрополит, разумеется, по московской инструкции) это его царскому величеству «добре угодно». Только он, митрополит, тому дивится, что он, гетман, православный христианин, а держит братство и соединенье с бусурманом и с Крымским царем и с татары, будучи с ним, гетманом, и с войском Запорожским в братстве, православных христиан побивают и в полон берут, и домы их разоряют; а ныне он же, Крымской царь, пришод к нему, гетману, и войску Запорожскому на помочь против поляков, во всем против присяги своей ему, гетману, зрадил и самого было его, гетмана, поневолил, и знатное дело, что хотел ево польскому королю отдать для бездельные своей корысти, чтоб ему, бусурману, чем себе большую корысть получить. А о том бы он, гетман, ведал подлинно: он, митрополит, в их бусурманских краях живет и их бусурманские все звычаи знает, что они, бусурманы, людем православные христианские веры много присягают, и во всем, присягнув, лгут; да они того себе и в грех не ставят, потому что в законе их написано так: будет который бусурман, с гауром жив в братстве, умрет, не учиня ему некоторого зла, за то он, бусурман, будет у Махменя в вечной муке».
Ответ Хмельницкого Богданов передал в Москву следующими словами: «И сам де он, гетман, знает, что с бусурманы православные христианские веры людем братство и соединенье держать по неволе. Они де, православные христиане, держат с ними братство для того, чтоб святые Божии церкви и православную христианскую веру от польских и от еретических рук свободить. А они, бусурманы, с ними братство держат для того, что везде на войнах за их головами многую корысть себе получают, и, приходя де к нам, православным христианом большое дурно чинят».
Умел Хмельницкий подделываться под всякий язык и образ мыслей, но московского соловья не удалось ему кормить баснями, как польского.
О катастрофе под Берестечком казаки, при всяком удобном и неудобном случае, рассказывали царским людям, как о какой-то победе над ляхами, доводя иной раз ложь до такого бесстыдства, что на 6.000 погибших в боях ляхов, с казацкой стороны падало всего два человека да раненных было человек восемь, и притом побитые поляки «были, известное дело, до бою первые люди: мало не все в кольчугах да в панцирях». Так отважно не лгал и Фальстаф у Шекспира.
«А ныне де» (писал Богданов) «и над самим над ним, гетманом, Крымской царь большое дурно учинил, и на чом присягал во всем зрадил, и ево, гетмана, взяв, от казацкого обозу отвез в дальние места, и к войску не отпустил, неведомо для чего, и держал у себя с неделю, и знатное де дело, что у него, Крымского царя, о нем, гетмане, был некакой злой умысел. А войско де, видя то, что Крымской царь зрадил, и его, гетмана, взял с собою, почаяли того, что Крымской царь сложился с королем и пошел украинные их городы разорять, и жены и дети в полон брать, и учинилось войско Запорожское в великом страхованье, и обоз покинули, и побежали на Украину, для того чтоб Крымскому царю украинных городов разорить, и жен своих и детей в полон имать не дать».
До какой степени нужна была теперь Хмельницкому московская протекция, видно из дальнейших слов, передаваемых Богдановым своеобразно: «И то де самое большое дурно учинилось от его, Крымского царя, зрады, и ему де, гетману, крымской царь какой большой друг? И только де он, гетман, и за такое большое дурно роздору никакова не учинит, и впредь, до времени, роздору учинить не мочно и всякие обиды от него терпеть, потому: как ему, гетману, с Крымским царем учинить раздор, и он де, Крымской царь, сложась с польским королем, учнет на них воевать, и тем де Крымской царь страшен. А если де великий государь его, гетмана, с войском Запорожским и всю Малую Русь всяких чинов людей примет, и он бы его, великого государя, его царского величества, именем был Крымскому царю страшен, и обид бы от него, Крымского царя, никаких терпеть не стал, никакова б братства и соединенья и ссылки с Крымским царем, без повеленья царского величества, держати не стал. А с польским де королем сложиться ему, Крымскому царю, ни которыми мерами не мочно, потому что великого государя подданные, донские казаки, Крымскому царю страшны, да и он бы, гетман, и войско Запорожское, по указу великого государя, промысел над ними Днепром учинил, и ему де, Крымскому царю, как сметь с польским королем сложиться? Да хотя де и будут они в соединенье, и их бояться нечево, и против великого государя, его царского величества, николи стоять не будут. А будет великий государь, его царское величество ему, гетману, свое государское изволенье пришлет, велит его призвать под свою высокую государеву руку, и он, гетман, служа ему, великому государю, Крымского царя, конечно, учинит подданным».
Но Москва знала цену и слезам, и словам интригана, принужденного переходить от Корана к Евангелию и от Евангелия к Корану. Тот же Богданов выведал от Выговского, что даже киевский митрополит, с партией светских людей, противных казатчине, «хотят быть в подданстве и во всей королевской воле». Хмельницкий все твердил о православной вере, а верховник православия в Малороссии писал между от лица всех единомышленников своих к Радивилу, что «если казаки против короля стоят и войну ведут и Киевом владеют, так это делается не по их воле». Мало того: самое занятие Радивилом Киева состоялось по ходатайству пред ним Сильвестра Косова, который убеждал полковников Хмельницкого не отстаивать города, дабы не навлечь беды на православное духовенство и разорения на киевские святыни. Митрополит Кос тем больше был в праве защищать Киев по своему, что Хмельницкий, разрушая католические храмы, не позаботился об охранении православных. «В Киеве города и крепостей никаких нет, и в осаде сидеть от воинских людей негде», доносил в Москву Фомин. Даже для спряту награбленных у панов сокровищ не устроили казаки ни одного замка, не только для охраны древних святынь той веры, за которую будто бы они «помирали».
Видя неподатливость Москвы даже на такие посулы, как подданство Крымского хана, Хмельницкий обратился к домашним средствам защиты от угрожающей ему беды. С веселым и самоуверенным видом лицедей-казак появился среди казацкого веча на Масловом Ставу, а между тем распустил слух, что у него готовится пир на весь мир по случаю новой, третьей женитьбы на сестре нежинского полковника, Золотаренка. Этим союзом хотел он упрочить за собой приверженность популярного и богатого полковника, а широкою свадебною попойкою расположить к себе казацкое общество. Между тем один из его агентов работал в Царьграде, а другой в Крыму. Казацкое вдохновение, ослабев немного от кровопускания под Берестечком, воспрянуло с новою силой:
«Гей, виріжмо вражих ляхів, Гей, що до одного»!восклицали казаки в своих кабачных сборищах, — и пустыня, лишенная красоты хозяйственной, красовалась лохмотьем панских да жидовских жупанов, развевавшимся на голом теле казаков-нетяг в диких танцах. Наступавшее на Украину коронное и литовское войско придавало казацкому разгулу характер того пьянства, которому предаются отчаянные пираты на погибающем корабле среди бурного моря.
Реакцию казакам в Крыму делали с одной стороны коронный гетман, Потоцкий, а с другой — волошский господарь, Лупул. Они успели малорусский бунт представить делом ненадежным, а дружбу с казаками для хана унизительною. Ислам-Гирей колебался, и, как мы знаем, уже послал казацкому гетману наставление чтоб он не пьянствовал, а просил Бога о победе. В Малороссии также оказачившиеся шляхтичи противодействовали, сколько могли, завзятости боевой массы, которая воображала возможным истребить ляхов так, чтоб не осталось ни одного на свете, и заставляла самого Хмельницкого повторять эту вздорную фразу. Казацкое шляхетство старалось устроить компромисс между казаками и землевладельцами. Оно составляло свои замкнутые, таинственные кружки и, возбуждая подозрительность общего вождя, заставляло его тем самым сближаться теснее с казацкою голотою, так что он подписывался уже Богдан Хмельницкий и вся чернь войска Запорожского. Для этого класса таких же полу-поляков, какими были Петр Могила, Сильвестр Косов, Иосиф Тризна, Адам Кисель, московское подданство представлялось немного лучшим турецкого. Сравнительно образованный и богатый добычею шляхетный класс тянул и церковную иерархию вспять. Составляя вместе с нею интеллигенцию края, он был уверен, что церковная иерархия может собственными средствами, без казацкой войны, добиться того положения в панской республике, какое занимала она до 1596 года, то есть возвратить духовные хлебы из рук папистов в руки православников: а в этом заключалась для неё и вся суть религиозного вопроса.
Хмельницкий между тем знал, что польско-русская шляхта не простит ему своего поругания и своих утрат. Казацкая чернь также знала, что ее ждет возмездие за те страшные злодейства, которые она четвертый год уже совершает в Малороссии под видом стоянья за православную веру. Отсюда между казацким ханом и казацкой ордой возникла тесная связь самосохранения; отсюда явилось обязательное для казацкого батька стремленье под царскую высокую руку, как под единое надежное убежище от казни. Хмельницкому надобно было добить шляхетский народ, «очистить» землю от заклятых врагов своих, или по крайней мере совершенно обессилить их: тогда только мог он эквилибрировать между магометанским и христианским миром, которые оба давали щедрый контингент казатчине своими гультаями и преступниками. Но что никогда не думал он быть верным подданным царским, в этом удостоверяют нас его сподвижники и преемники Выговский, Тетеря и Дорошенко.
Отпраздновав свадьбу широкими вакханалиями и вернув себе популярность у черни Запорожского войска, принялся Хмельницкий за переговоры с панами, и вот он встретил Потоцкого сладкоглаголивым письмом своим, которое было прологом к новой казако-панской трагикомедии.
Сентября 8 прибыли к Потоцкому послы Хмельницкого, Андрей Кулька и Роман Лятош. В собрании военной рады Кулька упал к ногам Потоцкого с мольбой о помиловании, а потом оба посла раздали просительные письма главным членам панского ареопага. В этих письмах уверяли они, что искренно желают приступить к переговорам, а сам Хмельницкий просил прислать какого-нибудь разумного человека, с которым бы он мог совещаться через посредство писаря Выговского. Таким человеком оказался у полонусов пан Маховский, в безопасности которого старшина присягнула.
Переход панов от ожесточения к уступчивости и доверию показывает, что они находились в обстоятельствах крайне затруднительных. 9 сентября отправился к Хмельницкому Маховский, а 10 в походном дневнике записали они следующее:
«Сегодня мы двинулись из-под Василькова к Германовке, и остановились над селом Троского, куда приходит к нам известие, что неприятель вырезал Паволочь. Гарнизон пана старосты калусского должен был отступить к Котельне, потеряв 10 человек пехоты. Хвастов также заняли 1.400 казаков, которые побили много нашей челяди, а мы со всех сторон окружены неприятелем».
С своей стороны и Хмельницкий играл в кровавую игру на последние свои средства. Под 11 сентября в походном панском дневнике читаем:
«Хмельницкий прислал двух казаков под Киев, наказывая перемирие и на воде и на суше. И так около Киева остановилась война; а то казаки начали было уже наступать на литовское войско с днепровских островов, и оторвали три байдака, хотя и сами потерпели не малую шкоду: ибо их поражали из пушек от Никольского монастыря, и затопили девять чаек с народом. Те же два казака отправились к Лоеву и Любечу, объявляя перемирие, чтобы казаки перестали осаждать тамошние литовские полки».
Сентября римского 12 панское войско взяло полторы мили в сторону под Копачов ради воды. Там казацкий язык дал панам знать, что Хмельницкий стоит на Ольшанке, и татары там же. Один татарин, в панцире, прискакал на бахмате, для того чтобы сказать о многом Потоцкому; но челядь убила его из-за панциря и бахмата. Языки показали, что множество скота не позволяет Орде думать о битве; что Хмель стоит на урочище Рокитна; что казаки требуют от него мира, и все ропщут на татар за похищение у них жен и детей. Далее дневник рассказывает характеристический случай:
«Несколько десятков казаков застали 20 человек нашей челяди в пасеке. Челядь бросилась в рассыпную. Одного поймал казак, содрал с него кунтуш и кричал: «На що вы псуєте землю? на що лупите пасики? Мы знаємо, що в вас протрубили — не псувати, не палити, пасик занехати.» Челядь стала оправдываться: «Мы де не знали об этом», казаки отвечали: «Старши сказали нам, що вже мир буде; вы земли не псуйте». Тут заметили казаки одного чужеземца между челядью, начали колотить самопалами и рвать на нем волосы с криком: «А ты на що землю псуеш? Инша (рич) ляхам, а инша вам: бо ты чоловик позыченый, — и, оборвав на нем волосы, отпустили».
Сентября 13 становился Потоцкий под Германовкою, а литовское войско, прийдя из-под Киева, расположилось в полумиле. Войска соединялись перед казацкимя послами, которые прибыли с Маховским. Казаки хвалились, будто бы у них 40.000 татар; но Маховский выведал, что всего только 6.000. «Рассказывал Маховский» (говорит походный дневник) «о сделанном ему довольно почтительном и пристойном приеме, и какие разговоры и шутки были с обеих сторон, также и о разладе с Ордою, и о Берестечской войне, как она сделала страшным королевское имя... Между прочим сама чернь признавала, что под Берестечком одна королевская пуля была сильнее сотни казацких; что когда в пятницу били из пушек, то мы едва не провалились в землю; как хан постыдно бежал, хотя клялся Магометом, что вернется за две мили. Хмельницкий же сам шутя советовал пану Краковскому жениться, как сделал он: «бо тим робом скорше буде мир: бо и я, и вин хапатимемось до жинок; а поки будемо вдовцами, дак бильше битимемось, аниж седитимем тихо». Когда Маховский отдавал комиссарский лист, Хмельницкий менялся в лице, и был очень огорчен, что ему паны комиссары не дали гетманского титула; а полковник Джеджалла тотчас начал браниться и кричать, что «не годилось так боронити нашому добродиеви гетьманського титулу». Но Маховский так успокоил их рациями и примерами, что все замолчали и, насторожив уши (podniesionemi uszami) слушали тот лист, а по прочтении его и по удалении сторонних (semotis arbitris), предложил Маховский Хмельницкому разрыв с Ордою. К этому он отнесся сомнительно и подозрительно, обещая лучше вместе с Ордой идти на турок. Три часа препирались они об Орде. Маховский несколько раз порывался отъехать, ничего не сделавши; но Выговский задержал его, и с ним опять спорили часа три, Маховский обнадеживал его королевскою милостью и восстановлением чести его на сейме, если приведет Хмельницкого к войне с татарами. Ибо Выговский владеет сердцем и умом (posiada cor et mentem) Хмельницкого, и распоряжается им, как отец сыном. После того заперся Выговский с Хмельницким и так долго усиливался навести его на лучшие мысли, что дошло у них даже до ссоры, и уже Выговский уходил с досадою, но Хмельницкий упросил его вернуться. Тогда приступили к другому вопросу, — чтобы сам Хмельницкий явился с Выговским в наш лагерь для трактатов, доверившись нашему слову; что они, вероятно, и сделали бы, но чернь и полковники ни под каким видом на это не соглашались, говоря, что опасаются, как бы они не остались так в ляшеском войске, как и Крыса под Берестечком; а когда Маховский никоим образом не хотел отступить от этого поручения, Выговский почти на коленах просил его, чтобы съезд комиссаров с казацкими депутатами был назначен в Белой Церкви: ибо и в поле нельзя было безопасно трактовать в виду своевольной Орды. Для большего удостоверения панов комиссаров, Хмельницкий присягнул со всеми полковниками, на коленах с поднятыми пальцами, сохранить данное слово».
После долгих совещаний, паны решили — вручить комиссарам креденс к Запорожскому войску и 24 пункта, о которых они должны будут трактовать. Комиссары отправились 16 сентября в Белую Церковь, под прикрытием двух полков и 500 драгун, с тем чтобы с ними остались только драгуны. То были: киевский воевода Адам Кисель, смоленский воевода Кароль Глебович, литовский стольник Викентий Гонсевский и брацлавшй подсудок Казимир Косаковский. Глядя на богатство, как на внушительную эмблему силы и власти, они взяли с собой скарбовые возы, не сообразив того, что в казаках и татарах эта выставка, вместо уважения к послам, возбудит жажду к поживе.
По отъезде комиссаров, паны тотчас увидели, с кем имеют дело. На панский лагер наскочили татары, в числе 1.000 коней, и «сделали не малую шкоду в челяди»: нахватали людей и лошадей. Пустились жолнеры в погоню, но настигли одного только хищника, который показал, что пришел Карач-бей с 4.000 татар, а другие отряды стягиваются, но хана и султан-калги не будет, и едва ли придет больше Орды. Между тем казаки выказывали крайнее ожесточение к панам, и кричали со всех сторон: «Чего ци бунтовники ляхи прийшли сюды? Вже ж король вернувсь. Се вже не ваша земля, а царська». Даже мужикам, остававшимся в тылу панского войска, казаки грозили, что будут истреблять и их самих, и их имущество, а Паволоч, разделившуюся на ся между хмельничанами и панщанами, намеревались «пустить с дымом к небу».
Комиссары не возвращались из казако-татарского омута, и не было никакой вести о них. На другой день панский подъезд не мог узнать о них ничего, а нашел только в поле воткнутый в землю шест с запиской на литовском языке. Комиссары просили Радивила поскорее прислать сильный конвой и спасать их от бунтующего хлопства.
Записка встревожила все войско. Паны горько раскаивались в своем доверии к варварам. Немедленно был отправлен к Белой Церкви полевой гетман со 130 хоругвями для обеспечения комиссаров. Никто не вышел к ним из города, и отправленные в город посланцы не вернулись, а между тем казаки подступили к Белой Церкви табором, и хоругви, проголодавшись, вернулись в великой тревоге. Был уже вопрос о том, чтобы двинуться вперед всем войском и биться за комиссаров на пропалую. Но сперва отправили письмо к Адаму Киселю, чтоб осведомиться, живы ли комиссары. В беспокойстве, в мучениях стыда и раскаянья прошли целые сутки. Но в полдень пробежал гонец с известием, что комиссары возвращаются, только татары насели на их конвой, и они просят помощи. Бросилось все войско к лошадям и оружию.
Навстречу комиссарам выскочило тысячи три коронных и литовских охотников, выступила в поле пехота и рейтария полками, а вместе с ними и множество челяди, которой при коронном войске насчитывали не менее 15.000, да при литовском было наверное 6.000.
Комиссаров благополучно встретили на пути; но скарбовые возы их разграбили уже татары и казаки, так что комиссары потеряли все свое имущество, и остались только с тем, что было на них (tylko jak chodzili, tak lyIi zostawieni). Автор походного дневника исчисляет потерю их, возбуждая сожаление в своем обществе и смех в нашем: «У пана воеводы смоленского» (пишет он) «и пана стольника литовского расхищено не меньше, как на 100.000 злотых деньгами и серебром, в том числе дорогой перстень и диамантовая запона с парою таких же петлиц; у пана киевского воеводы — серебро, коней и палатки на 18.000 злотых; у пана брацлавского подсудка — на 6.000 злотых [62]; и которому из черни не досталось какой-нибудь драгоценности, те рвали с рыдванов опоны на куски, и потрясая, хвалились, что это — ляцька здобыч. Мы приветствовали панов комиссаров с невыразимою радостью: ибо считали их уже погибшими (obzalowali, jako zgukione glowy)».
Только тогда признали в лагере безрассудством со стороны полевого гетмана, что он вернулся вчера с сотнею хоругвей, не дождавшись комиссаров. Комиссары отдавали справедливость Хмельницкому, что погибли бы в Белой Церкви, когда бы не он, не Выговский и не полковники Хмелецкий, Гладкий, Богун и Бромецкий. По их рассказу, Хмельницкий искренно желал мира вместе со всею старшиною; но дерзкая чернь раз пятнадцать пыталась брать их в замочке «приступом и изменою». Полковники рубили своевольных саблями, били обухами, а одного казака Богун обезглавил, когда тот, при виде съестных припасов для комиссаров, закричал: «Дак се мы складатимемо ляхам стацию»! Выговский, увидев смоленского воеводу и литовского стольника (у которых было больше других оказалости), сказал: «Не с ума ли вы сошли панове? приехали к мужикам в огонь! И мы, обороняя вас, погибнем». Но так усердно все «трактовали» комиссаров, что и спали вместе с ними, разгоняя бунтовщиков. «Разве по нашим трупам доберутся до вас», успокаивали они своих гостей, не в пример таким «совершеннейшим во всех отношениях людям», каких прославляют киевские профаны. Татары всего больше порывались на литовского стольника. Один из них пустил из лука стрелу в замковое окно, и едва не убил Киселя, а другой стрелой — литовского стольника.
Вот все, что нам известно из достоверных источников о пребывании комиссаров среди казако-татарской орды в Белой Церкви. Что касается самих переговоров, то в уцелевших письменах не упомянуто вовсе о трех важных пунктах, предложенных панами казакам, как победителями побежденным, и упомянутых только в дневнике Освецима: 1) чтобы Хмельницкий уплатил коронному войску жолд за несколько четвертей года; 2) чтобы казаков осталось в реестре только в 12.000, и 3) чтобы на место Хмельницкого был выбран гетманом кто-нибудь другой. Освецим пишет, что казаки в начале согласились было на уплату жолда и на 12.000 реестровиков, но Хмельницкий оставлен гетманом по-прежнему, и потом первые два условия отвергнуты...
В этом известии есть что-то недосказанное. Вероятно, Хмельницкий и Выговский с братией согласились на два первые условия только для того, чтобы комиссары не настаивали на выборе гетмана, а когда вопрос о гетманстве был решен в пользу Хмельницкого, тогда он — выражусь по-малорусски — из их же хворосту да им же загнув и карлючку; а загибая карлючку, он больше ничего не должен был делать, как довести под рукой до сведения черни о ляшеских требованиях, — и вот Освецим пишет: «Эти условия вызвали среди казаков большое волнение. Чернь вознегодовала на Хмельницкого: «Ты здобув соби славу и збагатився нашими головами, а тепер еднаесся з ляхами, выписуеш нас из лэестра, ляхам нас подаеш! Вони сядуть нам на шию, и т. п».
На все прочие пункты казаки согласились, но потом раздумали, и прислали к панам двух полковников, Москаленка и Гладкого, трактовать вновь о трех пунктах: 1) число реестровиков соглашались они уменьшить лишь до 20.000; 2) настаивали, чтобы панское войско в казацких полковых городах не квартировало; 3) не соглашались бить Орду и отдать панам татарских мурз.
Москаленко и Гладкий боялись в панском лагере за расхищение комиссарских возов, и спросили у сендомирского хорунжего: «Пане Чернецький! Чи нас не постинають за те, що панив комиссарив пожакували»? — «Мы не насилуем права народов», отвечал с благородной гордостью питомец иезуитов, не сознавая, что насилие над самым священным из народных прав, над свободой религиозной совести, вызвало Польшу на боевой суд с недополяченною Русью.
Через несколько часов казацкие уполномоченные получили такую декларацию: «Так как вы бить Орду не хотите, то отрекитесь от неё клятвенно, а мы сами покараем ее, без вашего вмешательства». После долгих переговоров, паны согласились на 15.000 реестровиков, а Потоцкий обещал охранить от жолнерских постоев полковые города: Канев, Чигирин, Корсунь, Переяслав и Черкасс. Что касается кривды комиссаров, то они объявили, что, ради благ мира, отдают ее Богу и отчизне, а так как перед их глазами Хмельницкий тотчас велел обезглавить 15 хищных казаков, то желали только, чтоб и других подвергли такой же каре.
«Достойно замечания» (сказано в походном дневнике), «что чернь сожалела о литовских панах, говоря: «Когда бы ляхи сами были комиссарами, то не вышли б отсюда; но эти хорошие паны (tak grzeczne panowie) не виновны перед нами: только это и спасло их от разнузданной сволочи (przed wynzdanym motiochern)»».
Дав знать казакам, что идет принять от них верноподданническую присягу, Потоцкий двинулся из-под Германовки 20 сентября. Оба войска, коронное и литовское, шли рядом, в боевом порядке. «Строй наших войск» (говорится в дневнике) «казался огромным: ибо и табор был окружен войском. Коронные возы шли в 74 ряда, а литовские в 40, по широкой равнине. Чело войска занимало по малой мере такую линию, как от Варшавы до Воли, а в длину возы тянулись на громадную подольскую милю, в большом порядке... Посмотрев на такое прекрасное войско, конное, оружное, панцирное, огромное, обстрелянное и хорошо обученное, как мы посматривали на него с высоких могил, надобно было заплакать вместе с Ксерксом, — не о том, что от этих людей ни одного не останется через несколько десятков лет, а о том, что столь огромное войско должно терзать собственные внутренности, и что оно не обращается против оттоманской силы, которой пришел бы конец ».
Вот исповедь факта, что не казаки разрушили Польшу, а сама шляхта, продуктом которой был безнаказанный грабитель, жолнер, и беспощадный руинник, казак!
«Целую ночь» (сказано дальше в дневнике), «как остановились мы на походе, так и ночевали, не допуская сна к нашим глазам».
Под Белою Церковью Потоцкий получил от Хмельницкого письмо, в котором тот выразил удивление, что панское войско приблизилось, и просил комиссаров съехаться с казацкими уполномоченными на урочище Гострый Камень, в 300 коней с той и другой стороны.
По вчерашнему соглашению, с панской стороны выехало 12 особ для переговоров о некоторых пунктах относительно присяги. Под Гострою Могилою была разбита для них палатка, а в четырех выстрелах от неё стояли три гусарские хоругви. Казаки требовали, чтобы хоругви отошли к лагерю; но паны видели, что они с умыслом скрыли татар в соседней пасеке. Хоругви все-таки отступили немного в сторону. Тогда казаки потребовали от панов заложников. Дали им в заложники шляхтичей Тишу и Люлю. Наконец приехало к палаткам 12 простых казаков и только один меж ними из старшины, на прозвище Ордынец. Поклонясь панам, один казак начал говорить, что гетман их и Запорожское войско требуют трех пунктов: 1) чтобы Зборовский договор был сохранен вполне; 2) чтобы жолнер вышел отсюда, и не располагался постоем; 3) чтобы паны не разрывали дружбы казаков с татарами: ибо татары — сторожа казацкой свободы.
Паны с изумлением указали на состоявшееся уже соглашение. Казаки отвечали: «Мы разъихались из паном гетьманом. Не знаємо, не видиемо, що миж вами було, а вийсько с тим нас послало». Кисель с жаром (patetice) стал их уговаривать; но казаки были к его красноречию глухи. Согласились только посоветоваться с Выговским, и лишь только уехали, тотчас возвратили панам заложников.
Чтобы застращать казаков, Потоцкий двинулся к их табору. Правым крылом вызвался командовать князь Радивил, по замечанию дневника, жадный к славе: ему предстояла наибольшая опасность со стороны болота, рвов и казацких пасек. Левым командовал Калиновский, центром — Потоцкий. Подпоенные бочками горилки казаки высыпали с татарами в поле и смотрели из-за могил на движение панского войска, которое генерал Пршиемский построил в боевой порядок, подобный берестечскому.
Языки показали, что неприятель покрыл все поле. По почину Радивила, произошла весьма серьезная стычка. Казаки несколько раз были прогнаны под самый табор. Два панцирные сотника казацких попали в плен, но были так пьяны (по словам дневника), что не могли и говорить.
На другой день, сентября 24 (14) Хмельницкий прислал к Потоцкому пленного жолнера с выражением своего удивления: он де не велел выходить своему войску, и стычка произошла против его воли. Это де одни своевольники с чужеземцами (т. е. татарами) вышли. Он радуется, что не произошло большего кровопролития, и обещает выслать своих послов для заключения мира. Ему отписали, что согласны на мир; но со стороны казаков продолжалась война, с участием гармат. Татары и казаки заходили со всех сторон, и до позднего вечера кипел в разных местах самый разнообразный бой. Но сколько хмельничане ни крутили веремия ляхам, сколько ни танцовала татарский танец Орда, перевес боевого счастья был на стороне панской. Особенно досталось казакам от Радивила.
Когда совсем уже стемнело, прибыл от Хмельницкого вестник. Он де позабыл включить в договор некоторые пункты, касающиеся святой веры (niektorych punktow do ми агу s. potrzebnycli zapomnial przed tym), и завтра пришлет послов.
25 сентября, в ожидании обещанного посольства, происходили беспрерывные стычки с татарами. Множество панской челяди, возвращавшейся с фуражом, погибло.
Литовцы поймали двух казаков, и узнали, что множество черни вышло к соседней Роси. Паны вывели свое войско в поле, а казаки засели в болоте и зарослях. Но проливной дождь заставил всех убраться в свои таборы, и не прекращался до следующего дня.
26 сентября приехали три казацкие посла с требованием, чтобы число реестровиков было 20.000, и чтобы казаки могли быть в Виннице, Брацлаве и Чернигове, по крайней мере по королевщинам. Комиссарам было не до упорства. Голод в панском войске возрастал с ужасающей быстротою. От непогоды, продолжавшейся трои сутки, умерло 300 иностранных жолнеров. Больных было страшное множество. А между тем еще в начале сентября паны получили из Киева донесение, что войско Хмельницкого возросло до 60.000; что татар у него 15.000; что ежеминутно ожидают из Крыма 30.000, тогда как панского войска, при начале похода, насчитывали только тысяч 30. Теперь оно поуменьшилось, позаразилось, ослабело силами и, что всего хуже, под видом болезни, множество шляхты и немцев уходило домой, набравши лошадей и скота, а некоторые, от великой нужды, передавались казакам. Чтобы представить всю грозу положения, в каком очутились паны завоеватели, достаточно сказать, что, по окончании Белоцерковской или Украинской войны, у Потоцкого и польского и чужеземного войска осталось всего до 18.000. В тылу у расслабленного остатка Берестечской армии казаки заняли проходы. Любеч и Лоев, занятые литовцами, держали они в осаде; овладели Брагинью; сожгли мост в Загале; а на подкрепления от короля не было никакой надежды.
В силу таких внушительных обстоятельств, согласились паны и на 20.000 реестровиков, но под условием, чтобы не было казаков ни в Брацлаве, ни в Чернигове, даже и по королевщинам. С этим ответом отравили одного из казацких послов к Хмельницкому, вместе с Зацвилиховским.
За обедом у Потоцкого, один из казацких послов, Роман Катержный, сказал: «Милостивый пане Краковський! чом вы не пускали нас на море пид турка? Не було б у наший земли сього лиха». На это Потоцкий отвечал: «Что мы теперь терпим, то все ради турецкого цесаря: ибо мы, охраняя панство его, обратили собственное в ничто», — и при этом едва ли вспомнил, что сам он был главным орудием реакции Владиславу IV в его порывах к Турецкой войне.
«Тепер же вже» (сказал казак) «нехай нам короливська милость и Рич Посполита не боронить моря: бо казак без войны не проживе».
«Все мы с этим согласились» (пишет мемуарист), «прибавив, что хоть бы и сейчас хотели идти, идите»!
Уже паны думали, что совсем удовлетворили Хмельницкого, как он опять прислал с двумя условиями: первое, чтобы до Рождества Христова, пока не выпишет он казаков из реестра, жолнеры не стояли в Брацлавском и Черниговском воеводствах; второе, чтоб ему Потоцкий уступил Черкассы и Боровицу.
Хотя, по мнению панов, это были самые несправедливые условия (iniquissimae conditiones), но, покоряясь бедственным своим обстоятельствам, они продлили срок до русского Николая, и утешали себя тем, что Хмельницкий шепнул Зацвилиховскому:
«Се я роблю задля поспильства. Пропав бы я, коли б згодивсь на це при брацлавцях. А як их роспущу, дак хоч и зараз у них становитесь».
Что касается Черкасс и Боровицы, то Потоцкий объявил, что этого не может сделать без воли его королевской милости, разве на сейме надобно постараться.
Тогда Хмельницкий объявил, что желает приехать на присягу в панский лагерь, только бы дали ему в заложники две знатные особы. Паны дали в заложники литовского подстолия и красноставского cтapocу, Марка Собиского. Когда Хмельницкий сидел уже на коне, полковники удерживали его и отсоветывали, но Зацвилиховский своим давнишним приятельством привел его к решимости ехать.
«Ведь мы имеем дело с королем и Речью Посполитою» (сказал Хмельницкий своим): «нам треба хилитись до них, не им до нас».
Каковы бы ни были, соображения старого Хмеля в этом замечательном случае, мы впервые на коварном его пути видим оправдание сделанного Шекспиром наблюдения, что нет между людьми такого злодея, в котором бы не осталось ничего человечного. Он знал панов настолько, что, после всех своих злодейств, решился вверить себя их рыцарской чести. Он был даже способен каяться.
«Когда привели его в лагерь» (пишет автор походного дневника), «он, войдя в палатку пана Краковского, упал к его ногам (upadl do nog), бил челом в землю и плакал (czolem ѵ ziemig bijqc i placzc). Потом, поднявшись, просил простить ему прошлое. Пан Краковский отвечал, что давно уже подарил свою кривду Богу и отчизне: ибо все это сделалось Господним попущением; но надеется, что он загладит все цнотою и верностью. Потом Хмельницкий довольно покорно приветствовал князя Радивила и других; наконец были прочтены пункты. Он согласился на все, просил только о Черкассах и Боровице, но пан Краковский отделывался учтивостями (ceremonia go zbywal), так как это было невозможно. Подписав договор, тотчас присягнули и паны комиссары, и Хмельницкий с полковниками. За ним стоял его оруженосец (armiger) с булавою. Пока был трезв, не говорил Хмельницкий ничего непристойного, намекал только обиняками: «ваши милости завербовали на меня и литовское войско, а этого не было ни под Хотином, ни в других оказиях». Потом обратился к Радивилу: «Предки вашей милости никогда не воевали против Запорожского войска». Но в пьяном виде, точно бешеный пес, излил он всю свою злость, обвиняя волошского господаря, что обманул Тимофея, сына его, и, назвав его изменником (zmiennikiem) сказал: «Хотя это и тесть вашей княжеской милости, но я и в Волошской земле готов с ним биться: має вин много грошей, а я — много людей».
Князь обиделся, что Хмельницкий такие вещи высказывал с такой запальчивостью и грубостью, но сдерживал свой гнев. Будучи великим полководцем в бою, он желал быть таким же и гражданином в сохранении мира. Из-за этого бесстыдного пьяницы не хотел он подвергать опасности войско, и потому ловко отвечал, что господарь ни мало того не боится: у него найдутся свои средства для безопасности. Своим бесстыдным бешенством расстроил Хмель нашу веселость, хотя полковники порицали его и сдерживали. И у нас, и у него стреляли из пушек за здоровье его королевской милости, и трубачи отзывались на виваты (na allegrece), а он, точно бешеный, вскочил из-за стола и вышел. Там, однакож, отдали ему турецкого коня от пана Краковского. Поблагодарив, сел на него Хмельницкий, но потом его сняли и отвезли в коляске в табор».
«На другой день» (продолжает мемуарист), «когда войско получило уже приказ идти в поход, приехал Выговский проститься с паном Краковским и просить извинения за то, что произошло вчера; при этом отдал турецкого коня пану старосте Каменецкому (сыну Потоцкого). Князя Радивила просил он отдельно за вчерашнюю экзорбитанцию от имени Хмельницкого. Князь отвечал: «Если он говорил в пьяном виде, то я говорю в трезвом, что ни я, ни волошский господарь не боимся, и всегда найдет он меня готовым. Если бы хотел и тотчас, я жду его в поле, и он удостоверится, что его пьяная фурия ни мало мне не страшна, и я готов расправиться с ним, как хочет, или с войском, или без войска». Но Выговский смиренно (supplex) просил князя забыть об этом».
С обеих сторон довоевались уже до самого края, и потому должны были худой мир предпочитать доброй ссоре. Но казаки до того считали мир непрочным, что не продавали даже татарских бахматов панам, собиравшимся в обратный путь. Один из панов писал в Варшаву с дороги: «Когда мы пришли в Белую Церковь, казаки стояли в таборе, укрепленном двойными валами. Хмельницкий не хотел дать нам битвы в поле, напротив, постыдно бежал с него в субботу. Все войско нашло невозможным брать приступом окопы, в которых могло быть тысяч сто войска, кроме татар. Нам было хуже: приходилось вымирать. У них полно живноности, а кругом нас (circum circa) голод, так что умирало по сто человек в одну ночь, а некоторые от крайней нужды передавались к казакам. Отступить нам было жаль; идти в глубину Украины — опасность очевидная на переправах обоза: ибо не пустая молва, но и все языки предсказывали скорый приход султан-калги. Вот почему согласились мы на почетный мир».
Это был в самом деле почетный для панов и постыдный для казаков мир. «Статьи об устройстве и успокоении войска его королевской милости Запорожского, постановленные комиссиею под Белою Церковью 28 (18) сентября 1651 года», гласили следующее:
«Позволяем и назначаем устроить реестровое войско в числе двадцати тысяч человек. Это войско гетман и старшины должны записать в реестр, и оно должно находиться в одних только добрах его королевской милости, лежащих в воеводстве Киевском, нисколько не касаясь воеводств Брацлавского и Черниговского; а добра шляхетские должны оставаться освободными, и в них нигде реестровые казаки не должны оставаться; но кто останется реестровым казаком в числе двадцати тысяч, тот из добр шляхетских, находящихся в воеводствах Киевском, Брацлавском и Черниговском, также из добр его королевской милости, должен переселиться в добра его королевской милости, находящиеся в воеводстве Киевском, туда, где будет находиться войско его королевской милости Запорожское. А кто будет переселяться, будучи реестровым казаком, такому каждому вольно будет продать свое добро, без всякого препятствия со стороны панов, также старост и подстаростиев.
2. Это устройство двадцати тысячного реестрового войска его королевской милости должно начаться в течение двух недель от настоящего числа, а кончиться к Рождеству Христову. Реестр этого войска, за собственноручною подписью гетмана, должен быть отослан его королевской милости и вписан копиею в книги гродские киевские. В этом реестре ясно должны быть записаны реестровые казаки в каждом городе, по именам и прозваниям, и общее число не должно быть более 20 тысяч. А которые казаки будут включены в реестры, те должны оставаться при давних своих правах; те же, которых этот реестр покрывать не будет, должны оставаться в обычном замковом подданстве его королевской милости.
3. Королевское войско не должно оставаться, ни отправлять леж в тех местечках Киевского воеводства, в которых будут находиться реестровые казаки, а только в воеводствах Брацлавском и Черниговском, в которых казаков уже не будет. Теперь однакоже, до составления реестров к назначенному сроку Рождества Христова, дабы не происходило никакого замешательства, пока не выйдут в свое место, в Киевское воеводство, те, которые будут находиться в числе и реестре 20.000, войска должны оставаться и далее Животова не ходить до окончания реестра.
4. Обыватели воеводств Киевского, Брацлавского и Черниговского сами лично, или через своих урядников, должны вступать во владение своими добрами и тотчас брать в свою власть все доходы, корчмы, мельницы, юрисдикции, но самое собирание податков с подданных должны отложить до оного срока составления реестров, дабы те, которые будут реестровыми казаками, выселились и оставались уже те одни, которые подлежат подданству; так же и в добрах его королевской милости будет уже известно, кто останется при вольностях казацких, а кто — в замковом подданстве и повиновении.
5. Чигирин, по привилегии его королевской милости, должен оставаться при гетмане, и как нынешний гетман, благородный Богдан Хмельницкий, назначен привилегиею его королевской милости, так и на будущее время гетманы должны состоять под верховенством и властью гетманов коронных, и должны быть утверждаемы привилегиями. Каждый, делаясь гетманом, должен дать присягу верноподданства его королевской милости и Речи Посполитой; все же полковники и старшина должны быть назначаемы гетманом его королевской милости запорожским.
6. Религия греческая, которую исповедует войско его королевской милости Запорожское, также соборы, церкви, монастыри и коллегиум киевский должны оставаться при прежних вольностях по давним правам. Если бы кто-либо во время этого замешательства выпросил что-либо из церковных добр или под кем-нибудь из духовенства, это не может иметь никакого веса.
7. Всех шляхтичей римской и греческой религии, которые во время этого замешательства были при войске его королевской милости Запорожском, также и киевских мещан, покроет амнистия, и будут им сохранены жизнь, честь, положение и имущество. Если бы что под которым-либо было выпрошено, то должно быть уничтожено конституциею, дабы все пребывали в королевской милости со своими вольностями, женами и детками.
8. Жиды в добрах его королевской милости и шляхетских, как были жителями и арендаторами, так и теперь должны быть.
9. Орда, находящаяся в настоящее время в крае, должна быть тотчас отправлена и должна удалиться из края, не делая никакой шкоды в областях его королевской милости и не должна кочевать на землях Речи Посполитой. Так как запорожский гетман обещает привести ее к службе его королевской милости, то, если бы это не состоялось до будущего сейма, в таком случае Запорожское войско не должно иметь с нею никакого союза и дружбы, но должно считать ее неприятелем его королевской милости и Речи Посполитой, оборонять границы и против неё становиться с войском Речи Посполитой. Также и на будущие времена не вступать с нею и с иностранными государями ни в какие сношения и заговоры, должны оставаться в верном подданстве его королевской милости и Речи Посполитой вполне и ненарушимо, как нынешний гетман со всею старшиною и со всем Запорожским войском, так и все преемники его на будущие времена должны вполне верно и усердно состоять во всякой службе Речи Посполитой.
10. Как Запорожское войско, при составлении своего реестра, никогда не касалось границ Великого Княжества Литовского, так и теперь не должно касаться, но, как сказано выше, должно ограничиваться Киевским воеводством.
11. Так как Киев есть город столичный и судебный, то в нем как возможно меньше должно принимать реестровых казаков.
...Коронное войско должно тотчас двинуться на назначенные места и ждать составления реестра, равно и Орда тотчас должна выступить из края, а войско его королевской милости Запорожское тотчас должно быть распущено по домам».
Освецим пишет, что Белоцерковский договор был заключен с казаками на условиях, не соответствующих чести и достоинству Речи Посполитой, но вынужденных бедственным состоянием коронного войска. «Тем не менее» (продолжает он) «договор этот удовлетворил многих, особенно тех, которым надоела война и постоянный сбор налогов на содержание войска, и которые, вследствие того, желали как можно скорее заключить мир, полезный как для них, так и для отечества. Действительно, несмотря на нашу неурядицу, на малочисленность и страдания войска, договор принес Речи Посполитой многие выгоды, а именно»:
«1. Землевладельцы трех воеводств: Брацлавского, Киевского и Черниговского были освобождены от тяжелого бремени, возложенного на них Зборовским договором, разрешавшим записывать в реестр казаков, живших в частных имениях.
2. Расторгнут был опасный союз казаков с татарами, который должен был окончательно прекратиться в конце декабря.
3. Войска наши получили вновь право квартировать в трех украинных воеводствах, которого были лишены по Зборовскому договору.
4. Постыдная и позорная граница, признанная по статьям того договора, как будто отчуждавшая в пользу казаков три воеводства, теперь была уничтожена и предана забвению».
«Впрочем» (говорит характеристически Освецим) «большинству шляхты и самому королю договор не особенно понравился. Они были недовольны тем, что гетманская булава была оставлена Хмельницкому, что было признано законным слишком большое количество казаков, что обязанность уплаты жолду войску, возложенная в начале на Хмельницкого, потом не состоялась; особенно же недовольство происходило от того, что, в виду столь счастливого начала кампании, надеялись завершить ее крайне выгодными условиями договора. Впрочем, если результат не оправдал надежд, то на это были весьма важные и многочисленные причины, а именно»:
«1. Расстроенное здоровье краковского кастеляна, в следствие чего не только военные действия не могли быть ведены эпергично, но по временам войску угрожала серьезная опасность.
2. Несогласие вождей, вследствие которого в войске происходили крупные скандалы: ибо полевой гетман публично оскорблял друзей и доверенных лиц великого гетмана, из-за чего они — стыдно даже сказать — ругались взаимно матерными словами и хватались за сабли.
3. Войско наше страдало от голода, который и без битвы может привести в расстройство самые многочисленные армии.
4. Теряя постоянно людей от голода и болезней, войско наше не имело надежды на получение подкреплений, между тем как они беспрестанно прибывали к неприятелю.
5. Большая ошибка была сделана в выборе пути: войско наше попало в угол между реками Росью и Рутком и не могло оттуда ни возвратиться, ни двинуться вперед, не подвергаясь великой опасности.
6. В помощь казакам приближался многочисленный отряд Орды, под начальством нуреддина и находился уже под Корсунем.
7. Существовало постоянное опасение, что литовское войско, соскучась терпеть голод, недостаток и нашу неурядицу, оставит нас и возвратится домой.
8. Состояние погоды также принудило нас к уступчивости. Дождь и слякоть, продолжавшиеся беспрерывно в течение трех суток, до того были вредоносны для войска, что в одну ночь умерло 300 человек из иностранных наемных полков, остальные же иностранцы, не будучи в силах долее выносить нестерпимого голода и слякоти, стали перебегать к неприятелю.
9. Наконец, почти совершенное отсутствие управления, этой души военного дела, проявилось в такой же мере, как и в предшествовавших событиях, и войско действовало скорее наугад, по воле судьбы, чем по разумно обдуманному плану.
10. Вследствие всех перечисленных причин была сделана самая крупная ошибка: в субботу не последовало решительной битвы, которая могла бы увенчать и закончить кампанию полным успехом. Сами враги впоследствии сознавались, что, когда войско наше в этот день двинулось в атаку, построенное в таком же порядке, как у Берестечка, по совету и стараниями полевого писаря Пршиемского, то все хлопы, объятые страхом, бросились бежать; даже полковники стали отступать за Рось, и сам Хмельницкий сильно струсил. Его любимец, Выговсвий, говорил: мы хотели бежать, подобно тому, как бежали под Берестечком, но Господь отнял у вас разум».
«Итак» (заключает откровенно мемуарист), «приняв во внимание все перечисленные обстоятельства, мы должны возблагодарить Господа за то, что он дозволил нам заключить мир и охранить нас и Речь Посполитую от окончательной погибели, которая могла последовать от нашего неустройства».
Что Хмельницкий струсил под Белой Церковью, как и под Берестечком, это для нас не важно: важно то, что успехи его были возможны только в таком обществе, как польское, и в таком государстве, как Речь Посполитая. Мысль эту резко высказал в глаза правительствующим панам царский посол, Репнин Оболенский, как об этом будет речь в своем месте. Если вспомнить здесь, чем был Хмельницкий под Зборовом и чем сделался под Белою Церковью, то в его нравственной несостоятельности еще больше обнаружится несостоятельность польской общественности и государственности: ибо по плодам ценится дерево.
Добившись путем резни и пожога до 40.000 негербованной шляхты в Малороссии, казаки Хмельницкого разжаловали теперь в мужики половину реестровиков, лишь бы обеспечить за родовитыми представителями своего промысла полумужицкое панованье, а за миллионы земляков, погибших под саблею и в татарской неволе, вознаградили они свое русское отечество небывалым голодом и мором.
Двукратным изгнанием панов из наследия по предках и троекратным опустошением цветущего края — они приучили мужиков к разгульной жизни на счет людей трудолюбивых, и теперь, под Белой Церковью, возвратили озлобленным землевладельцам все их права над одичалым народом, не освободив родного края даже от жидовской эксплуатации, которой приписывали панские преступления против поспольства. Церквам, казаковавшим шляхтичам и мещанам вернули казаки то, чем они пользовались до Хмельнитчины; но многие церкви и школы сгорели, мещане от пожаров и военных грабежей обнищали, и широкие пространства недавно еще многолюдного, богатого, обильного даже в мужичьем быту края превратились в такие пустыни, как будто там никогда ничего не было.
Из-за чего же было пятнать русское имя столькими злодеяниями, проливать реки человеческой крови, причинять столько несчастий и страданий не только шляхетскому, но и казацкому народу? Беспутный, бесчестный и лишенный чувства своего достоинства народ не задавал себе подобных вопросов. Он, как и его казацкий батько, умел только пьянствовать и злиться. Злился на панов за то, что не дали ему истребить и самого имени ляшеского. Злился на татар за то, что эти, как и он сам, воры по ремеслу, бились отважно только в задоре, а потом трусили и вознаграждали себя за поход пленением своих союзников. Злился на москалей за то, что не хотели участвовать в его безбожных предприятиях.
На общечеловеческом суде нет ничего преступнее вероломства и предательства; но когда эти преступления делаются причиною гибели многого множества своих и чужих людей, тогда нашему бедному сердцу остается утешать себя только надеждою, что широкая картина вероломства и предательства, созерцаемая нами в прошедшем, широко распространит отвращение к вероломству и предательству в настоящем.
Глава XXIX. Результат казацких бунтов. — Неизбежность отпадения Малороссии от Польши. — Казаки переселяются в московские владения. — Казацкая интрига в Турции. — Поход в Волощину. — Битва под горою Батогом. — Казаки побиты в Волощине. — Финансовая и нравственная несостоятельность панской республики.
Печален был результат подвигов Хмельницкого. Сотни и сотни тысяч людей тлели в земле, валялись непогребенными по лесам и болотам, по заглохшим полям и пепелищам, а не то — находились, как предмет позорного торга, в руках у татар, которые появлялись иногда с этим товаром даже на казацких ярмарках и отдавали обременявшего их пленника за лук и десяток стрел, как бы в благодарность за то, что казаки бывало отдают им шляхтича за нюх табаку. Множество руси, освобождаемой Хмельницким из-под так называемого ляшеского ига, работало в турецких сералях, на морских каторгах и даже за пределами Турции, у персов и других азиатских народов.
Край был теперь малолюден и голоден. Многие города и бесчисленные села оставили по себе только поросшие бурьяном кучугуры. Широкие пространства, кипевшие прежде земледелием и промыслами, обратились в такую молчаливую пустыню, какую видел в южной Руси Плано Карнини после татарского Лихолетья.
Ко всему этому присоединилось моровое поветрие. Вдоль широкого казако-татарского шляху, от Берестечка до Случи, переколело множество татарских и жолнерских лошадей, валялись десятки тысяч казаков, побитых восторжествовавшими панами и голодом. Вернувшись в отчуждавшуюся плуга Украину, многолюдные толпы охотников до казацкого хлеба увеличили голод остававшихся дома и принесли им заразительную смертность. Осень 1651 года была теплая, а зима мокрая. Зараза, известная под именем черной смерти (mors nigra), по следам казако-татарских вторжений вторгнулась в глубину польских владений, точно ядовитое дыхание Хмеля, и покарала панов за те грехи, которыми они породили беспощадную казатчину. Черная смерть предвещала им общее затмение панской республики, — ogolne zacrnienie zicmi naszej, пишут поляки, — затмение земли, просвещенной обманчивым светом, при котором все русское казалось польским. Черная смерть покрыла заразительным трауром своим и Малороссию, в наказание за то, что она, в лице своих могилян, польскую тьму начала признавать светом.
В прежние времена малоруссы, подучиваемые запорожцами, жаловались на панские порядки, на жидовские аренды, на жолнерские грабежи и насилия, которые казались им нестерпимыми. Теперь все это к ним вернулось, но уже не с прежним характером соглашения взаимных нужд и выгод. Паны, отвоевавшие некогда собща с подданными плодородную землю у неприятелей св. Креста, пришли теперь к своим подданным, точно в неприятельский лагерь; а подданные, разучившись добывать вместе с ними насущный хлеб смотрели на них, как на своих поработителей. Даже работать один только день в неделю на пана, как требовали от них под Берестечком, казалось им невыносимым бременем.
С другой стороны, ни паны, ни казаки не были довольны Белоцерковским миром, также как и Зборовским. Те и другие были приневолены к нему тяжкой необходимостью. Паны так еще недавно шли на Хмельницкого облавою и думали только о том, как бы не дать казацкой гидре убраться в её «украинские берлоги».
Казаки так еще недавно бредили славою, которая доныне восхищает их историков, повторяющих слова кобзарской думы:
В той час була честь і слава, Військова справа: Сама себе на сміх не давала, Неприятеля під ноги топтала.Корсунские и шляхетские герои не могли удовлетвориться не только белоцерковским, да и Зборовским компромиссом. Современный им польский поэт писал, что украинский народ лишь тогда может быть побежден оружием, когда весь край сделается безлюдным. Относительно правой стороны это были слова пророческие.
Они оправдались бы и на левой стороне «обычного казацкого шляха», когда б эта сторона не попала в хозяйственные руки Москвы по Андрусовскому миру (1674). Поссоренные двумя соперничающими церквами сословия и состояния могли вернуться к былому согласию скорее под владычеством турецких башей, чем под верховенством польских магнатов.
Паны, возвращавшиеся в свои имения согласно 4-й статье Белоцерковского договора, видели ясно, что надобно готовиться к новой войне за существование в том крае, который слился с Польшею высшими классами, но разошелся низшими. Если принять во внимание, кто и как соединял несоединимые основания греческой и римской веры, кто и как расторгал общественную связь в интересах слияния церковного, то новая война долженствовала быть уже не социальная, а религиозная, — тем более, что теперь малорусская религиозность, какова бы ни была она в новых своих защитниках, абсолютно отвергала все ляшеское и поставила себе девизом следующие слова казацкой песни:
Та не буде лучче, та не буде краще Як у нас на Вкраїні: Що немає ляха, що немає жида, Не буде унії!Конечно, ни вере, ни церкви, в конкретном значении слова, от этой религиозности не здоровилось. Но лучшие органы древнего русского благочестия безмолвствовали, а худшие проявляли себя соответственно достоинству своего духовного воспитания. Тем не менее результатом религиозных мнений, в которых были воспитаны воюющие стороны, должно было быть расторжение польско-русской республики. Оно совершилось нравственно уже тогда, когда простой русский народ в Польше, с голоса подстрекателей своих, назвал всех русских панов и шляхтичей ляхами. Оно совершилось политически, спустя два с небольшим года после Белоцерковского мира. Те муки и насилия, которым, по сказанию наших историков подвергали своих подданных вернувшиеся на свои пепелища землевладельцы, были невозможны по самому ходу житейских дел. Но естественно, что подданные, попробовавшие казатчины, отбились от рук у землевладельцев, отвыкли от понимания взаимных выгод, и охотнее гайдамачили, чем пасли стада, сидели в пасеках, пахали землю. Даже те из них, которых врожденная робость или рассудительность удерживала от гайдамачества, рискуя быть подожженными, убитыми, замученными казацкой голотою, постоянно колебались между верностью панам и проповедуемым казаками предательством.
Хмельницкий видел, каковы плоды его разбойной пропаганды, к которой он должен был прибегать в своей щербатой доле. Теперь он сам боялся «безголового зверя», разлакомленного кровью и добром зажиточных людей. Теперь старательнее прежнего он окружал себя татарами. А голод между тем заставлял этого зверя выть среди родных пустынь, из которых война изгнала земледелие. Голодный вой долетел и до нашего времени, в таком, например, двустишии казацкой песни:
І день і ніч войни ждемо: Добичі не маєм...Ржаной хлеб, рогатый скот и овцы сделались в Малороссии редкостью. Голод свирепствовал у нас вместе с черною смертью. Народ не видел ничего утешительного ни в настоящем, ни в будущем. Он был беззащитен в малолюдных пустынях своих и от казаков, жолнерских подражателей, и от татар, казацких побратимов. После искусственного возбуждения его физической и нравственной энергии, он впал в ту малорусскую апатию, памятником которой осталась историческая поговорка: «абы не сидячого татары взяли».
И вот чем казатчина способствовала русскому воссоединению, а не теми героическими начинаниями, которыми украшают ее псевдоисторики. Не борьба казаков за православную веру и русскую народность привела уцелевшие от Хмельнитчины миллионы малорусского народа под власть московского царя: привели их неслыханные бедствия, в которые Малороссия была повергнута казаками, а дорогу к Москве указало им наше духовенство, у которого польские ставленники отнимали духовные хлебы.
Еще в эпоху Иова Борецкого Московское Царство называли в Малороссии страною тихою все монахи и монахини, все попы и поповичи, все благочестивые люди, вздыхавшие по свободе религиозной совести, теснимой прямо или косвенно папистами. Эта тихая страна сделалась теперь обетованною, богатою хлебом, которым она снабжала даже киевский рынок во славу своего великого хозяина, царя, разрешившего беспошлинный вывоз при первом приступе голода в 1648 году [63]. Москва, во многих частных случаях, проявляла себя варварски; но в распоряжениях своего двора и царского правительства поступала с удивительной человечностью сравнительно с мусульманами и католиками. Одно её освобождение от монгольского ига достаточно свидетельствует о преобладании в ней государственной хозяйственности над хозяйственностью турок и поляков. Это преобладание объясняют возрастанием самодержавия московского, заимствованного якобы от монгольского деспотизма. Но мнимые питомцы монгольского варварства, падшие в Смутное Время от козней цивилизованного Рима, встали без посторонней помощи, чего никак не могла сделать их якобы наставница, Золотая Орда, подпав под их владычество. Восстав из своего Разорения, Москва доказала превосходство государственной хозайственности своей и над воспитанною Римом Польшею. Она привлекла к себе симпатии всех, страдавших в этом государстве от бессудья и самоуправства, даже католиков, коренных полонусов, но всего больше расположила к себе малорусское духовенство.
Отклоняя просьбы казаков о дозволении им переселиться всем войском в Московское Царство, и не веря слезам Хмельницкого, Москва верила православному стремлению к ней истинных органов малорусской церкви. Это стремление поощряла она с политическою последовательностью, по мере своей безопасности от Польши.
Монахи и монахини получали от неё «милостыню на церковное строение» безотказно; но сперва пограничные власти не всех обращавшихся к царской благотворительности допускали в самое сердце Великой России. По царскому указу, многим давали милостыню в Путивле, и затем возвращали в «Литовскую Сторону». Теперь царь подавал милостыню не только на церковное строение, но и на школы, которые, как жаловался киевский митрополит, «оскудели оскудением благодетелей своих», разогнанных, разоренных и перебитых казаками (чего не смел высказать письменно).
Теперь в Москву принимались уходившие из оказаченного Киева эллинисты-богословы «для справки греческих книг на славянскую речь», для перевода историко-философских книг с латинского языка и для устройства певческих школ.
Наконец, в августе 1652 года, было наказано путивльским воеводам: всех приходящих из Киевской земли чернецов и черниц, которые выйдут на государево имя, пропускать к Москве без малейшего задержанья, с провожатыми, и давать им подводы, «чтоб им ни в чем нужи не было». Вот с кого началось самое искреннее и прочное присоединение Малороссии к России!
Монахи первые возвестили о стремлении малоруссов к новому центру русского мира; монахи оправдывали его собственным переселением в самую среду великоруссов; монахи давали у нас в Малороссии православно-русское направление всем умам, остававшимся за пределами католического влияния и вообще польщизны.
Точнее сказать, они сохранили у нас всецело древнее русское благочестие. Презирая так называемое невежество этого класса и соединенные с действительным невежеством пороки, игнорировали мы доселе великую службу его в деле русского воссоединения, и приписывали это спасительное дело отребью польско-русской общественности — днепровским гайдамакам, черноморским пиратам, татарским побратимам. Нет, общественная и семейная жизнь в тогдашней Малороссии не давала возможности сохранить в целости национальные предания о предках и старине: только порвав связи с миром и его житейскими попечениями, было возможно спасти нашу русскую национальность в будущем посредством ясных воспоминаний о былом под сенью древних наших святынь, на гробовищах отдаленнейших наших предков.
Деспотическая политика московского правительства проницала во мрак русского будущего глубже, нежели наши питомцы либерального Запада проницают во мрак русского прошедшего. Москва привлекала к себе элементы строительные, но вовсе не разрушительные, — вовсе не те, которым так сочувствуют верхогляды малорусской современности. Не изощряла она меча на пагубу соседственной державы, поддерживая в ней злодеев, как это нам представляют; нет, она своим примером и внушением воспитывала в родственной Малороссии общественное мнение, поколебленное духом пагубной польско-русской вольности. В лице проповедников и хранителей православия, она поддерживала в польской Руси те правила единовластия и соподчиненности, которыми создалась политическая свобода Руси Московской. Для этого ей были нужны вовсе не казаки, естественные нарушители гражданского порядка. Она казаков чуждалась. Она не знала, как от них отделаться и дома в своей великой работе собирания русской земли. Наследие новогородчины с одной стороны и татарщины с другой, этот разбойный класс не давал Москве покоя со времен Иоанновских, колебал её владычество в эпоху грозных Смут и готовил ей в будущем Разина да Пугачева. Что касается казаков днепровских, то это разрушительное орудие было выковано врагами Москвы на её пагубу, и если Москва запачкала свои руки этим орудием в борьбе с Польшею, то не иначе, как пачкает руки человек, вырывающий окровавленный нож у того, кто покушался его зарезать.
Вернувшись от Хмельницкого, Богданов легко мог объяснить себе, почему для проходимца, хвалившегося и Польшу, и Немецкую Империю, и самого папу отдать в руки турецкому султану, — почему для казаков, перед которыми, по их словам, дрожал весь свет еще во время Сагайдачного, земля сошлась клином в Московском Государстве. На всем пути его в Чигирин и обратно, как доносил он царю, куда ни приезжал он, духовные и светские всех состояний люди окружали его и со слезами молили Бога о том, чтобы московский царь принял их в подданство на том же основании, на каком пребывают все его подданные. Эта всеобщая мольба была явление великое, и если привели к ней население края казаки, то привели только своим беспутством; прямыми же начинателями и творцами русского воссоединения были у нас на юге те, которые, именем церкви, воспрещали казакам «ходить на Москву, на род христианский».
Подчиняясь их внушению, казаки, как разноплеменное и разносословное скопище, не могли выдержать своего обета до конца. В 1633 — 1634 годах они проторили новый татарский шлях от ворот России, Смоленска, к центру России, Москве. Но, сводя дома кровавые счеты с землевладельцами, они, еще во времена Конецпольского, стали переселяться в северские и придонецкие пустыни вместе с подпомощниками своими и другими слобожанами. Теперь, после катастрофы под Берестечком и неудачного отпора под Белою Церковью, настал новый период переселения казаков, а вместе с ними и других людей в соседние пустыни.
Жолнерские переходы и постои, на которые горько жаловался сам Конецпольский, заставили служившего ему инженера Боплана назвать Польшу папским раем и мужицким адом. Но и в те времена к притеснителям и грабителям «убогих людей», жолнерам, присоединились уже их враги и подражатели, казаки. Косинщина и Наливайщина были для мещан и селян предзнаменованием тех бедствий, которым они подвергались от казацкого разгула впоследствии. Казаки Сагайдачного, идучи к Хотину против турок, опустошили столько панских имений, что, по донесению королевского агента, зазывавшего их на войну, едва ли сами турки с татарами могли бы причинить больше вреда. Наконец Хмельнитчина ринулась на поприще Косинщины и Наливайщины в сообществе татар, прожгла Волынь во всех направлениях, недобитков меча предала в татарские лыка, остальных разогнала по недоступным трущобам. Голод и мор, следовавшие за казацкими и жолнерскими похождениями, заставили волынцев бежать из несчастной родины, куда глядят глаза. Еще до Берестечской войны, дороговизна съестных припасов дошла до такой степени, что в Луцке мацу ржаной муки продавали по 120 злотых, и голодные люди умирали толпами. Одна женщина под Луцком (записал в июне 1651 года Ерлич) сделалась людоедкою, и делилась человеческим телом с соседями, а другая резала и ела собственных детей.
Спасаясь от казаков, татар и жолнеров, волынцы перебегали с места на место, прятались по болотистым трущобам, переходили за Днепр, и нашли наконец безопасное убежище в полтавских пустынях, граничивших с московскими пустопорожними землями. Многие забрели и в Московскую землю, в которую направлял свое бегство знакомый отцам и дедам их царь Наливай с казацкими семьями, и в которую проторили дорогу, по сказанию очевидца, игумена Филиповича, беглые павлюковцы. Этим способом явились первые малорусские слободы около Путивля и Белгорода.
От нужды и беды польские и русские шляхтичи делались казаками. Когда казацкая сила рушилась под Берестечком, разочарованные в ней прозелиты казатчины бежали за пределы казацкого присуда. Об одном из таких беглецов, Дзинковском, сохранилось документальное предание, что он, предводительствуя тысячею казаков острожского, новообразовавшегося тогда полка, выпросил у царя дозволение поселиться на его земле с предоставлением ему права сохранить в новых слободах полковые и сотенные порядки казацкие. Примеру Дзинковского следовали и другие.
Московский царь, пользуясь правом, выговоренным еще в Полянове, привлекал в свои украины способных к их защите выходцев, как заботливый и практический хозяин. Для беглецов Хмельнитчины строились у него хаты, в которых они находили даже готовое зерно на засев нови, никому не принадлежащей, никем не оспариваемой.
Таким образом возник на Тихой Сосне город Острогожск; так получили свое начало богатые впоследствии города и местечки: Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белополье, Короча и другие; так заселились бесприютные степи и образовались слободско-украинские полки по рекам: Донцу, Удам, Харькову, Коломаку. Нынешний Харьков был незначительною в начале слободою; но его безопасная позиция среди болот и лесов привлекла к нему многолюдство и послужила к его возвышению, как полкового города, неподведомого малороссийскому гетману.
В свою очередь поднестряне и побожане, не видя добра ни в казацких, ни в панских порядках, сожигали свои жилища и корма, чтоб не достались ненавистным панам ляхам, истребляли все имущество, которого нельзя было забрать в мандривку и пробирались в землю Восточного царя, о которой наслышались, как о царстве скорого правосудия, сытой и мирной жизни.
Хмельницкий испугался повсеместной эмиграции, и пытался остановить ее, как это делали коронные власти и землевладельцы во времена Остряницы. Но приверженцы Хмеля оказались бессильными против тех, которые возненавидели коварный режим его и возгнушались предательским делом его. Казацкие ватаги переселенцев шли напролом, увлекали за собой новых отступников Хмельнитчины, угоняли чужой скот, били тех, кто хотел их остановить, и стремились бурным потоком в Слободскую Украину, проклиная Хмеля-Хмельницкого и его торговлю людьми. Эмиграция принимала таким образом вид междоусобной казацкой войны.
Наконец и сам «добродий» таких людей, как Джеджалла, боясь остаться в своем удельном княжестве без подданных, просил у царя дозволения перейти на его землю и поселить казаков под Путивлем и Белгородом. Мнимое «наследие Богдана», Киев, и «святыни всех его гробов» оставлял он в руках врагов древнего русского благочестия.
Но пребывание казацкой вольницы в стратегических пунктах царской земли повело бы Москву к новым смутам. Хмельницкому были указаны пустыни на Дону и Медведице, вовсе не подходящие к его замыслам, и он остался в старом гнезде казатчины.
Не находя ни с которой стороны подступа к великому русскому хозяину, стал он опять ладить с панами, подчинялся напоминаниям киевского воеводы, Адама Киселя, и деятельно производил новую реестровку казаков, как и после Зборовского мира. В конце февраля 1652 года, Кисель доносил уже королю, что выписы (то есть исключение лишних людей из условленных 20.000 казаков) произведены, реестры для вписания в гродские киевские книги представлены, казацкие послы на сейм посланы, все землевладельцы в свои добра введены опять (nobilitas wszytka do dobrswych reinducta) и часть коронного войска (по Ерличу четыре полка) отправлены за Днепр на зимние квартиры.
Обманувшиеся столько раз в своих надеждах паны продолжали обманываться неизлечимо. Кисель писал к королю, что Хмельницкому можно и верить и не верить, но казаков разумел он чем-то непохожим на Хмельницкого, тогда как этот каверзник был самое выразительное создание казацкого ума и казацкой нравственности. «Если верить присяге Хмельницкого» (писал Кисель), «то надобно оставить войско в обыкновенном числе, издерки же, которые делала до сих пор отчизна, сократить; если же не верить, полагая, что он дружбы с Ордой не разорвет, в таком случае увеличивать войско и вести войну... Не начиная войны, надобно быть в готовности на всякий случай... При этом обходиться с Хмельницким как можно лучше и привлекать к себе подачкою, о которой он просит, — как для ускорения ссоры его с татарами, так и для возобновления поля и моря... Надежда на Господа Бога приведет наше дело к прежним началам (W PanuBogu nadzieja rem nobis ad sua revocabit principia). А что всего важнее: когда, не имея от нас никакой причины, казаки не будут иметь случая к восстанию, напротив, оставаясь при своих вольностях, полюбят мирную жизнь (zakochaja sie ѵѵ pokoju)»...
Такие детские мысли преподавал Адам Свентодьдович беспомощным детям-панам.
Отправленное за Днепр войско сделало центром своей оккупации Нежин. Отрядами его командовали Войнилович, Маховский и житомирский староста Тишкович, расквартировавшие жолнеров но Заднеприю и Задесенью. Часть литовского войска заняла пограничную от Литовского Княжества Стародубовщину. Край был разорен до такой степени, что, по мнению Киселя, никоим образом не мог прокормить жолнера, «разве пришлось бы отпускать провиант из всей Короны». Поэтому на жолнерские постои смотрели голодные жители с крайней досадою; а жолнеры все-таки не оставляли своего исконного обычая грабить хозяев. Самовидец говорит, что «казацтво, застаючое в городах, волно сходили с тех городов, кидаючи пабытки свои, у городы ку Полтаве, и там слободы поосажовали, а инние на кгрунтах московских слободы поосажовали, не хотячи з жолнерами зоставати и стацеи оным давати: бо незносную стацею брали».
С другой стороны томило казаковатых заднепрян и задесенцев пребывание в имениях землевладельцев, от которых они поотвыкли. В интересах и самих землевладельцев, и правительственных властей было — задерживать переселенцев на местах их оседлости. Но «жолнеры» (пишет Самовидец) «не могли им заборонити: бо и з гарматами выходили из городов; але напотом хто зостался, гоже оного не пущено, и давати мусел стацею жолнерам».
Волнение в народе по поводу переселения, реестровки казаков, расквартирования жолнеров, водворения помещиков и задержания на местах жительства тех, кому не удалось убраться из казацкой Украины в Украину царскую, — все вместе повело к обычному в нашем народе гайдамачеству. Убогие, голодные, обиженные, пьяные, ленивые и недовольные ни казацкими, ни панскими порядками стали нападать на панские имения, на мещанские дворы, на зажиточных реестровых казаков, которых называли дуками срибляниками, наконец и на жолнеров, которых бранили душманами.
Хмельницкий издал универсал, в котором говорил, что теперь уже не годится делать того, что делалось прежде, а себя выгораживал из каких-либо бунтов поспольства против панов. Он грозил непослушным строгою карою; но его угрозы оказались бессильными. Подобно тому как татары повиновались турецкому султану только в поощрении, но никак не в прекращении набегов, отатаренная Хмельницким чернь смотрела теперь скрива на того, о ком кобзари пели ей хвалебные думы за возбуждение к поджогу, грабежу и резне. И как со времен Косинского гербованная шляхта разбойничала вместе с казаками, так теперь шляхта негербованная, реестровые казаки, гайдамачили вместе с развращенным казатчиною поспольством, а во главе гайдамачества являлись даже полковники, искавшие себе славу Морозенков, Перебийносов, Нечаев и прокладывавшие дорогу к гетманству по примеру самого Хмеля.
Проживавший в это время в Киеве Ерлич записал у себя в дневнике, что в местечке Срибном (Sybryi), за Днепром «хлопская сваволя» изменою разбила наголову две хоругви (как это было сделано при Конецпольском в Дымере). Но не долго они торжествовали (продолжает православный шляхтич): лишь только дали знать об этом Войниловичу, командовавшему полком князя Вишневецкого, он тотчас вторгнулся в город, вырезал всех от великого до малого, а город сжег. В ответ на эту энергическую меру, появились гайдамацкие ополчения в разных местах. В Липовом, в Рябухах, принадлежавших к миргородскому полку, жолнеры снова имели свалку с местными жителями. Под Лубнами появился гайдамака Бугай. Под Нежином собралась гайдамацкая купа под начальством Лукьяна Мозыры. Этот был зол на Хмельницкого за то, что он ссадил его с корсунского полковничества, которое отдал своему швагеру Золотаренку. Мозыра, как и Перебийнос, воображал себя ничем не хуже Хмеля, и метил сам сделаться гетманом. Наконец миргородский полковник, Гладкий, заявивший то же стремление под Берестечком, составил заговор против жолнеров, и днем их избиения во всем миргородском полку назначил день Светлого Воскресения, когда жолнеры подгуляют. Произошла кровопролитная резня; но, видно, на пьяных напали пьяные: проспавшись, испугались они гайдамацкого геройства своего, и Гладкий был схвачен хмельничанами. Около Мглина и Стародуба произошло такое же столкновение хозяев с постояльцами; а все эти случаи вместе выражали раздражение казацкого народа против гетмана, который столько раз поднимал его кончать ляхов, и опять возвращал Украину к прежнему порядку вещей.
Был в Польше слух, что казаки собирались идти на Чигирин и положить конец орудованью Хмельницкого. Хмельницкий успокоил, или разъединил казацкий народ лишь тем, что в прибавку к 20.000 узаконенных реестровиков записал в секретный реестр еще больше 20.000.
Между тем он просил короля назначить военно-судную комиссию для расследования и кары украинских бунтов. Эта комиссия приговорила к смертной казни Хмелецкого, Мозыру, Гладкого, войскового судью Гуляницкого и многих мелких ватажков гайдаматчины. Хмельницкий играл при этом роль человека подначального, но в сущности пользовался возможностью извести своих недоброжелателей, и особенно тех, которые, посредством бунтов, подкапывались под его гетманство. В видах будущих козней, интриган очищал свой извилистый путь от препятствий, и в то же время сеял в народе новую ненависть к ляхам, которые, по казацкому воззрению, теряли не только право мести ударом за удар, но и право государственного суда над разбойниками. Все-таки ему становилось более и более жутко среди своих «детей, друзей, небожат». Мирясь поневоле с панами, ища защиты даже в ненавистных для него постояльцах, он видел, как его удельное княжество таяло вслед за своим возникновением. Теперь ему больше, нежели когда-либо, нужна была царская помощь. Он домогался у царя хоть небольшого отряда ратных людей, лишь бы та слава была, что Москва стоит с ним заодно. Но царское правительство на все его представления о православных церквах, на все его проекты широких завоеваний отвечало с мучительным для него достоинством, что великий государь, его царское величество, милостиво похваляет его за то, что он государской милости к себе ищет, и т. д. Царское правительство помогало голодному малорусскому народу московским хлебом, и оставляло без внимания мольбы и слезы казацкого гетмана.
Хмельницкий видел, что и без него все в Малороссии наклонилось в московскую сторону. Он боялся остаться ни причём с ватагой головорезов да с татарами среди края, не имеющего ни естественных границ, ни крепостей, и среди народа, проклинающего его даже в своих песнях. Вместе с другом и обманщиком своим, Выговским, он обольщал царских людей перспективою не одних военных, но и промышленных успехов; разоритель обольщал строителей, расточитель — собирателей, полудикий номад — государственнных экономистов. «Великому государю» (доносили они со слов писаря Запорожского войска), «его государским счастьем к великому московскому пространству и многолюдному государству, и без войны, и без кровопролития, учинится прибавленье большое, и овладеет он, великий государь, многою землею и городами; и тех городов ему, великому государю, с мещан и со всяких чинов людей и с их торговых и с иных и со всяких промыслов учинится ево государской денежной казне прибыль многая, потому что православных християн многолюдство большое, и промыслы всякими промышляют в своих городех, и в иные государства для всяких своих промыслов ездят так же и к ним в городы из иных государств многие купетцкие и всяких чинов люди со всякими многими товары и для иных всяких своих промыслов приезжают же».
А что польский король вздумал бы воевать против царя (говорил им Выговский), так этого опасаться напрасно: «польскому де королю против великого государя стоять некем». Он поспешит прислать в Москву своих послов, и пойдет на всевозможные уступки. Если же великий государь пошлет на него с казаками своих ратных людей, тогда Польская Корона и Великое Княжество Литовское перейдут под его высокую руку без войны: ибо они дрожат от страху пред одними казаками. Другое дело (продолжал Выговский), если государь не примет казаков теперь же в подданство, а польский король станет подговаривать и прельщать их на совместную войну против Москвы, дабы поссорить их с великим государем и навсегда отвлечь от московского подданства. В таком случае он (Выговский) сильно опасается, чтобы казаки не пошли с панами на московское государство войною; а крымский царь и поготову пойдет воевать московское государство. Он и теперь пошел бы на Москву, да казаки отказались биться с единоверными православными христианами и проливать между себя христианскую кровь; «за то де Крымский на гетмана гневался долгое время».
Видя, что ни слезами, ни политическими и торговыми посулами нельзя склонить Москву в свою пользу, Хмельницкий вернулся к прежней политике запугиванья.
«Порази меня Бог» (говорил он), «если не пойду на Москву и не разорю ее пуще Литвы»! И после таких угроз он снова уверял москвичей в своей готовности завоевать в пользу царя всю королевскую землю. Но уверять в своей преданности, хвалиться своею силою и грозить своею местью — было ремеслом Хмельницкого, которое он прилагал к христианским и к магометанским государствам без всякого стеснения.
Заключив Белоцерковский договор, он тотчас написал в Стамбул, что у него была с поляками ужасная война, после которой заключил он мир, но мир почетный, без нарушения прежней дружбы с крымским ханом, которую (писал он) мы желаем сохранить до конца дней своих, равно как и быть верными подданными вашего цесарского величества. Он просил у султана грамоты к Крымскому хану, повелевающей участвовать во всех казацких войнах; а с нуреддин-султаном и с Карач-мурзою заключил особый договор. Предвидя новую войну с панами, Хмельницкий заручился турецко-татарскою помощью заблаговременно.
Действительно, сейм не утвердил статей, стоивших Потоцкому последних усилий, но не утвердил потому, что был сорван одним из литовских послов, по интриге панских партий. Пропившие свою добычу казаки только того и ждали. Немедленно были призваны татары, и войско начало готовиться к походу. Было решено — задеть Польшу со стороны её союзника.
В октябре 1651 года, Потоцкий послал к Хмельницкому Маховского хлопотать о дозволении разместить коронное войско во всей Брацлавщине. Хмельницкий согласился на это, но ограничил право сбора провианта, и прибавил условие, чтобы жолнеры вели себя во всех отношениях скромно и сдержанно. «Тягостно было вождям и войску» (пишет Освецим) «получать ограничения и предписания от подданного; но, уступая тяжкой необходимости и не желая нарушать из-за мелочи заключенный договор, они подчинились. Войско было распределено в Украине по селам и местечкам, начиная с Сaвраня, по всей почти Уманщине, и, согласно с требованием Хмельницкого, получало право на сбор самого ничтожного провианта. Пан Маховский привёз еще и другую, более серьезную и тревожную новость, — что Хмельницкий намерен отправить своего сына, Тимоша, с частью войска, в Волощину, для бракосочетания с дочерью волошского господаря. С Тимошем он решился отправить и татар, кочевавших на Капустяной долине у Корсуня, и назначил время сбора в поход через две недели».
Маховский, сверх того, выведал и донес Потоцкому, что к Хмельницкому пришел нуреддин-султан со всею Крымскою Ордою. Хмельницкий скрывал его приход, и уверял Потоцкого, что разместил пришедших к нему татар так, чтоб они не могли вредить королевским областям. «Но татары» (писал Потоцкий к королю) «не привыкли возвращаться без облову. Они будут гостить — или в польских, или в волошских владениях, которым и сам Хмельницкий грозит за свое сватовство». В последнем случае, Потоцкий советовал «спасать соседа и верного слугу» (волошского господаря), о чем и завел с ним переписку; войска же по квартирам не распустил, и оставил его в сборе у Махновки, под тем предлогом, что в Брацлавщине не прекратились еще волнения.
Волнения не прекращались во всю Хмельнитчину в Малороссии: мужики вместе с казаками бунтовали то против панов, то против самого Хмельницкого. Кисель, по званию киевского воеводы, пенял Хмельницкому за новые бунты, и Хмельницкий обещал ему казнить виновных перед его глазами; но такие казни служили у него только ширмою замышляемых им самим набегов. Чтоб отвлечь внимание Потоцкого от Волощины, Хмельницкий писал к нему о старых, не доделанных при Владиславе IV чайках, и манил его надеждою на совместный поход против турок.
«Видит Бог совесть мою», уверял он в своей искренности того, которому казаки приписывали «розум жиноцький». Но сын Потоцкого Андрей, галицкий староста, отзывался о старом плуте к Тизенгаузу так: «Подозрительна нам верность нашего приятеля. Хоть и сладко к нам пишет, но на деле та же у него свирепость, что и прежде была: Орды не отсылает, стоянки нашему войску откладывает на после Рождества Христова, а против господаря волошского замышляет новые враждебные действия (novam hostilitatem meditatur) за то, что один он был нашим верным соседом. Посоветуйте королю поскорее посылать войска свои в помощь господарю. Ибо, хоть бы король и написать письмо к этому пьянице, то он только фыркнет (za firkelo bеdzie u niego). Вот какой прекрасный мир устроил нам Кисель»!
Но Кисель до конца веровал в возможность невозможного, в соединенье несоединимого, и теперь, в качестве зловредного для поляков и для нас праведника, писал королю: «Меня зовут не гражданином, а предателем Речи Посполитой. Что же делать? Таков ум человеческий. Терпеть самое тяжкое, это — знаки праведника (graviora pali suat signa beati)». А Хмельницкий между тем новым ударом ножа в панское сердце еще раз определил цену Киселевской политике.
Нам опять приходится бродить в кровавых лужах растворенных слезами отцов и матерей, женщин и детей, — опять приходится описывать подвиги «борцов за веру православную и народность русскую». Начнем с несчастной женщины, помеченной Хмелем в число своих бесчисленных жертв.
В 1651 году, во время Берестечской войны, Роксанда Лупуловна находилась в Стамбуле. Людям, окружавшим Яна Казимира, нужно было сочинять о невесте молодого Хмельницкого такие же слухи, как и о жене старого Хмеля. Множество ушей, и подлиннее, и покороче королевских, внимало этим слухам z uciecha, и вот поляки до сих пор повторяют нам, что какой-то агент Лупула продал Роксанду, по словам турецких летописцев, какому-то венгерскому или польскому магнату за 20.000 пиастров. Этого с них мало: ею де интересовался некоторое время и великий визирь, Ахмет. Но бегство Хмельницкого из-под Берестечка и падение великого визиря освободили Роксанду из унизительного положения.
Тотчас по заключении Белоцерковского договора, Хмельницкий, по словам поляков, отправился в Стамбул (отлучка, невозможная для Хмельницкого), и позвонил мешком золота перед янычарскими очами. Султан Мурад был малолетен. Турцией правил серальский триумвират, с прибавкою женщин. Могущественнейший из триумвиров, Нехтас-ага, наименовал Хмельницкого сыном своим, убеждая отдаться безусловно в турецкое подданство. Хмельницкий обещал туркам все, а турки предоставили ему в распоряжение Волощину.
Николай Потоцкий глядел на задуманное Хмельницким вторжение в Волощину, как на великую обиду Речи Посполитой. Но его здоровье требовало отдыха; он передал свою власть полевому гетману и уехал в Хмельник, где и умер.
Пока Тимош готовился к походу, в Стамбуле совершился правительственный переворот, и верховная власть перешла к людям враждебным Хмельницкому.
Хмельницкий не осмелился нападать на Волощину. В то время за Днепром начались против него бунты, а до Калиновского дошло известие, что вместо 20.000, в казацкий реестр вписано по-прежнему 40.000. Коронный гетман привлек гетмана казацкого к ответственности. Хмельницкий отвечал, что не может совладать с оказаченною чернью, но что впоследствии все придет в надлежащий порядок. Калиновский помогал ему карать бунтовщиков, не подозревая, что освобождает врага отечества от опасных для него людей; а Хмельницкий ждал только весны, чтобы наступить с татарами на волошское Заднестрие. В Стамбул писал он между тем о своем верноподданстве и грозил, что если не поддержат его, то он будет вынужден повиноваться королю и идти, куда ему велят, хотя бы даже и на турок.
Турки сами находились в затруднительном положении и не могли поддерживать казаков. Но Хмельницкому нужно было одно, — чтоб ему не мешали. К несчастью для христиан, породивших такое чудовище, письма его в Стамбул, как и письма Крымского хана, перехватил искусный в этом деле Лупул и передал их через Калиновского в Варшаву.
Калиновский высказал Хмелю напрямик, что он поступает предательски. Он воображал, что этим смутит и запугает казацкого батька. Потомок убийцы Наливайкова отца не в состоянии был спуститься до самого дна в потемки казацкой души. Хмельницкий не только отвергал свое предательство, как всегда и все, что ему было нужно отвергать, но еще роптал на Калиновского, что он такими выдумками дразнит короля, а между тем подсказал Ислам-Гирею, что Лупул и Калиновский нанесли ему смертельную обиду. По малорусской пословице: «чорт у чорта сповидався, один моргнув, другой догадався», татарский хан воспользовался намеком хана казацкого: и к Лупулу, и к Калиновскому отправил он послов, требуя объяснения, по какому праву письма его были перехвачены и вскрыты.
«Да будет хвала Господу Богу» (писал к Лупулу достойный побратим Хмельницкого), «что мы, не доверяя пактам с королем, и летом, и зимою и во всякое время держим наготове татарские ногайские и крымские войска, которые, прося постоянно о войне с Польшею, вздыхают к Богу, о чем, вы лучше можете знать; а если поляки, разорвавши пакты, отправят против казаков свое войско, то пускай о том ведают, что наши татары умилосердятся над казаками, и не перестанут их спасать, как летом, так и зимою».
Лупул оправдывался перед ханом, что это поляки перехватывали письма, а Калиновский — что это не его войско сделало, а получил он известие о переписке от короля.
После того оба хана написали другие письма в Стамбул; но Лупул подослал к Ислам-Гирею шпионов и узнал, что весь поход, к которому они готовятся, направлен против него.
Не испугался, однакож, господарь, зная, как много значит в защите от неприятеля богатство, навербовал 12.000 войска с польскими офицерами, можно сказать, обученными Хмельницким, призвал на помощь Калиновского, а королю написал отчаянное письмо, заклиная его любовью к отечеству (которое для них обоих не существовало), заклиная его счастьем поляков (которые в глазах Яна Казимира были хуже псов), чтоб он повелел Калиновскому защищать от Хмельницкого вход в Волощину.
«Этот счастливый и дерзкий человек» (писал господарь) «домогается, чтоб я отдал его сыну дочку, единственную отраду моей старости, и грозит мне войною, а шпионы мои доносят, что у него войска готовы, и на челе их стоит Тимофей с Карач-беем. Неверный сын Хмельницкого, вместе с татарским князем, получил наказ — замучить отца и отнять дочку, которая, говорят они, принадлежит им как невольница, так как, два года тому назад, разбойничьим оружием принудили меня согласиться на это непристойное замужество».
На свое письмо Лупул получил от короля уклончивый ответ. Король уверял, что он опасается напрасно: ибо Хмельницкий готовится не на него, а на Речь Посполитую; уведомлял его, что получил об этом деле самые обстоятельные известия, и успокаивал господаря, что Хмельницкий не отважился бы нападать на Волощину, землю, принадлежащую султану, под опеку которого сам он теперь мостится.
Получив такой ответ, Лупул обратился с просьбой о помощи к польским панам и нашел между ними людей, иначе к себе расположенных.
Гетман Калиновский, о котором говорили, что и сам он имел виды на руку Роксанды, велел сыпать широкие окопы в своих добрах под горой Батогом и расположил в них обоз, под предлогом обеспечения Речи Посполитой от набегов Орды и казацких замыслов.
Выбранное для лагеря место было неудобное; но оно стояло на пути Хмельницкого и заслоняло Волощину от казако-татарского вторжения. Панята обещали прислать сильные хоругви. Во всех магнатских замках готовились к походу, который молодым аристократам представлялся романтическим. Все дали себе слово не допустить, чтобы прелестная княжна, миновав Потоцких, Вишневецких, Калиновских, очутилась в объятиях дикого неотесы-казака. Это говорят польские историки, забывая, что их Потоцкие, Вишневецкие, Калиновские не брезгали брачным союзом с женщиною, находившеюся в унизительном положении одалиски, равно как и все панята, заграждавшие рыцарскою грудью дорогу дикому неотесе-казаку.
Потоцкие снабдили гарнизоном и запасами Подольский Каменец и, чтоб обезнадежить Хмельницкого, распустили слух, будто бы господаровна тайно обвенчана с Петром Потоцким, губернатором Каменца, сыном покойного гетмана. Калиновский привел в движение все южные воеводства; агитировал против Хмельницкого между казацкими полковниками. Говорили даже, что он старался умертвить Хмельницкого, и с этой целью подослал в Чигирин своего казака, Бублика, но Бублик был схвачен, и признался во всем на пытке. Этому известию верили тем больше, что знали, как раздражены взаимно казацкий и коронный гетман. Сам де Хмель рассказывал об этом во всеуслышание, и на вопрос: почему не навестил коронного гетмана? отвечал: «мне безопаснее жить вдалеке: уже несколько раз были на меня засады».
В таком положении дел миновала зима 1651-1652 года. Калиновский проводил ее в Брацлаве, где из любви к единственному сыну содержал многочисленный двор и угощал весьма роскошно молодежь самых знатных панских домов. Вся она бредила рыцарскими подвигами в отражении казако-татарской орды и привлекла под свои хоругви цвет молодежи шляхетской, в качестве охотников.
Но наступившая весна не обнаруживала никаких признаков близкой войны. В этом виден был мастер казацкого дела. Начали было уже сомневаться в донесениях Лупула, а коронный гетман был совершенно уверен, что дело обойдется без войны. Он даже не позаботился стянуть заблаговременно 4.000 жолнеров, расставленных по Заднеприю.
Вдруг является в брацлавском дворце казацкий посол, сопровождаемый внушительным конвоем, приветствует величавого хозяина от имени гетмана Запорожского войска и вручает ему письмо следующего содержания:
«Не хочу скрывать перед вашей милостью, что сын мой, вихреватый Тимофей, собравши несколько тысяч войска, бежит в Волощину, чтобы принудить к супружескому обету господарскую дочку. Поэтому предостерегаю вашу милость, чтобы вы отступили с войском от волошской границы и ушли в глубину границ польских: а то, пожалуй, сын мой, увлеченный молодецкою запальчивостью, не вздумал бы на вашей голове попробовать своей военной фортуны».
Коронный гетман поскорее соединил в лагере под Батогом, а по-казацки на Батозі, все силы, какие были у него под рукой, и тотчас отправился туда сам.
Укрепленный стан Калиновского был замкнут с обеих сторон байраками, а с тыла лесом, и занимал равнину близ реки в длину на целую милю Бога. Внутри стояли огромные скирды соломы, фуража, и было заготовлено съестных припасов на несколько десятков тысяч войска.
Для 20.000-ной армии, стянутой сюда Калиновским, был он слишком обширен, так что и вдвое большее войско едва ли могло бы оборонять его. Такие размеры были ему даны с тою целью, чтобы в него могли стягиваться отовсюду польские и литовские подкрепления.
Едва силы коронного гетмана соединились в этом несоразмерном стане, как 29 (19) мая 1652 года появились уже на левой стороне Бога бродячие купы татар. На другой день переправился султан-нуреддин с ордой своей пониже Батога, и тотчас наступил на лагерь. Он занимал польскую конницу (я уже не пишу польско-русскую) в течение нескольких часов, а потом отступил почти на милю от становища, между тем как приближающиеся отряды казаков остановились не очень далеко на горе.
Неприятель обеспечил себе переход через реку. Схваченные пленники говорили, что Тимофей Хмельницкий, с «великим войском», переправляется пониже, и намерен, минуя Батог, идти прямо в Волощину.
Калиновский отправился на рекогносцировку и с ужасом увидел перед собой тысяч двести войска. Перейдя Бог, оно шло, под вечер, по направлению к западу, и, по-видимому, не имело намерения переходить речку, которая впадает в Бог пониже Батога.
Трудно было допустить, чтобы громадные казако-татарские войска оставили у себя в тылу целую армию польскую, не попытав счастья. На военном совете, генерал Пршиемский, предводитель артиллерии и пехоты, был того мнения, что казаки и татары не пойдут без боя за Днестр, а если осадят коронное войско, то он спасения не чает; поэтому советовал Калиновскому бежать немедленно комонником в Каменец, а он, с пехотой, надеется обороняться до тех пор, пока хватит съестных припасов.
Между тем Калиновский соберет войско, и прибудет к нему на выручку. Пршиемский обещал продержаться в осаде месяца два, а потом сложит голову честно в бою.
Долговременная служба его во французской и в шведской армиях, его подвиги в недавних битвах за отечество и личный характер его внушали всем доверие. Но коронный гетман поддался тому самому демону завзятости, который внушил мысль окопаться на Солонице сыну старика Наливайка, погибшего, может быть, и безвинно.
Человеческому сердцу отрадно предполагать невидимую связь между преступлениями предков и бедствиями потомков. В своей беспомощности ему отрадно веровать, что судьба преследует злодеяния до седьмого колена. Калиновский дико воспротивился общему мнению вождей, чтобы погибнуть в бесславном бою с единственным сыном своим.
Начали ночью рыть землю и уменьшать объем. На другой день со всех сторон появились казацкие и татарские чаты. За чатами наступал Тимошко, как звали его паны, Тимиш или Тимко, как звали его казаки. Непроглядная туча татар, казаков и оказаченной черни нависла над панским лагерем. Теперь уже Калиновскому не было возможности уйти комонником.
Панское войско упало духом, по сказанию самих поляков. Особенно конницу поразил ужас. Она металась в отчаянье по лагерю, проклиная выбор места, упорство, несправедливость, наконец — измену гетмана. Особенно трагическое положение было знатных гостей, своих и иностранцев, которые, протанцевав целый сезон и пролюбезничав начало весны с дамами, очутились теперь среди казако-татарских танцев. Предводители конницы начали составлять круги и совещаться о бегстве. Темою совещаний была очевидная и бесполезная гибель конницы в беспрерывных битвах с многолюдным неприятелем, под начальством глупого старика, тогда как пехота, имея превосходного генерала, будет в состоянии обороняться несколько недель за валами, и, не дождавшись выручки, сдастся на капитуляцию. Между польскими кавалерами были и такие шляхтичи-казаки, которые советовали связать коронного гетмана и выдать Орде для умилостивления.
Калиновскому живо представился рокош, подобный тому, который подняли жолнеры на Цецоре и в котором сам он, будучи юношей, играл не весьма почтенную роль. Он принялся увещевать и просить своих соратников, по примеру Жовковского, который, в знаменитой ретираде к Днестру, честно сложил премудрую голову. Но, видя, что его никто не слушает, перешел от смирения к запальчивости, неведомой Жовковскому, и еще больше повредил делу.
Конница выбрала себе вождей и, собравши второпях, что было можно, выехала за валы в ожидании ночи.
Между тем Пршиемский сыпал, с помощью челяди, валы, располагая войско и пушки для обороны западной стороны лагеря от казаков. Коронный гетман, с своей стороны, взялся за тот ум, о котором сами же поляки сложили не оправданную ими доныне пословицу: «плщсигу lach ро szkodzie» [64]. Он вывел другую часть пехоты против Орды и, построив ее в боевой порядок под валами, выслал вперед несколько верных ему хоругвей и добровольцев, под начальством Марка Собиского и Одривольского, которые мужественно отражали татарскую конницу. Самуил Калиновский, сын гетмана, стоял с хоругвями своими в резерве. Он получил от отца приказ наблюдать за возмутившеюся конницей и, в случае, когда бы она захотела привести в исполнение свой замысел, принудить ее к послушанию.
Во все это время неприятель стоял бездейственно. Был слух, что Тимко ездил с полковниками к отцу, который находился в трех милях от Батога, с вопросом: что делать с неприятелем, которого держит уже в руках? Единственным наставлением старого Хмеля молодому были слова: «Дохлый пес не кусается».
Оставалось два часа до захода солнца. Было уж поздно казако-татарам начинать битву, как их чаты донесли, что ляхи — бьются сами между собой.
Тимко велел полковнику Золотаренко, с 30.000 войска, занять панский стан с западной стороны, обороняемой Пршиемским; а между тем нуреддин приблизился к Батогу, и, видя зрелище невиданное, подвигался медленно вперед. Он опасался засады и не смел сразу ударить на ляхов.
Перед лагерем, на широком поле, кипела бешеная битва между пехотой и конницей одного и того же войска. Это постыдное для польской нации и польского характера дело, по рассказу польской историографии, произошло вот каким образом: Калиновский, получив от сына донесение, что конные хоругви вознамерились бежать вплавь за реку Бог, отправил пехотные регименты к коннице, «чтобы поддать отваги трусам (abu ichorzom napgdzic odwagi)», как выразился он. Немцы пустили град пуль, но больше для острастки, нежели серьезно. Пораженная страхом, польская конница сперва не смела дышать, ни тронуться с места. Но, прийдя в себя, жолнеры стали кричать, проклинать и, доведенные до бешенства, метнулись на немцев, чтобы не гибнуть безнаказанно. Немцы делали свое дело стойко.
Борьба дошла до наибольшего ожесточения, когда ротмистр Пршиемского, Винцентий Зелинский, прибежал к гетману, прося подкрепления и донося, что Пршиемский с оставленными при нем 1.500 человек не может устоять против казаков.
Гетман, занятый борьбою с собственным войском, не видел, что казаки напали с тылу на лагерь. Узнав теперь об этом, приостановил пальбу и послал пехоту спасать Пршиемского, а сам, с верными хоругвями, вышел против надвигавшихся татар, воображая, что вся конница последует его примеру. Но взбунтованные полки, при виде наступающей Орды, рассеялись, по выражению польского историка, как табун диких лошадей. Одни бросились к реке Богу, другие разбежались куда попало. Но татары захватили их рогами своего полумесяца, и почти все они, кроме нескольких сот, переплывших Бог, очутились в плену.
Гетман, раненный дважды сам, ушел с немцами в лес; но, услыхав, что сына его схватили, вернулся, чтоб отбить его. Здесь, окруженный неприятелем, пал он вместе с сыном, коронным обозным. Когда его седую голову принесли к Тимку Хмельниченку и нуреддин-султану, казак бросил за нее головорезу червонец, а татарин сказал гетманской голове: «Не доплатил ты мне, христианин».
Охватив конницу, татары подвигались вперед, однакож осторожно, всё-таки опасаясь военной хитрости. У входа в окопы, стоял молодой Марко Собиский с ветераном Жовковского и Конецпольского, Одривольским. В славной ретираде с долины Цецоры к Днестру Одривольский поддался панике; за то, послужив доблестно во многих походах против татар и казаков, не посрамил теперь своего имени. С ними стояли хоругви добровольцев, не желавшие спасаться бегством, стояли офицеры взбунтованной конницы и знатные гости, терпевшие на чужом пиру кровавое похмелье.
Орда наступала на них несколько раз и разбивалась, точно об стену; наконец позвала на помощь своих побратимов. При виде сверкающих в летних сумерках пищалей и кос, польские всадники спешились, и, стоя за лошадьми, как за бруствером, ждали в молчании приступа. Произошла дикая бойня лошадей и людей. Тимко помнил, что дохлый пес не кусается, и не предложил капитуляции мужественному остатку неприятеля; кавалеры не просили её у варвара. Долго стояли они в неравном бою, — дорогое для потомков свидетельство, что паны были не все пилявчики, — стояли до тех пор, пока легли до последнего и довершили земляные валы кровавым валом тел своих. Через этот ужасный вал степные людоеды вошли в польский лагерь; но тут их ожидала сцена поразительная. При громе отчаянной пальбы Пршиемского, свирепствовал пожар.
Горели запасы соломы и фуража, заготовленные на стотысячную армию и не известно кем подожженные. Подозревая в поджоге предательство, поляки заявляют этим в сотый раз, что силились подчинить себе Русь посредством Руси... Вдруг огненное море побежало бушуя, на жолнерские палатки и преградило отступление Пршиемскому, отступление, впрочем, бесполезное. Стойкая горсть людей ринулась тогда на разъяренную массу казаков, как бы в объятие смерти. В этих объятиях погибла и коронная пехота, и коронная артиллерия.
Сцена батоговской трагедии была тем ужаснее, что посреди стрельбы, пожара и резни очутилось множество шляхетских семейств, выпугнутых из Брацлавщины нечаянным появлением казаков и татар. Обеспеченные Белоцерковским договором, несчастные землевладельцы только что вернулись на свои пустыри, как новый слух о наступлении казацких и татарских загонов заставил их опрометью бежать в безопасные места. Самым безопасным местом показался многим гетманский лагерь, и здесь несколько сот сельскохозяйственных семей нашло свою погибель.
Батоговский погром был для поляков горестнее Корсунского. Потеря здесь была для них ужаснее Пилявецкой. Как велико было смятение нации, низведенной разбойником с высоты политического величия, видно, между прочим, из того, что самые серьезные историки её впали в легковерие, и до сих пор не в силах возвыситься до правосудного бесстрастия. Они рассказывают, под влиянием жажды мщения в будущем, будто бы 5.000 польских пленников были на другой день вырезаны татарами, за что де казаки заплатили им 100.000 талеров. Против этого можно было бы сказать, что казаки были не так богаты, не так щедры, даже не так мстительны, и доказать все это исторически; но я скажу только одно: если бы казаки купили у татар 5.000-ный ясыр на убой, то этим гнусным делом они величались бы в своих летописях и даже в песнях, не сознавая своего позора. Доказательством служат их историки и поэты, славословящие казатчину перед культурным светом.
Насколько было правды в чудовищном предании о казацкой покупке ясыра, видно из показания одного татарского пленника, Вильчковского, поручика полка сендомирского воеводы. Он появился под Львовом в сообществе какого-то пана Корицкого. «Побратим этого Корицкого (факт замечательный), белогородский Софер-бей, взял Вильчковского у Орды и возвратил ему свободу. От него Вильчковский слышал, будто бы Хмельницкий велел снять голову Калиновскому, Пршиемскому и всем иным панам и товарищам, что отзывается точностью азиатских преданий вообще. Потом де Хмельницкий дал тут же 50.000 талеров нуреддин-султану и обещал поддать ему Каменец за позволение обезглавливать всех невольников. По разгроме де войска, в понедельник и во вторник снимали головы с пленников. В среду появился эмир, чтоб оставили в живых, кого еще не обезглавили; но уже остались только малые хлопцы да женщины, а прочие все погибли: потому де погибли, что Хмельницкий останавливался с султаном у всякой переправы, пленных отбирали и тотчас обезглавливали».
Некто Николай Длужевский спасся вплавь через реку Бог с одним только товарищем, прибежал в Новый Константинов ночью, встретил здесь королевскую почту, идущую в Батоговский лагерь, возвратил ее вспять и уведомил коронного канцлера о катастрофе. По его словам, он был избит кистенями, глаза у него были опалены порохом; но и в таком положении, и в такой момент, когда польской отчизне угрожала гибель, пан Длужевский, подобно Киселю, просил, чтоб его служба не была забыта.
По известию из Львова, от погрома под Батогом не ушло ни одной сотни жолнеров. Польша затрепетала из конца в конец, и в трепете своем верила даже таким ужасам, которые не были возможны для казаков. Она верила и тому, что теперь Хмельницкий отдаст Каменец туркам.
В самом деле, от 17 (7) июля Хмельницкий писал к Каменецкому гарнизону, называя себя слугою и приятелем его, и порицая упорство защитников Каменца, которые де возлагают упование свое не на Бога, а на крепость. «Мы же с войсками нашими» (писал он), «прося Господа Бога, будем искать способов и не уйдем от вас до тех пор, пока не совершится Божия воля. Вы окружены со всех сторон. Решайтесь сегодня же».
Ему отвечали, что Бог справедливо карает их за грехи, за гордость, за преступления, но что он милосерд, и по его воле судьба войны часто бывает не та, на которую рассчитывают... Попытка взять Каменец опять не удалась Хмельницкому.
Современные поляки толковали покушение казацкого гетмана на эту крепость так: Хмельницкий обещал хану расплатиться за поход на Батог Каменцом. Литовский канцлер пишет, что известие о Батоговском погроме поразило Польшу до отчаяния, что Бог, в бесконечном милосердии своем, заслепил Хмельницкому глаза, дабы не шел он далее, а пошел бы осаждать Каменец: «а то наверное все подбил бы он тогда под свои ноги». Но так как гарнизон каменецкий оборонялся сильно (продолжал Радивил, веря ходячим слухам) и много неприятелей пало трупом, то татарский главнокомандующий ударил Хмельницкого несколько раз канчуком по плечам, и он должен был перенести такое оскорбление от варвара. Та же молва, записанная тут же почтенным князем Альбрехтом Станиславом, гласила, что, по донесению Хмельницкого о новых польских силах, турецкий султан велел хану послать против поляков возвращающихся татар, но татары воспротивились, и разгневанный де за это хан велел всех пленников обезглавить. «А другие говорят» (прибавляет канцлер), «что кровожадный Хмельницкий заплатил ему известную сумму, чтобы велел наших обезглавить, и разлитая таким образом кровь многих вопиет к Богу о мщении».
В то время, когда Батоговский лагерь представлялся еще панам устоем их панованья в Малороссии, заднепровское войско знало уже о грозящей ему опасности и спешило к нему на помощь. Самовидец, как мы уже знаем, рассказывает, что тамошние казаки покидали свои приобретения, переселялись в Полтавщину, а не то — населяли слободы в московских землях, не желая оставаться с жолнерами и давать им стацию, которую те взимали в нестерпимых размерах, делая людям кривду по своему жолнерскому обычаю. Теперь жолнеры спасали самих себя от раздраженного народа и спешили спасать коронное войско, но тем не менее «чинили не малые кривды людям, простуючи на киевские переправы». В Киеве воеводствовал Адам Кисель, и жолнеры переправились беспрепятственно, как в это время разнеслась весть о Батоговском погроме. Кисель услышал о ней вечером и бежал из воеводского города своего ночью.
Зимовавшая в Киеве шляхта Черниговского воеводства толпилась вокруг жолнеров и убиралась вместе с ними за добра ума. Ерлич рассказывает, что кто остался в Киеве до полудня, того уже не выпустили. Жолнеры от Киева направились к Хвастову, а от Хвастова к Ганчарихе и Константинову. В поле, по словам Ерлича, обнял их страх, и они, глядя один на другого, бросали возы и что у кого было, даже одежду и живность, а военные снаряды (rynslunki) начали жечь, о чем впоследствии сердечно сожалели, оставшись безо всего. В таком виде достигли Достоянова и там ждали, пока король назначит им главнокомандующего.
Поручик Вильчковский рассказывал во Львове, что это войско собралось наконец под Сокалем, требуя заслуженного жалованья, что король прислал ему не в зачет (darowizna) 60.000, но этим оно не удовлетворилось и разъехалось из-под Сокаля. Осталось на службе всего едва 1.000 человек.
Как паны ликовали после Берестечского бегства казаков, так и казаки — после Батоговского погрома панов. Но, ликуя, Хмельницкий находил нужным унижаться и оправдываться перед людьми, которых желал бы стереть с лица земли.
Король звал в Варшаву панов на чрезвычайный сейм для спасения отечества от врага, для которого не существуют никакие законы. На этом сейме булава погибшего на Батоге Калиновского была вручена племяннику Николая Потоцкого, Станиславу Потоцкому; коронным обозным, на место его сына, сделан Стефан Чернецкий; на место Пршиемского полевым писарем назначен Сопига; Лянцкоронскому дано воеводство русское, а Тишковичу, сыну Яна черниговское. Решено было — в крайнем случае, созвать посполитое рушение, а покамест набрать 50.000 наемного войска.
Хмельницкий прислал на сейм своих депутатов с оправдательными письмами. Он был тем ужаснее в своей истребительной деятельности, что беспрестанно плакался на пролитие христианской крови и обвинял представителей шляхетского народа в кровожадности. Когда, после Батоговской бойни, все панские дома покрылись трауром, он еще прибавлял им горечи своим крокодиловским плачем. Делаясь из виновного обвинителем и мешая с оправданиями угрозы, Хмельницкий являлся самым жестоким из бичей, которыми судьба карает народы за их безрассудство. Не один каменецкий гарнизон — вся Польша видела в казаках кару за содеянные панами в гордости своей преступления. Пробудилось наконец сознание правительственной немощи в сословии, присвоившем себе прерогативы царственности. Поняли наконец паны, что верховная власть, разделенная на куски и кусочки, теряет в раздельности свою цену. Но уже было поздно. Уже шляхетский народ обессилил себя своими хвалеными вольностями до того, что не мог даже карать преступников и награждать истинных слуг отечества. Множество банитов, лишенных чести, проживало благополучно в своих имениях на правах коронованных особ. Множество заслуженных воинов завидовало жидам, получавшим за деньги королевские замки в державу с приписанными к ним подданными и землями [65]. Люди, бежавшие позорно с поля битвы, непосредственно затем делались обладателями староств, а люди, отсидевшиеся от неприятеля с потерей членов, оставались в тени среди правительственной лиги.
Находясь в таком расслабленном положении, шляхетский народ, говоря вообще, сознавал себя уже народом погибшим. Он утратил чутье к правде, утратил любовь к добру и отвращение к злу. Под гнетом горя от новых несчастий, постигших каждый дом в прибавку к старым, он впал в апатию, подобную той, которая предшествует смерти, и только в апатии находил облегчение предсмертной агонии, которой суждено было быть столь продолжительною.
Хмельницкий, между тем, боялся, чтобы после Батога, как после Корсуня и Пилявцев, могучая польская жизнь не воспрянула с новою силою; чтоб утрата одних энергических людей не вызвала на сцену боевой деятельности других, — и готовился к войне. Но истощая, в чрезвычайном положении своем, последние силы казацкого народа, он старался отдалить его неизбежное столкновение с народом шляхетским. Поэтому-то покорность его справедливо называли паны волчьею (wileza pokora), и его посольство на чрезвычайный сейм в июле 1652 года было не голосом победителя, а мольбою побежденного. Он знал, с кем имеет дело в этом случае.
Король, изображая в лице своем ту многочисленную клику богачей эгоистов, на которую до конца сохранил влияние Кисель вопреки сторонникам Вишневецкого, приостановил вооружение, и, вместо того, чтобы готовить кару злодею, обещал ему свою милость: политика нравственного бессилия, практиковавшаяся в Турции. Для подкупа Хмельницкого готовностью короля к чрезвычайным пожалованиям, были отправлены Зацвилиховский (которого Хмельницкий обласкал под Збаражем) и Черный (через которого он действовал на панов после Корсунского погрома). Но пока они прибыли, виды Хмельницкого на свою безопасность переменились, и он принял королевских послов с пренебрежением. На Батогскую бойню, которая, по-видимому, изумила и огорчила его, стал он смотреть, как на выигрыш потерянного под Берестечком дела, и потребовал возврата казакам Зборовских прав. Тогда паны снова сделались воинственными, и стали готовиться к вооружениям чрезвычайным. Это было тем естественнее, что во время сейма скончался проповедник мирного торжества над казаками, Адам Кисель. С ним умерла и его примирительная политика, сделавшаяся невозможною еще до Хмельнитчины. Вместо посполитого рушения, было решено снарядить от каждых десяти ланов по одному конному и по одному пешему воину с мушкетом, наподобие гайдуков.
После Батоговского погрома, когда все в Польше поникло, точно под дыханием всесокрушающей бури, только Стефан Чернецкий не потерял присутствия духа. Он вдохновился самою великостью несчастий дорогого ему польского отечества, и уже в июне 1652 года писал из Немирова к коронному маршалу, Юрию Любомирскому, что если только Польша соберет соответственные силы и в лагерях установится повиновение (задача выше польской общественности), то он свидетельствуется Богом, что поляки могут не оставить русина и на лекарство (Bogiem swiadcze, ze na Iekarstwo Rusina moicm nie zoslawie).
В этих словах, при всей нелепости их и в нравственном и в политическом смысле, Чернецкий проявил тот сильный нерв, который совершал великие в добре и в зле дела, соединенные с польским именем. Чернецкий, любимый герой падающей и падшей Польши, для нас — герой вредоносного мщения. Он представляет в себе самый печальный результат, к которому две смешанные нации привело посягательство католической партии на духовные хлебы русские и на свободу религиозной совести русской.
Сперва междоусобная война в Польше была чисто экономическая, сословная, социальная; но паписты с одной стороны, а православники с другой — превратили ее в религиозную, а боль от нанесенных обоюдно ран сделала ее религиозною. Чем дальше забиралась Польша в лес экономических, общественных, религиозных и политических недоразумений, тем больше валилось в этом лесу дров, то есть виновных и безвинных ответчиков за недоразумения с обеих сторон. Теперь передовые люди польские, такие, как Чернецкий, — большею частью и почти исключительно люди происхождения русского, свидетельствовались Богом, иначе — давали Богу обет — не оставить русина и на лекарство, как раз в pendant с казаками, которые в своем разбойном благочестии, жаждали так вырезать ляхов, чтоб не осталось на свете и одного. Представитель Руси с худшей стороны, Хмельницкий, низвел представителей Польши с лучшей до своего уровня, — и вот мы видим знаменитого стратегика Берестечской войны казакующим с преданными ему смельчаками на поприще казацких набегов, пожогов и резни, по примеру Перебийносов, Нечаев, Морозенков.
Теперь паны воевали уже не для того, чтоб открыть себе свободный вход в отнятые у них казаками владения, а для того, чтоб отомстить непокорной им Руси, стоявшей заодно с казаками. Если прежние походы их были только разжиганием национальной вражды, то с этого времени они делались и разжиганием, и ковкою, и вечным закалом этой вражды. Судьба велела расторгнутым частям населения Речи Посполитой поссориться, если возможно, больше прежнего, чтобы никогда уже нельзя было им соединиться ни во имя панской, ни во имя казацкой республики, а разве только во имя всеобъемлющей и всепретворяющей в свою суть Российской Империи.
Этот новый период вражды открыл собою Стефан Чернецкий, шляхетский Косинский или Наливайко. Ему вверили 10.000 войска и предоставили свободу опустошать казацкие займища. Чернецкий отличался уменьем вселять в своих соратников единодушие. Он обладал искусством довести боевую шляхту до некоторого соподчинения. Он мог бы быть великим полководцем и гражданином; но его польское отечество так измельчало, что не могло уже производить великих деятелей войны и политики. Все, что ни делали со времен Чернецкого талантливые люди в Польше, не поднимало её из упадка, напротив, ускоряло крушение и последних устоев.
В начале 1653 года Чернецкий неожиданно для самих панов появился в Брацлавщине, и начал истреблять село за селом, местечко за местечком, бросаясь от одного к другому в противоположные стороны. Нигде не знали, куда направляется войско, совсем не похожее на то, которое в прежние годы казаки обессиливали своими разведками. Пощады не было никому. Местечки Самгород, Прилуки, Липовец, Якубец, Линцы, Борщовка и Погребища были вырезаны, разграблены, выжжены. В короткое время жолнеры Чернецкого из оборвышей сделались богачами [66], а вместе с тем и героями, вроде наших лыцарей. Подобно тому, как слава казацкая разливалась по всей Украине, слава жолнерская разлилась по всей шляхетчине: Чернецкий сделался великою знаменитостью, по плечу своим хвалителям.
Против него выслал Хмельницкий Богуна. Не смел Богун дать ему поля, и, ловко маневрируя, заперся в Монастырище. Приступ Чернецкого не был похож на все прежние, как и его быстрые передвижения. В горячем бою на валах пал знаменитый сотник Дрозденко. Уже пылал замок в Монастырище; уже ломились жолнеры в окопы; но пуля пробила обе щеки Чернецкому, задев и поднебенье. Он едва не захлебнулся кровью. Его вынесли из боевой толпы полуживого. Очнувшись и узнав, что местечко не взято, начал он плевать с досады кровью; но дело было проиграно невозвратно. Дав камертон войны новой, чисто руинной, Чернецкий отступил, и, до своего излечения, расположил жолнеров над Случью.
Не все, однакож, восхваляли подвиги шляхетского Нечая. Литовский канцлер отнесся к нему сурово. «Король» (писал он), «неизвестно, по чьему совету, выслал 10.000 наших против казаков, чтоб нападали на них зимою; но напрасна была эта королевская импреза: ибо экспедиция не иной принесла результат, как тот, что хлопов наших разогнали, провианты, которые могли бы пригодиться нам в последствии, переели, лошадей замучили и сделали к дальнейшей войне неспособными, и ничего не сделали, как только край наш опустошили, и вернулись назад. Да и от самого короля слышал я, что еслиб они поймали одного значительного бунтовщика, то предпочли бы взять 10.000 злотых, нежели, имея уже в руках, продолжать осаду».
Но, не смотря на свое распоряжение, которого нелепость показал результат, и на порицание со стороны людей, во всяком случае, достойнейших его самого, Ян Казимир продолжал говорить языком Чернецкого, что делала и вся его клика. Слово казаки заменилось у них словом Русь, а Русь долженствовала быть уничтожена так, чтобы в ней некому было воевать против поляков. С этою целью, в конце марта, созван был в Литовском Бересте генеральный сейм, на котором было предположено кончить казацкую войну. Но от слова до дела у панов было всегда большое расстояние; а между тем Хмельницкий продолжал свою кровавую интригу. Он отправил сына к невесте, ужасавшейся прихода жениха, и Лупул на этот раз не смел ослушаться «свирепого пьяницы», как справедливо называли Хмельницкого паны. Свадьба была совершена торжественно, и Тимко вернулся с женой господаровной в Украину. Чем чёрт не шутит?
Украинский хамелеон менял свой вид и тон беспрестанно, смотря по своим обстоятельствам, вечно рискованным. С людьми московскими он играл также несколько противоположных ролей. Давая москалям понять, что, если захочет, изломает Москву, он покрывал угрозы свои известным всему свету пьянством; а погубив на Батоге польскую силу, послал к царю войскового судью Богдановича с низкими поклонами, чтобы великий государь умилосердился над казаками, и велел принять их под свою высокую руку. Повернув теперь в турецкую сторону выразительнее прежнего, он заметал лисьим хвостом свой след перед силою, которая пугала его с самого начала казацкого бунта.
Зато Москва выдержала до конца характер нации, крепкой не одной ратною силою. Она молча выслушала донесение Богдановича о Батоге, о королевском посольстве, о приготовлениях короля к войне. Не высказалась Москва и в ответ на уверения казаков что хоть бы им и всем пришлось помереть, а за православную христианскую веру и за святые Божии церкви будут стоять, и в «унею» не отдадут. Не поразила ее удивлением и похвальба Хмельницкого, что у него до 300.000 казаков, кроме Орды. Она знала, что в то самое время, когда Богданович напевал ей в уши про Божии церкви да православную христианскую веру, другой казацкий посол стлал под ноги турецкому султану древние русские области.
Выжидая по-прежнему времени для наступления на Польшу без нарушения своего достоинства относительно казатчины, царь прислал к Хмельницкому и всему Запорожскому войску стольника Лихарева заявить им, что он, ради православной христианской веры и святых Божиих церквей, хочет междоусобье их с поляками успокоить миром через великих своих послов.
Хмельницкий рассыпался перед царем в благодарениях через своих посланников, Бырляя и Мужиловского, и жаловался царю, что поляки в правде своей никогда не стоят: обещают прислать полюбовную комиссию, а между тем готовят против него войско; поэтому просил он у царя такой милости, чтоб он, ради православной христианской веры, принял его со всем Запорожским войском под свою высокую руку, и учинил казакам на их неприятелей, поляков, помощь «думою и своими ратными людьми». А к ним де писали и присылали много раз турецкий султан и крымский хан, зовучи к себе в подданство, но они от басурманского подданства отказались. Между тем шведская королева послала было к ним своих послов, но поляки переняли их на дороге. Теперь Хмельницкий просил отпуска посланников своих в Шведскую землю, дабы проведать, в чем заключалось посольство королевы. При этом Бырляй и Мужиловский подали царю перехваченные ими статьи литовского гетмана, Януша Радивила, которые тот посылал к тестю своему, Василию Лупулу, еще перед сеймом в Литовском Бересте. Это был проект возможного по мнению князя Радивила компромисса между шляхтой и казаками.
Так как, волею судеб, Лупул был теперь в одинаковом родстве и с Радивилом, и с Хмельницким, то Радивил советовал ему употреблять свое влияние на короля и примирить шляхту с казаками. Всех статей было 13.
В статье 2-й говорилось: «Если дело дойдет до войны, то кровопролитие будет великое: будет бой последний — или полякам погибнуть, или Руси. Если победят поляки, тогда в конец погибнет род и вера русская, и вся Украина, с великою жалостью сердца человеческого, будет опустошена, на радость и пользу язычества. Если же победят казаки, то неужели поляки поддадутся казакам в нужду и мучительство? Нет, лучше уж им погибать и терпеть нужду от немецкого императора и от шведов».
В статье 3-й: «Хотя бы казаки и победили, то, вследствие их победы, татары опустошили бы всю землю».
В статье 6-й: «По утверждении мира, когда разъедутся польские войска, Хмельницкий может выпросить у поляков все, чего желает, так как он больше будет иметь власти, нежели король».
В статье 7-й: «Война ли будет, или мир, пускай Хмельницкий будет благосклонен к землевладельцам: у них нет столько власти, чтоб делать ему зло, или вред, хотя бы и желали. Он может достигать почестей наравне с другими, оставляя за собой все прежнее значение. Равно и другие казаки могут, по своим заслугам, достигать чести и шляхетства».
В статье 8-й: «Он мог бы поместить при королевской особе младшего сына, в виде заложника; а если у него есть дочери, и те могут быть в замужестве за великими людьми. Этим путем счастье его дома было бы упрочено больше, чем нынешним. Старшему сыну его также могли бы дать какое-нибудь пограничное староство, чтобы постоянно пребывал он под руководством вашей господарской милости».
Представляя царю перехваченный документ, Хмельницкий хотел показать перед Москвой, какой великий он человек в Польше. Но на Москву не действовала его великость.
Между тем ему готовилось такое несчастье, которое одинаково сокрушает и самую высокую, и самую низкую душу. Оно поразило его именно в то время, когда, по-видимому, все сложилось для исполнения планов его. Хмельницкий бил на то, чтобы сын его, Тимофей, завоевал Валахию, по тогдашнему Мультаны, чтобы соединил ее с Волощиной, по нынешнему с Молдавией, и наложил казацкую руку на Ракочия.
Ракочий раздосадовал старого Хмеля тем, что в 1651 году не овладел Краковом во время шляхетского похода под Берестечко, и теперь они сделались врагами. Вследствие такой перемены, валахский господарь Матвей Бессараб, заключил союз с Ракочием, прогнал Василия Лупула с господарства и посадил на его место своего великого логофета, то есть канцлера Стефана Гергицу. Лупул бежал за Днепр, к своему зятю.
Старый Хмель не принимал участия в борьбе трех князьков. Он готовился к войне с Польшею, набирал войско, договаривался с татарами и турками. Но, видя Лупула изгнанным, решился воспользоваться этим случаем согласно своему плану, и отправил посольство в Стамбул. Когда Лупул сидел еще на господарстве, он предлагал туркам 40.000 войска из своей, как писал он, 300.000 армии на подавление донских казаков, прося за эту услугу (напоминающую нам Наливайка) [67] отдать ему хотя часть Волощины, с намерением присоединить к ней Украину и сделаться наследственным князем, под опекой Турции. Теперь, когда Порта должна была покарать всех троих князьков, он просил у Султана и Волощину и Мультаны. Не имея возможности покарать своевольных вассалов, турецкое правительство отдало оба придунайские княжества казацкому гетману, под условием ежегодной уплаты такой суммы, какую платили его предшественники. Хану было повелено соединить все орды с казаками против поляков, готовившихся к окончательной борьбе с Хмельницким, а пограничным туркам — помогать казакам.
В виду открывшейся перед ним перспективы, Хмельницкий посылает сына с 16.000 войска для подавления самоуправных господарей, и Лупул, весною 1653 года, переправляется с зятем обратно через Днестр. Волощина скоро была очищена от напастников. Гоня перед собой враждебные силы, казаки не уступали им в грабежах и опустошениях. Потом Тимош присоединил к своему корпусу ополчение Лупула, вторгнулся в Мультаны и предал их огню, мечу, грабежу, насилию. Не было пощады и самим церквам; напротив, они-то и составляли главный предмет казацкого грабежа.
Казаки Хмельницкого поступали с православными храмами в Мультанах еще хуже, чем казаки Сагайдачного с церквами и монастырями московскими: они не только разоряли, но и оскверняли христианские святилища. Хмельниченко, вместе с тестем своим, два раза разбил мультанское войско; но против них поднялось все население края, раздраженное святотатством и кощунством днепровских воителей за православие.
Они, в свою очередь, были разбиты наголову у речки Яловицы. Казаки потеряли 18 пушек с принадлежностями, всю свою добычу и 2.000 пленников. Преследуемый в бегстве своем Тимко заперся в Сочаве вместе с женой, тещей и сокровищами Лупула.
Сам Лупул бежал в Чигирин и, играя снова роль союзника Польши, просил короля выручить его семью из беды. Враги Лупула, с своей стороны, просили короля прислать под Сочаву вспомогательное войско для окончательного поражения Хмельниченка, и обещали за то помогать полякам в предстоящей войне с Хмельницким. В то же время и Тимко, как истинный сын своего отца, обратился к правительствующим панам с просьбой о помощи, обещая за то воевать для Польши придунайские области. Король склонился на просьбу врагов Хмельницкого, и послал им помощь против Тимка. Множество шляхетских волонтеров отправилось под Сочаву на травлю дикого зверя, каким по справедливости считали Хмельниченка. Крепость была сильна позицией и фортификацией. Казаки, зная, что предстоит им за христианские подвиги в Мультанах, защищали ее отчаянно. Наконец Тимко был смертельно ранен пушечным ядром, и кончил свою разбойную карьеру. Казаки капитулировали, и доставили старому Хмелю гроб его сына, с которым у него была связана мечта о княжеской династии.
Я представил только перечень событий в Молдавии и Валахии. Для истории русского воссоединения они важны лишь тем, что развлекали внимание, ослабляли силы и обманывали антирусские надежды и казацкого, и шляхетского народа.
Когда Ян Казимир, еще до этих событий, находился на генеральном сейме в Литовском Бересте, городе ознаменованном взаимными проклятиями папистов и православников, в этот несчастный для Польши город пришло письмо, которое повело полонусов к столь же ошибочным, как и церковная уния рассчетам. Письмо было от Ракочия, который уведомлял короля, что идет против волошского господаря Лупула, и просил не верить слухам, будто бы венгры готовы к войне против поляков.
Едва оно было прочитано в Сенаторской Избе, как прибыл в Литовскую Бресть (московское название города) поверенный Лупула с выражением готовности господаря к посредничеству между Хмельницким и Речью Посполитою. Сенаторская рада признала Лупула посредником надежным, и король послал ему условия, на которых паны готовы помириться с казаками. Но вслед за тем пришло известие, что Лупул изгнан из Волощины и просит у короля скорой помощи. Это известие рассеяло надежду на умиротворение края. Паны знали, что Турция готова помогать Хмельницкому, и что хану дано повеление идти со всеми ордами на соединение с пограничными башами. В виду такой грозы, король послал новопожалованного подканцлера Трембецкого в Регенсбург просить Германский Союз на помощь предостению христианства, как называла себя Польша, и не иначе, как до истечения трех месяцев. Полякам казалось, что вся Европа рухнет вместе с их доблестным государством, не умевшим обращаться ни с жолнерами, ни с казаками. В «декларации о грозящей Священной Империи опасности» прямо сказано, что когда передовая стена христианства падет, она «засыплет своими развалинами немцев».
И венгерский, и волошский послы старались в Бресте перетянуть Речь Посполитую каждый на свою сторону. Венгерский посол домогался наступательно-оборонительного союза с Ракочием и мультанским господарем против Хмельницкого. Ян Казимир был не прочь от этого союза, но отложил все дело до своего возвращения в Варшаву на 28 мая.
На генеральный сейм в литовскую Бресть прибыло лишь несколько сенаторов, и королю нельзя было ничего предпринять ко вреду Лупула. Литовский гетман, Януш Радивил, был его зять, а король нуждался в Радивиле для того, чтобы соединить литовское войско с коронным. Поэтому король сделал литовского гетмана виленским воеводою, не взирая на ропот католиков, которые, устами проповедников, «народных пророков» своих, осыпали его с амвонов упреками. Дом князей Радивилов смотрел на дело Лупулово, как на свое собственное, а дом этот был в то время могущественнейшим в Литве. Громадными владениями, можновладным родством и первенствующими дигнитарствами в княжестве достиг он такой силы, что если его приватные интересы не были согласны с интересами государства, то перевешивали их: слова самих поляков об их былом отечестве. Поляки подозревали князя Януша даже в тайной политике, основанной им на родстве с Лупулом и Хмельницким. Но они в то время так потерялись, что подозрительность доходила у них до безумия.
Король советовался в Варшаве с приглашенными туда членами сенаторской рады, а отсутствующих просил сообщить свое мнение о волошском вопросе письменно.
Памятный наш бискуп Гневош не советовал входить в союзы с владетелями подначальными. Его мнение поддерживали и другие. Но избранник Хмельницкого, Ян Казимир, был для него полезен тем, что изо всех зол избирал всегда наибольшее. Так поступил он и в настоящем случае. Он вообразил, что Ракочий не только сам послужит ему опорою против Хмельницкого, но заставит служить Польше и обоих господарей.
Некоторые стеснялись относительно Лупула тем, что он столько раз доказал свое доброжелательство Речи Посполитой; что он, как польский шляхтич и гражданин по индигенату, имеет право на оборону со стороны короля; но король, по отзыву нынешних поляков, торговавший человеческою кровью, успокаивал свою совесть, или свою бессовестность, тем, что Лупул отдал дочь свою за Хмельниченка, а хоть и перевел свои богатства в Подольский Каменец, но не написал об этом к королю, следовательно держался в двусмысленном положении между ним и Хмельницким. Нам позволительно думать, что эти то богатства и были на уме у короля-иезуита, когда он решил вопрос о помощи.
Как бы то ни было, только венгерскому послу был дан такой ответ, что король, сочувствуя справедливому делу Седмиграда и Мультан, готов на союз против Хмельницкого. О Волощине не сказал он ни слова. Этот наступательно-оборонительный союз назван conjunctio armorum и, насколько можно судить из последовавших за ним военных действий, основывался на обоюдных обещаниях воевать против казаков и татар.
Счастливый политическими иллюзиями своими Ян Казимир отправился после того во Львов для дела не менее важного и не более для поляков исполнимого. Надобно было уплатить войску недоплаченный жолд и вести его на Хмельницкого, пока тот не вооружил еще черни и не призвал татар.
Заготовленное для новой казацкой войны коронное войско новопожалованпый коронный гетман, Станислав Потоцкий, разместил хоругвями в разных местах, на далеком одна от другой расстоянии. Он боялся жолнерских соглашений о бунте за неуплаченный жолд. Теперь стянул он войско под Глиняны, невдалеке от Львова, в число 38.000, ожидавших заслуженного жолду.
По словам самих поляков это было не столько войско, сколько собрание дерзких и нетерпеливых кредиторов панской республики. О военной дисциплине не было в нем и речи: оно служило из милости. Стоя бездейственно вблизи большого города, жолнеры входили в долги у армян и жидов для щегольства, разгула пьянства, и все это на счет неуплаченного жолду. Не обращая внимания на строгие запрещения, выходили они тысячами из лагеря, шлялись по улицам, устраивали сходбища, затевали ночные драки, и возвращались в сопровождении нагруженных съестною добычею возов да веселых женщин.
Лагерь гремел от пирушек и товарищеских сходок, называвшихся у жолнеров конверсациею. Это был старинный и пагубный обычай польского войска. Жолнер обыкновенно приглашал к себе сослуживцев и, прокутивши с ними в один день полугодовое жалованье, шел в гости к такому же кутиле. Бережливость у них подвергалась презрению: только расточительностью можно было угодить и товарищам, и начальству. Обычай такой конверсации ввела богатая шляхта из национального гостеприимства. Но эта добродетель польская, практикуемая в лагере, бывала причиною поединков и драк, причиною грабежей и насилий во время похода и на лежах. Растративши все, жолнер нуждался во всем. Не удовлетворяясь платою, заявлял он требования неслыханные, и был всегда готов к бунтам и конфедерациям, чтобы вынудить плату за четверть года не в зачет и обеспечить себе амнистию за самоуправство. В таком положении находилось войско и тогда, когда король прибыл во Львов.
16-е июня было сроком взноса денег для всех «скарбовых людей» Великой и Малой Польши. В этот день поборцы были обязаны явиться во Львов с деньгами и представить счеты в комиссию, которая потом должна была уплатить войску недоимку.
Всего с недополученными казною по прежним окладным суммами набралось, по счетам подскарбия, больше 8.000.000 злотых. Не смотря на все бедствия свои из-за денежных затруднений, Польша вечно впадала в недочет. Не исправленная ни Косинщиной, ни Наливайщиной, ни Павлюковщиной, ни самою Хмельнитчиной, она и теперь, когда готовилось последнее столкновение народа шляхетского с народом казацким, очутилась в страшном недочете. Одни поборцы не явились в назначенный срок, другие не привезли всех денег. В скарбе оказалось только 2.000 000 злотых.
При таких обстоятельствах, открыли паны во Францинсканском монастыре комиссию, составленную из 44 членов, под председательством сендомирского воеводы, маркграфа Мышковского. Каждая хоругвь прислала в нее своего депутата.
Эти почтенные представители коронного войска, единственные защитники отечества, последняя опора Речи Посполитой Польской, тотчас же объявили, что не приступят ни к чему, пока обиды, причиненные жолнерами частным лицам, не будут покрыты амнистией. В противном случае грозили «сорвать» комиссию и «завязать» конфедерацию. Король обещал амнистию, и все обиженные, съехавшиеся, в чаянии правосудия, во Львов, уехали ни с чем.
По сведении счетов, оказалось, что Речь Посполитая задолжала спасителям отечества 6.107.622 злотых. Но жолнеры не признавали счетов министра финансов, подскарбия. Они требовали уплаты за 13 четвертей года, требовали вознаграждения убытков, понесенных от недоимки, и не отступали от своего домогательства ни на йоту.
Весь лагерь волновался, твердя, что комиссия уменьшает жолнерский заработок, торгует жолнерскою кровью и потом. Демагоги сзывали сборища, кричали против короля, грозили сенаторам, и были готовы повторить казатчину над королевскими и панскими добрами. Субординация, на которую Чернецкий возлагал всю надежду истребления Руси, пала окончательно. Польская пехота столкнулась на лагерном майдане с иноземною, и между ними завязалась перестрелка, напомнившая панам Батоговскую катастрофу.
Пока их развели, погибло несколько сот человек, без сомнения, храбрецов, которые, при добром порядке, весили бы на весах боевого успеха столько же, сколько паны задолжали войску. Безнаказанность и дерзость дошли до такой степени, что в самом городе поднимались крики и драки; даже под окнами королевской квартиры в архиепископских палатах происходили убийства.
В это время Хмельницкий, родное чадо польской неурядицы, стоял уже невдалеке от памятного панам Збаража и, если бы казаки не были видоизменением шляхты, то могли бы повторить над своими учителями Батоговскую кровавую баню. В виду грозной опасности, король переселился на несколько дней в лагерь, чтобы своим присутствием восстановить порядок и соподчиненность, — он, деморализатор коронного войска, выполнявшего свою функцию со славою под управлением Владислава IV и его великого фельдмаршала. Между жолнерами ходили уже слухи, что никакого жолду им не дадут. Король хотел их успокоить хоть с этой стороны, но должен был вернуться во Львов, где комиссия не знала, что делать с войсковой делегацией.
Польша обнаружила прорехи по всем швам. Были в ней такие воеводства, которые на реляционных (отменяющих центральные постановления) сеймиках не согласились на на какие налоги. Другие давали меньше того, что определили их сеймовые послы; третьи, одобрив установленные налоги, отложили их на дальнейшее время.
Государство, сшитое римской политикой на живую нитку, поролось и распадалось от фальшивости своего кроя и шитья. Когда дело дошло до взноса налогов, начались обычные махинации и обманы со стороны поборцев. Одни уменьшали поборы, установленные веками и утвержденные сеймом 1633 года; другие укорачивали своими саляриями цифры, определенные в пропорции новых поборов; третьи, раздавши квитанции в получении налогов, внесли в Скарб гораздо меньшие суммы, и т. д. и т. д.
Словом, не оказалось ни одного воеводства, ни одного повета и земли, которые бы все то уплатили, что следовало; а Хмельницкий угрожал Польше последним ударом. Не так поступали Пожарские и Минины в Смутное Время, когда для Московского Государства эта самая шляхта, со своими жолнерами, представляла казако-татарскую орду: факт важный в решении вопроса: кто был достойнее владеть широкими областями от моря до моря: «кичливый лях, иль верный росс».
В государственном Скарбе было всего 2.000,000 злотых, комиссия насчитывала недоимки 8.000.000; а жолнеры требовали 15.000.000.
После разнообразных споров и бунтов, дело кончилось уплатою жолнерам небольшой части недоимки и подкупом жолнерских делегатов, а для благовидности, восстановившуюся тишину приписали действию «королевской комиссии». Не имея того, что составляло силу царского правительства, несчастные обманывали свою шляхту и людей заграничных, представляя вид, будто бы и в их беспорядочном правительстве есть эта обеспечивающая всякое право сила. Королевская комиссия состояла не из Аристидов-бессребренников, а все из тех же эксплуататоров и расхитителей государственных доходов. Прижатые жолнерами к стене, они должны были — или подвергнуться другой Хмельнитчине, не казацкой уже, а жолнерской, или же поделиться с мелкими обдиралами своею крупною добычею. Из двух зол они выбрали меньшее.
Жолнеры согласились принять от комиссии депьги под условием, что остальная недоимка будет уплачиваться им по мере поступления в Скарб налогов, а король, коронный гетман и комиссары дали им ассекурацию на своих добрах, гарантируя окончательную уплату до 15 сентября. Что же это был за король и какие сделки соединяли его с прочими членами польской олигархии, явствует из следующих строк роялиста Освецима:
«Ноября 20 скончался краковский кастелян» (Николай Потоцкий) «оставив свободное поле для соискательства лицам, желавшим воспользоваться оставшимися по его смерти вакантными должностями. При дворе долго колебались и отсрочивали их раздачу, но наконец преимущество было оказано тем, которые с своей стороны предложили более возмездия. Должность краковского каштеляна была предоставлена мазовецкому воеводе, Варшицкому, несмотря на то, что, по общему мнению, право на нее имел краковский воевода (Владислав Заславский). Барское староство передано князю Богуславу Радивилу, люблинское — сендомирскому кастеляну, Витовскому, под тем предлогом, что недавно он оказал значительную услугу, приняв на себя должность посланника в Москву, но в действительности его успеху гораздо больше содействовало то обстоятельство, что он поднес в подарок королю 15.000 червонцев. Нежинское староство предоставлено коронному маршалу (Любомирскому), булаву же великого гетмана король оставил пока при себе до дальнейшего усмотрения»...
Орда не пришла еще к Хмельницкому, а без Орды он был воин без правой руки. Надобно было пользоваться временем. Так и думали паны, но выходило у них иначе. Во время передряги с войском вышли первые, вторые и третьи вици. Но многие воеводства вооружались так медленно, как будто не верили, что Польше угрожает удар ужаснее всех, нанесенных ей казако-татарами. Король, в последних универсалах, оповещал, что неприятель приближается со всею силою, а это значило в числе 300.000. «Ежечасно, ежеминутно ждем его» (писал он). «Не думаем, чтобы нашелся кто-нибудь не желающий спасать отечество там, где дело идет о целости всего». Этим способом надеялся он вызвать шляхту в поле не позже 10 августа, а ближайшие воеводства увидеть перед собой и раньше. В отчаянно вопиющих универсалах речь была уже об остатке Польши. Но патриотизма не было там, где каждый панский дом составлял отдельное государство, где каждый город был самоуправляющеюся республикой, а король не имел ни самостоятельной власти, ни даже панской независимости.
Хмельницкий, выжидая событий, подвигался вперед медленно. Остановясь невдалеке от Сатанова и зная, что происходит в панском лагере под Глинянами, он крался к нему волком, с намерением повторить Батоговскую резню. В это время из панского лагеря был выслан легкий подъезд, для осведомления о неприятеле. Подъехав под Зборов, повстречался он с многолюдною казацкою чатою, разбежался во все стороны и привез во Львов такие преувеличенные вести, что, по словам самих поляков, все начали думать о бегстве.
Это был для Хмельницкого важный момент. Орда пришла уже к нему. Дай судьба ему только несколько дней еще для набега, — Польша была бы у него в руках, и тогда перед новым Тамерланом, коронованным короною Казимира Великого под именем Богдана I, (поляки были способны и к этому) задрожал бы действительно «весь свет», особенно культурный. Может быть, у Хмельницкого была уже в руках прокламация другого ненавистника аристократов, другого заклятого врага папистов, Оливера Кромвеля, от которой до нас дошел один титул, а именно: Theodatus Cmielnicki, Dei gratia generalissimus ecclesiae Graecorum, imperator omnium cosacorum Zaporoviensium, terror et exstirpator nobilitatis Po» Ioniae, fortalitiorumque expugnator, exterminator sacerdotum Romanorum, persecutor ethnicorum, Antechristi et Judaeorum [68]. Подав один другому руку, эти два различные, но страшные каждый по-своему энтузиаста могли бы изменить лицо Европы и Азии. Самые дикие картины счастья, как понимают счастье разбойники, могли представляться Хмельницкому в этот важный момент его истребительной деятельности. Но демон злобы, корысти и властолюбия, служивший ему до сих пор только с намеками на свое коварство, явился перед ним в образе вестовщика, и объявил «счастливому человеку», как назвал его достойный его сват, что сын его, вместе с господаровною и сокровищами тестя, разбитый наголову, осажден в Сочаве...
Сообразив последствия погрома и осады, Хмельницкий бросился стремглав из-под Сатанова (имя, соответственное событию) и, делая, как татары, по 10 миль в сутки, долетел до Белой Церкви без отдыха.
Орда, видя такое неожиданное отступление, похожее на бегство, покинула Хмельницкого и ринулась на места, где оставались казацкие семьи с запасами. Тогда в казацком войске послышались ужасающие проклятия и угрозы. Беглый гетман успокоил казаков только тем, что послал их по татарским следам, и таким образом не мог ни воевать с панами, ни выручить сына из опасности. Нечистая сила разыграла с ним одну из самых замысловатых своих трагикомедий.
В Белой Церкви ждал нашего Хмеля турецкий посол с письмом от визиря. Это письмо сохранилось в неясном московском переводе и, к сожалению, в поврежденном виде. Его привез в Москву царский подъячий, Иван Фомин, который, может быть, добыл его и «тайным обычаем», так как о казаках давно уже писал Кисель по своей комиссарской должности: «любят голубчики взять (ИиЬщ niehoita wzisc)».
Великий визирь, Аззем-Магомет-баша, обращался к Хмельницкому с дружеским приветствием, но от учтивостей перешел к неприятным для Порты поступкам Тимоша в придунайских княжествах. «И то дело» (писал он) «великому государю нашему учинилось к прогневлению, что сын твой с ратными людь(ми вошел) в те государства, а тех госуд(арств люди) меж собою ссорятся»...
«И так как сын твой» (продолжал визирь) «учинил в волохах несколько непристойных дел, то по этой причине тамошние дела приведены в прежний порядок, и все возвращено Лупулу, всегда нам доброжелательному [69].
«А ты, достоверной друг наш» (говорится далее в московском переводе) «(великого) государя нашего ведаешь: не (как иные) государи, он — великий государь самодержавный, грозный государь. Все подданные его имеют над собою страх и пребывают в его повеленье до единого человека и в послушанье: про то вам (казакам) самим ведомо. А без ево, великого государя, повеленья никто не может в его государеву отчину вступить, и благосчастная мысль его к тому не прилежит. И тебе б его письма, понеже бо такому в(еликому) государю учинилися (вы, казаки) в подданстве, и государские чести оберегати и (все) государева повеленья творити, нич(его не опуская). И как учнете сим путем быть и добрострастие над собою имети, и вам день ото дни перед нашими подданными чести прибудет. И аже даст Бог, и узрите. И вам бы ратных своих людей держать в уйму, и в государство государя нашего входить не велеть, и о том учинить крепкой заказ.
А добрычинским ратным людем и той сто(роны Та)таром повеленье послано: к (вам) на помочь будут. А же даст Бог здешнее дело совершится, но и паче с прибавкою к вашей помочи повеленье будет. И крымскому цареву величеству повеленье послано не единожды, чтоб он к вам на помочь шол. И вам бы про то ведать, и сына своего взять к себе».
Письмо визиря лишило Хмельницкого надежды владеть придунайскими княжествами. Между тем король мог ежедневно удовлетворить свое войско и двинуться в поход, а князьки могли ежеминутно взять Сочаву, и прийти к нему на помощь в то время, когда татары будут еще в Добрудже и в Крыму.
Визирь писал свое письмо еще до вторичного бегства Лупула. Теперь Лупул сидел в Чигирине и сулил казакам золотые горы, вербуя войско для освобождения Сочавы. Хмельницкий поощрял вербовку: сокровища значили для него столько же, как и отражение союзных князьков. Но этим самым он разрушал надежду на турецкую помощь, так как действовал вопреки повелениям Порты, а между тем казаки его, ослабленные поражением под Яловицею, были разъединены.
В это трудное для старого Хмеля время, и поляки, и такая Русь, к какой принадлежал Ерлич, распространяли и повторяли слух, что турецкий посол требовал от него действительной отдачи тех земель, которые он столько раз обещал Порте, и в то же время — присяги на подданство. Говорили, что будто бы казаки, волнуемые духовенством, грозили бунтом по этому поводу; что будто бы полковники Богун, Джеджалла и другая старшина, вместе с гетманом, были не прочь от присяги султану, но эта присяга ничего бы не значила без согласия черни, и что будто бы чернь, отвергая и турецкое подданство, и московскую неволю, высказывала готовность «служить старым панам и королю, который столько раз дал ей доказательства своей милости».
Не таков был Хмельницкий, чтобы позволить каждому заглядывать себе в карты. Поэтому и такие вести, что будто бы он выражал Порте уверенность в расположенности большей части казаков к принятию ислама, повторяемые польскими историками, показывают только незнание ни Хмельницкого, ни казаков, ни самой Порты, которой мало было дела до веры в вопросе о подданстве. Все такие слухи распускали в шляхетском народе — или купленные Хмелем люди, или казаки, для того, чтобы предрасположить ляхов к известному обману. Тем же самым способом морочил казацкий батько и Турцию, и Москву, и весь свет, и никто не знал истинных его намерений, сам же он переменял их с каждой переменой обстоятельств.
Глава XXX. Московский ультиматум. — Царское обнадеживающее посольство у казаков. — Кому в Малороссии было ненавистно московское подданство. — Панский лагерь под Жванцем. — Жванецкий договор 1653 года. — Казаки поддаются Московскому царю. — Воссоединение Малой России с Великою.
Когда под Глинянами узнали, что Хмель отступил к Белой Церкви, было послано вслед за ним две хоругви, чтоб узнать, не военная ли это хитрость. Но едва они сделали несколько миль, как повстречали киевского полковника, Антона Ждановича, в сопровождении 12 казаков, и привели его в лагерь вместо языка.
Казацкий посол привез от Хмельницкого письмо только к коронному гетману и просил его от имени гетмана и всего Запорожского войска о предстательстве у короля.
Жданович говорил, что казаки не хотят больше воевать, и если бы король наступил на них в своем ожесточении, то не будут обороняться, а побредут куда глаза глядят. Кроме гетманского письма, привез он просьбу от казаков к королю и показывал ее каждому.
«По заключении Белоцерковского мира» (писал в казацкой просьбе сочинитель такой истории, какую сочиняют нам доныне), «мы были расположены никоим образом не нарушать оного, и потому не мало покарали смертью тех, которые подавали повод к его нарушению, как-то Гладкого, Мозыру и других. Но Войнилович, Маховский и другие, которые стояли на Заднеприи по ординансу вашей королевской милости, напав своевольно на людей, обеспеченных миром, немало перебили, и кровь невинную пролили, а другие села и местечки огнем и мечом истребили. К тому же покойный его милость пан Калиновский, как это было нам достоверно известно, соединив войска и ставши уже лагерем, намеревался неожиданно на нас напасть. Поэтому мы, предотвращая сие, должны были двинуться с частью войска. Ничего, однакож, не замышляя против вашей королевской милости, и, не идучи в глубину, вернулись назад. А что случилось по Божию попущению, то просим простить нам».
Далее казаки писали, будто бы они ждали комиссии, о которой трактовали с Зацвилиховским, но, вместо комиссии, Чернецкий и Маховский произвели у них опустошения и убийства. Ничего, однакож, не предпринимая, униженно просят они короля оставить их при Зборовских пактах, не стесняя ничем веры их и вольностей.
Если бы же ему число войска по Зборовским пактам казалось слишком великим, то просят прислать в Паволочь или в Белую Церковь комиссаров. Казаки просили также об уничтожении церковной унии в Короне и Литве. В случае же наступления на них с войском (сказано в просьбе), казаки не будут уже и обороняться, и не желают больше проливать кровь, а будут «промышлять о своей жизни всякими иными способами».
Созвана была рада и решено — трактовать об этом деле так, как будто король ничего не знал. Гетман отвечал частным образом Хмельницкому: 1) чтоб он отпустил турецкого посла; 2) чтоб отдался безусловно на милосердие короля; 3) чтобы союз с татарами разорвал и, для верности дела, дал заложников, какие будут указаны. Антона Ждановича задержали в Глинянах, как пленника.
От казацких языков панам было известно, что у Хмельницкого войска мало, что чернь жаждет мира и хотела отправить к королю посла иссреди себя. Казаки с пытки говорили, что приходили к ним татары, но вернулись, потому что казаки разъединились, а разъединились из-за того ясыра, которого татары набрали из жен и детей казацкой черни и даже самих реестровиков, и которого потом Хмельницкий выкупил собственными деньгами 6.000 душ. Те же языки рассказывали, что гетман и полковники хотели присягнуть перед султанским послом на подданство от имени всей черни; но чернь и некоторые из полковников не согласились на то никоим образом, «и отсюда-то происходит волчья покорность Хмельницкого», объясняли себе паны.
Между тем Хмельницкий играл в самую опасную для них игру. В письме к королю из Чигирина он в сотый раз призывал Бога во свидетели, что, как прежде, так и теперь, казаки от чистого сердца желают быть верными королевскими подданными, и при этом доносил смиреннейшим тоном, что они «упросили Московского царя ходатайствовать об исполнении их просьб, касающихся веры, церквей и вольностей войска его королевской милости Запорожского».
Это письмо было предвестием подпадения Польши под власть государства, которое так еще недавно попирала она ногами со всем его великим и священным. 27 римского июля прибыло во Львов московское посольство, под начальством боярина Репнина Оболенского. Оно привезло Польше ультиматум, согласовавшийся с Чигиринским письмом Хмельницкого. При первом же свидании с представителями Речи Посполитой, царские послы высказали весьма резко свой русский взгляд на их пресловутую республику. Москва выждала наконец время для возмездия Польше за все претерпенные от неё поругания, и это было начало возмездия.
Один из сенаторов спросил у боярина: не по тому ли делу прибыл он, о котором трактовал королевский посол, Адам Кисель, в Москве?
Репнин Оболенский отвечал спокойно, что не был тогда в Москве, и не знает, о чем трактовал Кисель.
«Да вам-то что в этом, паны?» (сказал его товарищ). «Пока бы вы что-нибудь постановили, так не осталось бы и времени на исполнение. Вы ищете союза с монархами, а когда чего не достанет с вашей стороны, говорите, что сейм не позволяет. Когда б на вашем сейме можно было решать, чего требует ваша честь и польза вашего королевства, — может быть, тогда соседние монархи соединяли бы свои силы с вашими, для своих выгод, для подавления общего неприятеля. Но вы до сих пор не нашли средства сохранять в тайне свои сеймовые постановления, хоть бы на то время, пока приготовитесь; поэтому и мудрено понять, какой бы государь захотел предпринять с вами поход. Разве на то предпринял бы, чтоб неприятель на него напал, узнав тотчас обо всем».
Сенаторы представляли послам, что они мало знакомы с делами и образом правления государства свободного.
«Что это за ответ»? (сказал великий посол) «Вы говорите, как у вас должно быть; на бумаге, да на словах устанавливаете то и се, а на деле — неурядица, пальцем ткнешь».
Здесь один из сенаторов заговорил о силе Речи Посполитой и сказал, что скоро соберется 40.000 вооруженной шляхты. Тогда она принудит Хмельницкого к повиновению и будет иметь довольно времени для того, чтоб отомстить какому-нибудь соседу за пренебрежение.
«Если таковы силы ваши» (сказал товарищ великого посла), «зачем же эта небольшая часть вашего войска стоит в бездействии»?
«Не понимаю» (прибавил Репнин Оболенский), «что это у вас за сила, что Ракочий бьется за вас. Взбунтовавшийся логофет не испугался сына Хмельницкого, и если взвесить средства, то наделал больше вреда казакам, в два-три месяца, чем ваше королевство в столько же лет. Если вы допустите, чтоб он уничтожил Хмельницкого, то едва ли другие народы поверят, чтоб этот Хмельницкий был такой боец и силач, каким он представляется, благодаря вашей неудалости, или неурядице. Когда б ваш Калиновский был таким воином, как драчуном, когда б у него в голове был толк, не затеял бы он бессмысленно битвы с Хмельницким и не довел бы дела до того, чтоб казаки взяли верх и первые нарушили мир. Если хотел он помешать свадьбе Тимоша, если думал, что этого требует благо королевства, то ему бы следовало расположиться на более крепком месте, ждать нападения и тогда только воевать. А он взял деньги (от Лупула), и вовсе не заботился о своей отчизне».
Все это было высказано таким голосом и с такими жестами, что сенаторы обиделись. Не обратили на то внимания торжествующие наконец над ляхами москали и стояли за свободу личного мнения. У них была в запасе пушка, заряженная царскими титулами, и они не замедлили грянуть. Но сперва пустили в глаза панам ракету, изобретенную на их пагубу старым Хмелем. Заговорив о междоусобии, раздирающем Польшу, послы оправдывали казаков тем, что они взялись за оружие, видя свои церкви в аренде у жидов...
Если было чем возмущаться панам до глубины души, то всего больше — этой выдумкою, противною и фактам, и здравому смыслу. Но относительно русской веры и соединенной с верою народности все они были гораздо виновнее даже таких невозможных притеснителей, которые бы отдавали в аренду жидам церкви воинственного народа, заставлявшего, по его собственным словам, трепетать перед ним Турцию, Польшу и весь свет: они были не столько притеснители, сколько соблазнители, и потому им лучше было бы, вместо распространения в обществе папства и еретичества, повесить себе на шею жерновый камень и потонуть в морской пучине: ибо тогда погибло бы одно только поколение панов, а польская нация, без их козней, благоденствовала бы в соединении действительно «равных с равными» и в самом деле «вольных с вольными».
Вместо сознания непростительных грехов своих, паны доказывали как нельзя яснее, что вера не была причиною казацкого бунта, и что казаки одинаково святотатствовали, как в римско-католических костелах, так и в греко-русских церквах. Ухмыляясь в окладистые бороды, царские послы были глухи к их доводам. Мало обращали они внимания и на представления панов о том, что Хмельницкий недостоин царской протекции: ибо, с самого начала войны, (говорили они) «в каждом своем посольстве к представителям Речи Посполитой, утверждал, что надобно вести казаков против Москвы. У короля в руках» (продолжали паны) «находится множество писем, доказывающих, что Хмельницкий, во всех переговорах с Оттоманскою Портою, условливался с нею воевать Москву. Вот и в декабре 1652 года трактовал он одновременно с Москвой, с Турцией и с Польшей, и всем троим обещал верноподданство. Наконец, в письмах, добытых Ракочием из Константинополя, и которые не дальше как 7 римского августа Ракочий переслал королю, выразительно говорится, что в то самое время, когда искал царской протекции, предлагал он подданство султану и убеждал Порту, что ему будет легко, с помощью татар и турецких подкреплений, занять Польшу, Литву и добраться до Москвы. А что хуже всего, один из послов самого Хмельницкого объявил, что Хмель и большая часть казаков склонны принять веру Магомета...»
Так сообщил свидетель этой сцены папскому нунцию, но, снедаемый ревностью к единой спасающей церкви, прибавил очевидную небывальщину, — будто бы царские послы не захотели дальше слушать, называли Хмельницкого псом, вором, разбойником, общим предателем и восклицали: «Да хранит Господь короля»! (следовательно и ту курию, которая отняла у русского света древнерусское дворянство в польских владениях и посягала на все другие сословия).
Такой финал религиозно-политической борьбы невероятен уже по одному тому, что послы тут же грянули в представителей Польши и соблазнителей польской Руси царскими титулами, точно громом. Напрасно паны представляли свои сеймовые декреты, свои королевские sancita; — царские послы соглашались помиловать Польшу только под условием подтверждения Зборовского договора и уничтожения церковной унии, как главной причины восстания казаков.
Им опять, со всей убедительностью фактов, представляли, что религия во всех казацких бунтах была ни при чем. Царские послы не хотели знать истории, вещавшей устами оиезуиченных панов, как не хотели в свое время паны знать истории московской самозванщины.
По своему веку и по своей образованности, царские бояре и дьяки не могли возвыситься до признания факта, что греческой религии нельзя знать в таком государстве, как Польша: ее можно было только совращать; — не могли возвыситься тем более, что философское беспристрастие в истории, еслиб оно и было для них возможно, то не было бы выгодно: ибо тогда было бы им непристойно оправдывать казацкие разбои, напротив, следовало бы видеть в казаках то, что видели в них паны рады: общих врагов Москвы и Польши... Теперь же, стоя на почве религии, которая в своей свободе должна быть неприкосновенна ни для прямого притеснения, ни для казуистики, ни для соблазна, — царский великий посол объявил торжественно, что царь, «для православные веры и святых Божиих церквей», готов забыть личную свою обиду, если король и паны рады помирятся с казаками, которые домогаются неприкосновенности православия в пределах Польши, и помирятся не иначе, как на основании Зборовского договора.
В переводе на язык практики, царское великодушие, в настоящем случае, значило не больше и не меньше, как московский протекторат над остатком непревращенной еще в иноверщину Руси в пределах соседнего государства, — протекторат, от которого оставался один только шаг до занятия всех польско-русских провинций во имя охранения древней русской веры. По пословице: «долг платежом красен», московский царь расплачивался с Польшею за принятого Сигизмундом III под покровительство такого же разбойника, и даже большего, чем Хмель, и за насильственное присвоение царского права в Москве Владиславу Жигимонтовичу. Государственное достоинство России требовало от Польши, при уплате долга, надлежащих процентов, и вот, при всей фактической правоте вековой напастницы, она сделана преступницею, требующею казни через палача, Хмельницкого.
Царский великий и полномочный посол с тем и уехал, что Польша должна быть казнена за нарушение Зборовского договора, нарушенного казаками. Беспощадный и несправедливый, но вполне заслуженный, приговор свой формулировал он следующим образом:
«Так как великий государь, его царское величество, для православные христианские веры и святых Божиих церквей, желая успокоить междоусобие, хотел простить таких людей, которые за оскорбление чести великого государя достойны были смерти, — но король Ян Казимир и паны рады поставили это ни во что, поэтому великий государь, его царское величество, не будет терпеть такого бесчестия и не станет к вам посылать своих послов, а велит о всех ваших неправдах и о нарушении вами договора писать во все окрестные государства к государям христианским и бусурманским, и за православную веру, и за святые Божии церкви, и за свою честь будет стоять, сколько подаст ему помощи милосердый Бог».
Эти слова были только перефразом того, что говорит Иоанн III. Мысль Великого Собирателя русской земли оказалась бессмертною.
Польша находилась в отчаянном положении, как это вскоре доказали события, но, по малорусской пословице: «дурень думкою богатие», она готовилась нанести последний удар казацкому Минотавру в такое время, когда он, волею исторических судеб, сделался орудием того, «о чем», по его словам, «никогда не думал». Польша насчитывала сотни тысяч союзных сил. Она утешалась известиями, что «хлопы не хотят слушать Хмеля», а с Ордой едва начинают сговариваться. Творя своего Пана Бога по образу своему и по подобию, она твердила, что он «совершит свое дело» в пользу панов и шляхты. Наконец, она уверяла и себя, и других, что москали прислали Хмельницкому деньги и артиллерию, как будто ей от этого было бы легче.
Между тем новый волошский господарь, Стефан Гергица, просил у панов помощи, королевских советников будто у него под Сочавой 200.000 боевого народу, не считая 50.000 союзных сил, которые не дают казакам подойти на выручку Тимоша. За помощь, Гергица обещал все эти войска вести лично, куда прикажет король. Даже силистрийский баша просил короля под секретом, чтоб он привел казаков к невозможности вторгнуться в Волощину. У Яна Казимира давно уже была, как выражались его клевреты, mina imperatorska; про него, по иезуитскому камертону, трубили во все трубы, звонили во все колокола и, может быть, одна только Москва, стоя за пределами иезуитского господства над европейскими и азиатскими умами, понимала все ничтожество польского короля и всю несостоятельность его королевства.
Рассчитывая на командование сотнями тысяч войска и на подавление не только польской, но и московской Руси, Ян Казимир послал в помощь союзным князькам 40 хоругвей и 1.200 драгун с 6 пушками, под начальством Кондрацкого, по имени русина. Теперь ему оставалось только ждать от совершающего свое дело Пана Бога великие и богатые милости за свои личные и за панские добродетели. Но, чтобы тем скорее и блистательнее воспользоваться этой милостью, он двинулся со всем войском к югу, где намеревался занять удобную позицию для соединения всех союзных войск. Из этого мудрого на бумаге и на словах плана вышла, как увидим, все та же неурядица, на которую московские послы указывали панам пальцем.
Военная рада представила самому королю назначить местность для лагеря, и король избрал Галич. Разослав универсалы, возвещавшие, что он идет на казаков, король выступил 29 августа из-под Глинян. Он подвигался медленно, потому что осенняя слякоть портила дороги.
На пути своем получил он из-под Сочавы благодарность за подкрепление и вместе с нею уверение в общей готовности служить ему. Новый волошский господарь просил его направлять свой поход в Украину. Король давно уже думал о том, чтоб идти в Украину, и с этой целью послал литовскому гетману повеление — двинуться к Киеву в то самое время, когда коронное войско будет приближаться к этому центру Малороссии. Но литовский гетман «не послушался» короля, как в свое время не послушался его брата, Владислава, гетман коронный. Ослушание свое оправдывал он тем, что Москва стягивает войска к литовским границам. Итак Ян Казимир напрасно дразнил своих народных пророков, отдав кальвинисту виленское воеводство. Все обвиняли Радивила в измене; но в Польше тогда столько людей было изменниками, начиная с короля, что и самого Хмельницкого с его сыновьями, находили возможным уравнять в дигнитарствах с Замойскими, Жовковскими, Конецпольскими. Как в Московском Государстве, опозоренном так называемым расстригою, великопанскому дому Мнишков было возможно принять в свое родство Тушинского Вора, так и в королевстве «доблестных поляков», после избрания на престол расстриги по воле разбойника, следовало допустить и этого самого разбойника к участию во всех пожалованиях, предоставленных королю-расстриге.
Получив благодарственное письмо от Стефана Гергицы с просьбой о походе в Украину, и сведав, что Хмельницкий, со всеми своими силами, идет на освобождение Сочавы, Ян Казимир опять переменил свой план и решился — часть войска послать комонником под Сочаву, а с остальным подвигаться медленно к Подольскому Каменцу.
Через несколько дней пришли другие вести, — что Хмельницкий остается в Белой Церкви, и только часть казаков и татар «запустилась» под Константинов. Опять изменили план похода окружавшие своего короля паны: король должен был остаться в Галиче, а войско идти на казаков и татар. Между тем снова повторились предостережения, напоминавшие Зборовщину, — что неприятель приближается с великими силами. Король снова переменил свое намерение, и двинулся со всем войском под неприступный Каменец, где он мог дождаться безопасно обещанных ему подкреплений из-под Сочавы.
Еще через несколько дней пришли письма от Гергицы и Ракочия. Один уведомлял, что два казацкие полка идут на выручку Сочавы, что сам Хмельницкий выступил в поход, но не известно, куда, в помощь ли сыну? Или же против королевского войска, и что хан, после байрама, садится на коня. Другой просил заградить путь в Волощину — Хмельницкому на выручку сына, а Лупулу на выручку сокровищ. Ракочия пугало движение силистрийского баши с турками и татарами на сю сторону Дуная: баша мог освободить и сына Хмельницкого и сокровища Лупула от осаждающих.
Вместе с тем король узнал, что Хмельницкий приближается, но хана с ним нет. Коронное войско стояло уже тогда под Каменцом. Паны, имевшие добра в Подолии и Покутье, боялись жолнерских грабежей, поэтому убеждали короля отозвать Кондрацкого из-под Сочавы, наступить на Хмельницкого, пока не соединился он с ханом, и положить конец казацким бунтам (исщс glowЈ rcbellii), а потом взять Сочаву.
Противоречил им в военной раде коронный маршал, Любомирский: он советовал взять сперва Сочаву, чтобы не оставлять неприятеля у себя в тылу, чтобы не потерять союзников, чтобы славою, которою стоят войны, поразить слух неприятеля и ударить на него соединенными силами. Теперь же, (говорил он), не имея ни откуда верных известий о неприятеле, не следует рисковать «последними силами» Речи Посполитой.
Много сделал коронный маршал убедительных замечаний, но все они представляли короля, вместе с его правительством, в безотрадном виде, и чем были справедливее, тем были для большинства неприятнее. Король согласился с мнением большинства и решился идти в Украину.
Войско выступило в поход к Бару и шло все безлюдными местами, точно вернулось назад целое столетие, когда колонизация не смела двинуться дальше Бара в неведомые никому наши пустыни, и когда в передовом редуте колонизации, Баре, помнившем еще древнее имя свое, Ров, стояли наши «безупречные Геркулесы», жаждавшие, по словам старинного геральдика, «только кровавой беседы с неверными». Дорога (писали королевские спутники) была похожа на «грязное кладбище». Народ разбежался по лесам. От многолюдных недавно еще городов оставались недогоревшие развалины, и от богатой Подолии уцелело только небо да поле. Богуслав Радивил, в своей автобиографии, сохранил две, особенно поразившие путников черты Бара. Один жолнер, заблудившийся в буковинских лесах, ползал здесь перед ними на коленях, не находя пищи девятые сутки. Четырехлетняя девочка лежала уже шесть дней на дороге у падали, которую грызла собака и в которую несчастная малютка запускала свои рученки. Девочка казалась здоровою, но, испив теплого супу, тотчас умерла.
На втором ночлеге, когда войско стояло под Зеленцами, пришло неожиданное известие, что хан, со всею силою, выступил из Крыма. Оно подтвердилось новыми вестями. Поход был остановлен. Военная рада, после трех совещаний, постановила — занять позицию над Днестром, над границами Волощины, дождаться падения Сочавы и протянуть войну до тех пор, пока союзные князья не подойдут с помощью. При этом имелось в виду, что, в случае нападения, безопаснее стоять над большой рекой, а съестные припасы легче добывать из Волощины, нежели из собственного голодного и безлюдного края.
Итак вернулись на свои следы и расположились лагерем под Жванцем. Отсюда на правом берегу виден был в полумиле тот Хотин, под которым «хлопы казаки» сделались розовым венком на головах теперь борющейся с ними шляхты, а на левом, к северу, в двух милях, «объеденный» жолнерами Каменец.
Зная, что паны решились бороться напропалую, Хмельницкий, в августе 1653 года, разослал универсалы, повелевавшие всем способным носить оружие идти в войско, не отговариваясь никакими хозяйственными занятиями, хотя бы то была и уборка хлеба с полей. Его агенты подкупали турецкий двор. Крымский хан, выиграв мало своими интригами после бегства из-под Берестечка, готов был снова предпочесть панам казаков, невзирая, что называл их безумными пьяницами. Но всего важнее было для Хмельницкого — вовлечь в казако-панскую войну Москву. Он умолял царя о немедленной помощи, «не желая отдать на поругание церквей и монастырей Божиих, а христиан на мучительство». — «Если же ты, великий государь» (писал Хмельницкий) «нас не пожалуешь и не примешь к себе, тогда мне остается свидетельствоваться Богом, что я многократно просил у государя милости и не получил. Но с польским королем у нас не будет мира ни за что».
В ответ на эту мольбу, царь Алексей Михайлович прислал в Чигирин подъячего Ивана Фомина с грамотой и с подарками как самому Хмельницкому, так и Выговскому. Участь Польши была решена в Москве окончательно.
Переезд Фомина через Ромен, Лохвицу, Лубны, Лукомье, Горошин и Бужин был рядом оваций в пользу поступления казаков, как он выразился, в вечное холопство великому государю. Встречая царского подъячего за городом, казаки с атаманами своими слезали с коней и низко кланялись.
Хмельницкого не было ни в Чигирине, ни в «его городе», Суботове: он ездил гулять по пасекам, которые составляли цвет казацкого кочевого хозяйства. Пользуясь отсутствием гетмана, войсковой писарь сообщил царским людям «тайным обычаем» подлинные листы турецкого султана, крымского хана и великих панов для прочтения. Более важные документы посылал он через Фомина к самому царю на короткое время.
Когда гетман вернулся с гулянья по пасекам, царского посла, посаженного на дорогого коня, провожали гетманские слуги пешком от его квартиры к гетманскому дому. Рядом с ним ехал Выговский; впереди сын Фомина, также верхом на парадном коне вез царскую грамоту, а грамоте предшествовали царские подарки гетману и войсковому писарю, несомые придворными гетманскими людьми.
Хмельницкий встретил царского посла на дворе поклоном и, поздоровавшись, провел через сени в светлицу. Рядом с этой светлицей были другие, в которых помещалась войсковая канцелярия. Царскую грамоту Хмельницкий принял, по выражению Фомина, честно и учтиво, целовал любезно в печать и в бумагу и, распечатав и прочитав, целовал снова и поклонился в землю среди светлицы, благодаря Господа Бога и Пречистую Богородицу за неизреченное государево жалованье. Соболи соответственной цены были вручены тут же Хмельницкому и Выговскому, но, по просьбе Выговского, было послано к нему на двор 40 соболей высшего достоинства.
Можно предполагать, что эта и другие подобные уловки делались не без соглашения писаря с гетманом, чтобы тем вернее вселить в москалях выгодные для Хмельницкого понятия о преданности войскового писаря к царю. Царские подарки во всяком случае не были безделицей для них обоих. Добычное богатство уходило так же быстро в их бедственных обстоятельствах, как приходило в счастливых. Откупаясь от хана, подкупая султанский сераль, снаряжая новые войска на место побитых Вишневецкими да Радивилами и, наконец, не умея беречь того, что не приобреталось честным трудом, они жили в кредит у щербатой казацкой доли, по пословице: «не на те казак пъе, що е, а на те, що буде». Про черный день казацкие дуки прятали в земле золото и серебро; но роскошничать в домашнем быту им было бы и трудно, и опасно, в виду врожденной у малоруссов зависти бедняков к богачам. Притом же богатства, в истинном смысле слова, казацкая Малороссия не имела. Ободравши Малороссию панскую, Хмельницкий торговал с Волощиной такими остатками исчезнувших промыслов, как поташ. В качестве сельского хозяина, он удовлетворялся пасеками, скотом, лошадьми, откармливаньем свиней в дубовых лесах, — словом, вернулся на целое столетие к старинным панским хозяйствам. Даже и скотоводство, не говоря уже о земледелии, находилось при Хмельницком в таком состоянии, что татары, приходившие к нему на помощь, затруднялись продовольствием, а паны высказывали такое мнение о былой земле, текущей молоком и медом, что она едва в состоянии прокормит самих казаков с их подсоседками и подпомощниками. Фомин, представитель благоустроенной в хозяйственном отношении Москвы, не мог не обратить внимания на жалкое хозяйничанье казаков. В своем статейном списке говорит он, между прочим, следующее:
«Суботовский атаман, Лаврин Капуста, сказывал: "Пришли де ныне к гетману на помочь крымские мурзы... больши 300 человек, а с ними пришло татар с 200.000, и стали около Суботова за рекою Тесьмою, а иные пошли к Боркам, где собирается его, гетманское войско. И из того де татарского войска топерва в Суботов приезжал к гетманскому двору Сакал-мурза с знаменем, а с ним 500 человек, для того, чтоб гетман с ними шол на ляхов войною тотчас, а им де около Суботова стоять нечево: живности нет, есть нечево, а едят де они свой корм — бьют лошеди"».
Не иначе могла существовать Малороссия под казацким режимом, как в виде широкого кочевья, по которому изредка были рассеяны так называемые города, то есть огороженные валом и частоколом села для некоторой безопасности торговых людей, ремесленников и земледельцев.
Выступая, по требованию татар, в поход, на другой день, Хмельницкий слушал у церкви Вознесения Христова молебствие, а оттуда заехал к царскому подъячему, «и слез с лошади пьян у ворот» (пишет Фомин). Здесь Хмельницкий «говорил прежние речи, с большим прошеньем и со слезами», прося помочь ему как можно скорее ратными людьми. Он обещал принудить к царскому подданству и самих татар. «Время пришло» (прибавил он) «и его царского величества счастье поспело, что и иные земли, которые к нам близко подошли, у него, великого государя, будут в подданных». Но замечательно, что все это он говорил тайком от «казаков и своих людей», провожавших его в поход, тогда как Фомин объявил уже публично важное для него решение: «Ты, гетман Богдан, и ты, писарь Иван, и все войско Запорожское на государеву милость будьте надежны».
Хмельницкому предстояло искать выхода из своего опасного положения всюду и рассчитывать в настоящем на будущие связи с кем бы то ни было. Призыв к войне действовал теперь на оказаченный народ совсем не так, как бывало прежде. Для замены свободного движения принудительным, казацкий батько должен был прибегать к мерам до того жестоким, что некоторые города приказывал жечь. Вместо 200 и 300 тысяч, как бывало прежде, он с трудом собрал 50.000 казаков, и с этими 50 тысячами чувствовал себя не совсем безопасным в виду 200 тысячной Орды. Кругом у него были враги и люди, не верившие ни одному его слову. Не видел Хмельницкий на сей раз другого выхода из опасного своего положения, как поддаться царю, перекричавши всех сеймовых православников, жаловавшихся на гонение древней русской веры. И вот в таком-то положении, когда он должен был таиться «от казаков и своих людей» с готовностью воевать в пользу царя с соседями, когда нечем было ему кормить в Украине вспомогательного войска, и когда казацкое войско не представляло ему безопасности от посягательства Крымского Добродия на его особу, — пришло к нему известие, что его Тимош, Тимошко, Тимко, его spes magna futuri, не существует, а посланное с ним войско уцелело едва настолько, чтобы конвоировать гроб сына к отцу. Чем и как чёрт не шутит?
Еще не зная о таком конце Лупуловой трагедии, паны, с своей стороны, сознавали отчаянное положение дела своего в борьбе с казаками. Приближавшаяся зима ужасала их. «С таким правительством, как наше», (писали сенаторы королю) «ваша королевская милость сделаете голодною всю Польшу». А войско свое называли паны обдиралами, которые пропили и пролюбезничали (przemilowali) во Львове то, что надрали по Короне и по Литве. По их отзыву, жолнеры были храбры только в пьяном виде, но теперь им не за что было и напиться. Хотя казаки, по слухам, прижали наконец Хмеля к стене и не хотели больше ему повиноваться, но тем не менее приводили своих соперников к убеждению, что у них у всех одно желание и намерение (jedno serce i intencya): биться до тех пор, пока — или погибнут, или перебьют ляхов. Один из захваченных в плен сотников казацких, высказывая все это, смеялся над легковерием короля и ляхов, которые верят Хмельницкому, когда он просит о помиловании (ze tak creduli, iz wierzq, gdy z рокогц Cmiehiicki przysyla). В своем бесконечном горе ловили они молву, которая в одно и то же время гласила, что «этот бешеный пес» разбит под Жванцем наголову, и что он опять «выпил огромную чашу крови с языческим своим полчищем». Во всяком случае, верно было то, что чернь не хотела соединить свою судьбу с его судьбою, и что 50.000 казаков составляли последние силы его.
Конец августа и весь сентябрь 1653 года протекли для Хмельницкого в борьбе с казаками и татарами. Те и другие готовы были погубить его, как изменника их, отдающегося тайно в московское подданство. Представители произвола, буйства и кочевого быта в Украине понимали, что Москва должна будет подчинить их беспорядочную жизнь своим строгим, недалеким от жестокости порядкам. Поэтому московское подданство было равно ненавистным и такой оказачившейся шляхте, как Хмельницкий да Выговский, и таким старинным казакам, которые были воспитаны в духе личной, шляхетской свободы. Ненавистнее чем кому-либо было оно самому Хмельницкому и его наперснику, который, по наблюдению Маховского, владел сердцем и умом Хмельницкого и распоряжался им, как отец сыном. Но казацкий батько потерял бы последнюю популярность в Малороссии, еслиб осмелился высказать свое отвращение к Московскому Государству перед питомцами наших монахов и попов. Господь Бог, Пречистая Богородица, святые Божии церкви и монастыри, православная христианская вера: эти слова не сходили теперь у него с языка вместе с его поговоркою: «свидетельствуюся Богом», и служили ему как бы заклинаниями против нечистой силы, готовой растерзать его в виду опозоренных им святилищ. Он пятился перед мусульманами к богобоязливой Москве; он ужасался Москвы в сознании запутанности своих клятв, союзов, договоров и, может быть, одни секретные беседы с её будущим предателем, Выговским, облегчали его душу перспективою новых коварных комбинаций.
Между тем весть о гибели Тимка Хмельниченка была бальзамом для тех ран, которые нанес панским домам кровожадный, как и он сам, его отец. Теперь для панов открывалось больше прежнего надежды совладать с домашним разбоем. Но расстроенный организм шляхетского народа был не способен к правильной деятельности. Время проходило в совещаниях, в отсрочках, в ожиданиях новых полков.
При несогласии между собой и при общем недовольстве королем, вечно меняющим планы, паны не были в состоянии даже охранить позади себя линию от Острога до Львова. По этой линии татары в последствии распустили свои загоны, довершая прежние опустошения и уничтожая повторенные в сотый раз попытки хозяйственной колонизации. Дошло наконец до обычного явления панских походов: жолнеры стали кричать, что срок их трехмесячного найма кончился, и требовали роспуска.
Шляхетское воинство разбегалось и, стыдясь появляться в своих местах, упражнялось в казако-татарском промысле. Разбойный элемент привилегированных сословий проявился во всем безобразии своем. Случалось, что шляхтичи попадались на грабеже в руки мещанам. Но мещане шляхтича судить не могли, а гродский и земский суды были организованы так слабо, что оправдывали злодеев именно с той стороны, с которой преступления их надобно было бы карать еще строже: в уважение к их благородному происхождению, разбойничавшие и грабившие шляхтичи, как это было и в Наливайщину, получали свободу.
Панского войска в лагере под Жванцем было 60.000. Лагерь был защищен полукругом Днестра с юга, востока и запада. С севера обороняли его сильные укрепления Каменца, в котором пребывал с сенаторами король. Подъезды нигде не открывали неприятеля, а между тем наступала дождливая осень. Бараки, слепленные из глины и соломы, без окон, были покрыты дерном. Изорванные палатки, заделанные хворостом и высыпанные внутри на локоть землею, были снабжены сделанными в ней сиденьями для жолнеров, обогревавшихся у костра. Все это подмывал дождь, в дырья лилась вода. Огонь разводили изредка, потому что кругом было трудно добывать дрова. Измокший и озябший жолнер грелся прислонясь к лошади, и готов был примириться с самим дьяволом, лишь бы добраться до сухого места. Так описывают сами себя поляки. По их рассказам, немецкие обершты, получив деньги, морили свой народ, чтобы плата осталась у них в кармане. А Подолия и Украина теперь не только не представляли поживы, но были приведены в такое состояние, что на эти области «было отвратительно и смотреть (smrod i pojrzec w Ukraing)».
Черниговский хорунжий, Гулевич, (может быть, родственник Анны Гулевичевны), в письме к приятелю, дополняет эту картину еще такими чертами:
«Решительно не с кем продолжать войну. Иностранный жолнер хоть бы и хотел что делать своим искусством (strojem), и тот не может, потому что голоден и давно был в избе. Бродит с первых чисел мая, точно скотина, по полям; а наши поляки-грабители (szarpacze), что в Короне содрали, то во Львове пропили, промотали, накупили атласных жупанов, и уже попротирали их на спине панцирями; а эта модная длина, точно исподницы, все это у них загрязнилось в нынешние ненастья; теперь, подрезав жупаны, ходят кургузыми оборвышами. Они готовы скорее пропить, чем сберегать на овес коню, да пить не на что».
Несчастные шарпачи щеголи умирали под Жванцем сотнями от холода и голода, хоть и не морили их обершты, как немцев. Были в панском войске люди, которые нашли бы возможность поднять на ноги жолнера, одушевить его и занять войною; но король, окруженный такими же неспособными людьми, каким был сам, парализовывал всякую деятельность.
Скучное, подавляющее ненастье прерывали изредка ясные дни, а безжизненное уныние войска — какие-нибудь вести, привозимые подъездами, или королевские планы, беспрестанно менявшиеся. Наконец унылое войско стали оживлять радостные вести из-под Сочавы, а потом и союзные силы, приходившие против казаков и татар, в небольшом, однакож, числе. Короля занимала снова мысль о Турецкой войне, унаследованная от несчастного Владислава. Ракочий поддерживал его завоевательные фантазии. Вследствие соглашения с Ракочием, послал он одного посла в Стамбул, а другого в Москву; но среди своих предначертаний был встревожен известием, что Орда двинулась из-под Шаргорода на соединение под Баром с казаками. Панский лагерь пришел в движение. По слухам, хан шел вдоль реки Бога из Латычева, а оттуда спустился к Бару и взял в сторону к истокам Смотрича.
Не думали паны, чтоб он осмелился к ним приблизиться. Полагали, что татары постоят несколько времени на кочевьях и возвратятся в Крым. Но известие о появлении Орды заставило рваться домой лановую милицию, которую некоторые воеводства прислали взамен посполитого рушения.
На эту, как ее называли, «ни к чему негодную сволочь», все панское войско смотрело с презрением. Ей заплатили за четверть года по 100, по 150 и даже по 200 злотых на коня; но одна часть этого «мотлоха», получив плату и за другую четверть вперед, то есть за август, сентябрь и октябрь, шла в лагерь так медленно, что, пока пришла, четверть истекла уже, и, не видав лагеря, она возвратилась домой. Другие, прибывши под конец четверти в лагерь, и услыхав теперь о приближении Орды, начали дезертировать сперва по одиночке, а потом толпами, и панские подъезды грабили их при встрече. Когда было получено донесение, что неприятель миновал Гусятин и находится только в шести милях от лагеря, сендомирцы и другие милиционеры двинулись через лагерный майдан табором. Их тотчас окружила обозная галастра и начала грабить их возы. Завязалась такая битва, что сам гетман бросился унимать.
Несколько человек было убито, множество подстрелено, а десятка полтора очутилось на виселице. Среди шума и смятения, остальных «упросили», и 8.000 лановых жолнеров осталось в лагере. Венгерское войско, пришедшее из-под Сочавы налегке, также рвалось домой.
Одетое по-летнему, оно сильнее других страдало от морозов. Король склонил его остаться просьбами и обещанием по 2 талера еженедельно на голову.
Между тем хан, расположась под Гусятином, запер короля со всех сторон и пресек подвоз аммуниции и съестных припасов. Король хотел было двинуться на Орду комонником, оставив пехоту в таборе; но ему не советовали разделять войска. Совет выслушал он с крайней досадой, и, однакож, последовал ему. Отдан был приказ исправить валы и готовиться к отражению неприятеля.
Но продолжать войну, как писал Гулевич от 26 октября, было не с кем; а от 29-го сообщали в Варшаву, что настоящего (pewnego) войска нет у короля больше 14.000, «да и те» (продолжал вестовщик с отчаяньем), «вырыв немцам могилу, сами себя засыплют».
Ночью 29 октября привел подъезд мужика, которого Орда поймала в поле, вложила ему в сапог письмо, примчала в 30 коней к польской стороже и ускакала обратно.
Письмо было от ханского визиря к коронному канцлеру, и написано, против обычая, по-польски. Визирь осведомлялся о своем слуге, Фетаке, не попал ли он в руки жолнеров и, под этим предлогом, будто бы без ведома хана, советовал, чтобы король — или переговорил с ханом, или «дал ему поле», вместо того, чтобы сторожить чужие границы, рыться в земле по закоулкам, ждать и смотреть, как его собственное государство будет грабить Орда. Он припомнил Зборовские и Белоцерковские пакты, и прибавил, что если казаки провинились, то король был обязан донести хану, а главное — уплачивать правильно гарач.
Письмо визиря было получено в 2 часа ночи, и, однакож, немедленно созвали военную раду. Визирю отвечали, что хан не должен мешаться между государя и подданных, если, вместо подарков, не хочет получить чего-нибудь такого, как под Берестечком; но хана готовы встретить и боем, и переговорами, если он смеет и желает.
Слуга визиря, Фетак, находился в плену у коронного маршала, Любомирского; и Любомирский писал к визирю, якобы частным образом, что готов возвратить пленника.
В ответ на это письмо, хан писал к Любомирскому, называя его милым другом своим, выражал готовность к миру, обещал прислать к нему послов и подарок, как человеку, при королевском дворе всемогущему.
После того назначили совещание между визирем с одной стороны и канцлером с другой, в поле под Каменцом, с тем чтоб одна и другая сторона имели при себе не больше, как по 2.000 войска. В залог прислал хан королю Осман-агу. Король отправил к хану в залог гетманского наместника, Войниловича, под прикрытием нескольких десятков комонника. Но едва этот почт отъехал от короля, на него напала татарская чата, одних изрубила, других забрала в неволю. Сам Войнилович насилу пробился с несколькими жолнерами и вернулся в лагерь. После новых варварских покушений со стороны татар, съехались таки наконец уполномоченные с обеих сторон под Каменцом.
Поляки требовали, чтобы хан отступился от казаков, вернулся домой со всеми ордами и довольствовался годовою пенсией от короля. Татары требовали, чтобы Речь Посполитая уплатила недоимку гарача, не препятствовала Орде брать на возвратном пути ясыр, чтобы король дал в залог сенаторов и сверх того несколько миллионов окупа. С обеих сторон говорили запальчиво, и между поляко-татарскими комиссарами поднялась угрожающая ссора. Но договор надобно было довести до конца, во что бы то ни стало, потому что король-главнокомандующий допустил татар окружить польский лагерь и так стеснить поле, что трудно было предпринять военные действия.
Комиссары разъехались, ничего не решив, и Орда, при этом удобном случае, перехватала собольи шапки с панских голов.
На другой день возобновился съезд овец с волками. Татары со всех сторон придвинулись к лагерю и окружили уполномоченных с их 2.000-ным почтом. Поляки боялись и за лагерь, и за комиссаров. Пришлось вывести войско в поле. Тогда хан отступил и велел своим уполномоченным окончить переговоры поскорее, если король согласится на Зборовский договор. Король, с своей стороны, приказал оканчивать, и таким образом был заключен мир, но только на словах, потому что хан от письменного договора отказался. Обе стороны, положив руки на груди и на бороде, обещали взаимно сохранять этот мир.
Возобновление Зборовского договора было главным условием Жванецкого мира. В этом соглашаются все современники. По словам литовского канцлера, князя Радивила, под Жванцем «заключили унизительный мир, возобновили Зборовские пакты, обещали обычные подарки и трехлетнюю недоимку». Возобновить Зборовский договор значило согласиться на ежегодный гарач в 30.000 талеров и предоставить Орде право «воевать на возвратном пути польские владения вправо и влево мечом и огнем». Понятно, почему Радивил назвал Жванецкий мир унизительным. Одни из находившихся под Жванцем панов опровергают факт нового предательства, другие подтверждают. Не подлежит никакому опровержению то, что татары, по заключении мира, распустили загоны по самый Бог и увели в Крым огромный ясыр, без всякого препятствия со стороны поляков и без всякой позднейшей рекриминации. Современный нам польский историк говорит, что «Жванецкий договор, не написанный чернилами, был написан кровью и слезами человеческими на Волыни, в Полесье, в Украине».
И вот как окончилась шестидесятилетняя борьба панов с казаками. Татары примирили шляхетский народ с казацким, забравши в неволю миллионы того и другого в течение последних пяти лет этой постыдной для обеих сторон борьбы.
Уже с половины ноября, когда Орда выступила из-под Шаргорода, хан распустил загоны во все стороны. Целые области лишились населения, тем более, что шляхта и мужики, воображая, что находятся под защитой королевского войска, вовсе не заботились об осторожности. Имея столько тысяч Орды в загонах, Ислам-Гирей не думал о войне с Яном Казимиром. Обремененный ясыром, он желал мира, и начал сам переговоры, которые удались ему как нельзя лучше. Теперь, по заключении мира, pacпустил он чамбулами по Волыни и Полесью, до самого Люблина и Замостья загоны, которые заполонили бесчисленное множество сельских хозяев с их рабочими. В Литве татары взяли 12.000 шляхты, подошли на полмили к Пинску и выжгли все окрестности, в которых 120 лет не стояла и нога татарская. Ударил на них Ян Сопига под Острогом, чтоб отбить ясыр, но его не поддержал никто, он был разбит, и с двумя братьями попал в неволю. Потом татары напали на Старый Константинов. Там остановился для отдыха визирь с двумя сыновьями и целый высланный предварительно чамбул с великою добычею.
«Таковы были выгоды нелепого и легкомысленного похода» (говорит польский историк); «руина всей Руси от Бога до Днестра руина войска, которого не меньше 20.000 пало от голода и болезней под Глинянами и под Жванцем, руина чести Речи Поснолитой, которая, располагая такою массою войска, заключила такой постыдный мир».
Шляхетные республиканцы, воспитавшие беспримерную в летописях Славянщины тайну разбойников, были достойны своей унизительной участи, достойны посмеяния со стороны собственной интеллигенции в конце XIX века, подводящего строгие итоги к прошлому. Конституционное государство, дошедшее до торговли человеческою кровью и слезами, лишалось права не только на уважение, но и на пощаду со стороны соседей. Как ни судить о московской политике, поддержавшей казацкие возгласы о Божиих церквах да православной христианской вере, — Польша оправдывала ее, как Московским Разорением, так и своей неурядицей. Хозяйничая столь беспутно между двух живоносных морей под знаменем общественной свободы, либеральная нация давала законное и даже священное право государству деспотическому взять её несчастных подданных под свою хранительную власть. «Для православные христианские веры и святых Божиих церквей»: эти начальные слова московских требований, представляющиеся на поверхностный взгляд лукавыми, получают, в итоге столетий, смысл истинно-религиозный, достойный великого государства. Польско-русская республика должна была быть расторгнута ради пощады обеих борющихся сторон, обеих борющихся церквей и народностей. Члены и жертвы Берестовского синода положили начало её расторжению; герои и разбойники польско-русских усобиц сделали его неизбежным; царские думные люди довершили его и довершали так, что дело руинное обратили в дело строительное, то есть такое, которое обеспечивает наибольшее число жизней от элементов чужеядных и истребительных.
Во время Жванецкой кампании, которая и с панской, и с казацкой стороны была борьбой взаимного истощения, обоюдной выносчивости, князь Януш Радивил пытался склонить Хмельницкого к уступкам перспективою нашествия литовских сил на казацкие займища. Но Хмельницкий, как истинный верховод казатчины, отвечал:
«Напад Литвы нам не страшен: у нас ничего нет (старинное «казака не по чем сыскивать»). Повертятся по Украине, да и пойдут домой. Казацкие курени трудно разорить. А хоть бы нас, побили и обратили Украину в безлюдье, татар этим не удержат. Татарам тогда останется больше поля на кочевья, и глубже врежутся они в Польшу».
Пригласив хана для совместной войны с панами, и не имея, чем кормить Орду, казацкий батько ограничился предоставлением освобождаемого им русского народа в жертву ясырникам; но видел, что теперь ему не сдобровать в татарских кочевьях, и умолял хана — не оставлять несчастных казаков безо всякой помощи в борьбе с ляхами. Но хан побил его собственным его оружием. «Я сделал для тебя все, что мог» (сказал он Хмелю), «но не мог кормить голодных татар обещаниями и словами».
Пустынность и убожество Малороссии сделались для Крымских чужеядников невыгодными условиями союза с такими же чужеядниками туземными. Они предпочли иметь своими союзниками панов, наполнявших край и людьми и продуктами человеческого труда.
Наконец, татарская дружба, которою так хвастался Хмельницкий перед панами в 1649 году, высказалась еще характеристичнее: хан тайно договаривался с панами действовать совместно и против Москвы, и против казаков. Он повелел Хмельницкому немедленно вернуться в Украину, а уезжая послал надежного человека к королю с советом, чтоб он начинал войну с Москвой и приказал бы идти с собой казакам.
Хмельницкий имел подкупленных людей всюду. Зловещий совет хана был передан ему: то, что умышляли казаки с татарами против ляхов, задумавши совместный набег на Московщину, грозило исполниться над ними самими... Он поспешил удалиться в Чигиринщину, скрывая свой страх, свой стыд, свою злобу.
Мы презираем наших Наливайцев, которые грабили Могилев и другие православные города беспощаднее, нежели сделал бы это неприятель иноплеменный, а потом пытались уйти из Солоницких окопов, бросивши в жертву панам подбитую к бунту казацкую массу. Больше, чем Наливайцев и других возродившихся от этого скопища разбойников, мы презираем Хмельничан, которые развратили все прикосновенные к ним сословия, погубили бесчисленное множество православных по сю и по ту сторону Днестра, проложили туркам дорогу к обладанию Подолией и посеяли в будущем те смуты, которым конец положили только Петр Великий и Екатерина Великая, одним уничтожением двух союзных орд, останавливавших так долго гражданственное преуспеяние Северной Славянщины. Мы обязаны высказывать искренния убеждения по этому предмету без обиняков. Пускай панегиристы разбоев и всевозможных злодеяний не превозносят беспрекословно стихами и прозою так называемых ими украинских национальных героев на соблазн людей малограмотных и на позор нашей прессы!
Плод многолетней работы афонских, печерских и других иноков, а равно городских и сельских священников, созрел. Взошли на малорусской почве и московские посевы: царская милостыня на церковное строение обещала богатый урожай. Измученный нравственно и разоренный вещественно народ вопиял к царю о спасении. Что касается собственно казаков, то теперь более, нежели когда-либо, справедливы давнишние слова их, — что им, кроме великого государя, деться негде. Не прими их к себе Москва, собственная чернь выдала бы их панам, как общих врагов сельскохозяйственного и промышленного класса, общих разорителей и предателей. Это, конечно, обошлось бы ей не дешево. Казаки были столь же сильны в Малороссии страхом своего мщения над лучшими людьми, сколько и уменьем вовлекать в бунты худших. Потому-то все мирные жители и большинство самих казаков с крайним нетерпением ждали от московского царя исполнения давнишней просьбы киевского духовенства.
С своей стороны, Москва достаточно выдержала уже характер Государства справедливого. Она дала Польше все шансы на поправку её расстроенных дел, на умиротворение междоусобной брани, на преобразование жизни, которой механизм удовлетворял весьма немногих, и лежал тяжким бременем на большинстве людей всех сословий и классов без исключения. Она оставалась верна своему слову, которым ответила шведскому послу в 1626 году: «Только б великий государь наш похотел ныне польскому королю и сыну его отомстити прежнюю их недружбу, и им ныне мочно отомстить. Но великий государь войны на них не посылает, ожидаючи от них исправленья».
Расторжение польско-русской республики совершилось вследствие собственных её беззаконий. Москве оставалось только дать свою санкцию. Этот великий акт правительство Тишайшего Государя исполнило с религиозною торжественностью.
Созвана была в царственном городе Москве Земская Дума, или Собор, состоявший из представителей всей России. Народ, испытавший столь великие неправды, бедствия и поругания от Польши, призван был своим царем к решению вопроса: следует ли еще щадить это злочестивое государство, натравливавшее на него не одних латинцев и люторов, но и людей православных, людей одного корня с ним? В таком чрезвычайном деле московский самодержец желал быть лишь вершителем воли своего верного народа. Смиренный христианин, не полагался он на собственное желание, ни на разум думных бояр и дьяков своих. Представителям всех концов русской земли надлежало высказать свое мнение, как России поступить с Польшею.
Истинно благочестивый в жизни своей и возвышенно честный в начинаниях своих, царь Алексей Михайлович (1 октября 1653 года) помолился сперва у обедни и совершил торжественный всенародный ход в Грановитую Палату. Ему предшествовали святые образа, с которыми соединялись воспоминания народных бедствий и избавления от них. Над ним развевались, блистая, многочисленные хоругви, а «сорок сороков» московских колоколен наполняли воздух музыкой, в которой народному собранию слышался хор ликующих ангелов.
В Грановитой Палате, сидя на троне Собирателей русской земли, среди множества избранных людей царства своего, государь слушал письменный доклад думного дьяка, во-первых, о том, что польский король и его паны, в своих грамотах и письмах, умаляют государское достоинство царя, переиначивая царский титул его; во-вторых о том, что в польских книгах были напечатаны злые бесчестья, укоризны и хулы, которых не только великим христианским государям, помазанникам Божиим, но и простому человеку слышати и терпети невозможно; в-третьих, о том, что, не давая государю удовлетворения на его требования, поляки делали разные притеснения порубежным жителям Московского Государства, и, наконец, о том, что гетман Богдан Хмельницкий со всем Запорожским войском доносил царю о гонениях Речи Посполитой на православную веру греческого закона и на святые Божии восточные церкви.
Здесь думный дьяк, будучи органом русского возмездия за польские выдумки Смутного Времени, то есть отдавая мерою за меру и весом за вес, представил дело в том виде, в каком изобразили его в своем донесении просители, именно, — что будто бы паны рады и вся Речь Посполитая отвращали запорожских казаков от истинной веры, неволили к своей религии, запечатывали Божии церкви, обращали в унию и причиняли православным такие поругания и оскорбления, каких не делают над еретиками и жидами. Вследствие того будто бы казаки ополчились на поляков, принудили их согласиться на уничтожение унии, но ляхи на правде не устояли, и потому Богдан Хмельницкий со всем Запорожским войском просил царя принять его под свою высокую руку.
Затем в докладе думного дьяка было изложено, что государь ради веры и церкви, предлагал свою готовность простить оскорбление царской чести своей, если только Речь Посполитая возобновит Зборовский договор с казаками, перестанет гнать православную веру и уничтожит унию; что король и паны рады отказали в этом, и начали снова воевать с казаками; что Турецкий султан зовет казаков к себе в подданство, но что казаки предпочитают быть под высокой рукою Московского самодержца.
От Земской Думы требовалось обсуждение и решение вопроса: принимать ли государю казаков под свою высокую руку? Это была одна формальность. Орган царского правительства, бояре, выражая свое руководящее, лучше сказать обязательное для прочих сословий мнение, не взяли на себя даже труда взойти к началу вопроса о русском воссоединении, который был поставлен весьма выразительно Иоанном III. К вопросу историческому отнеслись они канцелярски, на основании казацкого донесения о гонении православия в Польше и, без дальнейших справок, приписали это гонение неповинному в нем, хоть и готовому к нему, Яну Казимиру, брату оплаканного казаками короля и их избраннику. По голословному казацкому обвинению, Ян Казимир, вместо того, чтобы, на основании своей присяги, оберегать и защищать все вероисповедания, отличные от католического, восстал на православных христиан греческого закона, разорил многие Божии церкви, а некоторые обратил в унитские. Отсюда, сообразно понятиям своей публики, бояре вывели заключение, что гетман Хмельницкий и все Запорожское войско сделались людьми вольными; «а потому» (говорили бояре), «чтоб не допустить их в подданство Турецкому султану, или Крымскому хану, следует гетмана, со всем войском и со всеми городами и землями, принять под высокую государеву руку».
Во времена оны, вопросом о присоединении Малой России к России Великой руководила у нас церковная иерархия, и вела за собой к русскому единству всех поборников православия, во главе которых естественно стояли создатели, благодетели и хранители Божиих церквей, то есть дворянство, мещанство и духовенство.
Обработанная Петром Могилою в духе единения с Польшею, церковная иерархия в казацкой просьбе теперь не участвовала, и даже, как увидим, уклонялась, под разными предлогами, от присяги на подданство царю всея Русии.
Как обсуждался этот вопрос предварительно в боярской думе, нам неизвестно. Русскому народу было показано решение вопроса только со стороны веры, в виду предстоявшей войны с Польским королем. Все выборные русской земли, земли царской, нашли решение справедливым, и приговорили, вместе с боярами, что государь должен объявить Польше войну. Дело в том, что выборные, вернувшись в свои места, распубликовали великое предприятие, и сделали его предприятием всенародным.
Война с Польшею под знаменем церкви и веры, война, вытекавшая из событий, памятных русскому сердцу, хотя и не обнятых еще русским умом, пришлась по душе всем сословиям и состояниям. Царская земля, каковы бы ни были органы её чувства и мышления, сознавала важность момента. Томительное чувство недавнего еще бессилия, к которому привел ее иезуитский подкоп под русское престолонаследие, разразилось теперь общею готовностью жертвовать достоянием и жизнью за всенародное дело. В этой готовности вовсе не было того добровольного холопства, которым русские враги объясняют полное согласие народа с его верховною властью. Сравнительно с польскими сеймами, московская Земская Дума представляла сцену скромную, тихую, антилиберальную; но невозможное для Польши единодушие делало эту сцену величественною и по движению сердец, и по предчувствию грядущего величия России. Там в кажущейся свободе выражалось польское бессилие; здесь в кажущейся неволе пребывала русская сила. Там обнаруживалась дряхлость шляхетского равенства; здесь чувствовалась юность общего соподчинения. Там течение политической жизни видимо приходило к своему концу; здесь оно только начиналось, и широким началом пророчило развитие беспредельное. Но самую разительную противоположность между той и другой сценами составляли религиозные знаменатели обеих. В польском правительствующем собрании высшие представители церкви ораторствовали в качестве государственных сановников. В московской Земской Думе, патриарх, окруженный церковным синклитом, возвысил голос только для того, чтобы благословить своего царя и всю его державу на подвиг освобождения древней русской земли от иноземной власти, обещая просить Бога, Пресвятую Богородицу и всех Святых о помощи и одолении.
Так было санкционировано в Москве расторжение хаотически сложившейся польско-русской республики, отделение русского элемента от польского и привлечение к русскому центру новых сил, которые из разрушительных и чужеядных превратились в строительные и производительные.
В критический момент, когда казаки бежали домой, гонимые страхом союза европейцев с азиатцами на их погибель, к ним готовились ехать от царя полномочные послы: боярин Бутурлин, окольничий Алферьев и думный дьяк Лопухин с товарищами, для принятия Малороссии в московское подданство.
Они достигли Переяслава, казацкой столицы, 31 декабря. Слабый лед на Днепре не позволил Хмельницкому поспешить навстречу к ним. Вернее сказать, Хмельницкий не столковался еще со своими сообщниками касательно того, — что москвичи, не стесняясь называли вечным холопством. Надобно помнить, что кадрами запорожских бунтовщиков и воротилами казацких каверз были шляхетные баниты. Москва была им не по вкусу своею строгою соподчиненностью, а московские порядки казались им нестерпимее турецких. Неприязненный, презрительный и враждебно предубежденный взгляд на Москву был делом систематической пропаганды воспитателей Польши, и в этом то взгляде коренились казацкие предательства от Хмельницкого и Выговского до Мазепы и Орлика. Москве предстояла рискованная борьба с Польшей, у которой оставалось еще много людей, способных и к войне, и к политической интриге, большею частью полонизованных русичей, но риск этой борьбы, как показали события, заключался всего больше в предательском характере казачества, который москалям был известен еще в XVI веке.
Полномочных царских послов принимали в Переяславе переяславский полковник Павел Тетеря, будущий гетман царских отступников и основатель иезуитского коллегиума в Варшаве. Не мог он относиться к делу русского воссоединения сочувственно, и смотрел на него, как на неизбежное, но временное зло, — смотрел так, как в 1632 году папский нунций на уступку православникам нескольких униатских хлебов духовных. Казацким воротилам сделалось тогда холодно в Малороссии, — нагнал им холоду крымский добродий, — и они ползли к московскому царю за пазуху отогреваться.
Спустя немного времени прибыл в Переяслав казацкий батько и в день, назначенный для присяги на московское подданство (8 января 1654 года), держал с главною старшиною своею тайную раду. Из этой тайной рады будущие крамольники вышли к собравшимся в Переяславе казакам. Хмельницкий произнес речь, в которой волей и неволей должен взять ноту малорусского большинства, переставшего бояться его соумышленников.
«Нельзя, видно, жить нам более без царя», говорил он и назвал четверых государей, которые готовы властвовать над Малороссией: турецкого султана, татарского хана, польского короля и московского царя, «которого» (продолжал он) «уже шесть лет мы беспрестанно умоляем быть нашим государем и обладателем». (Вместо шесть лет, Хмельницкий должен был бы сказать тридцать лет, когда бы церковная иерархия не изменила русскому чувству). «Сей-то великий царь христианский» (сказал он в заключение), «сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в нашей Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений и склонил теперь к нам свое милостивое царское сердце».
Речь, очевидно, была продиктована ему царскими послами, которые даже хвалить своего государя не дозволяли иначе, как в духе московского верноподданства.
«Возлюбим же его с усердием»! (воскликнул пассивный оратор). «Кроме его царской руки, мы не найдем благоотишнейшего пристанища. Кто нас не захочет послушать, тот пусть идет, куда хочет: вольная дорога!»
Казацкая масса, состоявшая из московских доброжелателей и врагов, отвечала с единодушием разбойников, спасающихся от кары: «Волим под царя Восточного!»
Малорусские летописи и казацкие историки присочинили, будто бы вслед затем «начали читать приготовленные условия, на которых Украина должна соединиться с Московиею». Достоверность этого факта заявил перед ученым светом Костомаров даже и в четвертом издании своей трехтомной исторической монографии «Богдан Хмельницкий». Но ни условий, ни так называемого Переяславского договора с царскими уполномоченными не было и, по духу московского самодержавия, быть не могло. Казаки целые шесть лет беспрестанно умоляли Восточного царя принять их в подданство, и великий государь наконец сжалился — и то не над ними, а над «нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси». Эти слова Хмельницкого, кому бы они собственно ни принадлежали, сами по себе делают условия и договор с просителями бессмыслицею. Но и произнесенная при этом речь Бутурлина, сочиненная ему царскою думою, не упоминает ни о каких обязательствах со стороны царя. Бутурлин распространялся о бедствиях Малороссии, о гонении за веру, о многократных казацких посольствах, подвинувших великого государя на милосердое заступничество; потом доказывал, что присягавший и не сдержавший присяги король — более не государь малоруссам; наконец сказал, что, не желая слышать о конечном их разорении, о запустении и поругании благочестивых церквей от латинцев, московский самодержец велел принять казаков со всеми городами и землями, и приказал помогать им против разорителей христианской веры. «Казаки» (говорил он) «за такую царскую милость и жалованье должны служить государю, желать ему добра и надеяться на его милость. Он же, великий государь, будет сохранять все Запорожское войско в своей милости и оборонять от всяких недругов».
Милость, милость и милость, больше ничего казаки не слышали от царских уполномоченных. Когда дошло дело до присяги на московское подданство, Хмельницкий сказал представителям самодержавного государя: «Следует прежде вам присягнуть от имени его царского величества в том, что его величество, великий государь, не нарушит наших прав, дарует нам на права наши и имущества грамоты и не выдаст нас польскому королю».
На это ему отвечали следующими словами, устраняющими всякие условия и договоры:
«Никогда не присягнем мы за своего государя. Да гетману и говорить о том непристойно. Подданные должны дать веру своему государю, который не оставит их жалованьем, будет оборонять от недругов, не лишит прав и имений ваших».
Будущий изменник Тетеря и миргородский полковник, Лесницкий Сакович (напоминающий своим именем отступника Кассиана Саковича) домогались присяги.
«Это дело небывалое» (возразили представители московской царственности). «Одни подданные присягают государю, а государю неприлично присягать подданным».
Крамольники ссылались на пример польских королей. Им отвечали, что польские короли не самодержцы, и что государское слово переменно не бывает.
Тогда члены тайной рады Хмельницкого сказали, что казацкая чернь требует присяги за государя. На это им отвечали строго:
«Вам надлежит помнить милость великого государя, следует служить ему и всякого добра хотеть, войско Запорожское привести к вере, а незнающих людей унимать от непристойных речей».
Москва знала, что казакам деться негде. Москва видела, что Малороссия, волею судеб, сама пришла к великому государю, и что возврата ей к польской разнузданности нет, поэтому и говорила с казаками повелительно. Но казацкие историки приводят свидетельство фальшивого летописца времен Мазепы, будто бы, после присяги казаков, московские бояре дали от имени царя клятвенное обещание, что он будет держать всю Малую Россию со всем Запорожским войском под своим покровительством, при ненарушимом сохранении всех её древних прав. В этом вымысле Россия сделана другою Польшею, а казакам открыт простор к повторению над Царскою землею того, что сделали они над землею Королевскою. Но казатчина возможна в России только на бумаге, и то не вполне.
Из Переяслава царские уполномоченные отправились в Киев, потом в Нежин и в Чернигов, а по всем другим городам разослали своих стольников и стряпчих для приведения местных жителей к присяге. В Киеве обнаружилось, что церковная иерархия, образованная Петром Могилою, из отступников Исаии Копинского, не была расположена к великому делу малорусского духовенства, оставленного ею в тени. Бутурлин обратился к Сильвестру Косову с вопросом: отчего он не искал себе царской милости в то время, когда гетман Богдан Хмельницкий и все войско Запорожское неоднократно просили великого государя принять их под свою высокую руку?
Митрополит отвечал, что происходившая между гетманом и государем переписка не была ему известна. Царских уполномоченных, сопровождаемых казаками, он встретил за Золотыми Воротами, и приветствовал их, как посетителей наследия древних князей русских. «Войдите в дом Бога нашего, на седалище первейшего благочестия русского» (сказал он), «и пусть вашим присутствием обновится, как орля юность, наследие благочестивых русских князей». Прекрасные слова, но они были вынуждены обстоятельствами, так точно как и сравнение Хмельницкого с Моисеем. По известию православного священника, митрополит «замирал от горя», а все бывшее с ним духовенство «за слезами света не видели».
С точки зрения польской аристократии, сместившей церковную иерархию Борецкого и Копинского, московские порядки были не многим лучше казацких и татарских. Косов уклонился от присяги царю, отговариваясь местью польского короля, и не послал присягать вместе с киевскими казаками и мещанами служивших при нем и при других духовных особах шляхтичей. «Я не хочу отвечать за невинные души», говорил он и ссылался на печерского архимандрита, Тризну, который, с своей стороны, не хотел присягать помимо митрополита.
Пока малорусская церковь воинствовала за православие, от её иерархов исходили такие внушения, какими проникнуто истинно христианское Советование о Благочестии, а темные представители предковской веры и старины сеяли в народе такие вымыслы ко вреду русско-латинской «единости», какими преисполнена известная «Пересторога». Но когда могиляне сделали церковную единость Руси с Польшею только делом времени, иерархи малорусские расправлялись по-феодальному даже с такими людьми, как Исаия Копинский, а их клевреты сеяли в казацком народе, с помощью шляхетных банитов, такие же вымыслы ко вреду русского воссоединения, какие «Пересторога» сочиняла против унии. О московской религиозности, о московском управлении, о московских правах и обычаях было распущено теперь множество карикатурных рассказов, подобных тем, которыми Адам Кисель, с товарищем своего посольства в Москву, смешил сеймовых законодателей. Говорили, например, что вера московская есть вера царская; как царь прикажет, так и веруют.
Говорили, что всех новых подданных будут крестить по-московски, что жить под московским управлением значит жить в самой ужасной неволе, которая горше турецкой каторги и египетской работы; что под московским подданством нельзя будет никому носить чобіт і черевиків, а надобно будет носить постолы (лапти). До последнего, до нашего времени, в малорусских казако-панских кружках рассказывались анекдоты и напевались песенки, унижающие великорусский быт и осмеивающие великорусскую песенность. Это — наследие нашей казатчины, рожденной татарами и воспитанной поляками; это — завет оказаченной шляхты, которая старалась вооружить общественное мнение против московских порядков и обычаев, поселить в казацком народе отвращение к москалю и презрение к его нравственности. Все классы без исключения обрабатывались в Малороссии посредством её колонизаторов, и много нужно было великорусским деятелям времени, много умственных подвигов, много благородных общественных дел, чтобы своих порицателей переработать в своих последователей.
В начале марта 1654 года, явились от Хмельницкого в Москве посланниками войсковой судья, Самойло Зарудный, и переяславский полковник, Павел Тетеря, с прошением к царю от всего Запорожского войска и от «всего христианского мира российского». Они «били челом до лица земли и просили вельми» об исполнении 23 пунктов представленной ими петиции.
Казаки просили о том, чтобы царские чиновники в войсковые суды не вступались; чтобы Запорожское войско было всегда в числе 60.000; чтобы шляхта, приставшая к казакам, оставалась при своих шляхетских вольностях и избрала из своей среды старших на должности, как было при польских королях; чтобы в городах урядники избирались из местных жителей, которые бы отдавали приход в царскую казну и пр.
Все это было казакам по царской милости даровано и под каждой статьей подписано: «быть по их челобитью» или «быть по тому» и пр. Запрещалось только ссылаться, без государева указа «с Турецким султаном и с Польским королем»; под статьею о жалованье полковникам, есаулам войсковым и сотникам подписано:
«Отговаривать», а относительно платы всему казацкому войску: «Хотя число войска Запорожского и велико будет, а государю в том убытка не будет, потому что они жалованья у государя просить не учнут; а говорил (об этом) гетман при их, при судье (Зарудном) и при полковнике (Тетере), и им ныне о том говорить не доводится».
При петиции Запорожского войска было приложено 10 статей отдельно. Все они означены в самой петиции, но некоторые в приложении изложены подробнее. На эти 10 разъяснительных статей последовало более обстоятельное решение. Под статьею 9-ю написана особенно длинная резолюция, в которой поставлено казакам на вид, как долго и усердно просили они царской милости и заступничества; как с королевской стороны еще отцу Алексея Михайловича, царю Михаилу Федоровичу, и деду, патриарху Филарету Никитичу, учинились многие бесчестия и укоризны; как много великий государь прощал полякам ради того, чтоб они помирились с гетманом Богданом Хмельницким и Запорожским войском по Зборовскому договору; наконец, какие рати должен был царь собрать на защиту их от короля, какие понести издержки на ратный строй и на наем татарских и немецких войск. «Зная все это» (сказано в резолюции) «и видя такую царского величества милость и к ним оборону, посланникам говорить о жалованье не приходится». Впрочем государь пошлет привести в известность городские и другие доходы, после чего о жалованье Запорожскому войску, по рассмотрению царского величества, будет указ. «А ныне царское величество, жалуя гетмана и все Запорожское войско, хочет послать своего государева жалованья, по бывшим обычаям предков своих, великих государей царей и великих князей российских, гетману и всему войску Запорожскому золотыми».
Такова была петиция, представленная казаками царю через два месяца по принятии от них безусловного подданства, и ее-то казацкие историки превращают в «условия, на которых Украина соединилась с Мосновиею»; а как условий и договора в казацкой петиции вовсе нет, то казакоманы пускают в ход печатную молву, будто бы договор Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем существовал, но как-то, кем-то, где-то и когда-то потерян. От этого взаимные отношения русского Севера и русского Юга представляются любителям казатчины в ложном виде, и отсюда происходят антирусские стремления украинских патриотов, но извращение понятий о Хмельнитчине идет у нас издавна. Подобно тому, как во времена Жмайлов, Тарасов, Павлюков агитаторы казацких бунтов постоянно твердили «людям незнающим» о нарушении ляхами каких-то старых казацких прав и вольностей, крамольники времен Выговского, Юрия Хмельницкого, Бруховецкого, Тетери и, наконец, Мазепы распространяли в Малороссии толки о небывалой присяге бояр за царя и заставляли «незнающих людей» роптать на московское вероломство. Посеянные в малорусском обществе питомцами иезуитов предубеждения против Москвы были поддержаны фальшивыми летописями, поддельными документами, псевдоисторическими монографиями, воздыханиями поэтов-невежд о казацкой старине, и эта умственная язва до того въелась в слабые умы, что сказки об отношениях казаков к двум соперничавшим государствам находят еще и в наше время доверчивых читателей.
КОНЕЦ.
Примечания
1
Исчезли с полей все плуги по Надбожию: иной оглянулся назад только из-за Вислы.
(обратно)2
Костомаров, «Богдан Хмельницкий», изд. 4, стр. 106.
(обратно)3
От сказанного до сделанного большое расстояние.
(обратно)4
Именно вот как: «Skrypt do archivum dany rationem о brony Rzeczypospolitej autoritate praesentis Conv. in toto aprobujemy do przyszlego ordynaryjnego sejmu.»
(обратно)5
Именно в следующих: «Poniewaz podluy konslyt: koronacy w uspokojeniu Kozakow dosyc sie stalo, tedy deklaracya laski naszej uczyniona pod Zborowem autoritate conv. praes. za zgoda wszceh stanow aprobujemy».
(обратно)6
Мемориалы князя Альбрехта Станислава Радивила хранятся в Львовской библиотеке Оссолинских, и поляки, издавшие так много исторических памятников, не спешат издать вполне эту драгоценность.
(обратно)7
Твоя честная душа не может понять, сколько адского зла в оскорбленной гордости.
(обратно)8
В варианте этой проклинательной песни, записанном И. П. Буцинским, автором книги «О Богдане Хмельницком», говорится:
О богдай Хмеля Хмельницького Перва куля не минула, А другая устрелила, У серденько уцелила! (обратно)9
Выражение «хороші мислі мати» родственно польскому byc dobrej fantazyi, что означает быть смелым.
(обратно)10
Полная дума о казацкой жизни напечатана в моих «Записках о Южной Руси», т. I, стр. 215 — 220.
(обратно)11
Брат Адама Киселя, Юрий, был черкасский староста, следовательно, совместник полковника по доходам.
(обратно)12
Ах, чье же, чье сердце не погрузится в печаль!
(обратно)13
Ибо на широких полях широкое молчание. Только ветер шумит, наклоняя печально колосья; только вздохи из могил и стон из-под травы тех, что спят на увядших венках своей старой славы.
(обратно)14
«Были у меня киевские мещане» (рассказывает он); «вместо раты, принесли мне пять червонцев. Сваты Бог! и тое есть, о чем воеводзе на сейм ехаць? так говорит наша Русь».
(обратно)15
И в аду распространилась твоя слава.
(обратно)16
И ты не возвысилась тем до великой чести.
(обратно)17
Relatio, quae exoteros missa est: gloriosissimae expeditionis, victoriosissimi progressu, faustissimae pacificationis cum hostibus serenissimi et potentissimi Domini Johanni Casimiri Regis Poloniae.
(обратно)18
По замечанию Альбрехта Радивила, одною из причин печального результата было гетманованье короля (Рат. II, 386); а преисполненный уважения к царственности Варшавский Аноним, указывая крупные ошибки Яна Казимира перед походом говорит: «Zeby wiekszych errorow nie bylo, odradzali Krolowi, aby sam nie narazal sie na takowe niebespieczenstwa. Krol urazony deklarowal, ze ja sam pojde z wojskiem.» (Pam. do Panow. Zygm. III etc. II, 78).
(обратно)19
Zrodlo tey sprowy z ktorego nastepujace plyneli potoki w prawdzie tajemne rady skrycie chowane maja i nie trzeba odkrywac tego coby napotym przestrzedz nieprzyjaciela mialo». (Рукоп. Библ. Красинских, лит. В. I, 8)
(обратно)20
Издатель книги «Pamietniki о Koniecpolskich», знаменитый археограф Пршиленский, на стр. 295, объявил (лет 40 тому назад), что цельным рукописным экземпляром Освецимова дневника владеет некто Мартин Пршибыльский, в Живце (близ Кракова). Сколько я ни расспрашивал за границей у польских археографов о судьбе этого бесценного мемуара, они мне отвечали с каким-то странным равнодушием, точно родственники того, кто сократил экземпляр, принадлежащий библиотеке Оссолинских.
(обратно)21
Это — одно из доказательств, что паны, как паны, говоря вообще, не были угнетателями подданных; они скорее избаловали крестьян своими зазывами да перезывами.
(обратно)22
Одною из причин увеличения числа казаков Жевковский выставлял опустошительные татарские набеги, а жолнерские бунты разоряли подданных, как татарские набеги.
(обратно)23
Sfarozytnosc to tylko iakby odnowila, Ze wiekopomnosc iawno zuowu sie odkryla, Kleinot, ktory Chmielnickich dom przyozdoblaiet, W muznosty, w prawdi, w wiery mocno utwerzaiet. Nedyw: bo Abdank iest znak szczodrey powolnosci, Chrest zafirmament wiery Chmielnickich, moznosci. Niezwyciezonys, Krolu, w Chrestianskim Panstwie, Gdy powolnosc Chmielnickich maiesz w swym poddanstwie. (обратно)24
Хмельницкий пишет в нем: «посылаем войсковой реестр», а реестр был в руках у короля в начале января. И потом: «Те, которые, по заключении мира, умертвили урядников, своих панов, наказаны по мере вины в бытность в Киеве пана воеводы», а киевский воевода был в Киеве снова в январе.
(обратно)25
Вирубати ляхом значило говорить по-польски, вести себя по-ляшески, например:
Ой п'є Сава і гуляє, Ляхом вирубає... (обратно)26
Хлебопашество в жизни казаков (пишет достойный оппонент костомаровских изображений казачества в Смутное Время Московского Государства, г. Беляев) являлось элементом развращающим, слишком оседлым, и потому пахать землю, сеять хлеб, например у Донцов, строго воспрещаюсь: «а станут пахать, и того бить до смерти и грабить», говорит одна войсковая грамота 1590 года по Хоперским и Медведицким городам. (« Минин и Пожарский», стр. 207).
(обратно)27
Na niebo prozno i nieszczescie lozyc: Nie u stolu sie na nich bylo srozyc. (Этот стих дошел до нас с припискою: Tak bulo). Duma nie mozem о swej mocy chodzie, Przecie w karecie chcemy bitwy zwodzic. (обратно)28
Лицо вещей, положение дел.
(обратно)29
Кисель называет черкесов так, как в Москве называли наших казаков.
(обратно)30
Турецкое имя Днестра.
(обратно)31
Это показывает, что Хмельницкий разыграл перед Киселем такую же комедию с Нечаем, какую перед Ляшком с Кривоносом.
(обратно)32
Киевская Старина, 1887, март, 491.
(обратно)33
Совершился ли в этом какой-то предвечный суд, или сделал это наш грех и глубокий разврат, когда мы, летая мыслью под небесами, едва смотрели на землю, уже низкую.
(обратно)34
В архивах не отыскано следов от посольства. Оно, по всей вероятности, было сочинено Хмельницким для панов, как и переяславское 1649 г.
(обратно)35
Эти неясные слова переводят так: «и дал ему тайное поручение».
(обратно)36
Показывали кукиши обеими руками, вертя одну вокруг другой, что выражало крайнее ругательство.
(обратно)37
Курсив писан в польском подлиннике по-русски.
(обратно)38
На старинных кладбищах и ныне вырывают в головах у скелетов горилку в фляжках.
(обратно)39
Повелитель вселенной.
(обратно)40
В настоящем случае казак у шляхтича был тем, чем у казака был чура или джура (джаур). Воюя местным обычаем, шляхтич оказачивался, а казак отатаривался в смысле военного ремесла; но оба они учились этому ремеслу у азиатских номадов, которые уничижили древний Киев и потрясли Краков. Здесь видно то сродство шляхтича с казаком, которое объясняет, почему во главе казацких бунтов является шляхта различных вероисповеданий. Сродство казака с татарином не менее очевидно.
(обратно)41
Украинская песенность любила это число. Например:
Ой як із низу Дніпра та й до вершини Сім сот річок, ще й чотири. Или: Перебийніс просить немного: Сім сот козаків з собою.И в женской песенности то же самое:
Сватав мене попів син, Давав мені волів сім. Или: Сім день молотила, Чех, чех заробила. Или: Чим я в мужа не жона Чим не господиня? Сім день хати не мела, Сміття не носила. (обратно)42
Археографический Сборник, I, 255.
(обратно)43
См. Костомарова «Богдан Хмельницкий», изд. 4, т. II, стр. 312.
(обратно)44
Фальшивые греки, агенты Иоасафа, интриговавшие, как и он сам, перед царем в пользу Хмельницкого и турецкого султана, доносили в Москве, будто бы «с киями, как бывало преж сего, в (казацком) войске никого нет»; но это опровергается польскими известиями, а поляки всячески возвышали одоление казаков под Берестечком.
(обратно)45
Если это несправедливо, то хорошо придумано.
(обратно)46
Чудище без головы.
(обратно)47
В одном уведомлении кого-то из-под Берестечка, 8 июля, в числе условий осаждающие требовали, чтобы чернь присягнула работать своим панам один день в неделю (dzien panom swoim robie), и что казаки отложили ответ на предложение до утра по той причине, что войско было пьяное (bо teraz wojsko pijane).
(обратно)48
Пользуясь этим случаем (писал некто из-под Берестечка) «передалось к нам три казака, а множество других думает о том же».
(обратно)49
Это пишет один из самых незлобных панов, известный поэтическим чувством любви. Долговременное истребление панов казаками, а казаков панами по милости польской неурядицы — породило взаимную ненависть, которая доныне отражается в польской и русской литературах в ущерб достоинству обеих, а часто высказывается и в самой жизни. В одном случае мужики били земляка пана. Прохожий мужик остановился и стал их просить: «Дайте бо й мені хоч раз ударити: я з роду не бив пана». В этом мужике отозвалось Освецимово чувство.
(обратно)50
Один из участников Берестечской войны писал к приятелю кратко и ясно: «Теперь совещаются, что делать? Но попросту — у нас неурядица».
(обратно)51
У короля было не 71/2 тысяч, а все таки тысяч 30, но Ян Казимир мог сказать именно так, как написал Освецим.
(обратно)52
«Киевская Старина», 1883, ноябрь, 524, от редакции.
(обратно)53
Переиначенное по польскому произношению Schorstein (дымовая труба).
(обратно)54
«Когда земля, по истреблении всех ляхов, счистится» (говорили казаки) «тоди вже мы будемо панувати».
(обратно)55
«О несчастная жадность! о проклятая надменность! Она ввела в Польшу — ах! ах! ах! — беду.»
(обратно)56
«Не знаю, что это за новый повар явился: вместо жаркого, кость воткнул нам на рожон».
(обратно)57
Награда военных трудов — победа, победы — триумф, триумфа — отдых.
(обратно)58
Положение этих слуг (шляхтичей) среди казаков, очевидно, было двусмысленное.
(обратно)59
Дней через десять кто то из участников похода объяснил это бегство в письме к приятелю весьма характеристически: «.....Си щпбй Pawolocz, miasteczko Р. Starosty kahskiego, ktore mogto najmni6j cztery wojska nasze wyzywic, ze wszystkieh dostatkdw tak zlota, srebra, jako i wszelakidj zywnosci napojow ztupiwszy, ku Taborowce posli: gdzie jako w doma rozgoSciwszy sig, bezpieczaie sig zostawali. W tem czata potgzna od Chmielnickiego we 200 Kozakow i 500 Tatarow dia jgzyka wyprawiona, napadlszy na naszych sp ia cycli, srogfj zdobycz wozdw, wigcej niz tysiac, srebrem, ztotem i innemi rzeezami naladowanych aganrjwszy, na samych wsiedli i a2 w przedmiecie pawotockie wpgdzili; i gdyby zazrz%dzeniem Baskiem P. Wojniiowicz, Eotmistrz Xigcia Wojewody ruskiegoj trafunkiem z futordw w piec choragwi z boku nie przypadl, pewnieby byli wszyscy zniesieni, i P. Starosta kaluski dostalbysig w rgce nieprzyjaciela, ktdry (т. е. староста) na ten czas w Pawyloczy byl».
(обратно)60
Вспомним универсал Павлюка: «По Киев и Белую Церковь паны жолнеры не должны были ступать и ногой по сю сторону (ро Kiow и ро Виаlocerkiew Р. Р. Zohiirze ua te strone i noga nie mogli bywad)».
(обратно)61
28 октября 1651.
(обратно)62
По известию Освецима, Кисель и Косаковский утратили более, чем на 30.000.
(обратно)63
В 1650 году летом за мацу жита платили в Киеве по 40 злотых, за осьмачку проса и пшена по 71/2 злотых, i to sita Moskwa ratowata (пишет Ерлич), jakoЈ car moskiewski dozwolit swoirn In za granicg wozid, i sprzedawac zboze, i naszym jezdzic za granice a kupowac u nich, i ztad posilek ubogim i ratunek byl. Zaczym ubdstwa od wschodu do zachodu stonka od domow swycli uie mogli sie obegnac ludzie mozmejsi, po ulicach wiele tego umieralo i puchlo w пугбйпе choroby wpadato od ziela i liscia ntanego na pokarm zbierajac. Kazdy dzieii kupamito sig wlekto z rtfjfcnicli krajtfw, miast i wsi za Dniepr sig cisneio, eo chlopska swywola jeszcze nie wybila i Tatarowie nie wybraii. Kraje hvowskie, wolynskie, podolskie, miasta puste i wsie pozostawali.
(обратно)64
Умен лях по шкоде.
(обратно)65
Это было такое застарелое зло в Польше, что и в самое блестящее время, при Конецпольском, на сеймах читаны были petita вроде следующих: «Jest wiele godnych, zaslnzonych w wojsku W K Msci, jako pulkownicy, rotmistrze, ktorzy sowitym kosztein przykladae sig musza do zohlu, drogo oplacao towarzysza; jest i towarzystwa wiele, ktorzy posiwieli na sduibie W K M... Ukrainne zamki, od zyd6w administrowane, wieczna ruinq. upadly z nieoszacowana szkoda W K M i Rzpltej. Starosty tam zadnego nie widac, bo tego mnjq, wiele i wigcej jeszcze biorq, z milosciwej laski W K M. Piastowalby na rglm ubogi zolnierz zamek od W K M sobie powierzony, anibn zyda c/.ynil uozgsliiildem dobrodziejstw W K M i krwawych zaslug swoich».
(обратно)66
Аноним пишет: «Zolnierz orlioczy, а przy szezesciu srozyli sie, dostatkow wiele narabowali, у z ubostwa przyszli do fortuny».
(обратно)67
В официальном донесении о событиях в Украйне от 13 (3) сентября 1653 года говорится, что донцы (участвовавшие в Берестечской войне) продолжали помогать «Хмельницкому в его войнах. (Przyszlo do iiiego Kozakftw Dimskicli dvva lysiseau)».
(обратно)68
Богдан Хмельницкий, Божиею милостью генералиссимус грековосточной церкви, вождь всех казаков Запорожских, гроза и искоренитель польского дворянства, покоритель крепостей, истребитель римского священства, гонитель язычников, антихриста и иудеев.
(обратно)69
Эта мысль выражена в московском переводе так: «И в то время, в которое сын твой в волохах несколько непристойных дел учинил, пристойно к тому, как преж сего Липоль пришел в Яссы, и от благосчастного государя нашего повеленье к нему прислано, и Липоловым приходом, доднесь, кроме дружбы и добра, ничего (не) увидеть».
(обратно)
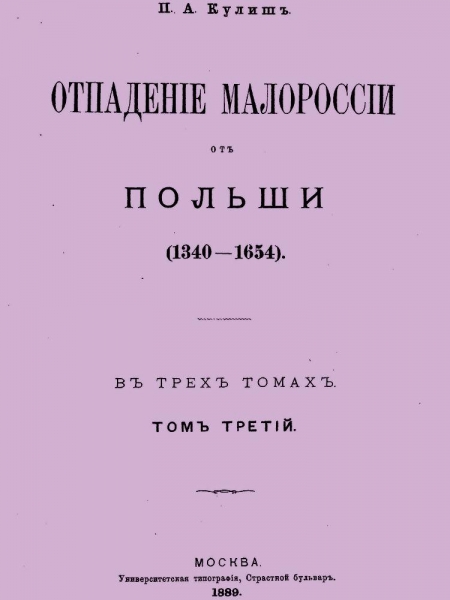


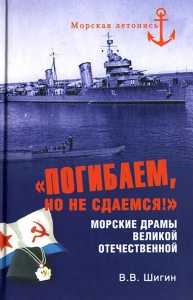
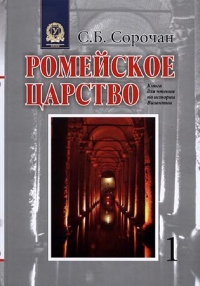
Комментарии к книге «Отпадение Малороссии от Польши. Том 3», Пантелеймон Александрович Кулиш
Всего 0 комментариев