Введение
«Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее». — Этими словами Николай Михайлович Карамзин начинает свою «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 16.). Пожалуй, именно это в своей работе хочу сказать и я. Причем, меня вдохновляет не только смысл и пафос карамзинской «Записки», но даже название предлагаемого текста — «Русская политика в ее историческом и культурном отношениях» — находится в прямой зависимости от нее.
И еще вслед за Карамзиным (как поздний его подражатель) я хочу сделать шаг от истории к политике. Только, в отличие от великого человека, не претендую на роль советника царей. Как сказал по другому поводу Борис Пастернак: эта «вакансия … пуста». Не в смысле «не заполнена», но — бессмысленна. Кстати, Николай Михайлович имел возможность убедиться в этом…
Шаг от истории к политике делает человек аполитичный, хомо неполитикус. Поэтому это — Betrachtungen eines Unpolitischen. Так за два года до окончания Первой мировой войны назвал свой опус Томас Манн (вот кому бы еще подражать!). Причем, «аполитичный» здесь не тот, кто политикой не «интересуется». Все гораздо хуже. Под «аполитичностью» мы будем понимать (далее цитируем автора «Записок аполитичного», т. е. эксперта высшей пробы; писано в год начала Второй мировой): «раздвоение человеческой энергии на абстрактно-спекулятивный и общественно-политический элемент при полнейшем преобладании первого над вторым» (Манн Т. Германия и немцы). Т. Манн считал, что «злосчастный характер германской истории и ее путь к национал-социалистической катастрофе связан с аполитичностью бюргерского духа в Германии, с его антидемократическим отношением к политической и социальной сфере, на которую он взирал с высот спиритуализма».
Мы можем легко поменять «германскую историю» на русскую, «национал-социалистическую катастрофу» на коммунистическую. И тогда все это будет относиться к нам, ко мне. Вот только «бюргерского духа» у нас не было, но был — «интеллигентский». И то, что Т. Манн полагал «специфически немецким», я — думаю с полным правом — расширяю до «специфически русского». Это специфическое «пронизано духовностью, а его интроспективность, его консервативный радикализм, его абсолютная отрешенность от всякого демократического прагматизма, его "чистая гениальность", его вызывающая несвобода, его глубокая аполитичность представляют собою … потенцию, закономерность и опасность» (Манн Т. Культура и политика). Увы, потенция и опасность актуализировались, окрасили в свой кроваво-коричневый цвет XX век.
«Политическое безволие немецкого понятия культуры, игнорирование им демократии страшно отомстило за себя: немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы … Политический вакуум в духовной жизни Германии, высокомерное отношение бюргера-интеллигента к демократии, его презрение к свободе, в которой он видит не что иное, как риторическое фразерство западной культуры, — все это сделало его рабом государства и власти, простой функцией тотальной политики» — так писал Т. Манн в самый разгул нацистского террора. Но обнаружив страшную болезнь, он не ограничивается этим; показывает «немецкому духу» иной путь. — «…Политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект должен включать его, и … в проблеме этой может обнаружиться опасный, гибельный для культуры пробел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент».
В конечном счете, Т. Манн «попросту приравнивает демократию к политике, определяя ее (демократию. — Ю.П.) как политический аспект духовного, как готовность духа к политике». Более того, по его мнению, демократия (следовательно, и политика как таковая) идентична основам и принципам западной цивилизации и ее морали и «представляет собой не что иное, как политический аспект западноевропейского христианства, а сама политика есть не что иное, как та нравственность духа (выделено мной. — Ю.П.), без которой он обречен на погибель».
А вот здесь на место «немецкое» поставить «русское» уже труднее. Христианство наше не западноевропейское, цивилизация не западная, с гуманизмом тоже как-то непонятно (почему-то на ум приходит горьковское — «пролетарский гуманизм»). И даже при всем желании нельзя сказать, что демократия и политика (напомню: согласно Т. Манну, синонимы) идентичны основам и принципам нашей цивилизации и представляют политический аспект православия, Чего нет, того нет.
Но катастрофа XX столетия, безоговорочно проигранный век просто заставляют нас, велят попытаться преодолеть нашу «аполитичность», «неполитичность», «отрешенность от демократического прагматизма», «политическое безволие русского понятия культуры», «высокомерное отношение к демократии», «презрение к свободе». Иначе в какой-то другой форме, наверное, даже совсем неузнаваемой, «проклятое прошлое» вновь настигнет нас, накроет своей ядовитой волной, добьет уже навсегда.
Впрочем, может быть я излишне драматизирую ситуацию? И мой алармизм неуместен? — Ведь вот уже пятнадцать лет, как минимум, есть у нас и политика, и выборы, и партии, и конституция с правовым и федеративным государством (ну, да, конечно, они еще не устоялись, не совершенны, бывают и отступления, рецидивы старого; однако где так не было…). И в начале прошлого века мы уже пережили эксперимент с демократической публичной политикой. Разве тот опыт совсем пропал? Да и в советские годы какой-никакой праксис политики и демократии мы имели … Действительно, может быть автор все проспал? Вдруг очнувшись от своей «аполитичности», бросился отворять давно открытые двери? — Возможно, возможно.
Однако я буду исходить из презумпции обязательности освоения политического русской культурой. Полагая, подобно Томасу Манну, «демократию» и «политику» синонимами. Полагая также эти задачи еще далеко не решенными. В исследовательском же отношении в этой работе я хочу посмотреть на те самые публичные политики, что существовали в России в двадцатом столетии (и начале нынешнего) дважды. На их основы, исторические корни, их специфику и причины не очень-то ярких (по западным меркам) успехов.
Русский транзит
Послушаем мнения профессиональных исследователей русской политики. А они, эти люди, надо сказать, обеспокоены, взбудоражены. Мол, колесо отечественной истории оборачивается вспять… — Председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин: «Круг завершился, и избирательная система пришла в стационарное состояние, при котором она внешне отличается от советской системы, но, по сути, является такой же безальтернативной. Она в целом удовлетворяет европейским стандартам, но государство сумело приспособиться ко всем юридическим требованиям» (Коммерсант. 26.05.2004).
Заведующий отделом социально-политических исследований Левада-Центра (то есть аутентичного ВЦИОМа) Лев Гудков: «Разложение старой партийно-хозяйственной советской номенклатуры в 1989–1991 гг. сопровождалось выделением реформистских фракций, взявших верх в руководстве России и других союзных республик … Но сам принцип конституирования общества «сверху вниз» — формирование «управляющего контура» и затем реорганизация зависимых от него подсистем общества — не изменился … Выход на сцену Путина (не лица, естественно, а политического явления) означал удержание основных особенностей системы и подавление процессов социальной дифференциации, что, однако, было оплачено довольно дорогой социальной ценой: архаизацией и склеротизацией социальной жизни, внешне напоминающей последние годы брежневской эпохи»(Независимая газета. 28.05.2004).
И еще, он же: «…Можно сказать, что, по сути дела, наша "правовая" традиция ("произвол власти" или "самодержавие" власти как принцип конституции социального порядка) … не разрушена».
Сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова: «…Формируется новый традиционализм, на сей раз без коммунистической шелухи. Под "традиционализмом" я понимаю персонифицированную и никем не ограниченную власть лидера…» (Известия. 25.02.2004).
Я не случайно, разумеется, привел мнения этих людей. Они — известные и авторитетные (особенно двое последних) аналитики сегодняшней нашей социально-политической жизни. И в принципе в один голос утверждают: после всех перестроек и реформ эссенция русской политии сохранилась. То есть что-то ушло, что-то появилось новое, однако главное, фундаментальное, «природа» все та же.
Для меня эти утверждения важны по двум причинам. Во-первых, я довольно долго на рубеже 80-х — 90-х надеялся, что Россия на этот раз изменится содержательно. Но в последние годы эти мои надежды испарились. Во-вторых, я никогда не был профессиональным исследователем современности. Потому-то своим ощущениям и наблюдениям не очень и доверял. Мне казалось (отчасти кажется и сегодня), что, занимаясь русским прошлым, я через него вижу настоящее и, тем самым, не замечаю многого народившегося впервые, недооцениваю масштаб свершившегося в последние полтора десятилетия…
Так что же произошло? Что происходит?
Видимо, к началу второго срока президентства В.В. Путина в основном завершилась эпоха «транзита». Выйдя из пункта «А», Россия пришла к пункту … «А». Я не случайно написал слово «транзит» в кавычках (правда, лучше бы вообще им не пользоваться; вот уж воистину что наводит тень на плетень — все эти … «транзитологии»). Ведь транзит предполагает попадание в пункт «Б». Однако русский транзит обладает особыми свойствами. Его траектория всегда замысловата, так сказать, в процессуальном отношении, но «провиденциальна» в содержательном. Я бы сформулировал это так: отречемся от старого мира, разрушим его до основания, построим новый и вдруг обнаружим, что все это на самом деле было спасением мира старого — не по форме, по существу.
Но, приведя мнения современных исследователей политики, я хочу столкнуть их (мнения, не самих ученых) с тем, что писали столетней давности предшественники Л. Шевцовой и Л. Гудкова.
Вот, например, С.Н. Сыромятников, человек идейно близкий П.А. Столыпину и один из ведущих авторов влиятельной газеты «Россия». Он подчеркивал: государственный строй России основывается на сотрудничестве самодержавного царя и народного представительства. Причем роль парламента заключается в «непосредственном» осуществлении единства императора с народом. Для Сыромятникова важнейшим качеством русской власти была ее самодержавность. И даже после октроирования Николаем II первой русской конституции (23.04.1906) он полагал, что русская власть осталась самодержавной, но ограниченной в формах ее проявления. Кстати, Сыромятникову принадлежат слова, которые можно было бы поставить эпиграфом ко всей русской политической мысли: «Власть есть самое драгоценное, что вырабатывает государство».
Так же, как мне представляется, весьма интересна трактовка Сыромятниковым формировавшейся в начале XX столетия русской демократии. — «Восточная (наша, отечественная. — Ю.П.) демократия тем отличается от западной, что она обращается около сильной власти … Для того, чтобы обязанность народного представительства была хорошо отправляема в России … необходимо … чтобы власть правительственная (не правительства, конечно, а царская. — Ю.П.) была сильна и не зависела от палаты (парламента. — Ю.П.) и прежде всего, чтобы великая монархическая идея сохранялась и развивалась в умах и сердцах населения». И, наконец, о соотношении социальных ролей власти и партий. «…Русская историческая власть … может и должна противоречить всем партиям», поскольку ее голос «есть голос настоящего, прошедшего, будущего».
Другой столыпенец и автор «России» А.Н. Гурьев называл депутатов Государственной Думы «выборными от народа служителями верховной власти самодержавного государя», возлагающего «на народных выборных новые обязанности, которые прежде плохо исполняли чиновники».
Кстати говоря, на своем языке и в своем контексте то же самое утверждал и В.И. Ленин. По его словам, Конституция 1906 г. была «монархической», Государственная Дума — «псевдопарламентом», а политический режим — «абсолютизмом, прикрытым лжеконституционными формами».
Подчеркну: мнение, выраженное С.Н. Сыромятниковым и А.Н. Гурьевым (мы выбрали этих почти забытых политических публицистов произвольно; их имена с легкостью можно заменить на более известные и привычные нам сегодня; однако существо высказанного ими не изменится), и ситуация, описанная этими людьми, имеют свои глубокие корни и традиции в толщи русской истории. Так, В.О. Ключевский писал: «Земский собор XVI в. тем существенно и отличался от народного собрания, как законодательного, так и совещательного, что на нем правительство имело дело не с народными представителями в точном смысле этого слова (здесь Ключевский, не говоря об этом прямо, по сути показывает принципиальное отличие наших Земских соборов от тех органов народного представительства, которые в сопоставимые времена существовали в Европе и с которыми их нередко сравнивают, находя множество схожего. — Ю.П.), а со своими собственными орудиями, и искало не полномочия или совета, как поступить, а выражения готовности собрания поступать так или иначе; собор восполнял ему недостаток рук, а не воли или мысли».
Младший (во всех отношениях) современник Ключевского — М.Н. Покровский так комментировал это мнение Василия Осиповича: «С этой последней точки зрения земский собор древней Руси представляется прямым родоначальником бесчисленных бюрократических комиссий новейшей России: и там, и тут правительство имело перед собой «свои собственные орудия», готовые исполнить его предначертания». И здесь же Покровский приводит точку зрения Б.Н. Чичерина: «Царь совещался с подданными, как помещик со своими крепостными, но государственного учреждения из этого не могло образоваться».
Концепция Чичерина-Ключевского заключается в том, что у нас нет исторической традиции народного представительства в классическом смысле. Все эти соборы нужны были власти, во-первых, чтобы в форме «совета со всей землей» осуществить легитимирование собственных решений, и, во-вторых, чтобы «восполнить недостаток рук», т. е. повысить собственную административную эффективность. Безусловно, хотя М.Н. Покровский и не соглашался с таким выводом, «бюрократические комиссии новейшей России» ведут свою родословную и от земских соборов (разумеется, не только от них). Как, впрочем, и государственные думы XX столетия. Только в том значении, которое придавал им А.Н. Гурьев — депутаты должны выполнять те обязанности, которые прежде плохо удавались чиновникам.
Вот и получается: и народные представительства (в разных формах и в разные эпохи), и бюрократические комиссии суть дело Власти; это ее «игры»; это ей то одно потребно, то — другое. Я бы дополнил С.Н. Сыромятникова: у нас «около сильной власти обращается» как демократия, так и бюрократия. Только вот, вздохну я с сожалением вслед за Б.Н. Чичериным, из всего этого институтов, институциональной системы не получается. Более того, русская историческая мысль пришла к выводу: наши народные представительства играют роль, прямо противоположную той, что у народных представительств Запада. В.О. Ключевский фиксирует: «Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западноевропейского представительства». — Поразительно! «Найти и укрепить власть». То есть народные представительства необходимы тогда, когда власть либо вообще исчезает, как-будто куда-то проваливается (Смута начала XVII в., 1917 г., 1991 г.), либо существенно слабеет (начало правления Ивана IV, краткий период между смертью Федора Иоанновича и избранием Бориса Годунова, царствование Михаила Романова, начальные годы Екатерины II, революция 1905–1907 гг., конец 80-х — самое начало 90-х гг. XX в. Иначе было в 1907–1917 гг. Тогда народное представительство само захотело стать Властью и в конечном счете смело ее. Но об этом ниже. Что касается 1991–1993 гг., то здесь «диспозиция» была гораздо сложнее. В этой работе мы не будем касаться этой темы). Потом они уже не нужны. Их либо «сокращают», «увольняют» совсем, либо приспосабливают под очередные задачи вновь оперившейся Власти.
Когда в июле 1905 года Василия Осиповича Ключевского на несколько дней призвали к себе тогдашние руководители России (во главе с царем) обсудить проблему установления у нас народного представительства, он, в принципе поддерживая эту идею, вывел удивительно емкую и содержательную формулу: «Верховная власть — защитник выраженной народной воли». Иными словами, парламент (следовательно, и публичная политика) нужны, чтобы выслушать волю народа. Ее же защитником (читай: выразителем, охранителем, инструментом реализации) может быть только «Верховная власть». Это тот предел, тот максимум, что положен на Руси (и древней, и новой, и новейшей) народным представительствам.
…Итак, то, что мы видим сегодня, не только и не просто «возвращение» к советским временем. Это вообще возвращение. К тому, что было всегда. Было, несмотря на множество реформ, поверхностный политический плюрализм, кратковременные эпохи публичной политики и т. п.
Но почему всегда неизбежно это возвращение? Почему недолгие периоды демократии — а в XX столетии это случилось дважды — неизбежно уходят? И почему даже эти недолгие времена русских публичных политик расцениваются проницательными русскими аналитиками, в конечном счете, лишь как вынужденно-переходные формы и этапы аутентичного, равного самому себе, неизменного в принципе русского исторического бытования?
Самодержавная политическая культура, или как управляется Россия
В нашей стране господствует «самодержавная политическая культура». Ее главная характеристика — власте центричность. Причем «власть» должна писаться с большой буквы — «Власть». Она ведущее действующее лицо исторического процесса, в ходе которого лишь меняет свои наименования — царь, император, генсек, президент. Важно также подчеркнуть, что эта Власть всегда персонифицирована, т. е. обязательно предполагает определенного ее носителя (в отличие от этого на Западе власть имеет абстрактную природу — отделена, независима от правителя, не является его личной прерогативой).
Это, кстати, знают и чувствуют российские граждане. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, «главным источником власти и носителем суверенитета в нашей стране является … не народ, как написано в Конституции, а президент … 55 % населения уверены в том, что глава государства и суверенитет — одно и то же. Формально лишь 19 % участников всероссийского исследования верят в российскую демократию и полагают, что власть в нашей стране принадлежит … народу … Правильный ответ на вопрос о том, как именно Конституция принималась, дала треть опрошенных. Большинство либо затруднились ответить, либо оказались убеждены, что этот документ — плод труда лично президента» (Известия. 09.12.2005).
Так что совсем не случайно нынешний идеолог и «плеймейкер» Власти В.Ю. Сурков говорит о «суверенной демократии». Я бы только выражался прямее: речь у нас ныне идет о «президентской демократии». Суверенность суверенитет президент. А демократия? — Это, видимо, так, общее слово…
Соотношение самодержавной Власти и иных типов власти, существующих в обществе, было хорошо понято еще русской наукой XIX в. «Права государственной власти, во всем их объеме, принадлежат Государю Императору. Нет той сферы управления, которая бы не была подчинена его самодержавию. Но из этого не следует, чтобы император осуществлял свои права непосредственно. Правильная организация … предполагает существование посредствующих властей, действующих именем императора, но самостоятельно в кругу представленных им дел. Эта мысль выражена в наказе императрицы Екатерины: «основные законы государства предполагают по необходимости средние протоки, т. е. правительства, через которые действует власть государства».
Система подчиненных властей, имеющих свою компетенцию и определенную степень власти … удовлетворяет и требованию разделения властей, необходимого во всякой форме правления … Во всяком государстве какое-либо учреждение сосредотачивает в своих руках всю полноту верховной власти. Оно является источником всякой власти и все прочие установления действуют его именем и по его полномочию. Но принцип разделения властей находит себе применение там, где возникает вопрос об осуществлении различных прав государственной власти».
Таким образом, Россия в полном объеме управляется персонифицированной Властью. Однако реальные административные задачи требуют, «предполагают» наличия «посредствующих властей», «подчиненных властей», «средних проток … через которые действует власть государства». То есть суверенитет находится в руках у Власти, а «посредствующие власти» имеют «свою компетенцию» и определенные полномочия. Здесь действует принцип разделения властей. Самодержавная же Власть правит вне системы разделения властей; она не просто не вписана туда, она существует в иных измерениях, в иных координатах. Она — субстанция и субстанциальна, «посредствующие власти» — функции и функциональны.
Кстати, это хорошо осознавалось представителями правящих кругов России, когда и здесь наступила пора публичной политики, конституции, представительных учреждений. — 19–26 июля 1905 года в Петергофе прошло совещание высшей русской бюрократии под председательством Николая II. Центральный вопрос: каковой должна быть предполагаемая Государственная Дума, как изменится вся традиционная система управления, что означает создание Думы для самодержавной власти царя. — Здесь я хочу специально обратить внимание политологов (историкам все это хорошо известно) на материалы этого совещания. Они много дают для понимания природы русской власти и русской политики. — Так вот, один из активных участников петергофского сидения Н.Н. Герард (председатель департамента гражданских и духовных дел Госсовета) предельно точно выразил господствовавшее в русских верхах представление о русской Власти и о русском government: «Самодержавная власть составляет сосредоточение и источник всей власти и потому не поддается определению. Все исходит от нее и в ней сосредоточено. Но … Самодержавная власть не может действовать непосредственно, а имеет исполнительные органы в области законодательства, администрации и суда. Проект (обсуждался правительственный проект Думы. — Ю.П.) касается только определения органов Самодержавной власти и вводит лишь новое разграничение подчиненных властей. При этом мы всячески избегали дать какое бы то ни было определение Верховной власти, ибо она, будучи всеобъемлющей, никакому определению не поддается». И вновь о природе будущего парламента: «…Подчиненные Верховной власти законодательные учреждения…»
Еще раз подивлюсь точности этих слов. Особенно впечатляющ и выразителен пассаж относительно «исполнительных органов в области законодательства, администрации и суда». — Вот реальное место и реальная цена системы разделения властей в России. Все это — парламент, администрация и суд — не более чем исполнительные органы Власти. Что же касается весьма странного с современной научной точки зрения принципиального отказа Н.Н. Герарда давать определение Самодержавной власти, то и здесь все выверено и адекватно. «Сосредоточение и источник всего», «всеобъемлющее», подобно Абсолюту, не может иметь определения. Субстанция, как учил Спиноза в своей «Этике», определяется через себя самое. А не извне, какими-то там «функциональными человеками». Эта позиция Н.Н. Герарда может быть квалифицирована как своеобразное богословие русского Кратоса. Причем, в высшей степени свойственное отечественному уму…
В этом контексте становится понятным, почему Россия на протяжении всех пяти столетий ее современной истории имеет два параллельных типа высших административных организаций, управляющих страной.
Приказы, коллегии, министерства это суть функциональные и «исполнительные» органы, «посредствующие», «подчиненные власти». К тому же они специализированы, т. е. точно определена сфера их деятельности (например: Министерство иностранных дел). Что касается Государева двора, Собственной Е.И.В. Канцелярии, ЦК КПСС, Администрации Президента РФ, то они (через них) осуществляют связь между Самодержавной Властью и «посредствующими властями», руководят этими властями, направляют их. При этом Двор-Канцелярия-ЦК-Администрация занимаются всем; сфера их деятельности и полномочий не ограничена, поскольку они действуют от имени и по поручению неограниченной Власти. В этом коренная специфика русской административной системы.
Эта специфика проявляется в том числе и в борьбе между приказно-коллегиально-министерским началом и Двором-Канцелярией-ЦК-Администрацией. И так будет до тех пор, пока сохраняется «самодержавная политическая культура» (но она никуда не собирается «уходить»; выжила и господствует даже после демократических преобразований 90-х гг. XX в.). Государев двор (Канцелярия, ЦК, Администрация) обслуживает Власть, транслирует ее волю и решения и «посредствующим властям», и обществу. Это не может не привести к противостоянию «нормальных», министерского типа, учреждений и этих при-Властных. Ведь объект управления один и тот же — страна. На одной и той же «площадке» сталкиваются различные «команды» с разными видением и подходами.
Но проблема соперничества различных типов управленческих структур этим не исчерпывается. Напомним формулу В.О. Ключевского: в России нет борьбы партий, но есть борьба учреждений. Великий историк имел в виду следующее: неразвитость гражданского общества одним из своих следствий имеет неразвитость партийной системы. Политические партии возникли у нас довольно поздно и не играли значительной роли. Кроме того, нередко то, что мы называем «партиями», таковым в классическом смысле не являются.
Вместе с тем в каждом (и русском тоже) обществе имеются различные интересы, у различных социальных групп неодинаковое понимание того, каким путем должно идти, какие средства и как применять. Запад решает эти задачи во многом через партии, выражающие и представляющие волю и интересы того или иного сектора (сегмента) социума. У нас — тоже во многом — роль партий играют учреждения (министерства, ведомства).
Классический исторический пример: острое соперничество во второй половине XIX в. либерального Министерства финансов и консервативного Министерства внутренних дел. Два этих министерства играли в русской политике тех лет роли, сопоставимые с ролями либеральной (виги) и консервативной (тори) партий в Великобритании. У них — партии, у нас — учреждения.
Такая русская специфика неизбежно снижала эффективность деятельности административного аппарата. Когда две его важнейшие части находятся в состоянии непрекращающейся борьбы, невозможно строить и осуществлять единый курс, единую стратегию управления. Но это не девиантность нашего социально-политического развития. Это наша норма. В измененном, «превращенном» виде ситуация сохраняется и сегодня.
Одно из важнейших свойств русской системы управления — ее неинституциональность. Основным элементом, «актором» администрации является не «институт», а всякого рода «чрезвычайные комиссии» (ЧК). Разница между институтом и ЧК состоит в том, что первый — орган конституционный, его существование закреплено в основополагающих нормативных актах; он действует в границах правового поля, его функционирование не ограничено во времени, полномочия четко определены и известны обществу. Это — «правильный» (с формальной точки зрения) способ управления (для современного общества).
Вторые («чрезвычайные комиссии») создаются тогда, когда задачи управления не решаются посредством институтов. Существование ЧК не закреплено в фундаментальных нормативных актах. Для этих органов возможен выход за пределы права; их действия нередко носят полусекретный (или даже секретный) характер; во всяком случае, общество знает о деятельности ЧК далеко не все. Это — «неправильный» способ управления.
Важнейшая причина возникновения ЧК также связана с господством в нашей стране «самодержавной политической культуры». Русская Власть не может допустить становления «правильной» институциональной системы. Такая система была бы вызовом Власти, ограничивала бы ее, ставила под вопрос ее доминирующее положение. Можно сказать, что Русская Власть и система институтов — взаимоисключающие феномены.
Поскольку же в России так и не сложилась правильная институциональная система, все задачи управления становятся чрезвычайными. В каком-то смысле современное МЧС — это символ и псевдоним наших административных органов. Власть вынуждена создавать различные «чрезвычайные комиссии» для решения постоянно возникающих чрезвычайных ситуаций. Эти ЧК всегда полностью зависят от нее, а не от «объективной» правовой системы. С их помощью Власть легко перепрыгивает через барьеры права. Кроме всего прочего, ЧК гораздо менее опасны для Власти, чем институты. ЧК можно легко уничтожить, заявив, что дело сделано и для дальнейшего существования данного органа нет никаких оснований.
С такой точки зрения русская административная система имеет три измерения. Назовем их по степени влияния и близости к Власти: 1. Государев Двор — Канцелярия — ЦК — Администрация. 2. Чрезвычайные комиссии. 3. Приказы — Коллегии — Министерства.
Заметим: относительная слабость последнего, третьего, измерения в полной мере отражена в традиционной слабости российского правительства как такового. До 1906 г. у нас не было правительства вообще; министерства и министры были напрямую подчинены императору и «выходили» на него каждый сам по себе. Кстати, все это — и сложную, «двойную-тройную», систему управления, и связанную с этим специфическую «недостаточность» Совета министров — хорошо понимали еще дореволюционные отечественные государствоведы. Так, один из них, князь З.Д. Авалов, писал: «Совет Министров не объединяет всего управления: есть целый ряд задач административного порядка, в осуществлении которых Монарху содействует не Совет Министров, а другие органы, компетенция которых (далеко не маловажная) основана и на основных, и на обыкновенных законах. Рядом с обычным и более нормальным осуществлением функций верховного управления Монархом при посредстве и содействии Совета Министров, целый ряд функций этого управления осуществляется Государем Императором мимо Совета. Иными словами, имеется двоякое управление: советское и внесоветское».
Крупнейший же русский юрист первой трети XX столетия барон Б.Э. Нольде подчеркивал: русские монархи не хотели создавать «совета министров», но «напротив того, ценили, что единственным и нормальным центром объединения администрации была верховная власть». По его мнению, «настоящее», влиятельное и эффективное, правительство возникает в основном в странах с парламентским типом правления. «Нормально организованный, воплощающий идеи единства и солидарности, совет министров возможен, конечно, и вне наличности принципа ответственного кабинета. Однако во многих странах именно принцип ответственности создал институт совета министров».
При советской власти министерства дублировались отделами ЦК и во многом управлялись ими. Такого «единства», такой субстанции как правительство фактически не существовало. ЦК и его генсеки не могли терпеть рядом с собой еще одну реально управляющую инстанцию. Во многом в этом причины поражения Г.М. Маленкова и А.Н. Косыгина.
О падении последнего и о «ничтожестве» правительства в свое время точно писал А. Авторханов. — «Изумительную операцию произвел Брежнев … над Косыгиным. Он его попросту политически кастрировал …Октябрьский пленум ЦК (1964) разделил власть Хрущева между Брежневым (партия) и Косыгиным (правительство) с тем, чтобы в будущем эти две должности не находились в одних руках … Брежнев обошел это решение, взяв на себя должность председателя Президиума Верховного Совета СССР … Брежнев составил новую Конституцию так, что забрал многие прерогативы исполнительной власти, которыми пользовалось правительство по старой, сталинской Конституции, присвоив их законодательной власти — Президиуму Верховного Совета СССР. Но все-таки Верховный Совет может только законы издавать, а проводить их в жизнь должна исполнительная власть. Это как бы автоматически возвращало Косыгину власть как председателю Совета Министров, которую только что отнял у него Брежнев как глава законодательной власти. Чтобы это предупредить, в ст. 132 новой Конституции было предусмотрено создание в составе Совета Министров СССР "постоянного органа" в виде Президиума Совета Министров СССР, но без уточнения его взаимоотношений с председателем Совета Министров СССР. Только в ст. 136 была сделана оговорка, что компетенция вновь созданного органа будет определена будущим "Законом о Совете Министров СССР". Когда такой закон приняли 5 июля 1978 г., выяснилось, что отныне в СССР руководит правительством не отдельная личность, а коллектив. В ст. 17 Закона об этом коллективе сказано: "Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа действует Президиум Совета Министров СССР в составе Председателя Совета Министров, первых заместителей и заместителей". Что тут речь идет о "коллективном председателе", сказано в следующих двух статьях — в ст. 28 говорится, что Президиум решение принимает большинством голосов его членов, а в ст. 29 говорится, что Председатель Совета Министров "обеспечивает коллегиальность в работе Совета Министров СССР". Самая большая привилегия главы правительства, согласно той же статье, — председательствовать на заседаниях, координировать работу хозяйственных министерств и "принимать в неотложных случаях решения по отдельным вопросам государственного управления" (Правда. 6.07.1978). Эта последняя оговорка лучше всякого комментария демонстрирует, что официальный глава правительства существует … в СССР только номинально. Председателем стал коллектив в лице Президиума Совета Министров СССР, в который входят по крайней мере четыре представителя "днепропетровской мафии"…» (Авторханов А. Сила и бессилие Брежнева: Политические этюды. Франкфурт-на-Майне, 1978. С. 50–51).
Смысл этого авторхановского текста не в описании того, как Брежнев «съел» Косыгина. А в том, что Власть не может мириться с потенциальными конкурентами. И в России правительство — всегда «исполнительная власть» при Власти. Слегка меняются лишь технологии, с помощью которых составляется такая диспозиция. Да и то в общем и целом даже технологии схожи.
В нашей Российской Федерации самостоятельного правительства тоже нет. «Силовые» министерства (и МИД) напрямую подчинены Президенту, остальные — под контролем Администрации. Вновь правительство — функционально, а не «субстанциально».
Кроме того, власть создает ЧК и для того, чтобы делом занимались люди, менее пораженные болезнью коррупции. «Традиционные» министерства, «традиционная» бюрократия, как правило, коррумпированы донельзя. В ЧК особый подбор людей, с упором на тех, в чьей репутации позорных пятен поменьше. В начальство же выводят (зачастую) лично близких, личных знакомых и облеченных доверием самой Власти.
Адекватное понимание русской политики невозможно и без учета темы «унитаризм — федерализм». Здесь Россия тоже представляет собой особый случай. При этом необходимо отметить, что именно относительно данного вопроса существует, наверное, самая большая путаница. Господствует мнение: до 1917 г. Россия была унитарным государством, после Революции формально-федеративным, на практике же — жестко-централизованно-унитарным, постсоветская Россия строит федерацию, но пока не очень успешно.
В действительности за свою более чем тысячелетнюю историю Россия «попробовала» различные способы властной самоорганизации. Однако нередко оказывалось, что наше прошлое становилось настоящим. Так, российский федерализм 90-х гг. XX столетия напоминает «Московскую федерацию» конца XV в. (эпоха Ивана III). Это тоже была разноуровневая федерация, т. е. субъекты федерации не являлись равноправными (и «равнообязанными»), а Центр (Власть) заключал договоры с участниками союза («federatio» (итал.) - союз). Затем, уже во времена Империи Царство Польское, Великое княжество Финляндское, казачьи области, среднеазиатские ханства, кочевники (нынешних Казахстана и Калмыкии) имели существенную (в разных объемах) самостоятельность в управлении, в религиозных, образовательных, культурных вопросах. Кстати, разные системы администрации существовали в европейских и сибирских губерниях. В первой половине 90-х годов прошлого века РФ напоминала также «Киевскую федерацию» Х-ХII вв.
Трудно назвать совершенно формальным и советский федерализм. Так, например, распад СССР далеко не случаен, он не есть только следствие ошибок или близорукой позиции союзного руководства (это было, но не было решающим фактором). Под покровом вроде бы декларативного федерализма формировались новые нации, со своим национальным самосознанием, государственническими инстинктами, волей к самоуправлению и самоорганизации (у прибалтийских народов все это было и ранее). В конечном счете, нельзя отрицать и определенной самостоятельности республик и в доперестроечное время. Элементы реального федерализма мы находим и в 20-е годы, и в хрущевско-брежневском периоде.
Говоря о современном российском федерализме, следует подчеркнуть его традиционную разноуровневость и, в то же время, традиционную замкнутость на Центр (Власть). Договоры между субъектами и Центром в эпоху Ельцина не были чем-то чуждым духу федерализма (в его российском варианте). Только так и возможно в рамках «самодержавной политической культуры». Только так и возможно «примирить» властецентричность русской цивилизации и, видимо, имманентные ей элементы федерализма.
Один из важнейших вопросов строительства федеративного государства в России (пока весьма спорный, неясный и, по всей видимости, трудно разрешимый) состоит в том, какое количество субъектов оптимально. Исторически предлагалось несколько способов решения этой проблемы. Петр Великий разделил Россию на 8 губерний, в состав которых входило 50 воеводств. Кстати, сами эти губернии вышли из военных округов его старшего брата царя Федора Алексеевича. Павел Пестель — стопроцентный враг федерализма — предлагал поделить Россию на 10 областей, куда бы входило 50 губерний. Никита Муравьев — автор первого классически федералистского проекта российской Конституции — полагал необходимым ликвидировать губернское (областное) управление, построить федеративную Россию из 13 держав, в свою очередь состоящих из 569 уездов. Известно, что в окружении П.А. Столыпина вынашивались планы по разделению России на 11 округов, каждый из которых включал бы в себя определенное количество губерний.
Что касается большевиков, то они в начальный период своего владычества прямо пошли по схожему пути. — «Большевистское правительство … создало весной 1918 года крупные территориально-административные образования под именем областей. Их было выделено шесть, с несколькими губерниями в каждой и полуавтономным статусом. Такими областями были: Москва с девятью прилегающими губерниями; Уральская, сосредоточенная вокруг Екатеринбурга; "Коммуна трудящихся Северного Края", охватывающая семь губерний со столицей в Петрограде; Северо-Западная, расположенная вокруг Смоленска; Западно-Сибирская с центром в Омске и Центрально-Сибирская вокруг Иркутска».
Таким образом, этот вопрос волновал умы как сторонников федерализма, так и приверженцев унитаризма. Это означает, что он действительно требует решения. Но какого? Более традиционного, когда области входят в округа и постепенно отдают им часть своих властных полномочий? Или на повестке дня стоит реализация модели Никиты Муравьева? — Последнее, конечно, менее вероятно. Поднять руку на более чем двухсотлетнее губернскообластное управление России (в 1775 г. ввела Екатерина II)? Кто решится?
С «унитаризмом-федерализмом» связана и тема местного самоуправления. - А.И. Солженицын утверждает, что от бюрократии, коррупции, неэффективности управления нас спасут земства. Да, действительно, между 1864 г. (когда были введены) и 1917 г. эти органы местного самоуправления проявили себя весьма эффективно. Но возможно ли вернуться к земствам (или чему-то подобному) сегодня? По-видимому, нет. И причин этому две. Во-первых, основой работы земств был опыт дворянских, купеческих, ремесленных, городских и др. обществ (гильдий), который к тому времени исчислялся уже семью-восемью десятилетиями. Во-вторых, земства были финансово независимы от государства. Их бюджет составлялся из местных налогов.
Ныне это маловероятно. Обыватель (в основном) беден, богатые прячут свое богатство; идея «общего дела», «общей пользы» мало трогает сограждан-современников, «специализирующихся» в индивидуально-индивидуалистическом выживании.
Попытки же разыграть карту: «местное самоуправление против губернаторско-областной администрации» — не имеют перспективы. Они могут дать некие дивиденды в борьбе Центра против строптивых и эгоистичных местных «царьков»-губернаторов, но не более того. Это все поверхностно-ситуативные выгоды и удобства.
Партия власти и «властная плазма»
Ну, а теперь — о несложившейся нашей партийной системе. Или — переформулируем тему — о «Единой России». Это ведь она вытеснила остальные партии и по-хозяйски расселась в Думе. Смею предположить: если мы объясним, кто такие «медведи», откуда взялись, зачем природа произвела их на свет, то, тем самым, получим ответ и на вопрос о причинах провала русской многопартийности.
…В начале XX века в России родились два проекта политических партий. Причем они были взаимоисключающими. О первом из них, ленинском — «партия нового типа», мы вполне осведомлены. Так сказать, вкусили от его плодов. Что касается второго, то до самого последнего времени мы ничего о нем не знали. Не знали до тех пор, пока Ирина Глебова не обнаружила в архивах письмо Д.Ф. Трепова Николаю II (сентябрь 1905 г.). Сподвижник последнего императора предлагал создать в Думе и по всей России «партию власти». Включить в нее всех начальников всех государственных уровней, взять под контроль прессу, подтянуть к этой партии солидные финансы и т. п. Однако тогда, в последнее десятилетие царизма, этот проект в силу различных причин не был реализован. Видимо, еще не созрели исторические условия. Ведь он был принципиально новым для Русской Системы — предполагались действия с позиций, расположенных внутри, в рамках status quo (кстати говоря, идея «партии власти» мелькнула в русских умах еще в 70-е гг. XIX в. — см. переписку братьев Н.А. и Д.А. Милютиных. А в 1916 г. кружок консерваторов-монархистов во главе с Римским-Корсаковым предложил Николаю II создать такую партию для спасения порядка).
Ленинский проект — «партия нового типа» — был абсолютной новацией для мировой политической практики и мысли (точнее: стал таковым после своей триумфальной победы). В этом его можно сравнить с «Государем» Макиавелли. Но для России и Русской Системы был вполне традиционным (каков парадокс: «отживающая» монархия порождает новацию, а идущая ей на смену сила — традиционную модель). Ведь Русская Власть, сформировавшись в ходе своей эволюции как дистанционная, могла преобразовывать и образовывать общество лишь по своему образу и подобию. Естественно — извне.
Для этого Русская Власть создает внесистемные, вне-социальные организации. Классический пример — опричнина и петровская гвардия. Причем эти внесистемные организации являлись не только и не просто хирургическим инструментом, с помощью и посредством которого Власть производила операции над обществом. Они были также носителями новых мировоззренческих ценностей, альтернативных по отношению к традиционным. И хотя в опричнине это воплощено не столь ярко и определенно, но и в ней мы можем обнаружить начатки новой «идеологии».
В этом смысле Ленин действовал в русле самодержавной традиции, хотя внешне его акции и идеи выглядели прямо противоположными всему, что тогда господствовало в русском обществе.
Проект Ленина победил еще и потому, что историческая власть — самодержавие — к этому моменту изжила себя (в отличие от Русской Власти как таковой). Самодержавие уже не могло (а отчасти и не хотело) контролировать основные социальные процессы, развертывавшиеся в стране. И прежде всего то, что происходило в стомиллионной крестьянской массе. В таких условиях создание «партии власти» было обречено на неудачу. — Те силы, на которые могла бы опираться Власть, сами хотели стать (быть) Властью, а не ее партией. К тому же «партия власти» не могла предложить обществу альтернативную систему ценностей. Общество же еще нуждалось в определенном мировоззрении, но традиционное, подобно Самодержавию, не годилось (во всяком случае — в привычных формах).
Парадоксальным образом победа «партии нового типа» стала одновременно (в тот же миг!) и ее поражением. Придя к власти, она сразу начала умирать. Ведь захват власти и был исполнением ее исторического призвания. Ей уже ничего не оставалось делать. Правда, ни она (эта партия), ни кто-либо другой (включая ее противников) не знали, что Русская Власть и Русская Система спасены от гибели. Только не путем реставрации, ибо это и есть умирание, но — в новых формах, в новом обличье.
И это заложило в основание революционного порядка новые фундаментальные конфликты, которые, в конечном счете, через много-много лет и подточили устои коммунистического рейха. Дело в том, что, как уже подчеркивалось, Русская Власть предполагает режим персонификации. Она не может быть разделена, распределена, размазана. Однако большевики создали порядок, который на языке концепции «Русская Система» называется «Властепопуляция». То есть Популяция стала властной, а Власть — популяционной.
Действительно, тот, кто был ничем, стал всем. Кухарка управляла государством. В то же время это совсем не означает, что ранее бесправный русский народ вдруг обрел реальное самоуправление. Случилось следующее: основанная на насилии и презрении к человеческой личности Русская Власть попала в руки миллионов и миллионов. И здесь-то, повторим, коренился новый разрушительный конфликт.
Вожди «партии нового типа» (Ленин, Троцкий, Сталин, другие), следуя (бессознательно, не рефлектируя по этому поводу) русской исторической логике, стремились к персонификации власти. Но на их пути встала та самая «партия нового типа», которая, разумеется, не «хотела» умирать, не «соглашалась» с ролью «лишь» инструмента по спасению Русской Власти и Русской Системы. На пути к персонификации стояла и Властепопуляция в целом, которая не «желала» отдавать то, что получила и что всегда было идеалом народных масс (вспомним «идеологию» Болотникова, Разина, Пугачева и т. п.). Кстати, еще много десятилетий назад крупнейший государствовед и юрист Н.К. Алексеев точно описывал этот властепопуляционный порядок — «В обществе, где исчезнут классы, должно исчезнуть и государство. Общество станет безгосударственным, однако, не анархическим. Оно сохранит начало властности, аппарат принуждения и централизованный характер. Даже все эти особенности в коммунистическом обществе более развиты, чем в буржуазном государстве. Но, с другой стороны, по учению коммунистов, в таком обществе не будет господствующих классов; властвовать в нем будут все трудящиеся. Отношения властвования приобретут характер текучий, бюрократия уничтожится, властные функции все будут отправлять по очереди. Загадочность подобного общественного устройства состоит в том, что оно, обладая всеми чертами государства, объявляется, однако, обществом безгосударственным; и что оно, обладая явно выраженным принудительным характером, в то же время объявляется "царством свободы"».
В начальной стадии этого конфликта («персонификация Власти vs Властепопуляция») погибает Ленин. Конечно, физически он умер своей смертью. Но в историческом плане (перспективе) уход теоретика и создателя «партии нового типа» оказался прологом исчезновения самой этой партии. Следующим этапом стало уничтожение в качестве политически значимой фигуры Троцкого, а заключительным аккордом этой трагедии (прежде всего для народов СССР) — массовое истребление ленинской гвардии в 1936–1938 гг. В борьбе за персонификацию власти и превращение своего господства в абсолютное Сталин создает и пестует номенклатуру, которая становится его приводным ремнем по управлению страной. Здесь Сталин такой же гениальный новатор и первопроходец как Ленин со своей «партией нового типа».
Далее Сталин делает еще один гениальный шаг — он не разрушает Властепопуляцию, но закабаляет ее. С исторической точки зрения это — беспрецедентно. Вековые чаяния народных масс удовлетворены — они получили полноту власти. И одновременно сохранены традиционные рабские условия их существования. Гражданин СССР — и полновластный властелин и бесправный раб в одном лице. Никогда ранее и позднее в русской истории народ не получал таких возможностей к самореализации и никогда не переживал эпоху такого беспросветного и тотального рабства. — Действительно, Властепопуляция — это полное смешение «безграничной свободы» и «безграничного деспотизма» (термины социолога Шигалева — см. роман «Бесы»).
Но такой режим долго существовать не мог. Он зависел от слишком многих внутренних и внешних условий. Слишком зыбок был его фундамент и ненадежна «гармония». — В итоге окрепнувшая в ходе Войны номенклатура уничтожила своего хозяина и создателя (речь, разумеется, идет не о физическом убийстве Сталина; хотя это возможно и было). В этом смысле смерть Сталина подобна смерти Ленина. Началось разложение кровавого порядка. Постепенно умирает, мельчая в карикатурных вождях, персонификационное начало власти; разлагается номенклатура, перерождаясь в «боярство», которое стремится к контролю над вещественной субстанцией. Следовательно, хочешь-не-хочешь, потихонечку встает вопрос о наследственной частной собственности. С размыванием дикого тотального рабства (в 50-е) пошел процесс распада Властепопуляции. Под покровом «общенародного государства» и «новой исторической общности — советского народа» формируются новые социальные группы: массовая советская интеллигенция, массовый рабочий класс, массовое колхозное крестьянство. А также: массовый слой работников «теневой экономики» (в начале 1980-х годов в «тень» ушло до 25 % советского хозяйства, то есть миллионы работников). Кроме того: новые «нации», те самые, что взорвут СССР на рубеже 80-х — 90-х.
М.С. Горбачев и его окружение попытались всему этому придать более современный, открытый и управляемый вид, не покушаясь на по-прежнему провозглашаемые основополагающие принципы: социализм etc. И здесь вновь, как во времена Николая II — Д.Ф. Трепова, на повестке дня оказался вопрос о «партии власти» (хотя, конечно, никто этим термином не пользовался). По сути тогдашняя КПСС годилась на эту роль. Она была массовой организацией с хорошими (в специфическом смысле) навыками управления. Михаил Сергеевич и делал на это ставку (не важно, что он думал на самом деле; он был «орудием истории»). Горбачевцы хотели приспособить КПСС к руководству сложным и многосоставным, но «еще» не структурированным и не способным к самоуправлению обществом. Для чего допускалась и определенная плюральность внутри самой партии (это было свидетельством признания разнородности социума). Такая партия должна была учитывать реальные интересы различных социальных групп и слоев.
Казалось бы, ситуация для реализации треповского проекта стала подходящей: готовая структура плюс стремление власти иметь в руках именно такой инструмент. Но вновь попытка оказалась неудачной. Власть не сумела удержать власть в своих руках. Россия вошла в эпоху социальной революции. В этом смысле в конце века повторилось его начало.
Но может быть, мое предположение относительно возможностей КПСС трансформироваться в «партию власти» ошибочно? Может быть, коммунистическая номенклатура органически была не в состоянии функционировать в новых условиях? — Вот что, к примеру, вспоминает бывший заместитель заведующего Отдела науки ЦК В.В. Рябов. 11 июля 1988 года А.Н. Яковлев проводил совещание руководителей средств массовой информации по итогам работы XIX партконференции. Среди прочего он сказал (в записи В.В. Рябова): «Партия снизу доверху переживает потрясение. Перемена ситуации быстрая, сравнить можно с периодом выхода партии из подполья. Надо менять кадры, стиль, методы, формы и содержание работы». — Это в высшей степени ценное признание. Правда, и удивительное одновременно. Особенно с этим «выходом из подполья». А ведь внешне они казались такими уверенными в себе сановниками. Хотя, загнав страну в подполье — в известном смысле, конечно, — сами могли работать только в таких же условиях. Когда же подполье стало рушиться, оказались беспомощными. Кто «заплакал», кто убежал, кто тонул в словоговорении, кто…
***
Следует сказать, что о партийном строительстве русский ум размышлял не только в пределах своей исторической родины. Оказавшиеся в эмиграции тоже бились над идеей партии. К примеру, евразийцы. Они предложили еще один проект «русской партии». Он был напрямую связан с ленинским, являлся его продолжением и отрицанием одновременно. Однако, как выясняется сегодня, евразийский проект имел общие черты и с треповским.
Забегая вперед, скажем: это означает, что все русские концепции партии имеют одну и ту же природу.
Но послушаем евразийцев. «…Коммунистически-большевицкая партия — тот кристаллизационный центр, вокруг которого создался новый правящий слой. Великолепно организованная и властная до тираничности, она была становым хребтом правительства и — шире — правящего слоя». И далее: «..До сих пор новый государственный аппарат и новый правящий слой держатся инициативою, энергией и организованностью партии, которая прослаивает и связывает и … держит…»
Надо напомнить: все это обдумывалось и писалось П.Н. Савицким и его товарищами в эмиграции в середине 1920-х годов. То есть было еще не вполне ясно, куда будут эволюционировать и коммунистический режим, и коммунистическая партия. Так, евразийцы уповали на то, что «непартийный правящий слой» (это и представители простого народа, разбуженные революцией к созидательной социальной деятельности, и представители «старой» России, по тем или иным резонам пошедшие на сотрудничество с большевиками) станет основой новой русской государственности. «Сплоченный и прослоенный партией непартийный правящий слой сыграл и играет еще большую роль. Он является главным проводником конкретных потребностей народа и здоровых традиций старой государственности. В нем будущее связывается с прошлым и расплавляющая все стихии революции возвращается к самым истокам народной жизни и становится смыслом прошлого. В нем происходит взаимообогащение партии с народом, и вырабатывается, рождается правящий слой будущего. В нем создаются и развиваются сами формы новой государственности. Но, если бы партия сразу и без замены чем-либо ей равнозначным исчезла, наметившиеся … новые формы и новый правящий слой оказались бы в очень затруднительном и даже опасном положении».
Как мы знаем, большевицкая партия не «оправдала» надежд евразийцев и такого правящего слоя не породила. Возник иной правящий слой — номенклатура — с иными задачами, иной судьбой. Что же касается евразийцев, то они «планировали»: на смену партии коммунистов и коммунистической идеологии придет их партия и их идеология. — «Мысля новую партию, как преемницу большевиков, мы уже придаем понятию партии совсем новый смысл, резко отличающий ее от политических партий в Европе. Она — партия особого рода, правительствующая и своею властью ни с какою другою партией не делящаяся, даже исключающая существование других таких же партий». Это — «партия-правительство», схожая с коммунистами по «форме и структуре», но отличающаяся по идеологии.
Кстати, с практически неотличимым от евразийского проекта выступил тогда же (в 1926 г.) близкий им в тот период Л.П. Карсавин. По существу он воспроизвел мечту П.Н. Савицкого о новой русской партии, идущей на смену коммунистам. В работе «Феноменология революции» Карсавин писал: «Правительствующую или единую и единственную партию надо принципиально и четко отличать от партий в европейском смысле слова, которые никогда не бывают и не могут и не должны быть единственными. Европейские партии связаны с парламентскою, специфически европейскою формою демократии. Они не совместимы с … советскою системой и на ее почве возникнуть не могут … В России дана исконная органическая связь государственности с единою партию … Существование правящего слоя является необходимым социологически. Он может быть неорганизованным как в современной Европе. Но тогда он сам себя обессиливает, а жизнь приводит к тому, что в попытках его самоорганизации он дифференцируется на "части" и "партии" и вызывает к жизни парламентаризм. Мы же считаем наиболее целесообразным единую его организацию … Такая единая организация необходимо приводит к единой правительствующей партии … Мы утверждаем не произвол единой партии … а осуществление ею … народной бессознательной воли … обеспечиваемое органической связью ее с народом…»
***
Но идея «партии власти» оказалась востребованной сразу же после установления нового российско-федеративного порядка. ДВР-93, НДР-95, «Единство»-99 и, наконец, апофеоз выборов 2003 — «Единая Россия». Почему?
…«Партия власти» — это один из инструментов перехода к третьей исторической форме и способу, наряду с Самодержавием и Властепопуляцией, существования Русской Системы. При том, что эссенцией Русской Системы в конечном счете остается властецентричность. Но это — самая сложная и трудноосуществимая форма Русской Системы. Она характерна для той стадии исторического бытования русского общества, когда население уже не является Популяцией по преимуществу. И власть вынуждена с этим считаться. — При чем, если мы говорим: «население уже не является Популяцией по преимуществу», это не означает, что когда-то похищенная у него субъектная энергия возвращена ему (хотя отчасти это так). Дело в том, что большая доля русского народа вышла за пределы социального пространства, превратилась в асоциалов. Она находится вне зон права, общественного контроля, официально господствующих (но совсем не обязательно господствующих в наличной реальности) разного рода норм, табу и пр.
Попутно заметим: все это, то есть то, что сейчас только складывается в России, ни в коей мере не новое издание бонапартизма, о котором все чаще говорят отечественные политологи. Бонапартизм строится на маневре власти, смысл которого — опора то на одну общественную силу, то на другую. Цель маневра: сохранение личного господства и поддержание социального мира. Система же «партии власти» — это реализация властных полномочий с помощью некоего новообразования, которое, по аналогии с термином Ральфа Дарендорфа — «социальная плазма», можно было бы назвать — «властной плазмой».
Р. Дарендорф, создавая теорию социального конфликта (во многом дискутируя с марксизмом), утверждал, что внимание следует концентрировать не на причинах, а на формах конфликта. Ни в коем случае вообще нельзя посягать на причины конфликтов, так как конфликты суть одна из форм существования общества. Конфликты должны сохраняться. Но поскольку они все же опасны для стабильности и устойчивости общества, их необходимо поместить в некую среду, которая не поглотит их окончательно, но минимизирует разрушительную силу. Конфликты локализуются и перестанут носить интенсивный характер. — Основной элемент этой среды, или «социальной плазмы», — обширный средний класс. Главные характеристики — сохранение определенного социального неравенства, наличие различных интересов и воззрений. Важнейшие организационные принципы — институты и процедуры по регулированию конфликтов, внятные правила игры для всех.
В известном смысле, современная Россия столкнулась со схожими проблемами (т. е. такими, которые вызывают необходимость «социальной инженерии» дарендорфовского типа). Если коммунистический режим был ориентирован на уничтожение причин конфликта (хотя, как мы знаем, на последней стадии своей эволюции был вынужден смириться с фактом их неизбывности), то нынешний уже не может и не хочет бороться с конфликтами как таковыми. Он вынужден существовать в условиях острых общественных противоречий. И потому обязан их минимизировать.
«Партия власти», наряду с другими путинскими новациями (так называемое укрепление властной вертикали, ослабление реальных полномочий субъектов федерации, проведение в том же духе административной реформы и т. д.), и есть создание русской «плазмы», в которой конфликты будут протекать, но не разрушать общество. Только если на Западе эта плазма — социальная, то здесь — властная. На смену Властепопуляции приходит «властная плазма». Властепопуляция потому и была сочетанием абсолютной власти и абсолютного бесправия, деспотизма, свободы, рабства, возможностей, безысходности и т. п., что строилась на принципах бесконфликтности и превентивного уничтожения причин конфликтов. «Властная плазма» есть принятие конфликта an sich, принятие конфликта вовнутрь себя, там его внутреннее сгорание и одновременно — энергетическая подпитка.
Далее. Если «социальная плазма» функционирует, как уже отмечалось, с помощью четких процедур и обязательных для всех правил игры, то «властная плазма» строится на основе коррупции. Именно коррупционный механизм, механизм передела финансовых и материальных средств является важнейшим измерением «властной плазмы». В известном смысле коррупция и есть плазма, в которой протекают конфликты — переделы. Коррупция — это среда, в которой развертывает себя в пространстве и времени «государство».
Главным принципом эпохи Властепопуляции была перманентная революция. Она не удалась по Троцкому — вширь, «по дорожке, по бульвару, по всему земному шару». Но удалась по Сталину — вглубь, во внутрь русского социального пространства. По всей видимости, сегодня мы входим в эпоху перманентной коррупции, которая не есть девиантность, она не может быть побеждена, остановлена и т. п.
Здесь, в этих новых исторических условиях, «партия власти» просто находка. Если бы ее не было, ее следовало бы придумать. Ведь коррупция крайне опасная «штука». Я не имею в виду те опасности, о которых во всем мире абсолютно справедливо говорят все. Я имею в виду опасности для стабильности существования Русской Системы. И хотя, как известно, ее «порядок» есть принципиальный беспорядок, смута, диссипативность базовых элементов, но в этом и через это она обретает определенную устойчивость и равновесие. А жестокие коррупционные игры могут поставить под вопрос эту хрупкую и странную для «гордого иноплеменного взора» гармонию.
Но вот является «Единая Россия» и ограничивает — во всяком случае призвана к этому — эти «игры». Дисциплинирует их участников. Хотя поле для игр широкое и удобное. И драка между чиновничеством и бизнесом, между федеральным и местным чиновничеством, между Администрацией Президента и правительством, между отдельными министерствами, между Кремлем и Тверской 13, между многими другими продолжается и несть ей конца.
В рамках же «Единой России» их помирят. В случае недисциплинированного поведения напомнят, накажут, определят линию, которой необходимо следовать и «полагающуюся» долю в коррупционном переделе.
Таким образом, «Единая Россия» есть и будет формой организации служилых людей в новое управляющее сословие. Вспоминаю слова, сказанные умным В.В. Шульгиным в эмиграции: «..Для того, чтобы Россия опять стала Россией, необходима порода людей, способная быть служилым сословием». Вот людей такой породы и подбирают (помните «правящий подбор» евразийцев?) в «ЕР». Иными словами, «властная плазма» предполагает создание обширного «среднего властного слоя»…
Однако то, что в нашей стране порода служилых людей не перевелась, что есть из кого формировать этот «средний властный строй» сомневаться не приходится. Вот, к примеру, что и как думает один из типичных представителей этого модального типа русской социальной личности — недавний секретарь Генерального совета «Единой России» Валерий Николаевич Богомолов. — «После развала КПСС слово "партия" превратилось в ругательное. 1990-е были "антипартийными". Нам предстоит вернуть уважение к этому слову».
Вроде бы ничего особенного и не сказано. Подумаешь — так многие думают! Вот именно, многие. И Богомолов-секретарь. — Ведь по этой логике (логике многих служилых) слово «партия» превратилось в ругательное «после», т. е. вследствие развала КПСС. Не развалилась бы она и ничего бы плохого о «партии» не говорили. Ведь партия=КПСС, партия это только КПСС. И 90-е годы в этом смысле «антипартийные». Хотя вроде именно прошлое десятилетие оказалось «славным» для отечественной партийности. — Но служилый человек Богомолов так не думает. А как?
Тем же летом 2004 г. он откровенно (здесь Валерий Николаевич просто «фэномен», как говаривал «пэдагог» Савва из «Покровских ворот»; к примеру: «Лучшая форма дискуссии — это допрос. Шутка, конечно» — Коммерсант. 04.06.2004; хорош шутник? узнаете стиль?) изложил свои воззрения на природу русской партийности. Вот они.
«К "Единой России" нужно подходить, как и к любой другой партии, которая будет образовываться в России и конкурировать с нами за звание "партии власти", по-современному…»
«У нас большинство людей отождествляют два понятия — "государство" и "державу", а "державу" приравнивают к слову "общество". То есть человек является частью общества, частью державы, частью государства.
Как вообще Россия прирастила такую огромную территорию? Свободные люди (фактически разбойники) убегали, шли на север, за Урал … По логике протестантизма, то есть западной идеологии, они вполне могли создать свое государство. Они же через некоторое время посылали гонцов с дарами, к батюшке-царю: «Включи в державу новые земли». Они хотели быть свободными, но понимали, что могут свободно жить только в составе державы. Свобода, либерализм не враждебны державе.
Многопартийность у нас может существовать, если в ее создании примет участие власть. Без власти в России ни одна партия не сможет функционировать, у нас такая ментальность … "Яблоко" связано … частично с нашей властью, частично с зарубежной. Тоже самое СПС … КПРФ? Так или иначе она аффилирована с властью … Так что любая партия имеет какую-то степень участия власти — у кого-то больше, у кого-то меньше. Все зависит от того, насколько власть в этом заинтересована», «Народ голосовал за нас, потому что видит в нас определенную альтернативу местным властям, видит в нас ту силу, к которой можно будет обратиться, если на местах станет уж совсем невмоготу. Потому что эта сила может что-то решить, ведь она — под Путиным, она — партия власти. Ведь при Советах тоже бежали в партком жаловаться на ту же местную власть. Вот такую альтернативу исполнительной власти видит в нас народ».
«…Чтобы запустить машину, нужен шофер, который крутанет ручку стартера. Власть российская и является силой, которая запустит партийную машину. А работать она будет самостоятельно. Только подливай бензин».
Такая вот политология, политическая философия, историософия даже. Я специально не разрывал, не препарировал, не комментировал мысль Богомолова, «позволив» ей литься теми периодами, кусками, объемами, в которые ее облекает сам автор. Ведь здесь важны и связки, переходы от одного к другому, логика. Чего только стоит рассуждение о государстве-державе-обществе, неожиданно обернувшееся темой «приращения территории»!
Безо всякой иронии (хотя трудно удержаться по интеллигентско-ерной привычке) скажу: это зрелый, серьезный, адекватный русский служилый человек А идеи его органичны, имеют глубокие исторические корни и заслуживают гораздо большего исследовательского внимания, чем всякая там механистически-заемная, заполонившая собой средства массовой информации и научные издания, чушь.
Итак, чему же нас учит Богомолов? — Государство и общество (и держава, хотя это не совсем понятно что; впрочем, что-то державное, крепкое, не либерально-гнилое) у нас одно и то же. Человек их часть. И лишь как их часть может быть свободен. Свободные люди — фактически бандиты. Они, будучи частью государства-общества, убегают от этого («этих») целого. Но, в результате, освоив новые земли, включают их (и себя) в целое, от которого бежали. И остаются свободными.
Понятно, что когда приходит эпоха партий, эти последние тоже имеют своим источником государство-державу-общество («Власть» — тихим голосом подскажу я). И все эти партии «аффилированы» с Ней. — Но все должно быть (и есть) «по-современному». Пусть все партии претендуют на титул «партии власти». Однако лишь одна получит титул «мисс»; остальные же — «вице» и т. п. — Причем, вся эта «партийная машина» достаточно самостоятельна. Шофер (Власть) запускает стартер и подливает бензин. А уж работать машинка сама будет.
Кроме того, «партия власти» и «партии — вице-миссы» суть альтернатива другой машине Власти — исполнительным органам. Для нас, обывателей, наличие двух машин (на самом деле их больше — тут и законодательная власть, и суды, и прогрессивный Запад, который, правда, под Властью не ходит) архиважно. Когда уж совсем невмоготу, есть кому и на кого пожаловаться. Есть выбор. Таков плюрализм и «полиархия» по-русски. Таковы структурные основы «властной плазмы» (разумеется, названы далеко не все).
Вот и выходит, что Богомолов Валерий Николаевич хоть и не Бриан, но — голова!
Правда, Власть, тот самый «шофер», который должен «крутануть ручку стартера» и «запустить партийную машину», относится к этим служилым брианам с легко скрываемым презрением. Вот что в феврале 2003 года в подмосковном санатории «Бор» на семинаре «Единой России» сказал нынешний идеолог и «плеймейкер» Власти В.Ю. Сурков: «Надо быть азартными. Вам надо оторваться от пуповины и уйти в свободное плавание. Власть формирует партию для того, чтобы она формировала власть … Нужно относиться к партии как к фирме. Если я вкладываю во власть, то я хочу получить от вас больше власти … Слишком принципиальные партии долго не живут. Умейте продавать себя … Впрочем, если вы будете спать, ничего страшного, коллеги, не произойдет. Мы будем рассматривать вашу партию как прицепной вагон, а кочегарить будем сами. Если вы не будете партией, сами все сделаем, а вас станем использовать только как ходоков перед выборами».
При всем цинизме, кстати, весьма здоровом и натуральном, этих слов служилым не следует обижаться на Власть. Она ведь все равно признает их необходимость и свою заинтересованность. Другое дело, что указывает им место и знает цену — этим «потомственным дворовым»…
Теневая реальность — коррупция — дуван
Существен вопрос: почему вдруг (или не вдруг?) коррупция стала «нашим всем»? — Здесь, на мой взгляд, интересные соображения мы можем найти в книге известного социолога Льва Тимофеева «Институциональная коррупция». В ней утверждается: «Кризис социалистической системы, за которым последовал ее полный крах, в конце концов показал, какого рода институциональные ценности подсоветского общества на деле были альтернативой коммунистической доктрине и определили характер происшедших изменений: кризис системы, совершенно неожиданно для всех, проявился как всеобщий бунт собственников». Далее автор говорит, что в СССР десятилетиями складывалась теневая реальность. «…Еще в семидесятые годы некоторые исследователи обратили внимание на происходившее в течение всей истории коммунистического государства развитие теневых отношений. Причем развивались эти внелегальные отношения в тесной связи с формированием специфических институтов коммунистического государства. Однако теневая собственность, теневое право, теневая экономика — весь комплекс "теневой реальности" — мыслился не как всеобъемлющий общественный институт и уж вовсе не как альтернативный коммунистической доктрине системообразующий фактор исторического процесса. Авторы большинства работ, посвященных теневой (или второй) экономике, говорили, прежде всего, о явлении экономического порядка и трактовали его как "негативные черты системы", как нарушение ее институциональных норм или, в лучшем случае, как их спасительную самопроизвольную коррекцию…»
Л. Тимофеев не согласен с таким подходом. Внелегальная, вторая, теневая реальность была связана с институтами коммунистического государства. А теневые собственность, экономика, право образовывали всеобъемлющий общественный институт, альтернативный господствовавшему коммунизму и подготовили всеобщий бунт (теневых) собственников. По мнению Л. Тимофеева, лишь один западный ученый «близко подошел к пониманию сути теневых отношений при социализме». Это — француз Ален Безансон. Прежде чем дать ему слово, подчеркнем: вслед за ним Тимофеев всю «теневую реальность» объемлет одним термином: коррупция. Итак, А. Безансон писал: «Коррупция есть болезнь коммунизма, и поэтому в рамках противопоставления между «ними» и «нами», между партией и обществом коррупция для последнего есть признак здоровья. Она есть не что иное, как проявление жизни, жизни патологической, но которая все же лучше, чем смерть. В ней проявляется возрождение частной жизни, ибо сама фигура спекулянта есть победа личности, индивидуальности. Отношения между людьми вместо того, чтобы выливаться в искусственные формы идеологии, возвращаются на твердую почву реальности: личной выгоды, спора о том, что положено мне, что — тебе, сделки, заключаемой в результате соглашения между сторонами, пользующимися определенной автономией. Фальшивые ценности, существующие лишь на словах, и чье принудительное хождение обязано лишь непрочной магии идеологии, быстро оказываются погруженными в «ледяную воду» эгоистического расчета … Это возрождение общества, идущее окольным путем коррупции, может быть охарактеризовано в терминах экономики как возрождение рынка».
Комментируя этот гимн коррупции, Л. Тимофеев делает вывод: теневые отношения были систематической альтернативой коммунистической доктрине. Когда же коммунизм рухнул, именно «теневая реальность» стала фундаментом и источником новой социальной жизни. «Теневые отношения были важнейшей органической частью коммунистической системы, и когда вся система в целом была снята, теневая сфера осталась как самая прочная, как самая жизнеспособная ее институциональная сердцевина…» С некоторой иронией (на самом деле восхищаясь исследователем Л. Тимофеевым) скажем: эта научная логика напоминает советскую — марксистскую, ту, с которой мы знакомы со школьных лет. Феодализм как системная альтернатива складывался в недрах рабовладельческого строя, капитализм — феодального, социализм — капиталистического. Вот только на смену социализму, в качестве его высшей, неальтернативной, а, напротив, реализующей именно его интенции и потенциалы формы, должен был прийти коммунизм. Явился же коррупционно-передельный порядок — хаос (играя в слова и словами: Россия сегодня «коррупция-хаус»). Таким образом, предшествовавший ему закат социализма (парадоксальным образом «закат» оказался и «расцветом»; безусловно, для массового обывателя это был лучший, т. е. наименее травмировавший и угнетавший, период социализма; однако «расцвет» обернулся не только «закатом», или — наоборот, все равно, но и «рассветом» new brazen world; таким образом: «закат» социализма = его «расцвету» = «рассвету» его «могильщика») можно квалифицировать как коррупционал-социализм.
А еще здесь вспоминается знаменитое марксовское Предисловие «К критике политической экономии» — «Общий результат, к которому я пришел и который послужил затем руководящей нитью во всех моих дальнейших исследованиях, можно кратко сформулировать следующим образом. В общественном производстве … люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка … На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции».
Наверное, так действительно происходило в Европе. Во всяком случае, эта гипотеза имеет право на существование в науке. В России же, как мне кажется, было иначе. Производственные отношения — в советском варианте: во многом «теневые», коррупционные — вступили в противоречие с «юридической и политической надстройкой». При том, конечно, наша «надстройка» совсем не надстройка, а самая что ни на есть основа, порождающая и производственные отношения и даже — удивительно! — производительные силы. В общем производственные отношения оказались в конфликте с ней. Тогда пришла эпоха социальной революции.
Еще раз: моя, не-Марксова, гипотеза — кардинальные трансформации происходят в России в результате конфликта Власти и производственных отношений. Новые, иные, складывающиеся производственные отношения требуют новой, иной конфигурации Власти, корректировки ее поведения. Но этого же хотят, к этому же стремятся люди Власти, привластные группы. Им тесно и неудобно в старых властных мундирах. Так постепенно вызревает русская революционная ситуация.
И тут уже на память приходит лучший ученик Маркса — Ленин, открывший основной закон всех революций. — «Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и, в частности, всеми тремя революциями в XX в., состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда "низы" не хотят старого и когда "верхи" не могут по старому, лишь тогда революция может победить». Я недаром назвал Владимира Ильича лучшим учеником Маркса. Симбирский вслед за трирским такой же стопроцентный и безжалостный диалектик. У обоих социальная история есть поле тотальной войны непримиримых противоречий, носителями которых выступают общественные силы. И всегда один и тот же результат: приговор приводят в исполнение.
Так вот, пользуясь всей этой марксистско-ленинской колюче-проволочной традицией (недаром ведь с детства вбивали в меня эти формулы-гвозди! ну и пригодилось!), позволю себе слегка подправить теоретика и вождя. В России революции происходят тогда, когда действительно верхи «не могут по-старому». А побеждает революция тогда, когда верхи начинают мочь по-новому. В ходе революции верхи обновляются — от почти полного набора новых игроков до незначительных замен. Но смысл революции заключается в поиске и нахождении новой технологии «быть сверху». Что касается низов, то верхи в своем перерождении, переформатировании используют энергию низов, направленную против старых методов их эксплуатации. А также рекрутируют из этих самых низов наиболее социально, морально и психологически «отвязанных». Свежая кровь все-таки. И никаких сантиментов по поводу России, которую в очередной раз «мы» потеряли.
То есть нормальная и нормативная русская революция — это восстание верхов и низов против старых, традиционных методов эксплуатации. Но не против нее как таковой. Ибо насилие человека над человеком есть альфа и омега русской жизни. Не случайно ведь так органично и глубоко легли на душу русского человека (мою тоже) эти строки: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». — Заметьте: тот «станет всем». Значит, другой — «ничем». От перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Если «я» — все, то тебе остается «ничто». С точки зрения диалектики и логики опровергнуть это невозможно. И если «я» — все, а «ты» — ничто, то наши взаимоотношения строятся по принципу «моего» насилия над «тобой».
…Разумеется, — и это хорошо известно — у коррупции не только советские корни. Но и — дореволюционные. Причем не одни лишь, так сказать, чисто-коррупционные. Вне всякого сомнения (для меня), коррупция советского периода есть наследник (по прямой) социальных отношений, господствовавших в передельной общине. В самой-то общине никакой коррупции, конечно, не было. Однако после ее уничтожения Сталиным, когда миллионы крестьян пришли в город, они принесли вместе с собой навыки перманентного передела. И это-то во многом стало питательной средой для коррупции. Которая, согласимся отчасти с Львом Тимофеевым и Аленом Безансоном, была способом существования, выживания подсоветского человека.
* * *
Все же вернемся к историческим корням современного коррупционного порядка (я не оговорился — это именно «порядок», орднунг, так сказать). Дело не в том, или в первую очередь не в том, что русское общество передельное по своей природе. Оно — перманентно-передельное. Переделы происходят периодически, с тем. чтобы имущество не превратилось в собственность. Здесь нет никакой предустановленности. Просто за тысячу лет наш социум выработал эти, такие механизмы существования, самовоспроизводства.
Послушаем замечательного историка Р. Пайпса. «Есть в русском языке слово "дуван", заимствованное казаками из турецкого. Означает оно дележ добычи, которым обычно занимались казаки южных областей России после набегов на турецкие и персидские поселения. Осенью и зимой 1917-18 годов вся Россия превратилась в предмет такого "дувана". Главным объектом дележа была сельскохозяйственная собственность, которую Декрет о земле от 26 октября отдал для перераспределения крестьянским общинам. Именно этим переделом добычи между крестьянскими дворами в соответствии с нормами, которые свободно устанавливала каждая община, и занимались крестьяне до весны 1918 года. На это время они потеряли всякий интерес к политике».
Напомню: к концу XVIII столетия — ходом событий, властью, помещиками — в России была создана передельная община. Ввели «тягло» — справедливую, равную систему распределения платежей и рабочей (трудовой) повинности. Цель была одна: поддержание равенства — нет бедных, нет богатых, нет Пугачевых, нет бунта. А в основе всего перманентное перераспределение, передел земли и уравнивание всех. Таким образом, социальная энергия миллионов и миллионов русских мужиков канализируется вовнутрь. Купируется возможность социального взрыва, выброса излишка энергии. — Но передельная община, перманентно-передельный тип социальности рождается не только и даже не столько в результате определенных действий определенных людей. Это — следствие многовековой адаптации населения к природной русской бедности («эти бедные селенья, эта бедная природа», «в наготе твоей смиренной»), к «запрограммированной» в этих северных широтах скудости вещественной субстанции. Здесь «предполагается» низкий уровень потребления.
И вот большевики, казалось бы непримиримые противники, антагонисты старого порядка, дают мощнейший импульс новому переделу. Соответственно, энергия крестьянского мира вновь уходит вовнутрь. Что, помимо прочего, дарит большевикам время для укрепления собственного режима.
Однако, продолжает Р. Пайпс, процесс передела «проходил и в промышленности … Вначале большевики отдали управление промышленными предприятиями фабрично-заводским комитетам (фабзавкомам), члены которых, состоявшие из рабочих и низших конторских служащих, находились под сильным влиянием синдикалистских идей. Эти комитеты прежде всего устранили владельцев предприятий и их заместителей и принялись хозяйствовать сами. Одновременно они присвоили имущество заводов, поделив между собою доходы, сырье и оборудование. По рассказу свидетеля событий, «рабочий контроль» свелся к распределению доходов данного промышленного предприятия между рабочими этого предприятия». — То же самое случилось в армии: «Фронтовые солдаты, не мудрствуя, перед тем, как отправиться по домам, взламывали арсеналы и склады, деля между собой все, что могли унести. Остатки продавались местным жителям. Одна из большевистских газет того времени дает живое описание такого рода армейского "дувана". Корреспондент рассказывает о совещании, проходившем 1 февраля 1918 года (н.с.) в солдатской секции Петроградского совета, где обсуждалось положение с государственным имуществом во фронтовых частях. Выяснилось, что многие воинские подразделения обратились с просьбой, чтобы им было выдано содержимое полковых складов. Обычно солдаты увозили домой военную форму и оружие, добытое этим способом».
Все в этих свидетельствах Р.Пайпса важно. Но главное то, что большевики распространили — по крайней мере, не мешали, способствовали — передельную психологию на всю страну, включая город. И в пучине этой передельной революции провалилась в никуда всякая собственность (и как идея, и как институт), не только — частная. «…Идея общенародной или государственной собственности исчезла вместе с идеей частной собственности, и произошло это с одобрения нового правительства. Ленин словно повторял опыт крестьянского восстания Емельяна Пугачева…».
Но пока речь шла лишь о переделе вещественной субстанции. Хотя на самом деле русский передел распространяется на все сферы социальной жизни. — «…Зимой 1917-18 годов население России занималось дележом не только материальных ценностей. Оно растаскивало русское государство, существовавшее в продолжении шести столетий: государственная власть также сделалась объектом "дувана". К весне 1918 года вторая по величине империя мира распалась на бесчисленные политические образования, большие и маленькие, не связанные между собой ни установленными законами, ни сознанием общности судьбы, и требующие полной суверенности своей территории. За несколько месяцев Россия вернулась к средневековью до-московского периода, когда она представляла собой скопление удельных княжеств … Первыми отделились нерусские народы окраинных районов … В результате государство, находящееся под коммунистической властью, свелось к территориям, населенным великороссами, т. е. к размерам России в середине семнадцатого века … Но процесс распада затронул не только окраины: центробежные силы ощущались и внутри самой России, от которой отпадали район за районом».
Таким образом, большевистская революция сопровождалась переделом власти, государства. Нельзя сказать, что сторонники Ленина специально все это «придумали». Тем не менее «официальный лозунг «Вся власть Советам» облегчал этот процесс, позволяя региональным советам различных уровней — краевым, губернским, уездным и даже волостным и сельским — требовать независимой власти на подчиненной им территории. Результатом стал полный хаос». В этом месте Р. Пайпс приводит цитату из статьи-комментария к первой советской Конституции совершенно забытого ныне автора — некоего В. Тихомирнова. «Советы были: городские, деревенские, сельские, посадские. Никого они, кроме себя, не признавали, а если и признавали, то только "постольку, поскольку" это им было выгодно. Каждый совет жил и боролся так, как диктовала ему непосредственная окружающая обстановка, и так, как он умел и хотел. Никаких, или, вернее, почти никаких (они были в самом зачаточном состоянии), административных Советских построек — Губернских, Волостных, Областных Советов, Исполкомов — не существовало».
Конечной монадой, на которую передел власти уже не покушался, была волость. Здесь — в целом — передел остановился. «Края и губернии … распадались на более мелкие административные единицы, самой важной из которых была волость. Жизнеспособность последней определялась тем, что для крестьян волость оставалась самой крупной административной единицей, в пределах которой перераспределялись принадлежавшие им земельные наделы. Крестьяне одной волости, как правило, отказывались делить награбленную собственность с крестьянами соседней. Таким образом, сотни этих крошечных территорий стали по существу маленькими самоуправляющимися административными образованиями. Как заметил в то время Мартов: «Мы всегда указывали, что очарование, которым в глазах крестьянских и отсталой части рабочих масс пользовался лозунг: "Вся власть Советам", в значительной мере объясняется тем, что в этот лозунг они вкладывают примитивную идею господства местных рабочих или местных крестьян над данной территорией, как в лозунг рабочего контроля вкладывается идея захвата данной фабрики, а в лозунг аграрной революции — захват данной деревней данного поместья».
Обдумаем сказанное Р. Пайпсом и подведем некоторые итоги. Во-первых, дуван охватил все области жизнедеятельности общества. Включая государство, власть, — Несколько лет тому назад, опираясь на работу выдающегося отечественного историка А.Е. Преснякова «Образование великорусского государства» (1918 г.), я выдвинул гипотезу о передельном характере русской власти в XIII–XV вв. Правда, с созданием Московского государства передел власти практически прекратился. Но Смута начала XVII столетия вновь открыла возможности для передела. Петербургский период в общем и целом тоже прошел без властного дувана. Лишь на самом верху в эпоху между Петром I и Павлом I шел «междусобойный передел». Однако он не получил общерусского масштаба. — И вот 1917 год приносит тотальный передел власти. Поначалу большевики использовали властно-передельную энергию масс в своих целях. Ленинцы «совершили несколько безуспешных военных набегов на отделившиеся окраинные районы с тем, чтобы вернуть их в состав страны. Но в целом они в ту пору не мешали развитию центробежных сил внутри России, поскольку силы эти способствовали достижению их цели: полному разрушению старого политического и экономического строя. К тому же центробежные тенденции мешали появлению сильного управленческого аппарата, который был бы способен противостоять большевистской партии, еще недостаточно укрепившей свою власть.
Как мы знаем, укрепив свою власть, уже не ленинцы, но — сталинцы покончили с властным дуваном. Через несколько десятилетий пришла Перестройка и опять государство стало предметом передела. Кстати, и сегодня, несмотря на все усилия В.В. Путина и его соратников, этот процесс еще не остановился. Я бы только подчеркнул, что если при первом российском президенте передел имел по преимуществу властно-политический характер, то при втором — властно-административный. Мы идем по этапу административного передела.
Во-вторых, Р. Пайпс замечает — и мы вслед за ним уже сказали об этом, — что властный передел остановился у границ волости. Дальше ему развиваться было некуда. Видимо в этом отношении волость есть действительно нечто неделимое, монада. Или, другими словами, волость есть первичная ячейка русской власти. Неслучайно ведь слово «власть» происходит от «волости». Эту фундаментальность волости хорошо понимал Н.Н. Алексеев: «Известное количество сельских советов объединяются в некоторое высшее целое, именуемое волостью. Эту административную единицу советский строй унаследовал от старой России — и не только петербургской, но и древней, московской … Волость осталась в качестве органа местного крестьянского самоуправления после реформ императора Александра Второго. Большевики связали старую волость с советской системой…» (Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 324).
Итак, волость является пределом властного передела, а в ее рамках протекает земельный передел. Два основных русских передела встречаются у границ волости. Здесь и закрепляются в нерасторжимую связь власть и собственность, рождается властесобственность. Отсюда господствующий тип русского социального сознания — волостной (не «парохиальный» и не «подданнический», если пользоваться терминологией концепции «political culture»).
…«Дуван» — это вспышка передела, это бесконтрольный передел, его акмэ. Подобные периоды случаются в нашей истории. Но она знает и иные — когда передел происходит подспудно, в границах, очерченных господствующим порядком. И, тем не менее, его перманентная природа сохраняется.
Как же победить коррупцию в России? Как победить столетиями складывавшийся передельный властно-социальный порядок? Возможно ли это? — Насколько мне известно, в истории иных народов подобного рода побед не наблюдалось. Или победить собственную историю? — Тогда что же делать? — Наверное: понять, изучить и на этой основе строить, стремясь избежать крайние, наиболее болезненные формы этой данности.
«Я здесь отвечаю за все»
Но что же происходит в стране сегодня? — Вот мнение известного социолога Ольги Крыштановской. Россия в последние пятнадцать лет, безусловно, продвинулась вперед в смысле свободы, открытости, плюральности Вместе с тем В.В. Путин де-факто восстанавливает советскую систему, которая, хотя и пришла на смену самодержавию, во многом сохранила его «характеристики». «…Несколько лет посвятили тому, чтобы жить "как там" (на Западе. — Ю.П.), не получилось, и теперь приветствуется возврат к самодержавной модели, которую люди помнят в советском обличий. Либеральную дискуссию заменяет мнение начальника» (Независимая газета. 31.08.2004).
Согласно О. Крыштановской, главным фактором русского социального развития является власть. «В социологии есть термин «кумулятивное неравенство», означающий, что один параметр обусловливает все остальные … В России обладание властью давало все остальное — богатство, связи, влияние. Не богатство приводило к власти, а власть вела к богатству». Именно поэтому «сейчас проблема номер один в стране — не льготы и даже не ВВП. Это проблема наследования власти». Запомним эту тему — «наследование власти».
«Путин, по сути дела, — говорит О. Крыштановская, — структурно воссоздал политбюро ЦК КПСС. Наш президент предпочитает работать не с формальными структурами (выделено мной. — Ю.П.), а с "рабочими группами". Так, по субботам он встречается с силовиками из Совбеза. По понедельникам в Кремле проходят совещания с членами правительства, но это не все правительство в полном составе, а только некоторые его члены … Если мы сличим списки заседающих, эту "головку" из 20–25 человек, то увидим, что они сегодня занимают посты, которые были представлены в Политбюро ЦК КПСС» (Новая газета. 30.08.-1.09.2004. Если О. Крыштановская сигнализирует о фактическом воссоздании Политбюро, то журналист Константин Смирнов, анализируя систему хозяйственного руководства страны, указывает на «возвращение Госплана» (Власть. М, 2004. № 34. С. 12)).
Еще одно явление последних лет привлекает внимание О. Крыштановской и свидетельствует, по ее мнению, о возвращении к советским порядкам. Это — резкий рост влияния во властных структурах представителей ФСБ, милиции, армии и т. п. Одним словом, силовиков. «…В обществе неслучайно возникло это понятие: "силовики". Что-то, значит, их объединяет. Кстати, такого термина, объединяющего всех людей в погонах, нет ни в одном языке мира».
По данным социолога, доля силовиков в российской политической элите на середину 2004 года составляет 25 %. Элитой О. Крыштановская называет «правящую группу страны, куда входят члены правительства, руководящие сотрудники администрации президента, Совета безопасности, полпреды, региональные лидеры, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации». Самая же большая концентрация силовиков в том самом восстановленном «политбюро» — 58 %. В Думе — 18 % (в предыдущей было 12 %), Совете Федерации — около 20 %, в правительстве — 34 %.
Но это надводная часть айсберга. «А вот в подводной части — немало интересного и неожиданного … Много силовиков занимают посты второго уровня — замминистров, например. Де-факто восстановлена советская система — комиссар при командире. Во многих регионах один из вице-губернаторов — человек "оттуда". Все эти люди — в погонах»". Развивая эту тему, О. Крыштановская подчеркивает: «Цифры показывают, что количество силовиков во власти после административной реформы несколько снизилось: было 25,1 %, стало 24,7. Но это цифры лукавые. Есть группа людей, в биографии которых открыто написано: служил в КГБ. Но есть и такие, кто служил, но в биографии этот факт не зафиксирован. Многие работали, что называется, "под крышей". У КГБ было много "аффилированных" структур, связанных, как правило, с международной деятельностью … Кроме того, были "уполномоченные": сотрудники первых отделов, например. Официально они могли не состоять на службе, но они курировались органами и были с ними в непосредственном контакте. Так вот, если приплюсовать таких "аффилированных" к известным 24,7 % силовиков, то мы получим 77 %».Правда, уточняет социолог, «эта цифра имеет характер предположения, потому что доказать принадлежность человека к организации, служба в которой не зафиксирована в его биографии, невозможно».
Да, отмечает О. Крыштановская, Путин привел с собой силовиков. Но весь политический класс желал их прихода. «Они были призваны на службу (выделено мной. — Ю.П.). Когда встал вопрос о преемнике Ельцина, все кандидаты, так или иначе, оказались силовиками: Бордюжа, Степашин, Примаков, потом вот Путин … Это значит, что в наборе требований к наследнику требованием № 1 значилась его принадлежность к силовым ведомствам — самое востребованное качество кандидата. Нужна была сильная рука, способная, с точки зрения элиты, навести порядок в государстве. Так что не просто Путин привел силовиков. Политическая элита пригласила их навести порядок в стране, признав тем самым свое бессилие».
И Путин по-своему, по своему образу и подобию этот порядок навел. «…Создана очень устойчивая конструкция … Путин создал такую модель власти, которая включает в себя этажи его поддержки, уходящие далеко вниз. Это уже близко к тому, что было в СССР, когда партия имела разветвленную систему низовых организаций плюс комсомол, вертикально интегрированная экономика, единая партийно-хозяйственная номенклатура. Слабость России заключалась в том, что были разрушены управленческие сети, сложившиеся при советской власти, — политические, экономические, военные. Такой огромной стране, как Россия, они нужны как воздух. Сила силовиков … проявилась в том, что они смогли эти сети быстро восстановить или создать новые. Были введены федеральные округа, которые тесно соприкасаются с военными округами, аппараты военных округов аккумулировали работу всех региональных силовиков». В новой форме возрождаются не только первостепенные, основные черты старого порядка, но даже и, так сказать, вспомогательные. «Например, возрожден институт "подснежников" (так называли комсомольских функционеров, которые числились на производстве, а фактически работали в аппарате ВЛКСМ). Сейчас это выглядит следующим образом: лояльные предприниматели платят зарплату "подснежникам", которые числятся в их коммерческих структурах, а реально работают в аппаратах федеральных инспекторов. Это действующая вертикаль власти».
Все эти меры власти, констатирует О. Крыштановская, население полностью одобряет, поскольку жаждет порядка и спокойной жизни. А исторический опыт подсказывает, что обрести эти утраченные и крайне важные для обывателя ценности можно лишь таким путем. Но социолог убеждена, что власть думает не о людях, а об укреплении собственных позиций. «…Усилия элиты направлены прежде всего на концентрацию власти в своих руках, а не на развитие страны».
Кстати, относительно этой самой элиты. «До сих пор … 38 % нынешней элиты — выходцы из советской номенклатуры, а в регионах — вообще 61 %». Да, антикоммунистическая революция в России весьма отличается от коммунистической. Трудно представить себе, что к 1930 году «бывшие» так уверенно сохранили бы свои позиции. О чем это говорит? — По крайней мере о том, что советская и постсоветская России связаны между собой теснее, чем досоветская и советская. — Вместе с тем О. Крыштановская приводит факты, свидетельствующие о том, что в России формируется элита нового типа или, как она сама это называет, «коалиция Путина». — Что же это такое?
Создание «коалиции Путина» стало возможным в ходе осуществления политики милитаризации руководства страны. «Люди в погонах» (об этом уже было сказано выше) занимают ключевые посты по всей стране. Причем особенно здесь преуспели выходцы из органов безопасности (ФСБ, СВР). Так, в экономических ведомствах они составляют 45,2 % от числа всех военных. Из армейской структуры — 38,7 %, из МВД — 16,1 %. «…В своем большинстве они "направляются" в министерства по рекомендации Кремля, а не по представлению соответствующего министра. При этом замминистры-военные остаются офицерами действующего резерва (ОДР). Этот статус появился еще в советские времена и официально сохраняется в нынешней системе безопасности. ОДР — это офицеры, которые, не прекращая своей службы в военном ведомстве, получая там зарплату и текущие задания, переходят на работу в другую организацию. Их отличие от прочих сотрудников новой службы заключается в том, что они имеют дополнительные обязанности — составление ежемесячного отчета для "материнской структуры". В советские времена деятельность ОДР была полностью нелегальной, теперь же из их прошлого не делается тайна».
Это, казалось бы, не столь существенное отличие сегодняшней ситуации от вчерашней, напротив, означает очень многое. Если в советские времена ОДР была хоть и важным, но вспомогательным средством контроля и управления, то ныне она основа формирующегося нового властного слоя. — Далее О. Крыштановская вводит в научный оборот принципиально важный, с моей точки зрения, термин, с помощью которого можно адекватно описывать «коалицию Путина» — «смотрящий» Кремля. Вообще, поясняет социолог, «это слово — из жаргона русской мафии, который так любить использовать политическая элита. В криминальной среде так называют человека, назначенного бандитскими авторитетами контролировать определению территорию, собирать с нее дань и следить за «порядком».
А чем занимаются «смотрящие» Кремля? Обеспечивают «учет и контроль» верховной власти надо всем — обществом, бизнесом, средствами массовой коммуникации, публичной политикой, регионами и т. д. Благо было из кого рекрутировать «смотрящих». С одной стороны, это все еще многочисленные силовые структуры государства, с другой — 300 тыс. старших офицеров и генералов, отправленных в отставку в 1991–1993 годах (среди них и подполковник В.В. Путин). Эти последние в 90-е годы прошли суровую школу жизни и выживания в коммерции, частных охранных предприятиях, региональных и муниципальных органах власти.
И вот опираясь на этот массив готовых и подготовленных кадров, «власть … усиленно работает над тем, чтобы создать не только управленческую вертикаль, направляя доверенных людей в погонах на все этажи федеральной власти в регионах, но и "управленческую горизонталь", рассаживая высших офицеров на вторые и третьи этажи властных структур, чтобы обеспечить контроль над всеми направлениями политики и экономики … Происходит диверсификация агентов влияния Кремля, их рассеяние по всему политическому пространству … Внедрив новый "этаж" федеральной власти, президент Путин добился не только усиления центра, но и создал группу чиновников, преданных ему лично (выделено мной. — Ю.П.). Федералы, действующие от имени президента в регионах, постепенно аккумулировали силы, создавая так называемые "координационные советы" по безопасности или по экономическим вопросам. Тем самым они выводили и военные, и финансовые ресурсы из-под полного контроля губернаторов».
О. Крыштановская отмечает, что «коалиция Путина» обладает плановостью. В ее основе лежат «не родственно-финансово-криминальные связи так называемой "семьи", а корпоративный дух единения, присущий сотрудникам безопасности. Сети агентов влияния, специфические каналы обмена информацией, методы манипулирования людьми — эти навыки делают офицеров, работающих или работавших в КГБ/ФСБ, особой кастой, "братством", в котором господствует дух взаимопомощи. Когда человек, развивший в себе эти навыки, получает власть, вся страна становится ареной оперативной работы (выделено мной. — Ю.П.). Милитократическая элита становится общностью, в которой главенствует солидарность. Такая власть вдвойне устойчива. Новая плановость режима Путина — это корпоративный дух спецслужб».
Что можно ожидать от Путина и его коалиции? — Во-первых, демократия уже стала во многом «имитационной» и de facto восстановлена советская система управления. Во-вторых, с политической сцены убрали всех независимых актеров. В-третьих, с помощью «вертикали власти» и «горизонтали власти» постепенно упраздняется политическая система, закрепленная в Конституции. В-четвертых, действуя в русле отечественной традиции, президент обходит «формальные структуры» и опирается на «неформальные» — «рабочие группы». Кроме того, Путин реформировал правительство. «Возникли два правительства — правительство премьер-министра и "правительство президента", куда входят 22 силовых ведомства». (Кстати, эта хорошая русская традиция. Когда 19 октября 1905 года в России был создан Совет министров, т. е. правительство, то сразу же главы военного и морского ведомства, а также МИДа были подчинены напрямую императору, а не премьеру).
Какова цель «коалиции Путина» и союзной этой коалиции и подчинившейся ей бюрократии? — «Моноцентричная пирамида власти», «унитарное государство» (отвечает О. Крыштановская). И, разумеется, то, о чем мы уже говорили, — поиск преемника. Проблема 2008 года. А также дальнейшее «уезживание» политического пространства, но с учетом реалий и использованием технологий современного мира. К примеру, изменение избирательного закона. О. Крыштановская справедливо замечает: «Если наш парламент станет полностью партийным, это будет означать, что влияние регионов станет еще меньше. Все будет в руках Кремля и Старой площади». И еще: «Поговаривают о том, что будет создана новая многопартийная система на основе партий власти. Бывает, что партии теряют свой электорат, а у нас электорат потерял свои партии».
Общий подход О. Крыштановской, ее оценки тенденций и ситуации в целом представляются мне адекватными. Здесь даже трудно что-то комментировать. Правда, по ходу изложения этого материала я слегка, чуть-чуть пытался это делать. Сейчас все-таки скажем несколько пространнее. С моей точки зрения кое-что следует уточнить. Но прежде — несколько слов об инициативах В.В. Путина, последовавших после трагедии в Беслане.
Что же тогда предложил нам президент (а позднее и реализовал)? — Во-первых, губернаторов больше не избирать прямым, равным, тайным, всеобщим голосованием. Власть будет рекомендовать кого-то и вот этого «кого-то» законодательные собрания субъектов федерации будут избирать (в принципе, наверное, могут и отклонить; однако это в «принципе…»). Ситуация аналогична той, что была при Советах. Генсек и Политбюро предлагали кандидатуру на пост первого секретаря обкома и пленум обкома избирал (утверждал по существу) этого человека.
Во-вторых, на общефедеральных выборах вводится пропорциональная система. Избираться в Госдуму можно только по партийным спискам, семипроцентный барьер сохраняется. В таком раскладе результат известен заранее: «Единая Россия» (со временем этот «лэйбл», не исключено, станет иным — партии власти в нашей стране любят и умеют менять названия-псевдонимы) получает подавляющее большинство. К примеру, около 80 %. Остальные распределят, при условии полного послушания, между коммунистами (10 %; или теми, кого назначат быть «левыми»), и какими-нибудь «новыми правыми» (10 %; либеральная фразеология и «чего изволите» — практика). Разумеется, это только предположения, причем не строгие.
Вроде бы и в этом случае мы наблюдаем возвращение в недалекую советскую старину. Парламент — совершенно и совершенная декорация. В нем заседает новое издание «нерушимого блока коммунистов и беспартийных». На этот раз — это блок партии власти и согласившихся — по разным причинам, некоторые из этих причин могут быть даже приличными, т. е. не подло-шкурными — изображать оппозицию. Да, такой вот снова «нерушимый блок» откровенно «идущих вместе» с Властью и «идущих тоже вместе», но говорящих — иногда и по поручению Власти, с тем, чтобы каким-то особым образом обслужить ее какие-то особые интересы — «не вместе».
В-третьих, был выдвинут ряд «новаторских» идей, смачно попахивающих советским esprit - создание «общественной палаты». Это — квази-представительство квази-гражданского общества. Туда вошли послушные «общественники» и послушные представители «общественных» организаций. И политологическая обслуга Власти затрубила на весь свет: вот русское society в его «гражданском и политическом отношениях». Вот — голос «многонационального народа» России, который является «носителем суверенитета и единственным источником власти» (ст. 3. Конституция РФ). Кстати, если с «общественной палатой» что-то получится (я сомневаюсь), можно будет и дальше экспериментировать с поиском новых (старых) форм прикрытия монопольного господства Власти. Да, и в условиях отсутствия реальных политических партий и общественных организаций (настоящих профсоюзов, скажем) — это, пусть и не очень убедительный, но — какой-никакой — и.о. гражданского общества и его представительства. — Прямого аналога в советских временах мы этой палате не найдем. Однако esprit, повторю, дух, душок, запах очень знакомы.
И еще. Все большую роль в нашей политической жизни играет Госсовет (хотя не ясно, есть ли у него будущее). — А ведь это орган — не конституционный. Ничего о нем в Основном законе не сказано. Получается, что послебеслановские новации лежат как-то вне конституционного поля, а именно в его границах располагается публичная политика. Или же: необходимые поправки в Конституцию. — Да, нет, конечно, не «требует». Тот же Госсовет существует относительно давно и что-то нет инициатив по приданию ему конституционного статуса.
Сразу же после Беслана и впоследствии В.В. Путин говорил и про усиление, и укрупнение, и централизацию право-охранительно-силовых органов. Ведь смертельный враг — международный терроризм — наступает. Правильно, наступает. И здесь не до шуток и ухмылок Действительно, с ним надо бороться качественно эффективнее. — Только вот что-то (наверное, советская ушлость — недаром там жизнь прожил) подсказывает: террор-террором, война-войной сами по себе, а выход на первый план этих ребят сам по себе (хотя и связаны друг с другом). Мы это все уже неоднократно проходили.
Характерно и то, что со своими инициативами 13 сентября 2004 года президент выступил на расширенном заседании правительства (собственно министры, руководство Администрации, полпреды и главы субъектов федерации; вот эти главы сидели, понурив свои главы; они понимали: Владимир Владимирович их «хоронит»). И все время В.В. Путин говорил об усилении и совершенствовании исполнительной власти. Хотя речь, безусловно, шла о Власти, традиционной русской Власти. Но стилистически и эстетически он действовал правильно. Что толку распинаться перед Федеральным собранием. Оно, как уже отмечалось, декорация для возникающего на наших глазах режима. А вот то, что принято называть «исполнительной властью» — это и есть остов, костяк «коалиции Пугина» (по Крыштановской).
Теперь после этого не-лирического, информационного, отступления прокомментируем сказанное социологом Ольгой Крыштановской. — Все она подмечает и трактует правильно. Только вывод — возвращение к советским порядкам — следует уточнить. Да, многое-многое свидетельствует об этом. На своем языке скажу: Русская Система, видимо, сумела сохраниться. Но, как уже подчеркивалось, входит (вошла?) в третью фазу, стадию существования. Условно ее можно квалифицировать как «властную плазму». И, разумеется, никакого возвращения в советский порядок не будет. Сохранится (в известном смысле вернется) эссенция Русской Системы, но формы будут новые.
Причем и восстановленные советскоподобные механизмы, «институты», процедуры сложатся в какую-то иную конфигурацию. Они ведь призваны обслуживать другую эпоху, другое соотношение сил, «акторов» и пр.
***
На мой взгляд, для нашей темы огромный интерес имеет следующее: каковой была конституционная мотивировка инициатив В.В. Путина от 13.09.2004 г. Проще говоря: на какую статью Основного закона опирался президент, предлагая не избирать, а — фактически — назначать губернаторов (это ведь главное в его сентябрьском «перевороте»).
Владимир Владимирович сослался на ст. 77, ее вторую часть: «В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти (выделено мной. — Ю.П.) в Российской Федерации». — Ну, раз так, раз «единая система», значит, действительно, можно губернаторов назначать. Да, наверное, не только «можно», но и — нужно, необходимо.
Правда, у ст. 77 есть часть первая и в ней говорится несколько иное: «Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно (выделено мной. — Ю.П.) в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом». — Так что же, между двумя частями одной статьи противоречие? Пусть и в завуалированно-юридической, даже скорее имплицитной форме, однако — противоречие?
Не скажу «нет», не скажу «да». Повторю то, что писал много лет назад. — Задача Основного закона состоит не только и не столько в «освящении» той или иной властной структуры, а в упорядочении открытого (по своей природе) политического процесса. Видеть в Конституции нормативное закрепление определенной формы правления — значит, обеднять ее содержание. Это — открытая норма, в рамках которой возможны как сегодняшняя, наличная политическая система, так и некие другие ее варианты в будущем. «Любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент. Различные политические режимы могут … функционировать в одних и тех же юридических рамках» — отмечает Морис Дюверже.
Соответственно, и в русской Конституции 1993 года заложены различные возможности и предусмотрена определенная плюральность трактовок и гибкость норм, регулирующих процесс отправления власти. Статья 77 и относится к таким нормам; в их рамках совершается выбор в пользу конкретной организационной формулы. — Надо сказать, что эта «гибкость», «двусмысленность» ст. 77 полностью корреспондирует отечественным историческим традициям. Речь идет об «удельных» и «уездных» властных технологиях и периодах.
В разные эпохи на Руси преобладало то «удельное», то «уездное» начало. «Удельное» предполагало некоторую самостоятельность территорий русского рейха, то, что Власть вступала с ними в договорные отношения (это и есть, как уже говорилось, федерация а ля рюсс). «Уездное» — полное подчинение территорий Центру (Власти), почти полное (временами и безо всякого «почти») отсутствие договорных принципов взаимодействия. При Ельцине преобладало «удельное», Путин явно склоняется к «уездному». Его «управляемая демократия» (он уже произнес эти слова, эту магическую формулу отрицания демократии) не совместима с «удельным либерализмом», когда Власть признает самостоятельность территорий («субъектов федерации» на современном языке), «разрешает» им самоуправление.
Убежден: апелляция В.В. Путина ко второй части ст. 77 не случайна. Но «не случайна» в ментальном, а совсем не юридическом смысле (здесь-то все ясно: это, действительно, его часть). Нынешний президент и «коалиция», на которую он опирается и которую он возглавляет, глубоко укоренены в традиционное русское мировоззрение. Это — неоплатонизм в русско-православном изводе. «Это унаследованное от Византии представление об универсалистском иерархизированном порядке, в рамках которого индивид включен в коллективные структуры; сами же структуры являются частью Божественного Космического Порядка», — пишет немецкий исследователь В. Пфайлер. — Религиозно-философская терминология при обсуждении сегодняшних политических тем не должна нас смущать. В секулярном, измененном виде по сути все это сохранилось. Более того, именно и только эта терминология имеется у нас под рукой. Вспомним хотя бы концепцию «МЫ-мировоззрение», сформулированную гениальным русским философом С.Л. Франком. В ней, как в капле воды, отражено и отражается все то, что движет — пусть они сами этого и не подозревают — В.В. Путиным сотоварищи.
Послушаем С.Л. Франка. «…Русским мыслителям совершенно чуждо представление о замкнутой на себе самой индивидуальной личностной сфере. Их основной мотив — связь всех индивидуальных душ, всех "Я" так, что они выступают интегрированными частями сверхиндивидуалъного целого, образуя субстанциальное "МЫ" … Русскому мировоззрению свойственно древнее представление об органической структуре духовного мира, имевшееся в раннем христианстве и платонизме. Согласно этому взгляду, каждая личность является звеном живого целого, а разделенность личности между собой только кажущаяся. Это напоминает листья на дереве, связь между которыми не является чисто внешней или случайной; вся их жизнь зависит от соков; полученных от стволов. Проникая во все листья сразу, эти соки внутренне связывают их между собой» (Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996). Еще раз: Франка интересуют духовные, религиозные измерения, нас — политические. Но это самое «политическое», конечно, вырастает из толщи многотысячелетнего бытия.
В той же работе С.Л. Франк говорит: «…русское мировоззрение содержит в себе ярко выраженную философию "МЫ" или "МЫ-философию". Для нее последнее основание жизни духа и его сущности образуется "МЫ", а не "Я". "МЫ" мыслится не как внешнее единство большинства "Я", только потом приходящее к синтезу, а как первичное … неразложимое единство, из лона которого только и выражается "Я" и посредством которого это "Я" становится возможно. "Я" и "ТЫ", мое сознание и сознание, чуждое мне, мне противостоящее и со мной связанное, оба они образуют интегрированные, неотделимые части первичного целого — "МЫ". И не только каждое "Я", связанное и соотнесенное с "МЫ", содержится в этом первичном целом. Можно утверждать, что в каждом "Я" внутренне содержится "МЫ", потому что "МЫ" образует последний опорный пункт, глубочайший корень и внутренний носитель "Я". Коротко говоря, "МЫ" является органическим целым, т. е. таким единством, в котором его части тесно с ним связаны, им пронизаны. "МЫ" полностью присутствуют в своих частях, как их внутренняя жизнь и сущность».
Франк и Путин в «одном флаконе»? — Да, эстетически не очень. Но содержательно и в контексте нашей темы — вполне. Скажем еще раз: В.В. Путин наследует всю эту органицистическую, «надиндивидуальную» традицию. Которая в различных формах господствовала у нас практически всегда. — Сила нынешнего президента и ведомой им «коалиции», его (их), если угодно, историческое призвание, совместить, соединить в некую — пусть и противоречивую — целостность досоветское, советское, постсоветское. Следует признать, что у него (них) есть для этого кой-какие средства: прежде всего это самое, как выясняется, никуда не ушедшее «МЫ»-миросозерцание русского человека.
Подчеркну: господство в наших умах, душах, психологии этого «МЫ»-понимания никак не противоречит ни множеству социологических данных, свидетельствующих о все большем наличии в русском сознании «протестантских» ценностей, вообще о росте индивидуализма на Руси, ни тому постыдному и всеохватному явлению, которое давным-давно ныне покойный профессор Н.Н. Разумович квалифицировал как «субъективный материализм», т. е. бесстыжее рвачество. — Но «не противоречит» в чем? Ведь, с одной стороны, мы вроде имеем субстанциальное «МЫ» со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в социальной сфере это — как ни крути — тот или иной тип коллективности. С другой — яркое и явное преобладание частного, индивидуального интереса, пусть и в грубо-примитивной форме. Какая же здесь коллективность?
Так вот «не противоречат» они друг другу и вполне совместимы — а совместить их, повторим, русский народ позвал Владимира Владимировича Путина, — потому, что оба обходятся в своей «практике» без того фундамента, на котором стоит Запад. Иначе говоря: у них общий неевропейской кладки фундамент. Русский индивидуализм, как и русский коллективизм, в конечном счете плевать хотели на право. Для них право не есть главный регулятор социальных отношений, государство не есть актуализированный правопорядок, общество не есть результат взаимодействия (в том числе и в конкурентной форме) индивидов, наделенных правами человека. Русский коллективизм превзойдет индивида с его правами во имя «МЫ», русский индивидуализм — во имя своего, «субъективно-материалистического», «Я». «Ты», другой, его права, вообще его жизнь мало тревожат отечественных индивидуалистов. И если коммунистической революцией «ты», «другой» были порабощены во имя «МЫ», то антикоммунистической — во имя «Я».
Что же касается усиления «протестантских» настроений в нашем обществе, то это пока остается в сфере «должного», а не «сущего». Индивидуализированно-правовые ценности, признающие достоинство, благополучие и свободу «другого» необходимым условием достоинства, благополучия и свободы «себя», не конвертированы еще в сферу социального…
Хочу напомнить: вся эта метафизика, по Франку, была приведена мною в связи с ликвидацией В.В. Путиным «удельного либерализма» и откровенным переходом к «уездному» правлению страной. Но та же метафизика напрямую связана и с решением всенародного избранного перейти к пропорциональной системе выборов (по партийным спискам). Президент и здесь оказывается ярким представителем того мировоззрения, которое описал (и сформулировал) великий русский философ. Только на этот раз мы приведем пример, который, наверняка, не пришелся бы по душе Семену Людвиговичу. Ведь он очень не любил большевиков (впрочем, и самодержавие, хотя — и это понятно — с гораздо меньшей интенсивностью). А они, оказывается, несмотря ни на что, тоже были носителями этой традиции. Пусть в грубо-извращенносекулярной форме. Главное: были.
Младший современник С.Л. Франка — Н.Н. Ллексеев в конце 20-х годов писал: «Советское государство в противоположность новейшим европейским демократиям отправным пунктом своим считает не отдельного активного гражданина, образующего вместе с другими гражданами неорганизованную массу народа; напротив того, советское государство отправляется от первоначально организованных ячеек граждан, именно от советов — деревенских, городских, фабрично-заводских. Городские и сельские советы и являются теми первоначальными государственными органами, из которых образуются все остальные органы советского государства. Советская республика отправляется, таким образом, не от голосующего корпуса граждан, как некоторого высшего государственного органа, но от множества мелких организмов, которые вырабатывает из себя политическое тело республики» (Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998).
По Н.К. Алексееву получается (и он прав), что в основе советской системы находились не «отдельные граждане», как это было в европейских демократиях, но — «территориальные мелкие организмы», т. е. некие коллективы. Следовательно, первоначальным атомом западного строения являлось политико-юридическое «Я», коммунистического — «МЫ». Вот и вернулись к Семену Людвиговичу Франку. А коли так, то и воспользуемся его языком: советско-русская демократия сверх- или надиндивидуальная — «МЫ»-демократия, западная — индивидуалистическая, «Я»-демократия.
Ну, а путинская пропорциональная система здесь при чем? — Отвечу: тогда «отдельного активного гражданина» задавили с помощью советов («территориальных мелких организмов» — коллективов), сегодня — планируют через партийные списки. И в том, и в другом случае общая технология и общая цель. Установить такой порядок, при котором отдельный человек будет подчинен какой-то коллективной воле. Но советская система по своей природе не «предполагала» камуфляжного, декоративного выбора между не то чтобы альтернативными позициями, даже между «оттенками». А постсоветская путинская «управляемая демократия», напротив, предполагает выборы. Более того, провозглашает их главным механизмом легитимации и легитимирования власти. Соответственно, так высоко поставив выборы, Русская Власть не может пустить их на самотек. Она ведь знает «из какого сора» все у нас растет. Она видела русского человека в 90-е годы. Вот и говорит ему: будешь меня выбирать, получишь три-четыре-пять партий, по телевизору скажут, каков должен быть уровень поддержки каждой. Впрочем, об этом и местное начальство позаботится.
Правда, крупные государственные деятели и известные политологи полагают, что пропорциональная система поспособствует нарождению у нас настоящих, крепких политических партий. И тогда наша демократия сможет опираться на них, станет стабильной, устойчивой, предсказуемой … — Думаю, что опровергать это не имеет смысла. Зачем спорить с очевидным лукавством или с очевидной … неадекватностью.
***
Еще относительно того, почему в России не складывается политика. — На Западе практически все публично-политическое и властно-бюрократическое вписано в конституции. Или иначе: публично-политическое и властно-бюрократическое не выходят за пределы конституционного поля, а сами эти пределы суть барьеры, которые — принципиально — преодолевать нельзя. За границами конституционного поля ни публичной политике, ни государству (state) делать нечего, их туда не пускают. За этими границами — экономика, культура, религия, privacy etc. Это не означает, конечно, что конституции никак не касаются этих сфер жизнедеятельности человека и общества. Касаются. Но политику и власть туда не пускают.У нас по-другому. Русской Власти до всего дело. Даже сегодня, во многом изменившись, во многом утеряв моносубъектность и всеохватность, она не оставляет своих былых привычек, верна главным своим традициям, а ее нынешний персонификатор — несмотря на «Курск», «Норд-Ост», Беслан и пр., пр. — твердо заявляет: «Я здесь (читай в России. — Ю.П.) отвечаю за все». И говорится это не ради красного словца. Это адекватное заявление адекватного русского лидера (каковым Владимир Владимирович Путин является; такового и призвали на власть).
…Кстати, об адекватности Путина. Он все правильно понимает. Вот примеры. В начале 2004 года президент заявил: «Лучше не трогать Конституцию. Задача любого руководителя — предложить обществу другого человека, который сможет работать дальше. С ним приходят новые идеи, и это все равно лучше». — Действительно, «трогать» Конституцию дело хлопотное, да и Запад не одобрит. Надо выдвигать наследника, как это было в случае с ним самим. Ведь нельзя же это отдать на самотек. Это там в европах общество рекрутирует кандидатов на высшие должности. У нас — власть. Ихний принцип — власть от народа (общества), наш — власть от Власти.
В самом же конце 2004 года Путин в ходе большой пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению (23 декабря), поведал о том, как он трактует акции власти по отношению к «ЮКОСу». По словам президента, государство является одним из участников «рыночной игры». То есть налицо редукция и возможностей Власти, и ее сути. Путин отдает себе в этом отчет. Ему досталась власть качественно ослабленная. Она вынуждена признать существование иных социальных субъектов. — Далее, оправдывая, мягко скажем, не-джентельменское поведение государства в истории с «ЮКОСом», он подчеркнул: когда-то так действовали нынешние олигархи, теперь «мы» так действуем. В этом откровенном признании констатируется готовность власти функционировать за пределами «дозволенного» (это, конечно, не совсем выход из пространства права, формально-юридическое прикрытие остается, это, скорее, нарушение границ сферы моральных запретов). Кроме того, Путин четко указал на то, что у нас первично: власть или собственность. Власть-Путин победила Собственность-Ходорковский. И все возвращается на круги своя: происходит восстановление конститутивной для Русской Системы властесобственности. Разумеется, под водительством Власти.
Мне вообще импонирует путинский политический реализм. Особенно после горбачевской маниловщины и ельцинской ноздревщины. — Так, в конце марта 2005 года, находясь с визитом в Ереване, в ходе своей совместной с президентом Армении С. Кочаряном пресс-конференции он признал, что СНГ с момента своего создания и поныне есть организация, имеющая своею целью «цивилизованно» произвести «развод» бывших советских республик. «Если кто-то ожидал особых достижений во всех областях в СНГ, то их не было и быть не могло. Цели программировались одни, а на деле процесс после распада СССР проходил по-другому. Главная цель была для СНГ — наиболее мягко расстаться после распада СССР».
Согласимся, это весьма и весьма мужественное заявление. И непривычно откровенное. Одновременно: демифологизирующее. — А вот другое свидетельство современности и включенности В.В. Путина в ту реальную (т. е. всамделешнюю, не придуманную, не вымышленную) жизнь, в которой и которой мы живем. В марте 2005 года на встрече с «олигархами» он в шутку предложил им: может, кто-то возьмет «в аренду» Федеральную таможенную службу. — Подобным образом шутить могут только люди этой эпохи, глубоко в ней укорененные, «вписавшиеся» в нее всеми своими потрохами.
А язык президента? — Насколько же он ближе языку масс, языку большинства 90-х — начала века, чем речевой стиль его предшественников. Более всего и всем запомнилось: «мочить в сортире». Интеллигенция недовольно морщилась. — Зря. Русская демократия (те самые массы, то самое большинство) выражается и выражает себя именно так. Причем, Путин чувствует с кем и как говорить. Тем же «олигархам» о «плохих» чиновниках: «Они так и будут вас кошмарить» (здесь глагол хорош, выразителен и органично специфичен). — Спортсменам в Ледовом дворце Астаны (визит в Казахстан) на вопрос о том, умеет ли он кататься на коньках: «Нет, у меня копыта разъезжаются» (заметим: типично спортивно-молодежный жаргон. Так и вспоминается Татьяна Догилева в роли пловчихи «Трудовых резервов» в фильме «Покровские ворота»). — Или на заседании хозяйственного актива Южного федерального округа, после того как была достигнута какая-то хозяйственная договоренность, резюмирует: «Все мужики. Теперь только не соскакивать». Тоже глагол хорош; емок и социально не только не чужд, но и совершенно свой господствующей социальности миллионов хозяйствующих — и по-крупному, и по мелочи — субъектов…
Правда, реализовать ответственность за все в современных условиях Русской Власти архи-сложно. Поэтому она иногда напоминает мне полную пожилую хохлушку, которая годами стоит в одном из переходов метро «Киевская». В руках у нее плакатик, на нем написано: «Спрашивайте за все…»
Тем не менее Русская Власть по-хозяйски вторгается во все те сферы, куда ее западным партнерам путь заказан. Легко перепрыгнув через конституционный барьер, устремляется туда, где сегодня, по ее разумению и инстинкту, ей быть необходимо. — Но и не только это. Она кроит публичную политику как ей вздумается. А «вздумается» — и мы знаем это — под себя, для себя. Т. е. для успешной реализации своих целей, своего полагания и понимания русской жизни. Кстати, напомню: главная цель Русской Власти — она самое. Есть и другие, но эта — наипервейшая.
О неизбывных качествах русской власти
Здесь как раз место немного поговорить о природных чертах русской власти. Правда, весь этот текст посвящен ей. Но вместе с тем хотелось бы особо отметить несколько ее свойств, несовместимых с публичной политикой или, по крайней мере, существенно затрудняющих становление у нас public policy.
С идеальнотипической точки зрения имеются два способа и вида власти — монархия и полиархия. Власть в руках одного или власть, находящаяся в разных руках, так сказать, власть распределенная. Конечно, надо сделать оговорку: согласно классической теории разделения властей никакой одной Власти вообще быть не может или не должно. Имеются лишь три власти, отдельные друг от друга по своей природе, причем все они — субстанциальны. Так вот, принимая во внимание эту оговорку, подчеркнем: даже господствующая в современном сознании концепция власти Монтескье не разрушает нашего идеальнотипического полагания. В пределе — или монархия, или полиархия.
А что же такое русское Самодержавие? Абсолютнейшая монархия? — Нет. Странным образом самодержавие ускользает от этой идеальнотипической схемы. Оно вообще ведет себя совершенно непредсказуемо. К примеру, будучи властью принципиально персонифицированной, то есть обязательно пришпиленной к определенному лицу, вдруг отделяется от этого лица и сливается с множеством лиц. Скажем, именно так произошел транзит от петербургского императорства к московской совдепокомиссарии.
Казалось бы, чреда революций пятого и семнадцатого годов добила самодержавие (параллельно оно подтачивалось как его собственной эмансипационной политикой, так и самоэмансипацией общества). Но оно, ловко просочившись сквозь нервные пальцы социалистически-либеральной интеллигенции, соединилось с бунтом стомиллионной массы крестьян, солдат, рабочих. И тут же облеклось в то, что когда-то их злосчастный Маркс назвал «господством террора полуазиатских крепостных». Так самодержавие от «приватной» формы перешло к «коллективной». По существу лишь изменилась форма персонификации. Суть же сохранилась.
Идеальнотипически самодержавие — это власть-насилие, власть как насилие, безо всяких там ограничений, «сдержек и противовесов». Это — высшее напряжение, густота, интенсивность подавления, распределения, укрощения и пр. Оно качественно, а не количественно отличается от тех видов власти, с которым его обычно сравнивают. И прежде всего с теми, которые произрастают на Западе. Там власть, в каких бы формах и обличиях ни являлась миру, всегда и прежде всего — договор, конвенция, список условий, прав и обязанностей сторон, декларация об ограничениях и т. п. Да, и насилие тоже, но строго обузданное императивом права и рационально-дозированным «рассеянием» (распределением).
Конечно, далеко не всегда самодержавие доходит до градуса террористической диктатуры, впадает в этот горячечный бред и жар. Многое зависит от эпохи, которая или требует «массовидности террора» (выражение Ленина), или нет, или нэмножка все-такы трэбуэт. Связано и с личностью персонфикатора, его характером, темпераментом. Например, В.О. Ключевский говорит об Алексее Михайловиче: «он не напрягал своего полновластия» (Ключевский В.О. Сочинения. М., 1957. Т. III). А вот его сынок, Петр, уже «напрягал». Поскольку крут был «до невозможности». И резко сменились очередные задачи власти (тогда еще досоветской).
Но и совсем «не напрягать полновластия» тоже нельзя. Это еще большая для самодержавия опасность, чем террористическое перенапряжение. — В 1920 году Н.В. Устрялов напишет. «Наша контрреволюция не выдвинула ни одного деятеля в национальные вожди. Все ее крупные фигуры органически чуждались власти, не любили, боялись ее. Власть для них была непременно только тяжелым долгом, "крестом" и "бременем" … ни Алексеев, ни Колчак, ни Деникин не имели эроса власти. Все они, несмотря на личное мужество и прочие моральные качества, были дряблыми вождями дряблых.
Революция же сумела идею власти облечь в плоть и кровь, соединив ее с темпераментом власти» (Устрялов Н.В. Национал-большевизм. М., 2003).
Это так, у вождей белых не имелось «эроса власти». А их противники готовы были весь мир умыть кровью, их плотские мозги сочились «эросом власти», волей к власти. Тот же Устрялов: «Идет новая аристократия под мантией нового демократизма … Русская революция — не демократическая (Керенский, учредительное собрание), а аристократическая по преимуществу ("триста тысяч коммунистов" — на самом деле еще меньше). "Аристократия черной кости"? … Пожалуй. Но это — относительно. Аристократия воли. "Воленция" вместо "интеллигенции"…» Кстати, еще З. Гиппиус отмечала у вождей общественников, интеллигенции «боязнь власти». Что, по ее мнению, и обеспечит им исторический неуспех.
Расслабленное самодержавие всегда возвращало себе адекватную форму и состояние с помощью «воленции» — опричников Иоанна Грозного, гвардейцев Петра Великого, большевиков Владимира Ленина. Ими и напрягалось полновластие самодержавия…
Интересные наблюдения над русской властью-насилием мы можем найти у Д.С. Мережковского. Он не был ученым, исследователем, никогда систематически не изучал русской политики. Но понимал в этом как мало кто. У него есть поразительная статья, написанная в начале 1906 года в связи с двадцатипятилетием со дня смерти Ф.М. Достоевского — «Пророк русской революции». — «В русском самодержавии, — говорит он, — которое доныне казалось только силою реакционною, задерживающей, скрывается величайшая разрушительная сила. Революция — не что иное, как обратная сторона, изнанка самодержавия; самодержавие — не что иное, как изнанка революции. Анархия и монархия — два различные состояния одной и той же prima materia, "первого вещества" — насилия, как начала власти: насилие, одного над всеми — монархия, всех над одним — анархия. Постоянный и узаконенный ужас насилия, застывший "белый террор", обледенелая, кристаллизованная анархия и есть монархия; расплавленная монархия и есть анархия … Тающая глыба самодержавия течет огненною лавою революции» (Мережковский Д. Собрание сочинений. Грядущий Хам / Сост. и коммент. А.Н. Николюкина. М., 2004).
Все в этих словах безупречно точно. В особенности имплицитное указание на два основных состояния русской истории: обледенелый белый террор и огненная лава красного террора. Самодержавие и революция. Одно переходит в другое и оба они суть проявление единой сути. Их персонификаторы Романов и Пугачев, самодержец и самозванец. При этом, подчеркивает Д.С. Мережковский, «из русской истории мы знаем, как трудно иногда отличить самодержца от самозванца».
Тем более, поддержим мы замечательного русского мыслителя, что как только самодержавие родилось, и русские цари стали именовать себя «самодержцами», пришел и первый самозванец. То есть самозванничество является на свет буквально по пятам «самодержавства». Лже-Дмитрий объединил в себе и собой оба этих исторических «института».
Вообще, — уходя несколько в сторону от основной мысли Дм. Мережковского, — фигура Григория Отрепьева, как говорят сегодня, эмблематичная. Кто он? — Неизвестно. Но даже если сын царя, то незаконный. Поскольку лишь три брака (не более) признаются церковью. А мальчик Дмитрий был из гораздо более «позднего». — Однако народ с энтузиазмом принял его, а затем также с энтузиазмом убил его. Был ли он католик? — Да, кажется, его «перевели» в римскую веру. Только папа и вскормившие его поляки ничего от этого не получили. Своей же политической линией он продолжал дело Бориса I Годунова и предвосхищал деяния Петра I Романова. И если всерьез, то он в той же мере самодержец — самозванец, что и Борис Федорович, и Петр Алексеевич. В конечном счете, один в конце XVI в. хитростью и политиканством «взял» Москву, а другой в конце следующего столетия покорил ее случаем и войском.
В России всяк само-держец — само-званец. И наоборот. Формально так было до Павла I. С него и до падения Николая II совершалась иная история … Однако, как выяснилось в XX столетии, и начало нынешнего подтверждает это, девятнадцатый век — теперь уже ясно: золотой для России — был исключением, счастливым исключением. Иоанн Грозный и Петр Великий создали Русскую Власть как самодержавно-революционную (помните пушкинское о Романовых — «революционеры»?!), как монархически-анархическую, как насильственную par exellence. Такая Власть и предполагает самодержца-самозванца. Павел и его наследники, как казалось, преодолели, точнее: начали преодолевать это родовое качество Власти. Но Семнадцатый год смел плоды более чем столетней работы. Парадоксально, что это стало делом рук наиболее юридически грамотной в отечественной истории генерации. Это ее вожди, предводители интеллигенции и буржуазии, открыли дверь для реставрации самозванническо-самодержавного начала Русской Власти.
Свое господство, недолгое, впрочем, они основали на легитимно-иррелевантном отречении Николая II, на совершенно внезаконном «отречении» великого князя Михаила, на полном похеривании Государственной думы (а ведь раньше все в этом вопросе на государя обижались; он же так далеко никогда не заходил), на вздорном утверждении, что Временное правительство обладает всей полнотой исполнительной и … законодательной (?!?!) власти. Вот как с самодовольной скромностью трактовал вопрос об источнике своей власти главный герой Марта 1917 года. — «Я вышел к толпе, наполнявшей залу (Таврического дворца. — Ю.П.), с сознанием важности задачи и с очень приподнятым настроением. Темой моей речи был отчет о выполненной нами программе создания новой власти … Мне был поставлен ядовитый вопрос: "Кто вас выбрал?" Я мог прочесть в отчет целую диссертацию. Нас не "выбрала" Дума. Не выбрал и Родзянко, по запоздавшему поручению императора. Не выбрал и Львов, по новому, готовившемуся в ставке царскому указу … Все эти источники преемственности власти мы сами сознательно отбросили. Оставался один ответ, самый ясный и убедительный. Я ответил: "Нас выбрала русская революция!". Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла рот самым радикальным оппонентам. На нее потом и ссылались, как на канонический источник нашей власти».
Нет, конечно, я не хочу весь груз ответственность за восстановление в XX в. самозванническо-самодержавной власти взвалить на плечи отца русской демократии (чуть позже о нем и его сторонниках, в целом об «общественниках» поговорим поподробнее). Но и не заметить их роли в этом деле не могу. — А затем уже пошло и поехало. Все ком-вожди, генсеки и персеки, предсовмины и пр., несомненно, были самозванцами и самодержцами в одном лице. И по источнику их власти, и по форме отправления. А как совершенствовали и преумножили они эту «prima materia» Русской Власти — насилие, одного над всеми и всех над одним! — После внезапного падения красного рейха вновь возникла возможность постепенной элиминации самозванческо-самодержавного принципа. Однако русская история и русские люди не захотели этого.
Институт выборов — вот что могло отправить этот принцип в небытие. Но в реальной жизни этот институт был подменен произволом наследничества, «назначением» президента-наследника…
И еще о двух неизбывных качествах Русской Власти хотелось бы сказать в контексте public policy. Во-первых, несмотря на внешнюю понятность и даже примитивность, она весьма сложна по своему составу и, во-вторых, очень гибка и адаптивна идейно, идеологически.
Сначала о ее сложном составе. Послушаем здесь В.О. Ключевского: «…Под действием политических понятий и потребностей, вызванных Смутой … власть царя получила очень сложную и условную, сделочную конструкцию. Она была двойственна, даже двусмысленна и по своему происхождению, и по составу. Действительным ее источником было соборное избрание; но она выступала под покровом политической фикции наследственного преемства по родству. Она была связана негласным договором с высшим правительственным классом, который правил через Боярскую Думу, но публично, перед народом, в официальных актах являлась самодержавной в том неясном, скорее, титулярном, чем юридическом смысле, который не мешал даже В. Шуйскому в торжественных актах титуловаться самодержцем. Таким образом, власть … царя составлялась из двух параллельных двусмыслиц по происхождению она была наследственно-избирательной, по составу — ограниченно-самодержавной».
Сразу же подчеркну: далее В.О. Ключевский говорит, что такую конфигурацию русская власть имела лишь во времена Смуты и на выходе из нее. То есть это явление не всегдашнее. — Однако позволю себе в данном случае не согласиться с любимым историком. Ведь Смута у нас явление нередкое и схожие комбинации также складываются нередко. К примеру, сегодня мы имеем покров политической фикции всенародного избрания, власть связана негласным договором с «высшим правительственным классом». Разве это не так? И разве нынешнюю власть нельзя определить как избирательно-наследственную по происхождению и ограниченно-самодержавную по составу?
Или коммунистическая власть. Она действовала под покровом политической фикции наследственного преемства, так сказать, по линии КПСС (идеология, организация, традиция etc.), т. е. тоже «по родству». Была связана негласным договором с высшим правительственным классом, который правил через ЦК. Публично коммунистическая власть являлась общенародной, скорее, в титулярном, чем юридическом смысле, который также не мешал генсекам! В общем и она по происхождению была наследственно-избирательной, а по составу — ограниченно-самодержавной. Таковой же была и русская власть после смерти Петра I и до воцарения Павла I. Практически весь осьмнадцатый век. Замечу лишь: здесь роль выборных органов играли дворцовые гвардейские перевороты. Избирательный корпус держал тогда в своих руках шпагу. — Только в XIX столетии конструкция власти была иной. Но это столетие, как мы знаем, во всех отношениях отличается от предшествовавших и последовавших.
Нам же следует запомнить: конструкция, происхождение, состав русской власти очень непросты и устойчивы.
Теперь об идейной и идеологической гибкости Русской Власти. Подчеркну: она невероятна, беспрецедентна. — К примеру: на рубеже XVII–XVIII столетий Петр Великий производит глубочайшую социальную, культурную, военно-организационную и пр. революцию. В этом «пр.» в первую очередь и, может быть вообще в первую очередь, — революция во Власти. Им создаются новая форма и новый тип русской власти — секуляризированные и на манер европейского абсолютизма. — Да, но за несколько десятилетий до этого «судьбоносного» поворота-переворота Русская Власть пережила почти столь же головоломный вираж.
Алексей Михайлович, отец академика и плотника, мореплавателя и героя, затеял такую перестройку всего и вся, что стоит лишь удивляться, сколь мало мы говорим об этом, совершенно не уделяем должного внимания. Вот что пишет один из образованнейших и умнейших современных русских людей: «Алексей Михайлович … (…именно царю…, а не патриарху Никону принадлежит основная роль в культурных реформах этого периода) … осознает себя царем всего православного мира, естественно ориентируясь при этом на византийский образец. Такой взгляд может рассматриваться как развитие идеи Москвы — Третьего Рима. Если, однако, ранее эта идея связывалась с культурным изоляционизмом, то теперь она связывается с универсализмом, т. е. предполагается единая культурная норма для всего православного мира» (Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVIII). Miinchen, 1987).
Иными словами, при Алексее Михайловиче Россия впервые примеривается к роли авангарда всего прогресс … нет, пока еще только всего православного человечества. И это, конечно, крутая перемена. Автор уточняет «Это изменение предполагает изменение отношения к грекам. После Флорентийской унии греки стали рассматриваться как повредившиеся в вере, от них надо было отмежеваться. С этим связано установление автокефалии русской церкви. Процесс церковного обособления был завершен учреждением патриаршества в России (1589 г.). С учреждением патриаршества Московское царство получило ту же структуру, что и Византийская империя. — Византийская империя как бы целиком переместилась в границы Московской Руси. Эта концепция подчеркивала религиозную и политическую самодостаточность Московской Руси и вела к культурному изоляционизму».
Но вот жизнь становится «лучше и веселее». Страна крепнет и, соответственно, набухают ее амбиции. «Со стабилизацией русской государственной власти в середине XVII века политические концепции меняются. Политическая программа царя Алексея Михайловича предполагала создание православной империи, выходящей за рамки Московской Руси. Соответственно, православный мир не замыкался для него в Московском царстве, но … приобретал масштабы Византийской империи … Ориентация Алексея Михайловича на византийского василевса проявляется в целом ряде аспектов … Алексей Михайлович выписывает из Константинополя яблоко и диадему, сделанные "против образца благочестивого греческого царя Константина". При Алексее Михайловиче царя начинают титуловать святым, как это было принято в Византии. До этого так могли называть русского царя или великого князя только греческие иерархи, но не сами русские. Византинизация царской власти обусловливает и изменение чина венчания на царство, который приближался к византийскому. Со времен Федора Алексеевича (1676 г.) царь при венчании причащается в алтаре по священническому чину, как это делали византийские императоры. Как подражание византийским императорам может быть рассмотрено и издание Уложения (1649 г.), т. е. официальное введение нового свода законов…».
При всем этом, подчеркивает знаменитый исследователь, «византинизация царской власти при Алексее Михайловиче обусловливает византинизацию всей русской жизни. Москва должна стать не только политическим, но и культурным центром всего православного мира». — Таким образом, перед энергичнейшей европезиацией мы пережили не менее энергичную византинизацию. Которая растянулась аж на два царствования — Алексея и Федора, что составляет примерно тридцать пять лет. А параллельно, напомню, шла полонизация русских верхов. Это какой-то уже третий путь…
Исторически все эти влияния, деяния, события размещаются очень плотно, примыкая друг к другу, наползают друг на друга, входят во враждебные отношения, взаимоотрицают и диффузируют одновременно. В результате складывается невероятно разнородная, разноцветная мозаика, смешение всего и вся. Как архитектура русских городов или дачных поселков. Это безвкусное и хаотическое нагромождение разных стилей, задумок, утопий. Однако: мы вдруг обнаруживаем в этом что-то поразительно близкое нашему сердцу, душе, уму даже. И говорим: «как это по-русски».
Такова и наша Власть (и Русская Система в целом). Ведь логично было бы усатому великану с дергающейся щекой и бритым подбородком, поклоннику голландско-прусско-протестантской абендландии отправить все эти византийско-подобные заморочки и «пережитки» куда подальше. А он … сохранил. И папино с братовым наследие вплел в собственную перестройку. Точнее, так оставил то, что реально работает на Власть. Кстати, и тему лидерства России в православном мире включил в свой концерт. Ненужное же положил в сундук для лучших времен. И они настали: пра-пра-пра-правнук (Александр III) и пра-пра-пра-пра-правнук (Николай II) облачились в эти наряды и воспользовались культурно-идеологической подпиткой из этого византийско-русского плюсквамперфектума.
А и наши времена демонстрируют схожее, типологически близкое поведение власти. В XVI–XVII столетиях ее «маршрут» был таков: сначала «мы» — Москва — Третий Рим, но это означает, с одной стороны, новое и очень высокое самоопределение власти, т. е. фактическое укрепление, а с другой — фактический культурно-исторический изоляционизм. Далее: описанная Б.А. Успенским «вйзантинизация» — и укрепление власти, и выход из изоляции в качестве лидера православного мира. Параллельная полонизация, которая в тенденции вела к ослаблению власти, смягчению нравов и плюрализации социума. И в финале — варварская европеизация с североевропейским акцентом.
В XX столетии Русская Власть прошла де-факто по тому же маршруту. Сначала «мы» — первые строители земного рая и носители единственно-научно-верного мировоззрения. Это обрекло на сталинский культурно-исторический изоляционизм. Затем «мы» при Хрущеве-Брежневе лидеры социалистического лагеря. Параллельное заимствование польско-венгерского опыта в тенденции имело те же последствия, что полонизация за три столетия до того. В финале — варварская вестернизация с провинциально-американским акцентом.
Но Русской Власти и это оказалось к лицу, в жилу, в струю. И когда ей надо, она и сталинский френчик набросит, и в пузатобрежневский костюм залезет, и «без галстуков» пройдется. Главное, что из всех этих катавасий Власть снова выходит молодой, энергичной, не оставляющей никаких сомнений в своей витальности. Как говаривал Александр Галич: «если начал делать, делай так, чтобы уж не встал». Русская Власть по-прежнему «делать» может. И по-прежнему у нее широкий набор культурно-идеологических технологий и возможностей для царствования на славу нам и страх врагам. И она может с гордостью повторять вещие слова министра внутренних дел А.А. Макарова: «Так было и так будет» (в IV Думе по поводу Ленского расстрела; самого Александра Александровича в 1919 году расстреляют чекисты).
…Как со всем этим строить публичную политику? — Не знаю.
Почему погибла «русская публичная политика-1»
Принципиальным является вопрос: русская публичная политика 1905–1917 гг. закончилась из-за негативных последствий войны, которую страна не выдержала, или же была обречена на неудачу в своем демократическом строительстве по причинам, так сказать, органическим? — Конечно, в такой форме поставленный вопрос может сам по себе вызвать возражения. Мол, война была делом «общим» и русские участвовали в ней не «случайно», а в качестве члена той системы государств, внутри которой и образовались мирным путем неустранимые конфликты, приведшие к смертоубийству. Ну, и оказались «слабым звеном» (как учил Ильич). Или: глубочайшие внутренние противоречия России, неразрешимые, как ни старались все эти витте-столыпины, старой властью, в момент ослабления страны рванули так, что все — и эта самая публичная политика — разлетелось в пух и прах. Да, возможна и масса других возражений против этого моего вопроса.
Однако сформулировав его именно так, вот что я имел в виду. Неудачный опыт «русской публичной политики-1» свидетельствует о ее невозможности на Руси вообще? А может лишь о «ситуационном провале»? «Рано» было? Не все условия вызрели? — Действительно, здесь есть что обсуждать. Не все вроде бы безнадежно. — Однако на это «есть» есть и ответ: закат «русской публичной политики-2» (1989/1991-2005 — условно, мы не знаем в каком темпе все это пойдет — гг.), который совершается на наших глазах (и с нашим участием, в смысле: всегдашнего по сути дела неучастия, «моя хата с краю»).
Но чего сегодня-то не хватает для публичной политики?! — Стопроцентно грамотный народ, полная открытость миру, какой-никакой опыт какой-никакой рыночной экономики, какой-никакой политический опыт … Да, много всего, что способствует публичной политике. Так нет же, под аплодисменты большинства и злорадные смешки меньшинства В.В. Путин и «его коалиция» постепенно прикрывают публичную политику. Она, эта политика, в лице партий, общественных организаций, субъектов федерации, парламента, судебной системы (в той мере, в которой связана с публичной политикой), кстати, не сопротивляется.
Следовательно, мой вопрос о причинах неудачи «русской публичной политики-1» не корректен? — Думаю, это не так. И основания для обсуждения у нас есть.
Итак, русская публичная политика 1905–1917 годов. Как вела себя власть, мы уже отчасти говорили. Посмотрим теперь, как и что делало общество. Определенный опыт самоуправления и управления у него уже был. То есть нельзя сказать, что к 1905 году общество подошло совсем не подготовленным. Со времен Екатерины II свободные сословия имели какие-никакие права на самоуправление. Затем земская система, действовавшая на протяжении четырех десятилетий. Кстати, в конце 90-х годов XIX в. в земских учреждениях служило около 70 тыс. человек. Не так уж мало!
Но у общества был и иной, негативный, опыт самоорганизации. С 60-х — 70-х годов XIX столетия его радикальные слои, которым более или менее — в разные периоды по разному — сочувствовали и помогали либералы, находились в состоянии жесткого противостояния и даже войны с властью. Поэтому и общественно-политические организации, возникавшие до 1905 года, неизбежно были ориентированы на борьбу с властью и действовали в условиях подполья. Иными словами, являлись нелегальными, не ограниченными правовыми процедурами. А значит — не умели, не могли, не хотели действовать в правовом и публичном пространстве.
Такова была почва, из которой и начала произрастать «русская публичная политика-1».
Сразу же обозначались две тенденции. Одна, направленная на мирное реформирование страны и предполагающая компромиссы с властью. И другая, наследующая инстинкты, тактику и стратегию борьбы до победного конца — беспощадного уничтожения власти. Кадеты (партия «Народной свободы») находились ровно на линии водораздела между двумя этими лагерями. Соответственно, впитали в себя оба этих мировоззрения. Поэтому они тоже: «зеркало русской революции».
Надо признать, что в ходе развития, эволюции публичной политики удельный вес «реформистов» увеличивался, а «революционеров» снижался. Более того, сама линия водораздела, если можно так выразиться, меняла свой характер. Практически во всех левых партиях и группировках появились люди, готовые к диалогу и сотрудничеству (хотя бы временному, хотя бы тактическому) с властью. Это — меньшевики, правые эсеры и др. У кадетов явно обозначилось направление, полностью исключавшее для себя нелегальный способ действий и бескомпромиссное отношение к власти. Что касается октябристов и стоявших правее них просвещенно-консервативных сил (хотя и с националистическими оттенками), они набирались более или менее (скорее, все-таки менее) успешного опыта сотрудничества и компромиссов с властью (здесь, разумеется, не следует преувеличивать позитивного начала, но и нельзя его преуменьшать).
Определенное место и позиции в публичной политике занимали черносотенцы. Какой-то своей частью они были «вписаны» в публичную политику, а какой-то — находились за ее пределами. Это роднит их с большевиками и левыми эсерами.
Как же в целом проявило себя общество в годы первой русской публичной политики? — Двояко. С одной стороны, училось быть политическим. С другой … Вот здесь и проявилось то самое, что не дало новой России встать на ноги. — «Общественники» страстно стремились к власти. И хотя, как было отмечено выше, в их среде становились все сильней позиции тех, кто ориентировался на сотрудничество и компромисс с властью, все же определяющим оставалось упование на уничтожение этой самой власти. На начальных стадиях развития публичной политики «несговорчивость» представителей общества вполне можно было объяснить. Они не доверяли власти, всякое ее предложение к сотрудничеству полагали хитрой уловкой и т. п. Однако даже по прошествии десяти лет, имея за плечами богатый опыт взаимодействия (и негативного, и позитивного), «общественники» по-прежнему делали ставку на слом власти.
В высшей степени здесь характерны мемуары П.Н. Милюкова. Даже в послереволюционной эмиграции, когда он в полной мере мог осознать, к чему привели его действия, «отец русской демократии» ни на минуту не усомнился в правильности своей стратегии. Чего только стоит описание им осени и начала зимы шестнадцатого года! Помните: его подстрекательская речь в Государственной думе 1 ноября 1916 года с этим, как, наверное, ему казалось эффектным «глупость или измена»! Через пять лет он назовет этот парламентский спич «штурмовым сигналом», а сам день произнесения — «началом русской революции» (то есть В. Маяковский не ошибся: «в терновом венце революции / грядет шестнадцатый год»). Вне всякого сомнения: думские крути и настроенные против Николая II высшие военные готовили государственный переворот (у историков на этот счет собрана богатая доказательная база). И это в тяжелейший момент войны! Никакие рассуждения относительно слабости и бездарности царского руководства страной и спасительности для России замышляемых акций ни в каком «контексте» не проходят.
Просто милюковцам (в широком смысле; не только шедшей за ним фаланги кадетов) показалось — и они не ошибались, — что пришел подходящий час, власть зашаталась и наконец-то можно ее гнать и самим становиться властью. То есть общество (не все, конечно, но милюковского пошиба — а это было большинство) ощущало и осознавало себя Анти-властью по преимуществу. Или иначе: постулировалось фундаментальное противостояние двух сущностей, двух субстанций — Общества и Власти. Следовательно, игра шла смертная, «на вынос» одного из двух.
Конечно, все это не укладывается в рамки публичной политики. Более того, оказывается, что как только ситуация позволяет, русские публичные политики мгновенно готовы эту самую публичную политику похерить, схватиться за «рогатину» и айда на «медведя». И удивляться здесь нечему. Ведь две альтернативные субстанции … Но было еще обстоятельство, толкавшее общественников на крутые действия.
Нормальная (западного типа) публичная политика — это конкуренция и сотрудничество различных общественных сил. Этот процесс происходит в рамках и на основе конституции, других юридических норм, а также достигнутого консенсуса — не все ведь дано отразить и выразить в праве — по поводу того, что можно и что нельзя. Одним из результатов всего этого является формирование власти, функционирование которой строго ограничено в социальном пространстве и времени. — У нас же публичная политика — в целом — превратилась в перетягивание каната между властью и обществом. Не «общественники» спорили друг с другом (спорили, безусловно, однако не этот спор был главным) и в этом споре порождали власть. Напротив, власть, породив публичную политику, стала в ней важнейшим игроком. И на это милюковцы согласиться не могли. С некой абстрактной точки зрения они были правы. В классических западных демократиях так не бывает.
Но как «дважды два» было ясно, что Россия, во-первых, не классическая западная демократия, во-вторых, и Запад прошел большой путь к этой «классике», в-третьих, и это связано со вторым, и у них публичная политика начиналась при активном участии традиционной власти (США здесь не в счет, это особая история). Да, традиционная европейская власть (монархии) отличалась коренным образом от русского самодержавия. В Европе и до всякой публичной политики существовало полисубъектное общество, где короли играли важнейшую роль, но не единственную. - «Общественники» все это знали и понимали. Следовательно, могли (должны) были учитывать в своей практической деятельности. Тем более, что имели дело с такой властью (хотя и она в тот период существенно трансформировалась, чего не заметить было не возможно).
Да, лидеры и теоретики русского общества все это и знали и замечали. Подтверждением служат их научные труды, публицистика, речи. — Но когда дело доходило до дела это отбрасывалось и на первый план выдвигалось неполитическое, традиционно русское «мочить в сортире» (это на языке нашего современника, сто лет назад изъяснялись несколько иначе). И вот такое несоответствие понимания и деланья требует объяснения.
Скажу предположительно и осторожно: будучи порождением русской истории и русской власти, общество не могло не иметь их родовых черт. Среди них «политическое» отсутствовало, преобладали властно-насильнические и некомпромиссные (а с кем мог идти на компромиссы Моносубъект?). Будучи порождением «европеизированной субкультуры», т. е. европейской культуры приказным порядком насаженной на русской почве, общество — в известном отношении — было чуждо основной массе населения, оставленной, как в резервации, в «традиционной старомосковской субкультуре». И во многом общество не понимало, что происходит в этой многомиллионной толще. К тому же оно и не могло представить себе всего того, что будет в стране и со страной после страстно вожделенного им свержения и разгрома «до основания» традиционной власти. Правда, никто тогда такого помыслить не мог. Последующее вышло далеко за рамки самых опасливых предчувствий…
Вот пример моему осторожному предположению. В своих «Воспоминаниях» П.Н. Милюков касается вопроса об отречении Николая II. — В 90-е годы я немало писал на тему «правопреемства» и, надеюсь, сумел показать, какое громадное значение для властно-моносубъектной политики имеет «правильное» и «легитимное» (как все это понимается в самой политии). — П.Н. Милюков говорит: в вопросе правопреемства власти он придерживался позиции немецкой юридической науки — «Rechtsbruch» («перерыв в праве», «разлом права», «разрыв права», «разрыв в праве». - Ю.П.). Это означает, что «разрыв в праве», «перерыв в праве» принципиально не только возможен, но и допустим (хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет). То есть это «неприятность», с которой приходится мириться и которая, так сказать, не смертельна для общества.
Это — действительно так. В Европе. Там «Rechtsbruch» во властной сфере не парализует жизнь всего социума (вспомним кризис 1958 года во Франции, паралич IV Республики, действия де Голля; было весьма напряженно, однако страна не впала в кому). Другие правовые институты продолжают функционировать. В моносубъектной Русской Системе нарушение принципа правопреемства власти, «Rechtsbruch» именно этой Субстанции в конечном счете ведет к параличу всего и вся.
Впрочем, П.Н. Милюков признается: его «тактика потерпела крушение». Но именно «тактика»! Не «стратегия», не общее видение! А ведь он был выдающимся историком, искушенным политиком, вообще он был — «голова». Что же говорить о других «общественниках»…
Хотя имелись «общественники» и иного склада. Они понимали всю сложность процесса становления на Руси public policy. Один из них Максим Ковалевский, крупнейший русский ученый, человек, действительно, готовый к публичной политике. При этом он насквозь, без иллюзий видел всю неподготовленность русских либералов к демократии. Более того, их нежелание учиться политике, их нежелание смотреть на происходящее прямо, а не с умильно-лукавой слезой. В декабре 1905 года М.М. Ковалевский в письме своему другу, тоже известному ученому, А.И. Чупрову так описывал осеннее пребывание в гуще революционных событий: «..Я вынес впечатление дома умалишенных, в котором одни стачечники знают, что делают, а революционеры к ним примазываются, уверяя, что они пахали. Сами же стачечники добиваются вовсе не восьмичасового рабочего дня, так как наиболее умные дают себе отчет, что последствием будет закрытие фабрики, что, впрочем, уже и оправдывается. Они рассчитывают на психическое воздействие, какое их стачка произведет на правительство, которое кажется им преувеличенно слабым и потерявшим всякую нить. Либеральные земцы все протягивают руку налево, несмотря на причиняемые им обиды, боятся обнаружить классовый интерес, жалуясь, что их грабят или собираются грабить, повторяют, как попугаи, взятую напрокат формулу "всеобщий, равный и тайный", не понимая или не желая понять, что при ней выбор обеспечен тем, кто посулит крестьянам землю даром. Вся эта либерально-демократическая комедия с торжественно-надутым Муромцевым в роли председателя и каркающим Кокошкиным в роли конституционного советника, с Милюковым, пробирающимся в дамки, и Петрункевичем, мечтающим пока только о портфеле, производит впечатление сплошной мерзости. Господа эти все боятся — даже того, чтобы называть вещи по имени: бунт матросов — бунтом, а грабеж усадеб — грабежом. У кого есть деньги, переводят их за границу, торопясь … Паника и умиление перед собственным великодушием! А народ, озлобленный экономическими настроениями, порождаемыми стачками, набрасывается с яростью на студентов, жидов и интеллигенцию, которая, в свою очередь, ничего не находит другого, как обзывать его черной сотней и хулиганами, или еще заявлять, что все неистовства черни вызваны подстрекательством полиции».
Доктринерство, идейная нетерпимость, инфантильный максимализм и т. п. были характерными чертами либеральной общественности. Вот, к примеру, в описании того же М.М. Ковалевского его поездка в Харьков и выступление с докладом о Булыгинской думе в Юридическом обществе тамошнего университета: «Мне было известно враждебное отношение широких общественных слоев к крайне несовершенному и по ограниченности своих функций, и по своему составу законосовещательному органу … Но я никак не ожидал, что в провинциальной среде отношение к Булыгинской конституции было столь отрицательно … Фактически, она, разумеется, давала мало. Но в ней были зародыши дальнейшего развития. Мне казалось, что уж этим одним Булыгинская дума могла привлечь к себе некоторые симпатии. Все это я хотел передать моей аудитории». — Однако прогрессивная харьковская интеллигенция, в передаче самого же Ковалевского, следующим образом реагировала на его идеи: «Докладчик — почтенный профессор, но умственно ограниченный и не понимает, что все дело во всеобщем голосовании и законодательной автономии Думы».
И весь сказ. Всемирноизвестный исследователь — «умственно ограниченный», а после веков самовластиявынь да положь сразу же полноценный парламентский режим. Так было повсюду, замечает Ковалевский. В ноябре 1905 года на земском съезде он был подвергнут массовому остракизму, когда заявил, что республика в России на тот момент столь же мало мыслима, как и монархия во Франции. Через месяц он был освистан в Париже учениками созданной им за четыре года до того Русской высшей школы общественных наук (а заведение этого, как говорят сейчас, было «элитным»; там преподавали Ю.С. Гамбаров, Е.В. де Роберти и им подобные). Молодые либералы потребовали, писал Максим Максимыч, «от меня отчета, как я смею не быть республиканцем в России … Я прекратил чтения, и школа закрыта не то временно, не то навсегда … Теперь уж никто не хочет учиться и все заняты только тем, чтобы внедрять в других … убеждения клеветою и физическим насилием». — Напомню, речь шла о представителях передовой общественности, людях либеральных взглядов…
Среди людей, в этом подобных М. Ковалевскому, нельзя не назвать Александра Изгоева, члена ЦК кадетской партии, «веховца», профессора, публициста, крупнейшего эксперта в области политических отношений и общинного землевладения.
После окончания первой революции он писал: «На всех проявлениях нашей общественной и духовной жизни лежит неизгладимая печать самодержавия. Мы говорим не о прямом влиянии самодержавия, строившего формы жизни по своему произволу, уничтожившего общественные организации и плоды умственного творчества. Самодержавие имело еще косвенное, отраженное влияние, и последнее было во многих отношениях даже сильнее первого. Гнет самодержавия вызывал протест, — и у всех людей с пробуждающейся совестью, пробуждающимся сознанием этот протест делался главным содержанием жизни, все поглощал, все окрашивал собою. Общественная и духовная жизнь имели ценность в представлении лучшей и большей части русского общества лишь в той мере, в какой они выражали протест против самодержавия, могли хотя бы и отдаленно служить орудием борьбы против него».
Внешне, формально — это достаточно традиционная точка зрения на самодержавие. Точка зрения «либерала — общественника». На самом же деле этот привычный, оппозиционно-прогрессистский тон скрывает мысль в высшей степени неординарную. Но послушаем ее продолжение: «Творческая способность человека создавать образы сочетанием красок или слов, живопись и поэзия, ценились у нас, лишь поскольку они служили средством возбуждать людей к борьбе с самодержанием. Наука, ценимая за границей, как развитие умственной силы человечества и как орудие господства человека над природой, у нас потеряла свое огромное методологическое и прикладное значение, а зато приобрела огромную ценность своими философскими выводами, стремящимися освободить человечество от той тьмы, которой закутывали ум самодержавие и поддерживающие его силы. За границей эта освободительная, рационализирующая сила науки была добавочным продуктом, сопровождающим развитие научных методов … У нас, наоборот, воинствующая сторона научных гипотез, являющихся хорошим орудием борьбы с идеологией самодержавия, выдвинута была на первый план, а развитие методов, изучение подробностей, без знания которых общие идеи теряют свою ценность, были отброшены в отдаленный угол и передовой частью общества клеймились даже, как педантизм и реакционная «наука для науки».
Далее Изгоев утверждает, что политические, социальные, эстетические и пр. явления русской жизни «представляются совершенно непонятными, ничтожными по содержанию, если отвлечься от породившего их самодержавного гнета, нависшего над всей страной».
Иными словами, Александр Соломонович приходит к такому выводу. Русский космос — властецентричен. В том самом смысле, в каком европейский с (примерно) XVI столетия — антропоцентричен. Там, у них — «человек мера всех вещей», у нас — власть. На Западе основа социальных наук — антропология, в России — кратология. Они: (слегка перефразируя) развитие каждого есть условие развития всех; мы: существование власти есть условие существования всех. И т. д.
Только под таким углом зрения можно понять и саму власть, и противостоявшее ей освободительное движение, и русскую публичную политику, и русскую литературу и др. Всем и всему власть придавала содержание, смысл, целеполагание. С горькой иронией Изгоев пишет. «На самом крупном из наших общественных учреждений, на земстве, такое положение отразилось особенно ярко. Пожалуй, можно было бы сказать, что роль земства в нашей стране была в гораздо большей степени революционной, чем культурной. Революционные публицисты вполне основательно считают, что работа земства была культурной лишь в той мере, в какой она была революционной: «дорога была тайная работа земства, а не открытая, продотчетная». Публицист-социалист-революционер, у которого мы заимствовали эту фразу … не может только уловить, что и «открытая, подотчетная работа» земства тоже была революционной в атмосфере полицейского государства. А В.К. фон Плеве это отлично понимал. Он знал, что союзы земских учреждений для взаимного страхования, или для закупки сельскохозяйственных орудий, или для урегулирования продовольственных запасов — явления, безусловно, революционные … В.К. Плеве отлично понимал, что и съезд гинекологов или хирургов чреват большими опасностями для самодержавия, так как и гинекологи могли вынести политические резолюции и заявить, что при существующих государственных порядках они не в состоянии выполнять как следует свои обязанности. Как известно, такие резолюции именно и были вынесены, и русское общество, чересчур ощутительно изведавшее на своих плечах причины их породившие, вовсе не склонно было встречать заявления гинекологов с той дешевой иронией, которой пробавлялись продажные журналисты».
В этих словах Изгоева заключен шифр к разгадке «тайны» русской истории, русской революции, русской публичной политики. Поскольку власть определяла все и вся, постольку любая деятельность, пытавшаяся быть самостоятельной, неизбежно приобретала антивластный характер. Общественная организация, институт, движение имели raison d'etre только потому, что противостояли власти. При этом, чем радикальнее они были против власти, тем «субстанциальнее» они становились.
Повторю. Вот что принципиально: сами по себе, вне власти и помимо власти, общественные институты и революционные организации содержания, субстанции не имели. Гинекологи и статистики сбивались в общества с тем, чтобы бороться с самодержавием; собственные, профессиональные проблемы находились на тридцать третьем месте. С первого по тридцать второе занимало противоборство с властью. Да, это было так. Однако в этом не вся правда о том, что было в России и с Россией в начале века.
К тому времени Русская Система уже трещала по швам. Власть, как мы знаем, переставала быть Моносубъектом, Лишний человек — «лишним», Популяция — депопуляционизировалась. И чем интенсивнее шел этот процесс, тем больше то, что не было Властью и привластным обретало свой собственный смысл. Русская история еще раз доказывала и доказала, что она не тротуар Невского проспекта. Движение шло в разных направлениях и с разной скоростью. Но по этой линии, линии разрушения Русской Системы результат был таков: «общественное» (не-властное) преобразовывалось постепенно в начатки «civil society». И — на время, только на какой-то период! — оказывалось несильным, нестойким, неэффективным. Это «общественное» теряло негативную энергию сопротивления, придаваемую ему Властью. И ожидало, когда можно будет подзарядиться положительной энергией созидания. Подзарядиться от того самого нарождающегося «civil society». Вопрос был в том: сколько на это требовалось времени? Который час пробил в русской истории?..
Но покуда Изгоев видел принципиальную слабость нашего «гражданского общества» (и, соответственно, — публичной политики). «…Основное несчастье России — отсутствие в ней всяких действительных, серьезных, независимых общественных сил, как прогрессивных, так и консервативных». Или вот о русском обществе в период между разгоном первой и созывом второй Дум: «Обнажилось истинное подполье. Организованных сил и общества для борьбы с "исполнительной властью", как и предвидели люди, знавшие русскую жизнь, не оказалось. Но выяснилось, что нет той области, в которую не проник червь анархии. Военные бунты по своей бессмысленности и дикости ничем не отличались от крестьянских беспорядков и еврейских погромов. Учащаяся молодежь, наряду с бескорыстными фанатиками и маниаками идеи или чувства, выдвинула много элементов, в которых обыкновенное негодяйство причудливо переплелось с поверхностно воспринятыми идейными переживаниями. Из народных низин обыкновенные уголовные преступники, убийцы, воры, грабители массами хлынули в "политику" и, прикрываясь политическим знаменем, совершенно сгладили разницу между идейными и просто корыстными преступлениями».
Однако понимая «мнимость», «поверхностность» (эти определения постпетровской русской европеизированной культуры принадлежат Карлу Марксу), энергетийную бедность отечественного гражданского общества Александр Соломонович, один из проницательнейших отечественных либералов, не мог и не хотел выкидывать белый флаг. Нередко это приводило к тому, что он отрицал совершенно очевидное. Так, к примеру, летом 1907 г. он напишет: «Покойный Коркунов пытался построить соблазнительную теорию развития государственного права, по которой выходило, что в то время, как на Западе различные общественные силы ограничивали государственную власть, а у нас эта власть сама себя ограничивает законом, хотя и исходящим от ее воли». Разве это не так? Разве Н.М. Коркунов не прав? Хотя, конечно, ему хотелось бы думать, что именно общество на Руси ограничивает власть.
И все-таки — скажу об этом еще раз — Изгоев относился к тому редкому типу русских общественников, которые в целом понимали проблематичность становления и общества, и публичной политики. Одновременно они знали цену власти, ее квалитет, ограниченность ее реальных, не вымышленных, ресурсов для решения современных задач. К примеру, А.С. Изгоев в высшей степени положительно относился к Столыпину, приветствовал его реформы. Но это не мешало ему трезво заявить: «Теория, развитая П.А. Столыпиным, есть теория просвещенного абсолютизма, соглашающегося терпеть около себя представительные учреждения, если они согласны одобрять правительственные мероприятия». — Кстати, это звучит совершенно актуально. Как и следующие его слова: «Всякий абсолютизм склонен видеть в противоречии его планам опасность, грозящую гибелью стране, склонен считать, что в проведении этих планов и заключается спасение страны. При таких условиях исчезает всякая основа твердого порядка, колеблется почва под закономерностью строя. Сегодня существуют такие-то законы, завтра они отменяются в экстраординарном порядке или вводятся новые в виду того, что это требовалось "спасением страны"».
Драмой русских либералов изгоевского толка, — к сожалению, их было не много, — явилось почти безиллюзорное видение общества, его, так сказать, поссибилитистского качества, при том, что ставка все равно делалась на этот — реально весьма сомнительный — исторический феномен. На самом деле у Александра Соломоновича и выбора-то не было. Он не мог занять позицию Коркунова и Столыпина по одной простой причине: насквозь видел и русскую власть. В каком-то смысле общество и власть стоили друг друга. «…Среди правящих верхов бюрократической России … не меньше политических младенцев, чем среди революционной учащейся молодежи, собиравшейся при помощи браунингов и опрокинутых коночных вагонов добиться полновластного Учредительного Собрания». И еще о власти, ее носителях; хоть и приводя мнение другого человека, но с нескрываемой горечью (в самом тоне «цитирования»): «"Никогда не приписывайте нашим государственным деятелям сложных политических расчетов, поверьте, они руководствуются самыми простыми, элементарными побуждениями, часто в такой мере низменными, что постороннему человеку об этом и в голову не придет подумать" — так говорил мне один из немногих наших серьезных политиков».
И еще одно качество русской власти обнаружил в своем анализе Изгоев. Эта власть — «единственный европеец» в России, по слову Пушкина, — на протяжении последних столетий безостановочно импортирует западные идеи и достижения материальной цивилизации. «Самодержавное правительство … заимствовало у Европы все, что ему нужно было для усиления своего материального могущества, для укрепления самодержавия. Оно добывало за границей золото, боевые припасы, железные дороги, телеграфы, почты, заимствовало оттуда бюрократическую технику, необыкновенно ускоряющую и усиливающую действия правительственного механизма. При этом усвоении, само собой разумеется, речь шла только об усилении государственного могущества; благо населения, культурный подъем в расчет не принимались. Если иногда результатом правительственных мероприятий, например, постройки железных дорог, насаждений фабрик и т. д., был культурный прогресс масс, то этот результат являлся неустранимым, но невольным следствием, часто нежеланным, данной меры. Весьма часто … правительственные нововведения совершались с явным ущербом для народных интересов, заведомо во вред народу».
Эта «зловредность» власти, разумеется, не специальна. У правящих кругов России, понятно, не было фантастического замысла создать своему народу невыносимую жизнь. Нет, все дело здесь в природе русской власти. Эта природа «предполагает» заимствования, и прежде всего того, чего в русской жизни нет вообще. Но заимствования функциональные, а не субстанциальные. То есть от западной субстанции отрывается функция и приспосабливается к обслуживанию русской субстанции. Именно поэтому «технология» в Европе улучшает и облегчает жизнь индивида, а у нас — укрепляет Власть.
Мы действительно зависим от Европы — функциональной зависимостью. В остальном же, как и подобает, самодостаточны, субстанциальны. Или, перефразируя Пушкина, — правительство (власть) у нас функциональный европеец. И не единственный. — «Если, с одной стороны, правительство заимствовало у Западной Европы только то, что непосредственно усиливало его материальную мощь, не обращая никакого внимания на развитие народа, то интеллигенция, с другой стороны, брала у Европы только то, что прямо или косвенно могло служить боевым оружием против самодержавия».
В этом смысле наше общество тоже было европейцем. И тоже функциональным. Изгоев приводит классические примеры с марксизмом и вообще социалистическими теориями. Чисто научная их субстанция мало кого в России интересовала, а вот революционные и идеологические измерения — в высшей степени. Помимо прочего, это говорит о том, что русское общество есть — до известной степени — «обезьяна» Русской Власти. Или, менее грубо и резко, — «по образу и подобию».
Николай II как реформатор русской власти
Безусловно, одной из ключевых фигур начала русского XX века был Николай II, Николай Александрович Романов. Я думаю, что этот исторический персонаж, этот человек обладает рекордной по неадекватности — даже для нашей истории — репутацией. Нерешительный, неволевой, не очень умный, под пятой нервнобольной жены, холодно-равнодушный, какой-то вечно ускользающий — причем неизвестно куда. В общем — царь неудачный, в особенности для крутопереломной эпохи.
Допускаю, что Николай II обладал частью или даже всеми этими (и другими) негативными качествами. Но совсем не это — хотя бы в первую очередь — мы должны, обязаны знать про него. Чтобы увидеть Николая Александровича иным — политическим новатором и реформатором громадного пошиба, — необходим и иной, непривычный, быть может, для нас контекст. Попробуем сформулировать и вписать в этот контекст последнего самодержца и первого конституционного монарха. Эта интеллектуальная операция, кстати, поможет лучше разобраться и с некоторыми другими большими людьми только что ушедшего столетия.
Итак, мой тезис: в Николае II не разглядели выдающегося деятеля, как не поняли, что революция 1905–1907 гг. была успешной.
Что делал всю свою жизнь этот человек? — Реформы, необходимые и выстраданные Россией. Какие реформы? — А вот эту самую публичную политику разрешил и свою самодержавную власть ограничил. И не мешал, а помогал Витте во второй половине девяностых. И не мешал, а помогал (что бы там ни было) Столыпину во второй половине девятисотых. Скажут: он все это совершал вынужденно, он не хотел никаких преобразований. Быть может. Но ведь совершал. Без особой крови, заметим. Что есть абсолютная редкость в России.
Но, прежде всего, Николай II был реформатором власти. Он деперсонилизирует ее, разрушает важнейший принцип ее многовековой экзистенции. Уходит — и этот процесс длится на протяжении всего его царствования — в privacy. То есть в частную жизнь, семью, в свой, николаевский, мир. Этот уход на самом деле для России не менее значим и значителен, чем уход Льва Толстого. Оба они сигнализировали о конце старой — петербургско-московской, западнически-славянофильской — России. И оба, кстати, поплатились и расплатились за свои уходы. Толстой был предан анафеме и отлучен от церкви. Так Россия ответила на попытку ее духовного реформирования. Николай Александрович был свергнут и расстрелян. Так Россия ответила на попытку ее властно-социального реформирования.
Конечно, Николай II не хотел разрушать Самодержавия (Моносубъекта русской истории). Всю свою жизнь он вынужденно (перед превосходящими обстоятельствами) отступал. Наверное, и не догадывался, что происходит. Не исключено: полагал все эти думы, партии, свободы временными, данными им на время. Но это, так сказать, на властно-политическом уровне. — Основной же процесс — десакрализации, демифологизации, деперсонализации — шел во властно-метафизическом измерении.
Вот пример: Иван Грозный, Петр I, Екатерина II убивают или хотят каким-то образом избавиться от своих детей (вообще близких) во имя — как им казалось — России. На самом деле — Власти. Николай II жертвует всем (Россией, самодержавием) — как нам кажется — во имя сына и семьи (жены, в первую очередь). То есть жертвует Властью во имя privacy. Жутко-символичным представляется то, что два царевича Алексея — Петрович и Николаевич — убиты в восемнадцатом году. Семьсот и девятьсот восемнадцатом. И в эти двести лет, что лежат между двумя убийствами, Русская Власть прошла путь от высшего пика своей персонализированной моносубъектности до полной утери, утраты, сдачи всего этого. До деперсонализации и десубъективизации…
Здесь уместно вспомнить, что говорили о современном типе власти, зафиксированном в форме «state» (это совсем не то, что у русских зовется «государство»), выдающиеся французские политические теоретики Морис Дюверже и Жорж Бюрдо (не путать с Пьером Бурдье!). Я не раз уже приводил в своих работах эти их слова, но и сейчас без них не обойтись. — М. Дюверже, развивая тему принципиальной безличности современной власти, называет правителей «слугами», «должностными лицами». По его мнению, state тем совершеннее, чем state-«идея», state-«абстракция» отдельнее, отдаленнее от конкретных носителей власти.
Ж. Бюрдо пишет: «Люди изобрели государство (l'etat), чтобы не подчиняться другим людям». Поначалу они не знали, кто имеет право командовать, а кто нет. И потому пришлось придать власти политическую и правовую форму. «Вместо того, чтобы считать, что власть является личной прерогативой лица, которое ее осуществляет, они разработали форму власти, которая независима от правителей. Эта форма и есть государство». Согласно Бюрдо, state возникает как абстрактный и постоянный носитель власти. По мере развития этого процесса правители все больше и больше предстают в глазах управляемых агентами state, власть которых носит преходящий характер. «В этом смысле идея государства (l'etat) есть одна из тех идей, которые впечатляющим образом демонстрируют интеллектуально-культурный прогресс … Ведь отделение правителя, который командует, от права командовать позволило подчинить процесс управления заранее оговоренным условиям. В результате стало возможным оградить достоинство управляемых, которому мог наноситься ущерб при прямом подчинении какому-нибудь конкретному человек» (разумеется, Дюверже пользуется французским «l'etat», мы же, даже в пересказе его идей, позволим себе более употребительное ныне английское «state»).
Кстати, и конституция возможна (т. е. действенна и необходима) только при такой и для такой власти. Конституция является формулой и формой такой власти. Обязательная предпосылка конституции — возникновение абстрактно-безличностной власти. Суверенитет должен отделиться от лица — персонификатора власти.
Европейская история неоднократно демонстрировала нам процесс отделения суверенитета от лица путем отделения головы этого лица от туловища — Карл I, Людовик XVI … Иными словами, формирование state проходит через образ инициации — «обрезание» суверенитета в виде головы у монархической власти. — Американский исследователь А. Хардинг пишет: «Английская революция показала, что суверенитет, "сосредоточенный" в короле, может находиться и в другом месте. 19 мая 1649 года в ходе пуританской революции парламент провозгласил: "Народ Англии … поставил быть политическим сообществом и свободным государством (state) и отныне управляться как политическое сообщество и свободное государство (state) высшей властью этой нации — представителями народа в парламенте". Джон Мильтон назвал короля "врагом народа"».
Казалось бы, и у нас случилась та же история. Николай, «враг народа» был казнен и суверенитет перешел к этому самому народу. — На самом деле, у нас случилась иная история. Чтобы описать ее, воспользуюсь языком теории «Русской Системы». К концу XIX — началу XX веков все три элемента Русской Системы постепенно теряли свои фундаментальные качества. «Лишний человек» освобождался от своей «лишности» и все более и более превращался в то, из чего впоследствии могло сформироваться общество (в смысле: «гражданское общество»), точнее — некоторые его сегменты. Популяция, т. е. население, у которого похищена субъектная энергия, потихонечку обретала эту энергию. Таким образом, все — вроде бы — шло к зарождению (или возрождению) полисубъектности, полисубъектной политии. Более того, загнанные петровской революцией в антагонистические субкультуры — «старомосковскую» и «европеизированную, европейскую на русской почве» — Популяция и Лишний человек находили общий язык, разрушая и вырываясь из культурно-замкнутых, автаркических миров. Сдавал свои позиции и патримониальный порядок: собственность с трудом, но отделялась от власти. Резко усилилась дифференциация, имущественная и пр., в эгалитарной по «замыслу» и сути передельной общине.
Существенно менялась и Власть. Она последовательно, мы уже говорили об этом, однако здесь усилим, теряла свой моносубъектный и персонификационный характер. Все то, что сотворили Иоанн Грозный и Петр Великий, демонтировал — и вполне успешно — Николай Александрович Романов. Но … историческая логика функционирования Русской Системы, ее традиции, обычаи, табу и т. п., оказались сильнее, чем все эти эмансипационные трансформации. — Царь превратился в «лишнего человека», никому-ненужного, ни образованному обществу, ни бюрократии, ни военным, ни народу. Он был необходим лишь своей семье, той самой privacy, к которой стремился всю жизнь. Как только персонификатор Власти стал человеком (а на Руси все «человеки» — «лишние»), она (Власть) закончилась. Правда, как это впоследствии выяснилось, не навсегда. Правда, выяснялось это впоследствии, а тогда казалось — навсегда. Правда, в монархической форме — навсегда.
Парадокс: самодержец — «лишний человек», т. е. антипод самого себя бывшего. Помимо прочего, это означает победу Русской Литературы над Русской Властью. Однажды (эссе «Русский Гамлет») я уже писал, что русский XX век во многом явился результатом Русской Литературы предшествовавшего столетия. Революция словно вырвалась из чернильницы Литературы. Я писал, что весь XIX в. Литература пыталась построить новую — альтернативную существовавшей «русско-системной», «властно-моносубъектной», «закабаленно-популяционной» — Вселенную. И в поисках образа субъекта, вокруг которого этот лучший универсум должен был строиться, создала «лишнего человека». По разным причинам «проект» провалился.
…Провалился в смысле его творцов и сторонников. С иной точки зрения — одержал блистательную победу. Вследствие целенаправленной деятельности Русской Литературы удалось — воспользуемся стилистически господствующим сегодня термином — «завербовать» (или «перевербовать») Русскую Власть. Точнее: ее конкретного персонификатора. — Вообще, — все это поразительно! — деперсонализация Власти означает то, что царь (персонификатор) становится человеком. И тут же оказывается никому не интересным, не нужным, лишним. Тогда его просто убивают (вместе с его privacy - семьей). Итак, Николая II, в отличие от Карла I и Людовика XVI, убили не за то, что он был персонификатором власти, а за то, что перестал им быть, превратившись в частного человека.
И это не случайно. На Западе дорога от «власть от Бога» (врученная одному — монарху) привела к «власти от народа» (вариант: врученная этому народу Богом). На Руси «власть от Бога» (и обычая, традиции — это и для Запада было характерно) эволюционировало во «Власть от Власти». Русская Власть от Русской Власти. Это — закон жизнедеятельности Русской Системы. Но вот Николай II нарушил его. И Власть, отделившись от его лица, отправилась на поиски нового персонификатора и источника. Власть на время оказалась бесхозной. В ходе революции и гражданской войны хозяин нашелся. Ранее его звали «Один», на этот раз — «Все». Возник режим Властепопуляции, при этом иначе был разрешен вопрос персонификации Власти…
Попутно заметим: в начальные десятилетия XX в. гибнет не только Власть-Моносубъект в самодержавной форме. Завершает свое существование и Лишний Человек, вместе с его основным родом творческой активности — Русской Литературой. Наряду с деперсонализацией Власти (и одновременно очеловечиванием ее персонификатора) идет процесс деперсонализации Лишнего Человека и Русской Литературы. Здесь высшая точка — Клим Самгин и писатель Максим Горький. «Кстати», подобно последнему монарху, тоже уничтоженные. Какая ирония истории! Лишний Человек боролся с Самодержавием за то, чтобы оно признало его права и зафиксировало в Конституции, а если не хочет или не может этого, пусть убирается вон. Будем править сами! — Самодержавие «убрали». В Конституции 1918 г. появился новый «юридико-социально-политический» термин — «лишенцы». Это «бывшие», среди которых бывшие «лишние люди» составляли немаловажную часть. Только закреплены были не их права, а то, на что они прав не имели. То есть не наличие чего-то, а его отсутствие. Называлось: «поражение в правах». Вот уж воистину, поражение.
Результатом всех этих (и иных, разумеется) процессов стал, по словам Иосифа Бродского, «абсолютно имперсональный характер происходящего».
* * *
Но еще раз в контексте нашей темы обратимся к Николаю II. Его путь, судьбу, природу глубоко понял и нашел неожиданную параллель философ Борис Парамонов. — «У Живаго есть в романе … двойник — государь Николай II, появляющийся на фронте в Галиции: "…он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости". "Пошлость" здесь у Пастернака — история, империя, война, "народ". Русский царь сделал то же, что Живаго, — ушел из истории в семью» (Парамонов Б. След: Философия. История. Современность. М., 2001). — Повторю: это невероятно тонкое и умное наблюдение. В особенности сравнение Николая Романова и Юрия Живаго. Ведь доктор, как мне уже неоднократно приходилось писать, «лишний человек», переставший быть «лишним», превратившийся в «модальную личность». Исторически и социологически Юрий Андреевич Живаго есть преодоление проклятия Русской Системы. Правда, пока еще «история» и «социология» имеют здесь метафизический характер. Хотелось бы побольше «физики», «наличности», но и это уже немало. И даже за это доктору Живаго пришлось заплатить жизнью.
Те же задачи, но, так сказать, в своей сфере решал Николай II. Однако мы еще поговорим об этом. А сейчас — вот весь пассаж, посвященный последнему русскому императору. «Живаго рассказывал Гордону, как он видел на фронте государя … В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся гренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как расплескавшуюся воду в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески громоподобно прокатывающегося ура. Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от пего требуется в данных обстоятельствах, и Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча выводил его из затруднения. Царя было жалко в серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущность притеснителя, что этою слабостью казнят и милуют, вяжут и решают.
- Он должен был произнесть что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм или что-нибудь в этом духе. Но обязательно про народ, это непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немыслима эта театральщина…» («Доктор Живаго»).
Это — и по своему духу, и по стилистике совершенно толстовская проза. И толстовская этика с ее делением человечества на людей «мира» (добра) и «войны» (зла). Николай II безоговорочно отнесен Борисом Пастернаком к людям добра. А это, как и у Льва Николаевича, обязательно связано с духом privacy, уходом из-под молоха насилия, сложением с себя ярма публичности, «пострижением» в частного человека, т. е. просто человека.
Кстати, то, что Б.Л. Пастернак не «придумал» Николая II, явствует из многих мемуаров людей, лично знавших последнего императора. Так, В.В. Гурко, товарищ министра внутренних дел при П.А. Столыпине, говорит о том впечатлении, которое Николай Александрович произвел на группу ведущих русских общественников (среди них князь С.Н. Трубецкой) весной 1905 г. (царь принял делегацию московского дворянско-земско-городского совещания, к которой присоединились представители Петербургской городской думы). «Чарующа простота», «личное обаяние» сразу же бросились в глаза. Причем, «это не было обаяние царственного величия и силы, наоборот, оно состояло как раз в обратном — в той совершенно неожиданной для властителя 180-миллионного народа врожденной демократичности. Николай II каким-то неопределенным способом во всем своем обращении давал понять своим собеседникам, что он отнюдь не ставит себя выше их, не почитает, что он в чем-то отличает себя от них. Обращение его было настолько безыскусственно и до странности просто, что как-то привлекало к нему симпатии всех, с которыми он беседовал» (Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М, 2000).
Не правда ли «этот» Николай похож на того, которого воображает Б.Л. Пастернак?! — А вот свидетельство гораздо более известного человека — А.Ф. Керенского. Бывший самодержец и будущий премьер неоднократно виделись весной 1917 года. Александр Федорович тоже говорит об обаянии Николая, называет его «вялым, сдержанным» и «обезоруживающе обаятельным человеком» (Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993). — «В каждую из своих редких и кратких поездок в Царское Село (в котором находилась под арестом императорская семья. — Ю.П.) я стремился постичь характер бывшего царя. Я понял, что его ничто и никто не интересует, кроме, пожалуй, дочерей … Наблюдая за выражением его лица, я увидел, как мне показалось, что за улыбкой и благожелательным взглядом красивых глаз скрывается … маска полного одиночества и отрешенности. Он не захотел бороться за власть, и она просто-напросто выпала у него из рук. Он сбросил эту власть, как когда-то сбрасывал парадную форму, меняя ее на домашнее платье. Он заново начинал жить — жизнью простого, не обремененного государственными заборами гражданина. Уход в частную жизнь не принес ему ничего, кроме облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова: "Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих утомительных приемах и подписывать эти бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми". И это, добавила она, была отнюдь не поза».
Конечно, мне могут возразить: за это «очеловечевание» (или «вочеловечание») Русской Власти страна заплатила страшную цену. Нам нужен был твердый и решительный правитель, а не толстовский персонаж, чеховский интеллигент и пр. — Что ж, по-своему эти оппоненты правы. Но, замечу я, уход Николая II не случайность, он подготовлен всем послепетровским развитием русской истории и русской культуры.
Несколько расширяя вскользь затронутую пастернаковскую тему, подчеркну: вот еще одно доказательство центральности для русского сознания XX века этого, по слову Анны Ахматовой, «the first our poet». Казалось бы, столь далекий от всех политик «нэбожитель», а понял — вроде бы единственный в нашей большой литературе? — кем был Николай II. — «Двойником» Юрия Живаго (кланяюсь за эту мысль Б. Парамонову). Причем, понял это задолго до написания «Доктора». Ведь еще в «Высокой болезни» (1923 г.) он с нескрываемой симпатией говорит о государе, о «царском поезде», пытавшемся в конце февраля — начале марта Семнадцатого вырваться из круга «предательства и каверз». Причем здесь контрапунктом Николаю II появляются фигура … Но послушаем…
«Все спало в ночь, как с громким порском / Под царский поезд до зари / По всей окраине поморкой / По льду рассыпались псари. / Бряцанье шпор ходило горбясь. / Преданье прятало свой рост / За железнодорожный корпус, / Под железнодорожный мост. / Орлы двуглавые в вуали, / Вагоны Пульмана во мгле / Часами во поле стояли, / И мартом пахло на земле. /…И уставал орел двуглавый, / По Псковской области кружа, / От стягивавшейся облавы / Неведомого мятежа. / Ах, если бы, им мог попасться / Путь, что на карты не попал! / Но быстро таяли запасы / Отмеченных на картах шпал».
Разумеется, это не просто описание реальной ситуации, это — метафора. Речь идет об историческом пути и карте истории, о западне и тупике, в которое попало самодержавие (интересно и значительно замечание того же Бориса Парамонова: «Распутинщина была трагически неудачной попыткой русской монархии обрести национальный стиль. В этой попытке она и сама кончилась, и нацию отдала во власть враждебным силам». — Ничего, ничего! Национальный стиль будет обретен именно «во власти враждебных сил». Скоро на смену Гришке Распутину на «брега Невы» явится Гришка Зиновьев. И весь этот интернациональный сброд вкупе с мужицко-солдатским бунтом заложат основы Совдепии, которая и воплотит чаямый веками «национальный стиль»). — И здесь Пастернак постепенно начинает вводить в «игру» ту саму фигуру. — «Они сорта перебирали / Исщипанного полотна. / Везде ручьи вдоль рельс играли, / И будущность была мутна. / Сужался круг, редели сосны, / Два солнца встретились в окне, / Одно всходило из-за Тосна, / Другое заходило в Дне».
Тосно — это железнодорожная станция неподалеку от Петрограда, к которой — а через нее в Царское Село, к семье — рвался императорский поезд (28 февраля и 1 марта). Из Москвы в Вязьму, Ржев, Лихославль, но у Малых Вишер повернули назад — на Валдай, станцию Дно, Псков. У Малых Вишер узнали: путь к столице закрыт войсками, перешедшими на сторону заговорщиков, революционеров, бунтовщиков. 2 марта последовало отречение. — Итак, солнце Николая II закатилось на станции Дно. Но чье же «всходило из-за Тосна»? — Того, кто в те дни сидел за тридевять земель и жадно ловил сообщения из России. Кто явится в нее через месяц. И вот его-то поезд, в отличие от царского, найдет путь, «что на карты … попал». И ему хватит шпал, «отмеченных на картах» Истории.
Всходило солнце Ленина. Это его фигуру контрапунктом государю вводит в финале «Высокой болезни» Пастернак. Перед нами Анти-Николай, Анти-Живаго. Вне всякого сомнения, перед нами самый сильный образ Ленина в русской литературе. Особенно если читать первую редакцию поэмы — «Он был, как выпад на рапире. / Гонясь за высказанным вслед, / Он гнул свое, пиджак топыря / И пяля перед штиблет. / Слова могли быть о мазуте, / Но корпуса его изгиб / Дышал полетом голой сути, / Прорвавший глупый слой лузги. / И эта голая картавость / Отчитывалась вслух во всем, / Что кровью былей начерталось: / Он был их звуковым лицом. / Когда он обращался к фактам, / То знал, что, полоща им рот / Его голосовым экстрактом. / Сквозь них история орет. / И вот, хоть и без панибратства, / Но и вольней, чем перед кем, / Всегда готовый к ней придраться, / Лишь с ней он был накоротке. / Столетий завистью завистлив, / Ревнив их ревностью одной, / Он управлял теченьем мыслей / И только потому — страной».
Здесь все противоположно пастернаковскому Николаю. Здесь — «история орет», «столетия», «кровь былей», «управление страной», «голая суть». И нет места «тихому приветствию», «смущенной улыбке», «вялому, немного отекшему лицу», «виновато косому» взгляду, боязливой сдержанности и застенчивости. И хотя, по Пастернаку, Ленин — гений, а Николай II — довольно-таки симпатичный и слабый человек, это — гениальность «пошлости». Государь же — «по-русски естественен и трагически выше этой пошлости». И подобно этому незнаемому и бесконечно далекому поэту он мог в финале своей жизни сказать: «Я ими всеми побежден. / И только в том мое победа». — Ленина-гения съела «пошлость», он вообще был исключительно «пошлым» гением. Николай II был «побежден» человеческим и в этом его «победа».
…Его вклад в становление русской публичной политики как сферы деятельности частных людей бесценен.
Зачем России публичная политика
Так возможна ли в России публичная политика или нет? — Ответ остается открытым. Публичная политика существует в тех странах, где давно уже признана «абсолютная реальность индивидуального бытия», где «общество … мыслится как производное, не имеющее в себе никакого первичного единства, никакой самобытной реальности, взаимодействие индивидуальных человеческих субстанций или «монад», которое осуществляется путем договора, путем рационального соглашения или согласования индивидуальных интересов и воль … Право частной собственности и … свобода договорных отношений представляется «естественным», онтологически первичным, до-правовым состоянием, которое лишь упорядочивается в праве; напротив, общественное единство, связь между людьми, сопринадлежность их к общественному целому мыслится как производное … объединение, взаимное связывание того, что по существу всегда раздельно и обособленно, — отдельных индивидов». Это вновь цитата из С.Л. Франка. Кое-что в ней — ради адекватности — можно было бы и подредактировать. Однако оставим так — «взгляд немного варварский, но верный».
А у нас ничего этого нет. И человек, и общество устроены иначе. Другим является и господствующий тип мышления — философского, социального, политического. Недаром в таком фаворе у современной интеллигенции Ив. Ильин, евразийцы etc. Да, ведь и «либеральные» Франк (как мы видели), Бердяев и пр. недалеко, на самом деле, от своих «антагонистов» ушли.
Как минимум, не менее важный отрицательный фактор для становления русской публичной политики-экономическая составляющая истории Отечества. Здесь я обращусь к наработкам двух исследователей: известного, маститого академика Л.В. Милова и молодой и еще (подчеркну: «еще», поскольку это уже блистательное имя) не очень известной О.Э. Бессоновой (Новосибирск).
В своей знаменитой книге «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» (М., 1998) Л.В. Милов исследует русское общество, его повседневную жизнь, хозяйственную деятельность XV–XVIII вв. Очевидно: все наши публичные (и «непубличные тоже) политики не могут быть поняты вне этого контекста. — Ученый подчеркивает: «…Мы имеем дело с обществом, обладающим ярко выраженным экстенсивным земледелием, требующим непрерывного расширения пашни, с обществом, где дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве был постоянным и неутолимым в течение целых столетий, несмотря не более или менее стабильный прирост населения … Когда общество постоянно получало лишь минимум совокупного прибавочного продукта, оно объективно стремилось к максимальному использованию и земли, и рабочих рук». И еще: «Весь образ жизни населения исторического ядра территории России был процессом выживания, постоянного создания условий для удовлетворения только самых необходимых, из века в век практически одних и тех же потребностей».
Экстенсивное земледелие в тяжелых, северных климатических условиях (мы же — Север, а не Восток или отсталый Запад; не «Север», конечно, в терминологии литературы, посвященной глобализму, скорее: в смысле «северб»; что есть русская история с определенной точки зрения? — первая попытка человечества построить цивилизацию в северных широтах, в крайне неблагоприятной природно-климатической зоне; здесь хозяйственная активность объективно ограничена и никогда не ведет к процветанию), в лесной зоне (Степь до фактически последней трети XVIII в. у кочевников), т. е. земледелие «впервые», когда гумус только создается, земледелие подсечное и «кочевое» со всеми вытекающими, нехватка населения, рабочих рук … Таков «bagground» русской истории. Потому не «случайно», не по «злой воле» или чему-то подобному складывается здесь самодержавно-крепостнический порядок.
«…Система крепостного права объективно (выделено мной. — Ю.П.) способствовала поддержанию земледельческого производства там, где условия для него были неблагополучны, но результаты земледелия всегда были общественно-необходимым продуктом. М.М. Щербатов (Князь Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790) — выдающийся русский историк, мыслитель, играл важную роль при дворе Екатерины II, при этом критикуя ее режим с консервативных позиций. Дед по материнской линии П.Я. Чаадаева), вполне понимая, что большая часть тогдашней России лежит в зоне неблагоприятного климата, считал, что отмена крепостного права (речь шла об обсуждении в 60-х годах XVIII в. вопроса о крепостном состоянии крестьян) приведет к массовому оттоку крестьян, ибо они оставят неплодородные земли и уйдут в земли плодородные. «Центр империи, место пребывания государей, вместилище торговли станут лишены людей, доставляющих пропитание, и сохранят в себе лишь ремесленников…».
Следовательно, «крепостничество теснейшим образом связано с характером земледельческой деятельности российского крестьянства, оно органично свойственно данному типу социума, ибо для получения обществом даже минимума совокупного прибавочного продукта необходимы были жесткие рычаги государственного механизма, направленного на его изъятие (выделено мной. — Ю.П.). А для этого стал объективно (выделено мной. — Ю.П.) необходим и определенный тип государственности, который и стал постепенно формироваться на территории исторического ядра России», — пишет Л.В. Милов.
Как говорится, к этому ни прибавить, ни убавить. Приведу лишь еще одну его мысль. Это важно для нашей темы («публичная политика») вот почему. Известно, что современное западное общество полисубъектно, в нем множество социально значимых, независимых «акторов». Но его полисубъектность стала лишь продолжением (расширением, усложнением, хотя в XIX в. казалось — упрощением) полисубъектности средневекового феодального социума. В котором, как мы уже говорили, можем обнаружить и институт частной собственности, и корпорации, защищающие права и жизнь своих членов, и ограничения власти королей, и суд, и независимую влиятельную церковь … И многое-многое другое, свидетельствующее о сложном (вспоминается леонтьевская «цветущая сложность»), дифференцированном, полицентричном характере средневекового Запада. — У нас же было иначе: проще и однотоннее.
По словам Л.В. Милова, «в условиях Древней Руси (на всякий случай, напомню, что Древняя Русь закончилась не Бог весть когда, а лишь на рубеже XVII–XVIII вв., т. е. исторически «вчера»; да и не закончилась вовсе, многими своими «сегментами» еще и пожила до начала ушедшего столетия. — Ю.П.) ограниченный размер совокупного прибавочного продукта общества делал нереальным создание сколько-нибудь сложной многоступенчатой феодальной иерархии в качестве ассоциации, направленной против производящего класса. Однако исторически эквивалентом этому был путь консолидации господствующего класса посредством усиления центральной власти, путем резкого возрастания … служебной … зависимости от нее каждою феодала…
Такая цель была достигнута созданием московской великокняжеской властью статуса служилой вотчины, а главное, учреждением широкой системы поместных держаний».
Это нам Л.В. Милов о том, почему у нас не сложилась крепкая, влиятельная, независимая феодальная аристократия, которая практически всегда в Европе ограничивала королевскую власть (даже в восточноевропейской Пруссии, даже при короле-солнце). Это о том, почему у нас не сложилась крупная феодальная частная собственность, которая могла бы не «допустить» возникновения патримониальной власти, т. е. Власте-собственности. Это еще раз о том, что наша «сложность» может и была «цветущей», но — не очень сложной. Я бы, поправив горячо любимого Константина Леонтьева, сказал: «служебная сложность».
Кстати, отсутствие у нас сильной, богатой, независимой аристократии имело и иные, неэкономические причины. — Здесь очень интересно мнение выдающегося историка русского права М.Ф. Владимирского-Буданова. В начале своей известной книги он подчеркивает: «Основанием древнерусского государства служат не княжеские (теория Соловьева) и не племенные отношения (теория Костомарова), а территориальные». То есть в основе эволюции нашей государственности лежал пространственный принцип, а не какой-либо другой. Да и само происхождение ключевого русского слова «власть» указывает на это. Власть — от волости; тот имеет власть, кто владеет территорией, пространством.
Далее, М.Ф. Владимирский-Буданов рассматривает тему слабости боярства, русской аристократии. «Боярство Древней Руси не имело ни сословной корпоративности, ни сословных привилегий. Образованию корпоративности мешал земский (т. е. территориальный. — Ю.П.) характер древних русских государств. Каждая община (город, волость и даже село) имела своих бояр (а также средних и меньших людей) … Впоследствии (в литовско-русскую эпоху) "боярами" в селах назывался высший класс прикрепленных крестьян. Таким образом, земское (территориальное. — Ю.П.) распределение классов препятствовало образованию корпоративности…
Образованию сословной корпоративности препятствовали также и способы вступления в класс бояр. Боярином становился тот, кто занимал высшее место на службе … Личные качества при возвышении … преобладали в древних славянских обществах над рождением и наследственностью.
Рождение влияло на присвоение боярства лишь фактически, т. е. сыну боярина было легче достигнуть боярства. Поэтому фамильных (т. е. связанных со временем, темпоральностью как господствующим принципом социального развития. — Ю.П.) прозваний Древняя Русь не знала…
При отсутствии корпоративности класс бояр не мог пользоваться какими-либо привилегиями…»
Итак, мощная сословная корпорация русской аристократии, могущая ограничить всевластие Власти, не сложилась по следующим причинам. Преобладал пространственный принцип организации социума. Из этого вытекало два разных, хотя и связанных между собой, следствия. Причем, оба они негативно воздействовали на положение боярства. Первое. Растекаясь по земле, территории, аристократия, как и в целом народ, по образному выражению В.О. Ключевского, становилась «жидким элементом русской истории». Они не кристаллизовалась в общерусское сословие. Второе. Растекаясь, русская социальность сохраняла свою локалистско-замкнутую природу. И боярство, подобно другим социальным группам, оставалось в рамках очень ограниченного локуса. Иными словами, само растекание шло путем пространственного распространения локусов-монад, локусов-миров.
Знаменательно, что в селах боярами называли прикрепленную (крепостную) верхушку крестьян. А ведь это означает, что боярство в традиционном смысле слова и гроша ломаного не стоило. Вместе с тем, в этом контексте далеко не беспочвенным является известное мнение К.С. Аксакова о социальной организации Древней Руси. Он полагал, что отношения князь-подданные можно уподобить современным ему отношениям староста-крепостная община. Что же, вполне сопоставимо. Князь-староста, бояре-высший класс прикрепленных крестьян и так далее.
Крайне важно и указание М.Ф. Владимирского-Буданова на преимущественно служебный характер русского боярства, а не наследственно-фамильный, как это было в Европе. Понятно, что такому типу аристократии гораздо сложнее создавать собственные корпоративные организации. На главенство служебного начала у боярства обращал внимание и В.О. Ключевский. По его словам, «местничество устанавливало не фамильную наследственность служебных должностей, как это было в феодальном порядке, а наследственность служебных отношений между фамилиями». — То есть и в местничестве — а это уже более поздний период истории, чем тот, что описывает М.Ф. Владимирский-Буданов, — был закреплен служебный принцип организации боярского класса.
Впоследствии все это лишь усилилось. Петровская «Табель о рангах», что хорошо известно, была апофеозом служебных отношений. Отныне путь в аристократию и закрепление в ней лежал только через службу Власти, что, как уже отмечалось, совсем не способствовало формированию условий для зарождения публичной политики…
Не менее важным для уяснения «истоков и смысла» русской публичной политики является концепция «раздаточной экономики», выдвинутая О.Э. Бессоновой в 90-е годы. По моему мнению, эта концепция относится к лучшим достижениям отечественного обществоведения постсоветского периода. Теперь в любых исследованиях, посвященных России, игнорировать ее нельзя.
О.Э. Бессонова говорит: «Теория раздатка основывается на предположении, что наряду с рыночными экономическими системами существуют отличные от них, но столь же жизнеспособные и имеющие свои собственные законы развития — раздаточные экономики (выделено мной. — Ю.П.). В рамках теории раздатка выдвигается гипотеза, что экономическая система России имеет природу раздаточной системы на протяжении всей ее экономической истории с X по XX век, а экономическая эволюция в России есть эволюция институтов раздаточной экономики (выделено мной. — Ю.П.). Как следствие этой гипотезы, выдвигается положение о переходных периодах, в рамках которых происходит модернизация институтов раздаточной экономики за счет внедрения элементов частно-рыночного происхождения (а "вдруг" и наша публичная политика есть лишь "прикрытие" модернизации традиционной русской властной системы?; заметим: речь идет о модернизации именно раздаточной экономики, т. е. о ее осовременивании, адаптации к новым условиям, потребностям, вызовам, как сказал бы Тойнби. — Ю.П.)». При этом автор подчеркивает: «..Раздаточная экономика не является искусственным образованием, сконструированным по политическим программам или плану диктатора, она, как и рыночная экономика, — естественный результат хозяйственной жизни в определенных материальных условиях».
Конечно, теоретически можно было бы сразу «упрекнуть» О.Э. Бессонову: неужто всю тысячу лет на Руси господствовал один и тот же тип хозяйствования, неужто, меняясь по форме, ничего не менялось по существу, разве это не напоминает отвергнутый в современной науке органицистический подход XIX столетия, разве не дискредитирует историю, которая, надеюсь, все-таки воспринимается нами как открытый процесс. — Но не будем этого делать, хотя для себя отметим некоторую «предустановленность» видения новосибирского автора.
В своей более ранней работе О.Э. Бессонова писала: «Сущность экономических отношений России выражается в механизмах "сдач-раздач", в отличие от механизмов "купли-продажи", и поэтому экономику России можно охарактеризовать как раздаточную». А уже в книге 1997 года разъясняет: «Институт раздач предопределяет формы владения, поскольку наряду с материальными объектами раздаче подлежит объем прав по их распоряжению, с одной стороны, и определяются правила использования этих объектов, с другой. В раздаточной экономике объектами раздач могут выступать все виды материальных и нематериальных объектов: земля, рабочая сила, деньги, жилье, услуги и продукты, наконец, чины и должности. Тот объект, который включен в институт раздач, становится раздатком, т. е. перестает существовать вне контекста отношений раздаточной системы и начинает олицетворять собой всю ее институциональную среду. Раздаток является клеткой социально-экономического организма раздаточной системы, подобно тому, как товар является клеткой товарно-денежных отношений и рыночной системы».
О.Э. Бессонова дает четкие характеристики ключевых понятий, вводимых ею в науку, — «раздача» и «сдача». Раздача - это процесс передачи материальных благ, ресурсов или услуг «из единой собственности во владение различных субъектов хозяйственной жизни». Сдача — «обратная передача» в распоряжение всего общества вновь созданных или имеющихся (из тех, что необходимы обществу) материальных благ, услуг и ресурсов от всех хозяйственных субъектов и частных лиц, владеющих и использующих какой-либо вид раздатка.
В целом система раздаточной экономики обладает следующими признаками.
1. Вся собственность (земля, средства производства, инфраструктура) носят общественно-служебный характер: отдельные ее части передаются хозяйствующим субъектам под условия выполнения правил ее использования и управляется специальными государственными органами.
2. В основе экономической организации лежит служебный труд - участие в трудовом процессе на объектах общественно-служебной собственности и (или) выполнение определенных функций в интересах всего общества.
3.Обеспечение материальных условий для выполнения служебных обязанностей в рамках общественно-служебной собственности осуществляется через институт раздач.
4. Выполнение производственных задач и формирование общественного богатства происходит через институт сдач.
5. Сигналы обратной связи, отражающие реакцию всех участников общественного воспроизводства на возникающие проблемы, передаются посредством института административных жалоб.
6. Движущим механизмом раздаточной экономики является механизм координации сдаточно-раздаточных потоков. «Для реализации этого механизма служат соответствующая система управления и финансовые институты, отражающие специфику раздаточной системы».
Концепция О.Э. Бессоновой столь убедительна, а потому и интригующе-увлекательна, что хочется продолжить ее изложение. Однако для нашей темы вполне достаточно и приведенного. — Безусловно, на такой экономической основе публичная политика вырасти не может, не сможет. Отсутствуют все необходимые для этого компоненты. И, напротив, в наличии все те, что способствуют господству здесь Русской Системы (гипотеза Пивоварова-Фурсова).
Вместе с тем «раздаточная экономика» позволяет понять не только многое из истории Отечества, но и то, что происходит сегодня, в поведении путинской администрации, в последних инициативах президента. Следуя бессоновской логике, можно сказать: очередной переходный период заканчивается. Россия, использовав для модернизации раздаточной экономики институты и механизмы рыночного хозяйства западного типа и для модернизации Русской Системы институты и механизмы публичной политики, «возвращается» на круги своя. При этом, стремясь «соответствовать» современному миру, задающему в нем тон Западу, решая попутно некоторые свои (точнее: господствующих групп) задачи, Россия сохраняет определенные элементы как «рынка», так и публичной политики. Но они встроены в модернизированные и довольно серьезно трансформированные раздаточную экономику и Русскую Систему.
Или, несколько иными словами: публичная политика в России максимально «предполагает» неполитическое. То есть с точки зрения политической — неправильное. Вместе с тем, русская публичная политика это прикрытие неполитических по своей сути процессов. Это — перевод на европейский язык неевропейского содержания.
* * *
Но что же прикрывает собой русская публичная политика? Какое неевропейское содержание переводит она на европейский язык? — Попробуем, хотя бы отчасти, ответить на этот вопрос с помощью Симона Кордонского, блистательного современного социолога. Обратимся для этого к интервью, данному им журналу «Отечественные записки» (М., 2004. № 2. С. 8б-9б; оно называется «Цели и риски»).
Ученый обсуждает тему русского административно-ресурсного рынка, тему русского передельного социума. — «Процессы, протекавшие в России в последнее время, были в основном дележом собственности бывшего СССР. В Советском Союзе были накоплены огромные ресурсы … В ходе распада каналов, связывавших элементы Страны Советов, выделялась колоссальная энергия — ресурсы превращаются в деньги. Вся постсоветская экономика основана на выставлении на рынок разного рода ресурсов: сначала оборонка, потом пошла нефтянка, металлы, драгметаллы, химические производства, электро-энергетика. Но вот уже много лет, начиная, наверное, с 1997 года, на рынке не появляется новых материальных ресурсов. Это не значит, что их нет. Они есть, например, ресурс, связанный с ЖКХ. Есть огромный ресурс земли, но он капитализируется локально, а не глобально». И далее: «Когда на рынке появлялся очередной ресурс, он обрастал рыночными субститутами — акциями, облигациями, кредитами, депозитами, депозитарными расписками и т. д. После 1997 года, когда на рынок перестали выходить новые типы ресурсов, ресурсом стала сама власть … Уже семь лет основным предметом торга является сама власть».
В контексте нашей темы можно сказать: публичная политика в России выражает и отражает этот тип рыночных отношений, выражает и отражает интересы участников этого процесса раздела и передела. Сужающееся же ныне пространство публичной политики, редукция его «акторов» вполне корреспондирует складывающемуся «дефициту» выставляемых на «продажу» ресурсов. Но это также связано с особой ролью власти на русском рынке (и, понятно, в публичной политике).
На вопрос: «власть как инструмент перераспределения выведенных на рынок ресурсов?» Кордонский отвечает так «Да. Причем, все это участниками рынка очень четко осознается. Но сейчас рынок передела уже исчерпывает себя и не порождает денег. Нельзя бесконечно переделивать, нужно выводить на рынок новые ресурсы или снимать административный стресс, ограничивающий свободную торговлю уже выведенными на рынок товарами и услугами. Отсюда и разговоры об административной реформе как способе освобождения ресурсов.
Что такое нынешняя административная система? Ведь как система она не описана, не задана однозначно в нормативных документах. Следовательно, ее как системы не существует. Есть административный механизм. И этот механизм занимается в основном тем, что отсасывает деньги из экономики и превращает их в сокровища чиновников и предпринимателей. В сокровища в полит-экономическом смысле этого слова, ведь барыши чиновников не включаются в рыночный оборот, не порождают новых рыночных субститутов.
…Говорить, что рынок у нас возникает, а государство ему мешает, — неверно. Рынок у нас всегда был — это административный рынок, и по своему масштабу этот рынок намного шире того, что существовал, например, где бы то ни было. Потому что на традиционном рынке те ценности, которые у нас продаются — печати, подписи и так далее, — никогда не были предметом открытого торга. Наша проблема не в расширении рыночных отношений, а в сужении области действия административного рынка.
…Желательно сужение административного рынка. Но здесь возникает очень сложный вопрос социальной стабильности. Институтами административного рынка у нас поддерживается огромная социальная сфера. В ходе административного торга между субъектами Федерации и регионами всегда находится способ поддерживать хотя бы на минимальном уровне потребности граждан, лишенных по разным обстоятельствам возможности — или желания — участвовать в дележе ресурсов».
Итак, власть господствует на административно-ресурсном рынке. Причем, этот рынок сложился еще в стародавние советские времена. Попутно заметим: следовательно, «русская публичная политика-2» вырастает из коммунистического прошлого, политически оформляет и «прикрывает» то, что сформировалось в недрах «реального социализма». Это, кстати, несколько корректирует концепцию Безансона-Тимофеева. У них теневая экономика с коррупцией трактуется как здоровая реакция народного организма на ложь и фальшь коммунизма. На самом деле, вся система, по-видимому, эволюционировала в сторону внелегально-теневого — административно-ресурсного рынка.
…Собственно говоря, всего этого, сказанного в этой работе, достаточно, чтобы утверждать: судьба публичной политики в России весьма неопределенна. С одной стороны, это, как уже отмечалось, «операция прикрытия», с другой — эссенция русской жизни порождает, требует, предполагает в некоторые эпохи именно такие формы своего (этой самой эссенции) бытования. Именно такие, а не иные. И, думаю, что закат «русской публичной политики-2» есть закат лишь «русской публичной политики-2». Не более того, но, увы, и не менее…
«Народная жизнь не растение»
Однако заканчивать работу на этом многоточии, на этой многозначительной неясности не хочется. Хотя звучит весьма примеряюще: и вроде бы и шансов на публичную политику у нас маловато, и вроде бы какие-то есть, но в какой-то самобытной форме и отражающей какое-то самобытное содержание. Иными словами, она, эта политика, и будет, и не будет. Как и рынок, и свобода слова, и пр. Да, вот, и сам В.Ю. Сурков на презентации книги Алексея Чадаева (как здесь не вспомнить Цветаеву: «второй уже Шмидт в российской истории»; и у нас второй «Чадаев») «Путин. Его идеология» (редактор — Г.О. Павловский; вот компания! — и все «витийством резким знамениты») указывает нам: «Реальным инструментом власти в современной системе является не административная вертикаль, а система влияния, основанная на моральном авторитете и значимости. Президент больше «жрец» или «судья», чем «царь». Но мера его ответственности при этом — «царская» (Коммерсант. 10.02.2006).
Смотрите: около ста восьмидесяти лет назад на заре русского просвещения А.С. Пушкин произвел Помазанника Божьего, венценосного самодержца в «мореплавателя», «героя», «академика» и «плотника». Налицо секуляризация, снижение образа, его «профанизация». Сегодня В.Ю. Сурков (тоже литератор; иронизируй — не иронизируй, а ведь он действительно writer) избранного на ограниченный срок президентом РФ гражданина В.В. Путина (помните как Владимир Владимирович говорил о себе, что он «наемный работник», не более того?) возводит в «жрецы», «судьи», «цари». Это ведь все из Священного Писания: эпохи царей, жрецов, судей. Получается, что и выборы, и президент, и Конституция, и жрецы — цари — судьи. Как уже отмечалось, и нет политики, а и есть.
Еще Сурков, вдохновленный, наверное, текстом Чадаева указал: «Задача Путина — создание такой системы, в рамках которой русский народ сам сможет решать вопрос о власти. Решение этого вопроса может и не включать в себя сменяемость власти любой ценой каждые четыре года или ротацию партий у власти в оппозиции. Но принципиально важно, чтобы в решении участвовало и согласилось с его результатом большинство граждан. В этом формула демократического суверенитета». — Таким образом, мы можем получить демократию без сменяемости власти, и ротации партий. Но это будет демократия большинства…
Грустно. А ведь в самом прологе недавно ушедшего столетия мудрый и трезвый Б.Н. Чичерин напутствовал: «…Оставаться при нынешнем близоруком деспотизме, парализующем все народные силы, нет возможности. Для того, чтобы Россия могла идти вперед, необходимо, чтобы произвольная власть заменилась властью, ограниченною законом и обставленного независимыми учреждениями … Гражданская свобода должна быть закреплена и упрочена свободою политической». — Должна-то, должна. Но нам вновь впаривают «произвольную власть» в жреческо-судейско-царском оперении, действующую не юридически и административно, а — «морально».
Почему? Народ у нас таков — скажут мне и.о. современных Чичериных. «Менталитет». — За это слово я и зацеплюсь. Может быть действительно либеральная и плюральная публичная политика не получается по причинам социально-психологическим? Может не приемлет русский человек все это изнутри, органически?
И здесь, конечно, необходимо обратиться к работам В.П. Булдакова (представлять его нет необходимости — это ведущий отечественный историк). Тем более, что недавно он опубликовал исследование (См.: Булдаков В.П. Системные кризисы в России: Сравнительное исследование массовой психологии 1904–1921 и 1985–2002 годов / Acta Slavica Japonica. 2005. Т. 22), типологически схожее с этим моим. Только если у меня рассматриваются публичные политики 1906–1917 годов и 1991-2005 годов, то у В.П. Булдакова — массовые психологии примерно тех же периодов (1904–1921 и 1985–2002).
Увы, авторитетный автор не оставляет нам никаких надежд. «…Возможности поступательного развития России блокируются на "человеческом" уровне» — говорит он. Иными словами, непреодолимый традиционализм и архаизм социопсихологических установок русского человека закрывают для нас двери в «открытое», либеральное, демократическое общество. Но, пожалуй, не этот (для меня печальный и пессимистический) вывод является наиболее научно интригующим в новом скрипте В.П. Булдакова. На самом деле, все гораздо хуже (вот и интрига!).
«Сравнение "красной смуты" начала XX в. с "вялотекущей революцией" наших дней исходит из признания, во-первых, кризисного ритма российской истории как "естественной" формы ее исторического существования и, во-вторых, относительной неизменности психоментальных реакций Homo rossicusa - социокультурное ядро которого составляло крестьянство». — Итак, «кризисный ритм российской истории» есть для нашей страны нормальный и нормативный тип и способ существования во времени и пространстве. Вместе с тем «психоментально» этот россикус практически недвижим. Что же касается крестьянства, то оно не умерло в XX веке. Автор указывает на «некоторые метаморфозы сельской общинности, связанные с внешней урбанизацией». То есть урбанизация в СССР носила «внешний», поверхностный характер. По сути произошло великое переселение деревни в город. «Октябрьская революция повлекла за собой утверждение традиционных стереотипов сознания в городской среде и их распространение по всем этажам социальной лестницы». В результате мы имеем традиционализм, пронизывающий современную действительность, «прошлого и нынешнего россиянина как относительно устойчивого в психосоциальном отношении персонажа истории».
Неожиданно (для меня) начинает возникать определенное напряжение между двумя «линиями» русской истории: кризисный ритм как естественная форма существования отечества и мало изменяемый архаико-традиционалистский строй психоментальности Homo rossicusa. Ведь «кризисный ритм» означает вес что угодно, но — не застой, не неподвижность, не неизменность. Однако если человек не трансформируется, то откуда все эти кризисы — смуты и даже «вялотекущие революции» берутся? — Со своим мнением повременим, и вновь обратимся к тексту В.П. Булдакова.
Во-первых, он полностью солидаризируется с позицией известного культуролога И.Г. Яковенко: «…Стрессогенные ситуации всегда подавляют или разрушают исторически более поздние, высшие формы культуры (и социальности) и актуализируют предковые … модели. Поэтому в эпоху гражданских войн, в ситуациях распада общества в массовом порядке всплывают архаические модели социальности (Яковенко И.Т. Прошлое и настоящее России: Имперский идеал и национальный интерес // Полис М., 1997). Во-вторых, усиливает уже сам В.П. Булдаков, «в масштабах большого исторического времени кризис выступает крайней формой сохранения имперски-патерналистского ядра системы, а не ее трансформации».
Но ведь тогда получается, прокомментируем мы, что почти вся русская история есть процесс сохранения «архаических моделей социальности» и «имперски-патерналистского ядра». Ведь, по В.П. Булдакову, напомню, «кризисный ритм российской истории» является «естественной» формой ее развертывания. И чем острее и продолжительнее кризис, тем прочнее и устойчивее архаика, традиционализм. Напротив, в спокойные, не-«стрессогенные» времена складываются «высшие формы культуры (и социальности)». Но эти времена редки и непродолжительны. Потому, наверное, успехи прогресса на русской почве не столь впечатляющи.
Все это выглядит вполне логично (хотя не скажу, что полностью согласен), однако дальнейший ход рассуждений В.П. Булдакова вызывает у меня некоторое недоумение. И относится оно как раз к политике, то есть к моей теме. Историк пишет: «Идеологическая составляющая кризиса связана со складыванием альтернативы существующей форме правления. В прошлом ее крайним выражением выступала сама партийно-политическая система как тотальное отрицание самодержавия. При этом российские партии строились вокруг идей и/или утопий, лишь символически представлявших классы или сословия. Новая идеология разлагала застойную систему, одновременно выдвигая на первый план диссипативные или пассионарные элементы общества».
Сразу же заметим: В.П. Булдаков делает здесь типичную ошибку. Во всем мире и всегда партии «строятся вокруг идей и/или утопий, лишь символически представлявших классы или сословия». Это иллюзия будто там, на Западе, партии каким-то особенно тесным образом связаны с «классами или сословиями». Скажем, социал-демократические (социалистические) партии существуют «вокруг» одних идей или утопий, а христианско-демократические — других. И интересы того же рабочего класса могут быть представлены (так и есть) обеими партиями. Но не это, конечно, главное для нашей темы. — Главное же автор формулирует следующим образом: «…Российская "политика" это — производное от ослабления патерналистских начал власти, не случайно она напоминает о себе сначала в форме нигилистической активизации молодого поколения. Партийно-политическая система 1905–1917 гг. сделалась непосредственным орудием нагнетания хаоса».
Следовательно, российская «политика» есть крайнее выражение кризиса самодержавия, она возникает в момент ослабления традиционной патерналистской власти и с ее помощью, через нее страна устремляется к хаосу. Причем так было и в период заката царизма, и коммунистического строя. Иными словами, если идти за В.П. Булдаковым, получается, что политика на Руси — способ … разрушения высших форм культуры и социальности и сохранения, восстановления «имперски-патерналистского ядра системы». Это, так сказать, моющее и очищающее средство, которое возвращает Русской Системе молодость, витальность, «потенциальность». Просто «виагра» какая-то!
Не знаю, согласится ли автор с такой интерпретацией его идей. Во всяком случае, логика рассуждений В.П. Булдакова подводит нас к подобным выводам. Тем более, что нечто схожее он говорит и об экономической составляющей кризиса. «Попытка гайдаровских рыночников перевести нерентабельные отрасли на режим самовыживания обернулась усилением моноэкспортной основы экономики». То есть современно-рыночные технологии и институты хозяйствования в конечном счете лишь восстановили традиционную русскую экономику. При этом «восстановили» не в смысле вернули хоть какую-то ее эффективность, но — суть, природу.
«Государственность … возрождается с помощью "перебесившейся" традиции» — чеканит В.П. Булдаков. Значит публичная политика, партии, демократия — это беснование русской «имперски-патерналистской» традиции (как гайдаровский рынок — беснование хозяйственной традиции). Вот и весь сказ про публичные политики предреволюционной и постсоветской России. Иного — не дано. Homo rossicus органически не приспособлен к либеральной политике и рыночной экономике. «Трудно представить себе человеческий материал, менее подходящий для строительства рационального общества» — вновь напоминает нам уже в конце своего исследования В.П. Булдаков.
О том, что русский человек не «подходит» для всего того, о чем так сладко мечталось в годы моей (и не моей тоже) молодости, свидетельствуют и данные социологических опросов. Наугад возьмем результаты замеров состояния нашего общества, проведенных в последние годы Институтом комплексных социальных исследований (ИКСИ) РАН под руководством М.К. Горшкова. Он подчеркивает: у нас есть «веские основания считать, что степень глубины и темпы изменения российского национального самосознания под воздействием трансформационных процессов не столь велики, как об этом принято … говорить и думать» (Горшков М.К. Граждане новой России: К вопросу об устойчивости и изменчивости общенационального менталитета». М., 2005. Тезисы доклада на семинаре РАН). Более того, «следует признать: советская парадигма, едва пошатнувшись под натиском "разоблачения" и "отмывания белых пятен" истории в первой половине 90-х годов, продолжает демонстрировать свою удивительную устойчивость». Доминантой массового сознания соотечественников известный социолог полагает «возвращение от западнических увлечений периода становления демократии к «исконно российским» представлениям, нравственны устоям и образу жизни. Традиционные ценности постепенно восстанавливают свое влияние на общество … Ценностно-смысловое ядро российского менталитета продолжает демонстрировать удивительную устойчивость и непохожесть. Даже в условиях системной трансформации российского общества, практически все аспекты и проблемы современного мира — демократия и рыночная экономика, свобода и социальная ответственность, отношения между личностью, обществом и государством, получают в России специфическое звучание и окраску. А это говорит о том, что и под воздействием глубоких экономических и социально-политических преобразований, общенациональный менталитет россиян представляет собой если не константу, то … величину достаточно независимую, которую нельзя изменить по заказу или указу».
***
Итак, В.П. Булдаков по существу выносит русской публичной политике смертельный приговор, а М.К. Торшков (еще раз скажу: оба они исследователи высокой пробы) все это подтверждает данными социологических наблюдений. Русский человек как таковой почти не меняется и не совместим с рационально-либеральным обустройством общества, важнейшим измерением которого и является демократическая политика. Это постулат важнейший. Но и другие — «убийственные». Естественным типом социального развития России признается смута. В ходе смут гибнут наиболее высокие и совершенные формы культуры, но, тем самым, спасаются основы государственности. Две последние смуты (начала и конца XX столетия) порождали «партийно-политические системы». Будучи следствием, плодом смут эти системы и становились формой «беснования» русской органики. «Отбесновавшись», они уходили в небытие, при этом, существенно способствуя ренессансу нормативного, традиционалистского, так сказать, русского par excellence.
При всем радикализме этих выводов должен заметить, что нечто схожее, с опорой на позиции замечательных ученых — О. Крыштановской, О. Бессоновой, Л. Милова, С. Кордонского и других, говорил и я. Но вчитавшись, всмотревшись, вдумавшись в умозаключения В.П. Булдакова, полагаю необходимым подчеркнуть коренную несовместимость, несхожесть наших подходов. Для этого — еще несколько слов собственно об этой концепции.
Методологически и «психоментально» (как сказал бы сам «рецензируемый» автор) она очень характерна для современной русской науки (хотя в данном случае мы имеем дело с нехарактерной талантливостью). На отечественной интеллектуальной площадке по-прежнему фехтуют две группы «акторов». Одна, как всегда, утверждает запаздывающее развитие России; и в зависимости от темперамента или чего-то иного, ее представители либо с пессимизмом констатируют окончательное опоздание, либо с оптимизмом — относительное; мол, нечего, у всех так было, наверстаем. Другая — с разной степенью жесткости — провозглашает Sonderweg России, а Россию и русского человека на протяжении всей своей истории в общем, несмотря на не которые «зигзаги», равных самим себе. Здесь, разумеется, разного рода западные штучки (публичная демократическая политика, социально-ориентированное рыночное хозяйство, либеральная социальная антропология — «права человека») объявляются персонами нон фата. Или имеются варианты — заемными формами, необходимыми (почему-то?) для эволюции вечно неизменной сущности, выражением каких-то вторичных, второстепенных, даже маргинальных процессов и т. п.
Зря фехтуют. У этих «спортсменов» гораздо больше общего, чем разделяющего их. Все они — «провиденциалисты» и «органицисты». Все они исходят из некоей аутентичной России. Точнее: двух аутентичных России. От которых-то и можно ожидать или не очень удачное участие в общемировом историческом стипльчезе или психоментальную неизменность самобытничества.
Вот такой провиденциальный и органицистический подход и демонстрирует нам блистательный В.П. Булдаков. Повторю: именно потому что у нас с ним немало схожих оценок и реакций, я хочу объясниться и посредством этого — дистанцироваться.
Несколькими пассажами выше я уже отмечал некоторую «странность» в утверждениях Булдакова. С одной стороны, господство диссипативного начала в русской истории, которое выражается в «естественности» смут, следующих друг за другом; прямо «перманентная смута» это отечественное прошлое и это отечественное настоящее. С другой, — неподвижность, неизменность психического и умственного строя Homo rossicusa. Пожалуй, единственное различие, которое имеется у смут между собой и у людей, живущих в разные «смутные периоды», В.П. Булдаков видит в следующем. «…Течение кризисов зависит от особенностей гомоэнергетического насыщения социально-географического пространства, витальности социальной среды. К началу XX в. население "помолодело" — отсюда не только взлет его активности…, но и рост агрессивности. Напротив, "старение" населения в конце XX — начале XXI в. повлекло за собой энергетическую вялость протекания кризиса».
При всей конкретно-исторической важности этой дифференции, она не ломает общего провиденциалистски-органицистского подхода. Но вернемся к отмеченной мною странности. Русская история погружена в перманентную смуту, ее бросает то вверх, то вниз по диссипативным волнам, а русский человек все тот же — лишь чуть помоложе, а затем чуть постарше. — Что же тогда в диссипации? Ведь история — это взаимодействие людей. Все остальное, так сказать, номинации (от номинализма). Или психоментальный внутренний мир человека тоже диссипативен, «смутен»? И его устойчивость, неизменность в этом? Тогда он корреспондирует «внешней» истории?
Даже если это так, и В.П. Булдаков согласится с моей интерпретацией его идей, у меня все равно останутся вопросы к логике и содержанию данной концепции.
Каковы причины, а для провиденциалистов — органицистов — какова первопричина смутно-диссипативного русского исторического пути? — Не буду отвечать на поставленный же мною вопрос прямо. Укроюсь за цитатой автора не менее проницательного и беспощадного, чем В.П. Булдаков. «Всякая органическая концепция общества страдает скрытым детерминизмом, моделирует общественную жизнь по схеме природного бытия, не знающего свободы, циклически замкнутого, лишь воспроизводящего некие вечные законы существования; в этой схеме нет места для подлинного развития, для нового». — Это Б.М.Парамонов излагает Карла Поппера, мыслителя, к которому в России в общем-то не прислушались, так — прохладно перелистали. Кстати, на той же странице этого парамоновского сочинения приводятся два высказывания Б.Н. Чичерина, свидетельствующие о том, что и у нас были люди, кое-что понимавшие в главных социальных вопросах. — «Человеческое общество в отличие от естественных организмов, способно не только к возрастанию, но и к историческому развитию» (Чичерин Б.М. О народном представительстве. М., 1899). И еще: «Народная жизнь не растение, которое из одного и того же корня постоянно пускает ветви одинакового свойства и строения».
А теперь выйдем из-за литературной засады и, как сказал бы Карл Шмитт, со всей сюрреалистической открытостью скажем: концепция В.Г. Булдакова именно такова. В ней господствует скрытый детерминизм. Детерминизм необъясненной перманентной диссипативности. Я не говорю, что этого нет. Мне лишь не объяснили откуда эта диссипативность взялась и почему стала естественной формой нашего бытия. А также почему русская традиция периодически «бесится». После же беснования государственность возрождается. Почему? — Ей бы после очередного кризиса взять да трансформироваться, отбросить свое «имперско-патерналистское ядро». Ведь «народная жизнь не растение»…
Но нет, этого не происходит. И не только по В.П. Булдакову. Вспомним, к примеру, очень далекого от него А.Л. Янова с режимами реформ, контр-реформ, стагнации, с доминирующей уже около пятисот лет автократической политической системой, системными метаморфозами, подсистемами, кризисами и революциями. И все это крутится и вертится, повторяется и самовоспроизводится. По сути же не меняется. Даже революции, в отличие от западных, обновляют и увековечивают status quo (См.: Янов А.Л. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1989). - Вообще русская историческая жизнь почему-то произрастает как растение. И, повторим, у тех, кто пускает ее по запаздывающе-догоняющим волнам модернизации (бежим и бежим — или, если по волнам, плывем — вслед за Европой, никак сравняться не можем, но дорога лишь эта; в этой дороге вся органика, провиденция и телеология наших модернизационщиков и транзитологов; ясно, что большинство этих людей вышли из шинели марксистско-формационного подхода к истории, а шинель была пошита на фабрике «Большевичка»), и у тех, кто акцентирует ее самобытные, «неповторимые черты». Причем если в XIX веке и славянофилы (позднее народники) и западники (позднее либералы и марксисты) были по-преимуществу оптимистами, то ныне их наследники (и те, и другие) по бульшей части пессимисты. Да еще нередки случаи какого-то перверсивного микста позиций. Встречаются ученые (и не очень) персонажи, ухитряющиеся представительствовать от обоих лагерей. Скажем, самобытность видят в вечном недогонянии Запада при одновременной вечной погоне. Или, напротив, догоняние, прибегание к тем же, что и в Европах результатам, но по своим (как правило, тайным, «воздушным») путям.
Патрик Серрио в своей замечательной книге о евразийстве и структурализме указывает, что русская мысль не очень-то и самобытна, поскольку строится на классической западной «оппозиции между эволюционистским универсализмом как наследником философии Просвещения и релятивизмом замкнутых пространств как наследником романтического контрпросвещения, вдохновлявшегося немецкой антропологией эпохи Бисмарка, но, безусловно, восходившего Дж. Вико и даже к софистам» (Серрио П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920-30-е гг. М., 2001). — Мне-то, напротив, она кажется весьма даже самобытной, поскольку оба элемента оппозиции по сути отрицают свободу воли человека, открытость исторического процесса, его принципиальную нетелеологичность.
Русский «эволюционистский универсализм» и русский «релятивизм замкнутых пространств» остались одинаково глухи к этой теме или к этим темам. Отечественная историософия в обоих главных своих изводах попреимуществу неперсоналистская. Так сказать, историческая культурология без антропологии. А ведь еще в начале XX века С.Н. Булгаков (да и не только один он) уже знал: «Там, где есть жизнь и свобода, есть место и для нового творчества, там уже исключен причинный автоматизм, который вытекает из определенного и неизменного устройства мирового механизма, идущего как заведенные часы. Всякая личность, как бы она ни была слаба, есть нечто абсолютно новое в мире, новый элемент в природе … Поэтому мертвому детерминизму, исходящему из предположения об ограниченном числе причинных элементов и их комбинаций, нет места в истории. Поэтому … не может быть теории истории a priori, т. е. конструированной на основании определенного числа причинных элементов. История творится так же, как творится и индивидуальная жизнь».
…Итак, к чему же я клоню? Что держу за пазухой, но все не пускаю в дело? — Я хочу сказать, что у нас неважная ситуация не только с историческими предпосылками и природными условиями для либеральной публичной политики. У нас также слабовато и с осмыслением всего этого. В качестве примера можно привести концепцию того же многоуважаемого мною В.П. Булдакова: неизменность психоментальности русского человека как естественное и неодолимое препятствие на путях рационального устроения общества. Социологическая же «цыфирь» М.К. Горшкова как будто все это подкрепляет и одновременно обосновывает.
Однако если присмотреться к тем данным, которые высокопрофессиональный коллектив под руководством М.К. Горшкова получил в последние годы, получается несколько иная «социологическая картина», чем та, что рисуют оба маэстро. Оказывается, что если традиционную «позицию "свободы-вольницы" разделяют свыше 60 % россиян», то новую, европейскую "правовую" трактовку свободы — около 40 %». Представляете?! Около 40 % соотечественников верят в право, предпочитают жить в свободном обществе, опирающемся на закон. И это неизменность психоментальности? Так было всегда? Так было в 1912 году? — Конечно же, нет. И эти «около 40 %» разве не хотят и не могут быть рациональным социумом?
Ради справедливости скажем, что эти «около 40 %» может быть даже социологическое преувеличение. И сторонников правового либерализма в России меньше. Тот же М.К. Горшков в той же своей работе приводит и иной «расклад». Он говорит, что в российском обществе есть «сторонники традиционализма» и «сторонники модернизма». «…Существуют две группы противостоящих друг другу граждан по своему видению мира, понимания роли государства и базовых ценностей в своей жизни. Одна группа составляет относительное большинство населения (41 %) и, являясь традиционалистами, отличается ярко выраженной патерналистской ориентацией, поддержкой принципов общества социального равенства. Другая представлена меньшинством российских граждан (26 %), ориентированных на принципы личной ответственности, инициативы, на общество индивидуальной свободы. Треть населения может быть отнесена к промежуточной группе, тяготеющей по большинству значимых мировоззренческих вопросов к сторонникам последовательного традиционализма».
Не будем акцентировать внимание на том, что нам предлагаются различные результаты и спрашивать: как же так? — В данном случае не это главное. Пусть не «около 40 %», а 26 % «сторонники модернизма». Пусть даже 20 %. Но если 1/5 наших людей готова к публичной политике, правовой государственности, современной экономике и т. п., то разве у России совсем нет шансов для этого? Ведь эта одна пятая, безусловно, активная, креативная, энергичная. Она хочет и может. Никогда в отечественной истории мы не имели такого числа людей, готовых к «акторству»…
И все же вернусь к тому, что беспокоит меня более всего — господствующий у нас тип самопонимания, самопознания, саморефлексии. Или — методология русской политической и философско-исторической мысли. Традиционный и типичный методологический дискурс, боюсь, заводит нас в тупик псевдознания, неадекватного знания. Но отношение к этому в отечественной науке большей частью вполне благодушное и легкомысленное. Так, В.П. Булдаков говорит: «Основная трудность исследования связана с его не методологическим, а источниковедческим аспектом». — Кто же будет спорить, конечно, источники — важнейший элемент всякого научного анализа. — Но ведь и методология?
Вот к чему, например, ведет методология самого В.П. Булдакова. Кризис империи в начале XX в. и революцию 1917 г. он во многом объясняет особой психопатологией многомиллионных масс. Ее «можно свести к формуле: цепная реакция неадекватных реакций одних на неадекватные поступки других в связи с предкризисным искажением привычной картины мира». — Если это утверждение наложить на другие важнейшие выводы В.П. Булдакова (кризис — естественная форма существования нашей страны в социальном времени, относительная неизменность психоментальности Homo rossicusa, традиционализм, пронизывающий современную действительность и т. п.), история России выглядит следующим образом: сплошные неадекватные поступки и неадекватные реакции на них. То есть, по крайней мере, все последние столетия это — перманентная массовая психопатология.
Может ли быть такое? — Разумеется, нет. Ведь если всерьез все это помыслить и допустить, получается, что мы всегда были и всегда (пока история не закончится) будем неадекватны. Тогда, и говорить нечего. Во всяком случае, историку…
Заключение
Ну, хорошо, можно критически разбирать методологии историко-политологических исследований, можно обращать внимание на какие-то обнадеживающие результаты социологических измерений. Однако нельзя все-таки отрицать двух фактов: публичная политика в России имеет некрепкие корни и современная публичная политика явно хиреет. Что с этим-то поделать? Здесь никакие методологии и новые оценки ситуации не помогут. — Да, и существенное несогласие с позицией В.П. Булдакова вроде бы предполагает пересмотр и собственных воззрений, включая и то, что было изложено в этой работе.
Нет, разумеется, я не от чего не отказываюсь. Но резко возражаю против провиденциалистского, телеологического, органицистического подхода к истории, включая и русскую. История — процесс принципиально открытый. Это не означает, что в ней возможно все. Всегда есть определенный набор возможностей. И это утверждение не трюизм. Это, пожалуй, самое важное что нам надо знать. И, конечно, речь идет не об уныло-пораженческом альтернативизме, философии упущенных побед.
Говоря о возможностях, я имею в виду следующее. Нельзя остановить революцию, но обязательно необходимо пытаться сделать ее менее кровавой и разрушительной. Нельзя полностью отгородить себя от войн, ведущихся на планете. Однако стоит стремиться минимизировать свое участие в них, а главной стратегией избрать, пользуясь выражением А.И. Солженицына, «сбережение народа». И так далее. — Мне заметят: это все треп, прекраснодушие, опасные утопии. — Да, нет. Посмотрите: только что упомянутый Солженицын разве не изменил ход истории? Или АД. Сахаров и правозащитное движение не гуманизировали наше общество? А несколько тысяч москвичей, пришедшие в августе 1991 г. к Белому дому, не сломали ли хребет попытавшемуся вновь встать на ноги зверю? Или религиозные диссиденты первой половины XVII в., устремившиеся из Англии в Новый свет, не построили великое общество? Оно ведь возникло из них, из горения душ этих храбрецов. Примеры подобного рода бесконечны … История творится человеком.
Поэтому прочь все формационные, цивилизационные, иные органицистические объяснения русского пути во времени. Они, в конечном счете, оправдание нашей обреченности, нашей неготовности превратиться в совершеннолетнюю нацию (в кантовском смысле). Другое дело, нельзя закрывать глаза на то, что было и что есть. Необходимо сочетание двух стратегий: признание и уважение «нормативности фактического» и разумное стремление к должному. Определения «должного» для христианской культуры, каковой по-преимуществу является русская, хорошо известны.
В заключение приведу слова Б.Н. Чичерина, которые можно квалифицировать как напутствие нам в XXI век: «Каждый народ имеет свой дух, свои жизненные условия, свое строение, которое вырабатывается и изменяется исторически. Общественное мнение должно носить в себе сознание этих условий. Оно тогда только может получить влияние на ход дел, когда оно не будет пробавляться общими местами, ликовать при звуке известных фраз и пугаться других, когда оно в своих требованиях не будет заходить далеко за пределы того, что в данное время под силу народу, но сумеет держаться в границах применимого и полезного.
Со своей стороны разумная власть, не упуская из рук необходимой для общественного порядка силы, должна себя умерять, чтобы дать простор другим общественным стихиям, без которых невозможно просвещенное общежитие. Чем власть беспредельнее в своих правах, тем легче подвергается она искушению преувеличивать собственное начало, тем необходимее для нее разумное воздержание. Только при таких условиях, при взаимном воздержании и при взаимном уважении, возможно у нас мирное и правильное развитие общества. Если же вопрос будет поставлен не между мерой и бесмерностью, а между казачеством и кнутом, тогда нет места разумному порядку в нашем отечестве» (Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998).
Увы, далеки мы от всего этого. И бежим от меры к безмерности, и колеблет нас между казачеством и кнутом. Да, у нас для демократии неудачное прошлое; сильны недемократические и неполитические традиции. Однако антилиберальный русский опыт XX века, по моему мнению, побуждает нас все-таки искать пути, как говорил Б.Н. Чичерин, к «взаимному и разумному воздержанию». Такому порядку, который предполагал бы «мирное и правильное развитие», «просвещенное общежитие». Подобные системы не только предпочтительнее с точки зрения человеческого существования (а что может быть важнее этого?), но они гибче, адаптивнее к меняющемуся миру, наступившему XXI столетию. Это уже доказано практиками других стран. Мы — не исключение. Во всяком случае, не хотелось бы им быть.
В этой работе я специально, с намерением говорил о сложности и проблематичности водворения на Руси публичной политики. Но есть и обратная сторона медали. Страна, безусловно, трансформируется. И даже по самым скромным социологическим «подсчетам» не менее 20 % граждан готовы к жизнедеятельности в рамках либерального, плюрального социально-политического режима. Это обнадеживает. Никогда в истории нашей страны не было такой высокой доли сторонников свободы и права (кстати, не надо думать, что в самых демократических государствах мира либерально ориентированные граждане составляют абсолютно подавляющее большинство).
Мы должны найти свой путь к публичной политике с учетом нашей специфики. Звучит тривиально. Сделать это и не просто, и не тривиально. Правда, альтернатива ужасающа. Превратиться в ничтожество, потерять, как любят выражаться отечественные политологи, субъектность; причем, во всех отношениях. И еще русским антилиберальным политикам, мыслителям, интеллигентам стоит также твердо помнить уроки ушедшего века. Среди них главный: вологодский конвой шуток не понимает.



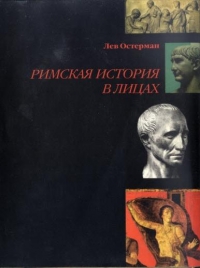
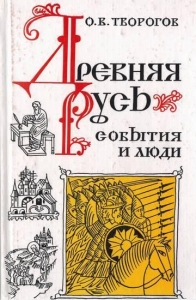


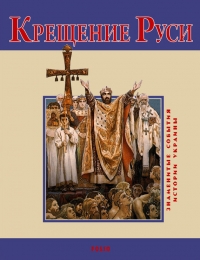
Комментарии к книге «Русская политика в ее историческом и культурном отношениях», Юрий Сергеевич Пивоваров
Всего 0 комментариев