Валерий Возгрин ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ КРЫМСКИХ ТАТАР
Да будет ведомо, что в глазах умных и справедливых людей считается заслуживающим порицания, если при изложении фактов, известных из писаний и заметок прежних историков (да пребудет с ними Аллах!), они ступают на путь лести. А особливо как можно утаивать и скрывать события, случившиеся в наш век, и обстоятельства лиц, почитающихся важными?!
Халим-Гирей. Розовый куст хановВВЕДЕНИЕ
Крым никогда не был обделен вниманием историков. Общеизвестно, что первыми из них были арабские и античные авторы, в том числе такие известные и авторитетные, как Геродот и Страбон. Интерес этот не угасал и в "темные" века, и в средневековье, и в Новое время. Исторические судьбы населения небольшого по площади полуострова представляют собой в силу ряда специфических причин заманчивое поле деятельности для специалистов по истории войн, экономики, дипломатии, а также для этнографов, филологов, искусствоведов.
Выгодное географическое положение, благодатный климат, плодородные почвы, богатство животного и растительного мира как магнитом притягивали переселенцев, волна за волной устремлявшихся в Крым со всех четырех сторон света. Почти полная изолированность полуострова от соседних территорий также содействовала превращению его в уникальный тигель, где, плавясь, смешивались не единицы — десятки этносов, недаром его называют "концентрированным Средиземноморьем".
В результате возникали, сменяя друг друга, все новые и новые этносоциальные организации — каждая со своими неповторимыми особенностями, своей историей. Впрочем, некоторые из них длительное время существовали (и существуют) бок о бок, не смешиваясь и почти не проникая друг в друга.
Однонациональными не бывают, как правило, более или менее крупные области. Это скорее удел мелких островов, полуостровов, слабозаселенных земель. Крым в отличие от других территорий соотносимых масштабов однонациональным в исторические времена не был никогда. Поэтому и крымские исторические памятники, в том числе и письменные, отличаются уникальной разнородностью, часто противоречивостью.
Это относится и к историческим сочинениям всех эпох. Множество теорий, научных гипотез, догадок, домыслов с древнейших времен вплоть до наших дней характерны взаимоисключающими оценками не только целых периодов истории Тавриды, но и отдельных событий и даже фактов.
Возможно, с этим связан весьма удивительный феномен — о Крыме, этом в буквальном смысле слова "опытном поле Истории", до сих пор ни в СССР, ни за рубежом не был создан общеисторический труд. И даже наиболее крупные работы, написанные русскими[1] или советскими[2] историками, отражают огромную, многоплановую тему Крыма далеко не полностью — и хронологически, и в предметном плане.
Автор полагает необходимым остановиться на недостатках существующих работ, точнее, самых типичных из них; иначе не вполне понятными останутся задачи данной книги.
Во-первых, все без исключения крупные послевоенные работы, посвященные крымским античности, средневековью и началу Нового времени, написаны как бы "извне", с точки зрения русских или европейских историков. Говорить, что работы эти субъективны, — значит не сказать ничего; историк, безусловно, не может стать до конца объективным. Поэтому речь идет об уровне субъективизма — впрочем, и здесь объективных критериев не выработано. Очевидно, достаточно будет сказать, что автору не известна ни одна значительная советская работа о Крыме, которая не была бы выдержана в антитатарском духе (исключение — несколько небольших трудов, вышедших до 1944 г. в Крымской АССР). Таким образом, мы вправе говорить не о спорном, но о повальном субъективизме, причем доходящем до крайних пределов не только "качественно" (об этом ниже), но и количественно. Так, в четырехтомнике П. Надинского периоду 1917 — 1920 гг., т. е. четырем годам, посвящено 300 с лишним страниц, полустолетию до этого — около 90 с., а полутысячелетию истории так называемого татаро-турецкого периода (XIII — XVIII вв.) — 38 с.!
Но конечно, гораздо пагубнее качественные, концептуальные перекосы. Не стоит приводить все (или[4] даже основные) примеры великодержавной, шовинистической трактовки крымской истории, использования антинаучных терминов и ярлыков типа "крымские хищники, захватчики, разбойники, агрессоры" уже из-за их огромного количества (только книг, где они приведены, сейчас, по подсчетам Р.Я. Эминова, уже больше сотни). Кроме того, нам не представляется плодотворным клеймить конкретных авторов этих писаний — они лишь отразили в своих книгах и брошюрах некие концепции, опирающиеся на поддержку довольно значительных слоев в горизонтальном плане и представителей весьма влиятельных административных, научных и общественных институтов — в вертикальном.
Подлинно научный анализ любого исторического явления приводит к достоверным результатам, лишь будучи начат с истоков этого явления. История же необъективной, антитатарской направленности отдельных псевдонаучных положений коренится, безусловно, в том самом "средневековом мракобесии", которое было несовместимо с принципами исторического материализма еще в конце прошлого века. Простительные лишь для домарксистской историографии, но, как видно, сохранившиеся и даже развившиеся в XX в., эти стереотипы и установки — среда, что питает "научную" литературу подобного плана.
Итак, попытаемся найти исток этих установок. На первый взгляд мнение о крымцах как о народе, состоящем сплошь из разбойников, было вызвано вооруженной борьбой, которую русский народ испокон веку вел с южными соседями. На деле вопрос гораздо сложнее. Кратковременные, хоть и кровопролитные набеги крымских татар ни в какое сравнение не идут со стабильной, осознанной экспансионистской политикой "проникновения и присоединения", которую русские цари вели по отношению как к Западу (войны с Литвой и Польшей), так и в особенности к Востоку и Югу. Начавшийся с завоевания Казанского ханства, великий многовековой поход на инородцев Урала, Сибири, Дальнего Востока, а затем Средней Азии и Кавказа с Крымом вел не к временным столкновениям, после которых Русь, как правило, довольно быстро восстанавливала свои материальные и духовные ценности. На новозавоеванных русскими территориях[5] складывалось иное положение. Альтернативой непрекращавшимся кровавым репрессиям, политике стравливания аборигенных племен и народностей было лишь полное политическое подчинение их "христианнейшим" царям. К какому "развитию" национальных черт и культуры в целом это вело, нетрудно догадаться.
И еще одно наблюдение. Современной науке известно, что любой этнос склонен наделять соседние этнические группы такими отрицательными чертами, которые именно данный этнос традиционно считает недостойными и противопоставляет собственным понятиям о морали, чести, своим эталонам красоты и т. д. Известно также, что при этом полярно противоположной интерпретации подвергаются и общие для этого этноса и его соседей черты. Так, например, кровавые подвиги казаков Ермака отражены в народных и авторских песнях как в высшей степени достойные и демонстрирующие доблестный дух русского народа; те же действия сибирцев (заметим, поставленных перед необходимостью священной борьбы за Родину) клеймятся крайне отрицательно, сами же аборигены иных определений, кроме как "тати (?!) презренные", обычно не заслуживают.
Автор ни в коем случае не стремится к осуждению ни казаков (или солдат), ни татар с позиций современности. Пытаться экстраполировать на любое историческое общество принципы, к которым человечество пришло позже в результате неоднократных проб и мучительных ошибок, — антинаучно. Речь может идти лишь о том, насколько направление и темпы социально-экономического развития того или иного этноса сообразовывались, шли в ногу с местными условиями, в том числе и с этнопсихологическими особенностями населения, будь то Русь или средневековый Крым. И здесь даже самое беглое ознакомление с комплексом условий существования, содержанием господствовавшей идеологии приводит к выводу о полном соответствии этнопсихологии и русских и татар XV — XVII вв. конкретным условиям, да иначе, как правило, и не бывает. Другое дело, что татарские набеги с середины XVII в. прекратились (опять же в ногу с переменами в упомянутых условиях их жизни); великорусская же экспансия продолжалась и в XVII, и в XVIII, и в XIX, и в XX в., то есть в эпохи,[6] когда в Европе уже были выработаны принципы мирного сосуществования, права малых наций на самоопределение, невмешательства в политику суверенных государств и т. д.
Однако вернемся к сравнительным характеристикам этносов. Их, мягко выражаясь, необъективность по отношению к соседям присуща, безусловно, не одному русскому народу. В любой национальной психологии подобные стереотипы доминируют. Установки такого рода предвзяты, зачастую не основаны на "свежей" и всесторонней оценке активности зарубежных современников, но выведены на основе стандартизованных мнений (в том числе априорных). Объединенное, "народное" сознание, увы, не всегда порождает светлые, общечеловеческие идеалы, а в данном случае оно с абсолютной повторяемостью вновь и вновь приводит к идеям (и политике) превосходства одной нации над другой.
Впрочем, автор не утверждает, что упомянутые стереотипы всегда ложны и всегда и всюду вызывают отрицательные эмоции. Уже в силу своей множественности они могут, хотя и редко, приближаться к истине. Более того, они могут быть не только отрицательными, но и положительными (вспомним об отношении СССР к Финляндии до советско-финской войны и сейчас; обратный пример — отношение к крымским татарам до и после возникновения проблемы их возврата в Крым). Но подобная "объективность" крайне редка в силу эгоцентризма любой этнической группы.
Кстати, абстрактно-отрицательное отношение к самому феномену этнического эгоцентризма так же малооправданно, неплодотворно, как, скажем, отрицательное отношение к плохой погоде. Восприятие чужих (чуждых) норм морали, поведения, обычаев, традиций сквозь собственную призму неизбежно как для индивидуумов, так и для групп людей, и это необходимо осознать. С другой стороны, необходимо не менее четко осознать, что это восприятие — не реальная картина, а лишь ее отражение. И чем дольше человек будет полагаться на подобное, отраженное в кривом зеркале изображение мира, тем дольше он не сдвинется с места на пути нравственного совершенствования: ведь дорога, отраженная даже в идеальном зеркале, никуда не ведет.[7]
Естественно, заставить себя осознать иллюзорность отраженных ценностей нелегко: ведь они плоды нашего мышления, скроены, заданы в полном соответствии с нашими потребностями, рассчитаны на повышение нашего духовного или материального комфорта. Они рассчитаны на то, чтобы их "владелец" безбедно прожил свой век — вот в чем секрет их долговечности, закоснелости. Поколения передают поколениям эстафету завышенной самооценки и, значит, собственной правоты (по отношению к обездоленным) вместе с материальными благами, оправданными также подобной самооценкой. Понятия смещены — но это удобно. Удобно, когда отобранные у татар в XIX в. земли Южного берега Крыма остаются в распоряжении "закрытых" учреждений; удобно настолько, что именно благодатностью края без стеснения оправдывают отказ в праве на прописку в Крыму татар — автохтонного, коренного населения Тавриды[3].
Результаты воздействия подобных стереотипов видны не только в межнациональном расколе. Они содействуют росту национальной обособленности, цементируют внутриэтническую сплоченность, формируют крайние формы национализма малых народов. Взамен прогрессивного интеграционного развития общечеловеческих черт морали и идеологии укрепляется позиция противостояния, в которую малые народы буквально загнаны великими, крепнет этническое самосознание, которое "обычно сочетается со стремлением членов этноса к собственной социально-территориальной (в том числе и государственной) организации, которая... обеспечивает устойчивое существование этноса"[4].
С другой стороны, великодержавная политика оказывает пагубное влияние не только на своих жертв, но и на носителей, проводников подобной политики. "Лишь относясь к человеку Павлу, как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к себе как к человеку"[5]. Чувство общей вины связывает, ведет ко все новым и новым компромиссам с совестью, снижает уровень объективной самооценки, подогревает враждебные отношения к "виновникам" морального падения великой нации, т. е. к жертвам ее национальной политики. Порочный круг?
Действительно, картина обрисовывается весьма[8] мрачная, тем более что специалисты считают массовое этническое предубеждение (лежащее, как мы видели, в основе государственной политики нарушения прав народов) неизбежным[6], очевидно, в силу его психологической имманентности.
И все же автор склонен к оптимизму, во-первых, основанному на факте учащения межэтнических контактов, содействующих, как известно, созданию более объективных представлений народов друг о друге, а во-вторых, связанному с уверенностью в более разумной национальной политике государства в будущем, чему есть некоторые основания. В-третьих, рано или поздно свою положительную и весьма важную роль должна сыграть наука — ныне перед историографией и другими гуманитарными областями знания ставится задача "неуклонной борьбы против идеализации исторического прошлого отдельных народов, одностороннего подхода к их традициям... ибо искусственные преувеличения национального, особенного неизбежно чреваты неправомерным противопоставлением одних народов другим, что неизбежно способствует рецидивам национализма"[7].
Но это в будущем. Пока же подобный социальный заказ, имеющий благородную цель искоренения еще весьма заметных рудиментов былой острой национальной розни между народами нашей страны, своих исполнителей не нашел. Напротив, его осуществлению активно противостоят современные защитники теории исключительности великих наций и их особых прав на соседние (и не столь соседние) земли вместе с населением. При этом своей готовности отстаивать данную теорию они отнюдь не скрывают. Так, автор уже упоминавшихся "Очерков по истории Крыма" без следа смущения предваряет свое исследование признанием того, что это конечно же не история многонационального населения древнего полуострова, но "история русского Крыма, исконно (?) русской земли"[8] (разрядка наша. — В.В.). Другой современный автор, выступающий с работой о русско-украинско-татарских отношениях (что само по себе предполагает объективность большую, чем, скажем, в трудах буржуазных националистов), игнорирует факт русской экспансии XVII в. в южном направлении, но концентрирует внимание на куда менее масштабных "притязаниях крымского хана на захват украинских[9] земель"[9]. Показательно и Приложение к этой книге, где приводится весьма тщательно составленная таблица хронологии и результатов набегов крымцев на Россию и Украину (с, 240 — 243), но, как и следовало ожидать, отсутствуют подобные данные о набегах на Крым тех же запорожцев.
Общим местом стало расхожее утверждение об исконной, первоначальной заселенности Крыма славянами (вариант — праславянами)[10]. Какие из сего следуют выводы — догадаться нетрудно. Пересматривается сам факт колонизаторской политики царского правительства в Крыму, репрессии по отношению к местному населению, прямым потомкам автохтонных насельников полуострова; утверждается, что в отличие от Средней Азии или Кавказа здесь имела место не колонизация малых народов, а обычная эксплуатация трудового крестьянства, как, например, в Тульской или Архангельской губерниях[11].
Не отстают от профессиональных историков современные публицисты и литераторы. Книги П. Павленко, А. Козлова, И. Давидкина, А. Первенцева, И. Вергасова, И. Лугового и многих других проникнуты в большей или меньшей степени патологической ненавистью к татарам, стремлением "объяснить" нарушения ленинской национальной политики и оправдать известные постановления 1944 г. и более поздних лет.
Особый вопрос — публикации в советской печати лета — осени 1987 г.[12] Самая, по мнению автора, яркая из них — о том, как бывшие бахчисарайцы, не получив разрешения на установку памятной доски с именами своих земляков-антифашистов, расстрелянных гитлеровцами у с. Скалистое, попытались установить доску сами. Будучи схваченными "на месте преступления", они были выдворены из Крыма, а доска уничтожена[13]. Трудно представить себе, что подобное надругательство над патриотическими чувствами советских людей могло бы произойти (причем на законном, по мнению печати, основании) где-нибудь под Курском, Смоленском или Ленинградом.
Упомянутые и многие другие факты продолжающейся дискриминации коренного крымского населения (о них подробнее см. в основном тексте книги) в идеологической, политической и культурной областях[10], имеющие результатом разжигание межнациональной розни, давно поставили задачу активной борьбы с многовековыми национальными предрассудками, а конкретно — создания объективной истории населения Крыма. И если автору удастся показать отнюдь не приукрашенную, но освобожденную от многолетних напластований лжи, грязи и гнусных домыслов картину исторического развития крымского народа, он сочтет свой долг исполненным.
Долг русского человека и коренного крымчанина.[11]
I. ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
СРЕДНЕВЕКОВОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Традиционная европейская наука на протяжении долгого времени не включала Крым в свою "научную ойкумену". Основная причина этого примечательного положения — в том, что древний полуостров поочередно входил в состав многих великих государств: Скифии, Понтийского царства, Римской империи, Византийской империи, Хазарского каганата, Золотой Орды, Османской и Российской империй. Исследователи истории этих великих держав, этнографии их населения рассматривали Крым как некую провинцию, не имевшую самостоятельного значения. И хотя на территории полуострова жили тавры, киммерийцы, скифы, сарматы, синды, хазары, сатархи и многие другие древние народы, в средневековой Европе стало общепринятым именовать все кочевое и оседлое население степей Восточной Европы и Крыма общим именем — татары (Фрэзер Д.Д., 1983, 103).
Об этимологии этого этнонима имеется немало различных мнений; мы остановимся на наиболее доказательных из них. Конечно, европейцы сами его не "изобрели", но заимствовали где-то на Востоке — это бесспорно. Указывают, что "татарами" (т. е. "нетюрками") называли монголов Чингисхана современные ему тюрки Передней Азии (Крымский А., 1930, 1). Не противоречит этой гипотезе и уточнение М. Фасмера о том, что так именовали древние тюрки еще жителей Северного Китая (1987, IV, 27).
Предки современных русских подобных сомнений не знали и этимологических исследований не вели: "Того же лета явишася языци, их же никто же добре ясно не весть, кто суть, и отколе изидеша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. И зовуть я Татари, а инии глаголют — Таурмены, а друзии — Печенези... Бог же един весть их, кто суть и отколе изидеша, премудрии мужи ведять я добре, кто книгы[12] разумно умееть. Мы же их не вемы..." (Лаврентьевская летопись, ПСР, I, 1).
Поскольку известно, что в многоплеменных тьмах Чингисовых орд, докатившихся до Европы, основную массу составляли все же тюрки, то поневоле напрашивается парадоксальный вывод — европейцы назвали всю эту тюркоязычную массу именем "нетюрки", во всяком случае, именем их пришлых, монгольских предводителей — татар. И в своих ретроспективных хрониках авторы, как русские, так и западноевропейские, стали задним числом именовать татарами и половцев, и печенегов, и всех иных пришельцев из Азии. Так этнографический термин стал политическим.
Средневековое это заблуждение было снято этнографами еще в XVII в., и крупным народам Азии постепенно их имена вернулись. Но по отношению к Крыму и некоторым другим областям термин сохранился поныне и, видимо, никогда не исчезнет, если не рассеется народ — его носитель.
Обратимся к еще одному старому парадоксу крымской истории, также коренящемуся в средневековых заблуждениях. Парадокс этот — в выборе хронологических рамок для исследования истории коренного и основного населения Крыма. Абсолютное большинство ученых полагало достаточным датировать "начало" складывания крымско-татарского народа первой третью XIII в. — периодом переселения в Крым из Азии кочевников Батыя. Подобная жесткая "нижняя планка" той рамки, в которой, как правило, рассматривается история народа, предполагает и единый вывод — нынешние крымские татары и есть прямые потомки орд Батыя (степняки) или османских турок (жители предгорий и гор Крыма) (Ист. энциклопедия, т. 14, 144).
Казалось бы, вывод, в силу своей очевидности бесспорный, более того — подтвержденный событиями, которые, как общеизвестные, в доказательствах не нуждаются: ведь, в самом деле, Крым заполонили вначале азиатские кочевники, а затем турецкие завоеватели. И для того чтобы окончательно принять данную точку зрения, необходима малость: доказать, что в момент появления в Крыму и "татаро-монгольских" и турецких пришельцев полуостров был необитаем или же население покинуло его, переселившись[13] подальше от страшных узкоглазых чужеземцев.
Однако известно, что в исторически обозримый период, в том числе в интересующие нас эпохи, Крым не покинули ни одна крупная, значительная этническая группа или народ (здесь не рассматриваются кампании по выселению части крымского населения, т. е. татар, болгар, греков, немцев, армян, швейцарцев и т. д., предпринятые царской и советской администрацией уже в Новое время). А ведь такие события мимо народного внимания не проходили никогда и даже фиксировались. Так, мы знаем о переселении киммерийцев в Переднюю Азию, хотя это происходило еще в X — IX вв. до н. э. Но ни один античный или средневековый историк или географ, пристально интересовавшийся Крымом, ни словом не упоминает о том, что территория полуострова когда-то лишилась своего коренного населения. Другими словами, оба пришествия (кстати, далеко не самые крупные в истории Крыма) лишь эпизод в ней. И оба они, наложившие, безусловно, яркий внешний отпечаток[14] на дальнейшую этническую историю Крыма, далеко не столь кардинально смогли изменить магистральные пути ее развития[15]. Пути часто скрытые от наблюдателя, как подводные течения, и такие же мощные и непреодолимые.
В этой связи задача современного исследователя этнической истории Крыма должна быть расширена. Для того чтобы проследить процесс формирования крымско-татарской нации, необходимо углубить хронологический фон исследования, охватив и периоды, предшествующие историческим временам. Лишь такой подход может показать истинный масштаб "татаро-монгольского" и турецкого завоеваний и отвести этим эпизодам крымской истории подобающее место в длинной цепи самых разноплановых событий и метаморфоз, на которые она так богата.
ДРЕВНИЕ НАСЕЛЬНИКИ КРЫМА
Открытие и изучение культуры дневнейших насельников Крыма — от палеолита до эпохи раннего железа — скорее имеет общечеловеческое значение, нежели помогает ответить на вопрос о последующих этнических структурах региона. Раскопки стоянок[14] первобытного человека неопровержимо доказывают, что благодатная земля Крыма имеет высокую честь являться одной из древнейших колыбелей человечества, современной цивилизации.
Считается, что первыми обитателями Крыма были выходцы из Центральной Европы. Однако об этом можно говорить крайне предположительно, опираясь лишь на такие доказательства, как техника обработки орудий палеолита (Формозов А.А., 1959, 40). Древнейшая из расположенных в Крыму обитаемых пещер — Киик-Коба (долина р. Зуи, 25 км к северу от Симферополя). Здесь в 1924 г. Г.А. Бонч-Осмоловским были обнаружены следы обитания древнейшего человека (конец ашельской или начало мустьерской эпохи, т. е. около 100 тыс. лет назад). Неандертальские становища были близ нынешнего Бахчисарая, у с. Салачик (ныне предместье города, Староселье).
Если воспользоваться образом Д.Д. Фрэзера, который сравнивает путь человеческой мысли с пряжей, сотканной из трех нитей (черная — магия, красная — религия и белая — наука), то придешь к выводу, что черно-красная пряжа успешно ткалась уже неандертальцами. То было время зарождения религиозных представлений, так как салачикские жители начали погребать своих мертвых. Найденный здесь в 1953 г. мальчик относится уже к переходному от неандертальского к кроманьонскому периоду развития человечества. Это уже в целом современный человек.
В пещере же Чокурча (левый берег р. Малый Салгир) найдены груды костей мамонта. И что примечательно — черепа лежат отдельно, как и бивни, нижние челюсти, кости таза или конечностей. По всей вероятности, это — свидетельство примитивных магических обрядов — не иначе люди Чокурчи пытались повлиять на рост поголовья промысловых животных.
Само расположение мустьерских стоянок говорит и о некоторых "научных" достижениях их обитателей, если под этим понимать совокупность более или менее очевидных истин, почерпнутых из ежедневного опыта и наблюдений. Все они находятся у оврагов, обрывов и мест, удобных для облав. В охоте облавным способом принимало участие все население пещеры, так называемая "кровнородственная орда". Крупнейшим из таких поселений была группа стоянок Ах-Кая (близ Карасубазара), где кремневых орудий найдено[15] больше, чем во всех остальных мустьерских стоянках Крыма (Колосов Ю.Г., 1977, 47).
В конце эпохи мустье обитатели Крыма стали носить одежду, а беспорядочные до этого половые отношения сменились более или менее устойчивыми брачными. К этому же времени можно отнести начало длинной и славной истории крымской архитектуры — появляются первые строители, возводившие каменные стены с дверными проемами в устьях пещер. Очевидно, бродячая жизнь охотников и собирателей, ранее находивших приют в более или менее случайных местах, сменилась оседлой.
Древний палеолит сменился верхним около 40 тыс. лет назад. Верхний палеолит в Крыму — это стоянка Сюрень-I в долине Бельбека, грот Буран-Кая (ныне дер. Овражка на краю долины Бурульчи), навес в долине Качи, пещера Аджи-Коба.
Все эти стоянки по культурному типу можно отнести к обширной группе памятников, встречающихся в Северном Причерноморье и на Черноморском побережье Кавказа, которую называют средиземноморской или средиземноморско-африканской (Бадер О.Н., 1957, 23).
По найденным на стоянках предметам видно, что жители Крыма уже умели сверлить кость; на роге и кости появляется первая гравировка. Охотники делали ножи, гарпуны, дротики, вставляя каменные острия или резцы в деревянную или костяную оправу. Человек из Сюрени-I умел ловить крупную речную рыбу, охотился на мамонта, пещерную гиену, медведя. Меняется вся общественная жизнь — первобытные общины, ранее жившие изолированно друг от друга, объединяются в роды. Люди чаще общаются, у них появляется обширный круг родственников и друзей, а значит, обобщается коллективный опыт в обработке материалов, совершенствуются приемы охоты, идет процесс аккультурации. И что очень важно, во главе рода становится женщина.
Это — начальный период матриархата. И первым важным следствием его было запрещение кровосмешения, возможно — и упомянутое зарождение искусства, и родовое объединение. Успешно развивается и строительное искусство — человек уже не привязан к пещере или навесу. Он по своей воле, исходя из собственных охотничьих и иных интересов, выбирает[16] место обитания и там строит свое первое жилище. Это полушатры-полуземлянки, на первых порах копирующие временные шалаши. Как правило, возводили их неподалеку от воды.
Видимо, эти удобства приводят к резкому увеличению общего количества жителей Крыма, плотному его заселению.
Средний каменный век (мезолит) длился с 14-го до 7-го тысячелетия до н. э. Мезолитические памятники Крыма — Сюрень-II: Шан-Коба, Фатьма-Коба, Мурзак-Коба в долине р. Черной, верхний горизонт пещеры Буран-Коба.
Главное достижение человека мезолита — изобретение лука. Теперь охотничья добыча становится более разнообразной. Промысел мелких животных и птиц делает охоту более стабильным источником пищи, чего не было в эпоху загонного лова более крупного зверя. Охота становится делом индивидуальным, что имеет далеко идущие последствия. Возникают личные хозяйства, где содержатся для откорма вначале детеныши диких зверей, затем домашний скот (в Крыму это вначале собака, затем свинья).
Усложняется погребальный обряд — теперь людей хоронят в скорченном положении, связанными. Сами могилы ориентированы на восход солнца. Нередко костяки с пальцами, отрезанными еще при жизни, что было связано с обрядом инициации, введения в члены мистического союза потомков животного — тотема (Пропп В.Я., 1986, 90), — затем — с какими-либо событиями в жизни общины.
Люди мезолита — типичные кроманьонцы. Раскопки позволили воссоздать облик крымчан той эпохи: людей весьма рослых, с длинной, сильной шеей, высокими, тонкими ногами. Реконструированный М.М. Герасимовым облик женщины из пещеры Мурзак-Коба поражает своим изяществом и красотой. У нее большие глаза, узкие кисти рук, крупный подбородок. А в целом черты лица — безусловно европейского типа.
Около 5 тыс. лет до н. э. начинается эпоха неолита. Неолитические памятники, числом более 150, разбросаны буквально по всему Крыму. И это лучше всего объясняется резко возросшей общей численностью и динамичностью человека, его сезонными кочевками, связанными со скотоводством. В загонах, стойлах и[17] хлевах было тесно от коз, овец, лошадей, коров, не говоря уже о давно одомашненных свиньях. А по вечерам в крымских селениях пахло не только парным молоком, но и свежеиспеченным хлебом — крымчане собирали на своих полях злаки и мололи из них по мере надобности муку — пшеничную! — на ручных зернотерках (Янушевич З.В., 1986, 48). Охота, очевидно, навсегда уступает место экономически более надежному сельскому хозяйству. Так, на каменной стеле, найденной в урочище Бахчи-Эли (ныне в черте Симферополя), нет ни одного охотничьего предмета, но любовно изображены соха, мотыга, бык, ярмо и топор.
В хижинах появляется глиняная посуда, обожженная на огне костров (стоянки Земиль-Коба и Таш-Аир в предгорье, Кая-Арасы у Бахчисарая, Ат-Баш и Балин-Кош у Симферополя). Богаче становится не только материальная, но и духовная жизнь крымчан — это видно из того, что все более усложняется погребальный обряд. У с. Долинки (Красноперекопский район) было найдено крупное захоронение — около 50 костяков. Перед погребением все покойники были осыпаны красной охрой. Их одежды из шкур были украшены просверленными зубами оленя, бусами из кости. И это — обычное, рядовое кладбище, использовавшееся год за годом.
Положение скелетов, инвентарь могил говорят о начавшемся социальном расслоении (Щепинский А.А., 1966, 92). Это — закат каменного века.
На смену ему приходят медный и бронзовый. В Крыму к первому из них относят три первых столетия 20-го тысячелетия до н. э., ко второму — XVII — VIII вв. до н. э. Металл приходит на смену камню уже в начале каменного века, хотя каменные изделия достигают в эту эпоху невиданного совершенства. И современный человек не может скрыть восхищения, рассматривая изготовленные из крепчайшего, но отлично полирующегося крымского диорита функционально безупречные элегантные каменные топоры и ножи энеолита. Неудивительно, что на первых порах медные подвески, браслеты, шилья, топоры, ножи рабски повторяют древнюю каменную и костяную мелкую пластику.
Многие из предметов, сопровождавших человека как в будни, так и в нечастые праздники, покрываются[18] орнаментом. Но если ранее назначение его было магическим, то теперь некоторые детали позволяют предположить и чисто эстетическую ценность таких предметов. Искусство Крыма смело шагнуло на качественно новую ступень — широко распространяется стенная живопись (напр., навес Таш-Аир в долине Качи), антропоморфные скульптуры. На стенах деревянных или каменных погребальных ящиков, до недавнего времени скрытых курганами, обнаружена геометрическая роспись, исполненная тремя цветами — красным, белым, черным (курган Кемь-Оба). Это — древнейшая в Европе многоцветная роспись!
Кромлехи, эти сложные мегалитические сооружения, известны читателям всего мира более всего по комплексу Стоунхедж в Англии. Но аналогичные памятники культа Солнца есть и в Крыму, и величием своим они нисколько не уступают британским. Крупнейший кромлех находится в районе бывшей Воронцовской рощи, у Симферополя. По кругу диаметром 12 м торжественно высятся здесь вертикальные столпы — менгиры, к сожалению ушедшие ныне под воды в результате затопления всей Воронцовской рощи Симферопольским водохранилищем. В отличие от англичан мы не успели даже провести перед этим варварским шагом (впрочем, прекрасно символически отразившим всю послетатарскую "культурную" деятельность нынешних крымчан) необходимых научных исследований этого выдающегося памятника не только крымской, но и мировой истории культуры. Мелкие кромлехи насчитываются десятками, иногда они расположены группами, как, например, случайно обнаруженные в 5 км к юго-западу от с. Юхары-Керменчик (ныне дер. Высокое) автором этих строк; они пока никем не изучены и даже не описаны.
Интересно, что культ Солнца сочетался у строителей кромлехов с анималистическими культами — среди менгиров находят отпиленные рога или целые скелеты оленей. Очевидно, это благородное животное было родовым (племенным) тотемом древних крымчан.
Погребальные обряды менялись со временем — и это естественно, как естественно и взаимообогащающее влияние соседних культур. В эпоху бронзы, на рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до н. э., в Крыму становится "модным" хоронить покойников в деревянном[19] срубе после того, как их сожгут на костре. Обычай кремации был отмечен и в тогдашней Греции, что, впрочем, не дает повода делать прямолинейный вывод о непосредственных крымско-греческих связях. А вот чего в Греции не было, так это крымского обычая хоронить в могиле знатного покойника детей 1 — 3 лет, иногда — рабов, принесенных в жертву.
К слову, в захоронениях той эпохи находят черепа с трепанационными отверстиями. И, судя по их состоянию, человек после подобной и ныне относящейся к сложным операции еще долго жил. А в курганах близ Евпатории и Красноперекопска найдены первые крымские музыкальные инструменты — костяные флейты.
К особенностям культуры региона следует отнести и высеченные из камня изображения фаллоса (хранятся по большей части в Херсонском музее). Известно, что фаллический культ был вообще широко распространен в Причерноморье и на Кавказе с 3-го тысячелетия до н. э. почти вплоть до наших дней. При этом размеры фаллоса сильно варьируются, доходя до 4 м (Северная Осетия). В Крыму эти любопытные предметы культа по размерам скромнее, но распространены довольно широко — только у Симферополя их находили у сел Зольное и Константиновка, у дер. Дружное, близ верховьев Малого Салгира.
Эпоху раннего железа относят в Крыму к концу VIII — VII вв. до н. э. Собственно, культура этой эпохи не одна, общая для всего полуострова. Отдавая себе отчет в известной схематичности такого деления (и наименований — тоже), специалисты расчленяют ее на три основные части — киммерийскую, кизил-кобинскую и таврскую.
Памятники первых двух культур встречаются по всей территории Крыма, третьей — лишь южнее линии Евпатория — Зуя-Арабат. Расплывчаты и хронологические рамки существования этих культур. Наиболее ранний из найденных памятников относится к эпохе бронзы (Стржелецкий С.Ф., 1954, 11 — 12), верхняя граница периода доходит до скифской страницы в истории Крыма — это VI в. до н. э. (Шульц П.Н., 1957, 64). Но сказанное относится к так называемым киммерийцам; тавры же сохраняли этническую чистоту и своеобразие своей культуры и в середине I в. н. э. (см. ниже).[20]
ТАВРЫ
Происхождение тавров. Вопрос о происхождении древнейших этносов сложен уже в постановке. Прежде всего неясно, где та хронологическая "точка отсчета", начиная с которой прежде неотличимые сообщества архантропов начинают осознавать себя (или представлять собой) отдельной культурологической или антропологической группой (Алексеев В.П., 1982, 38; Бромлей Ю.В., 1983, 245). Опасность заключается уже в выборе критерия выделения группы. С одной стороны, можно впасть в заблуждение, абсолютизируя схожесть бытия, обычаев и даже антропологических особенностей различных этнических групп, вызванную внешними обстоятельствами, в частности необходимостью совместного проживания в непосредственной близости друг от друга. В этом случае, особенно если этносы находятся в параллельной фазе исторического развития, возможно и взаимовлияние.
Для историка важно учитывать, кто является наблюдателем, оставившим потомкам свое описание той или иной этнической группы. Особенно если этот наблюдатель — представитель народности, находящейся на более высокой стадии развития. Естественно предположить, что грек, рассказывающий о тавро-скифах, склонен видеть прежде всего общие варварские черты, не замечая особенных свойств той или иной местной народности.
С другой стороны, самовыделение людей в особые группы, особенно на стадии формирования этноса, может происходить по причинам, часто не связанным с культурологическими или антропологическими свойствами, однако от этого не менее существенным для современников, например традиционная вражда соседних поселений. Иными словами, опасно принимать за искомую точку отсчета тот момент, когда народ (группа) начинает осознавать, что он — общность, обладающая признаками, которые отделяют его от соседних племен.
Нельзя не согласиться с тем, что поиск этой "точки отсчета" — задача в некотором роде схоластическая. Становление любого народа — это сложный исторический процесс, а не отдельное событие, до которого шло накопление отдельных этнических признаков, а[21] после — уже развитие сложившейся этнической группы, народа.
Главным из признаков такого рода традиционно считается язык. Но и в этом подходе есть сложности. Основная из них — в том, что географические границы распространения языка, материальной и духовной культуры различных племен и народов нередко накладываются друг на друга уже начиная со стадии нижнего палеолита. Начинается никогда более не прекращающийся процесс этнической интеграции и дифференциации. Отметим в скобках, что становление языка и материальной культуры имеет решающее форморазличительное значение на ранней ступени складывания этноса, тогда как формирование культуры духовной на ее более или менее развитой стадии отражает процесс этнической консолидации и этнического (национального) культурного процесса в более поздние периоды.
Таким образом, мы видим, что решение вопроса о происхождении древних этносов выходит далеко за рамки чисто археологических наблюдений и исследований, что оно должно быть дополнено этнолингвистическими штудиями. Однако что касается конкретного случая, то задача эта приобретает немыслимую сложность, ведь мы не знаем (кроме редчайших, скудных, спорных лингвистических фрагментов)[16] о языке тавров почти ничего. И именно поэтому по необходимости нам придется в разделе об этногенезе тавров обращаться исключительно к археологическому материалу.
Впрочем, подход к поставленной задаче именно под этим углом, при всей его внешней ограниченности, считать априори недостаточно глубоким и плодотворным не стоит. Ведь уже в каменном веке, как известно, закрепляются характерные для каждого отдельного племени особые способы обработки камня, формообразующие традиции, которые переходят затем на медь, бронзу, а иногда и на произведения из более совершенных материалов.
И здесь сделаны весьма важные выводы, а именно о том, что многочисленные, в том числе и функционально различные, памятники свидетельствуют о генетической связи культуры тавров с культурой автохтонных жителей Крыма 2-го тыс. до н. э. (Стржелецкий С.Ф., 1954, 10 — 11). Об этом же говорят[22] некоторые антропологи, основываясь на краниологическом и ином материале таврских захоронений (Жиров Е.В., 1949, 277 — 278). При этом, чем ближе подходит комплекс к "историческим" временам, тем точнее и обоснованнее становятся подобные выводы. Так, совершенно бесспорны результаты исследований Кизил-Кобинской культуры 1-го тыс. до н. э., в которую перешел ряд феноменов 3-го — 2-го тыс. до н. э. (каменные ящики, специфическая орнаментация керамики). При этом весьма скромный вклад поздней срубной культуры в таврскую подтверждает еще один весьма важный вывод: тавры до ухода киммерийцев с исторической сцены Крыма с ними, очевидно, не соприкасались, не смешивались (Лесков А.И., 1965, 164). Также различными культурами ныне принято считать кизилкобинцев и тавров, которых относят к кемиобинцам (по имени кургана Кеми-Оба близ Карасубазара). Раннетаврские кемиобинские племена обитали в предгорном и горном Крыму во второй половине 3-го — первой половине 2-го тыс. до н. э. Это были носители чрезвычайно своеобразной культуры — они ваяли первые в Крыму человеческие скульптуры, монументальные произведения искусства, иногда подлинные шедевры (напр., диоритовая полутораметровая стела из Казанков, близ Бахчисарая). Фигуры эти водружались на вершинах курганов, обнесенных по основанию каменными оградами.
Выводам этим нисколько не противоречат обнаруженные факты заимствований таврами элементов кавказских культур (Бобин В.В., 1957, 54 — 55; Щипинский А.А., 1966., и др.); это случилось лишь в 1-м тыс. н. э., т. е. в весьма поздний период истории этноса.
Большинство наших и зарубежных ученых считают тавров аборигенами Крыма, причем индоарийского происхождения. И этот вывод подтверждается не только антропометрическими, весьма точными данными[17], но и свидетельствами античных ученых — случай весьма редкий (Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А., 1982, 344).
Тавры глазами их современников. Тавры — древнейший из крымских этносов, имеющий собственное имя. Первые известия об этом народе мы встречаем у античных авторов. Гомер называет их лестригонами; описывая путешествия Одиссея, поэт[23] говорит, что хитроумный царь Итаки и его спутники достигли "неприступного города, лестригонского Телепила... Тут, когда мы вступили в славную бухту, вокруг которой с обеих сторон высится сплошная скала, а нависшие берега выдаются друг против друга в устье и узок вход, тут все направили внутрь округленные суда. Они были привязаны близко одно к другому внутри глубокой бухты, ибо никогда в ней не поднимается волнение, ни большое, ни малое, а было кругом светлое затишье" (ВДИ, 1947, №4, 281).
В этом весьма подробном описании нетрудно признать Балаклавскую бухту, уникальное творение природы, равного которому нет не только на Черном море, но и в Мраморном, и в Эгейском, и в Средиземном. Автор, в свое время много лет отдавший морским плаваниям, видел лишь одну бухту, подобно Балаклавской защищенную от волнения узким и извилистым входом, — в глубине острова Сан-Себастьян, но вряд ли ее Гомер имел в виду: путешествие Одиссея к берегам Бразилии гениальный грек, конечно, измыслить не мог.
После Гомера говорит в своем "Описании моря, прилегающего к населенной Европе, Азии" Скилак Кариандский, автор IV в. до н. э.: "За скифской землей народ тавры заселяют мыс материка, а мыс этот вдается в море. В таврической земле живут эллины, у которых город следующий: торговый город Херсонес, мыс таврической земли Бараний Лоб (очевидно, имеется в виду Аю-Даг. — В.В.). Затем опять живут скифы" (ВДИ, 1947, №3, 154 — 155).
Этноним "тавры", здесь встречающийся впервые, конечно, не самоназвание народа. Оно дано ему греками предположительно в связи с жертвоприношениями Деве — верховной богине древнего крымского населения. Впрочем, подножие главного алтаря Девы, расположенного где-то на мысе Фиолент, обагряла кровь не только быков ("тавров"), но и людей, о чем согласно пишут античные авторы IV — III вв. до н. э. Климах в "Гимне Артемиде"[18] и более "молодые" (II — I вв. до н. э.) Никандр[19] и безымянный автор "Землеописания". Последний более подробен: "Тавры — народ многочисленный и любят кочевую жизнь в горах; по своей жестокости они варвары и убийцы и умилостивляют своих богов нечестными деяниями" (ВДИ, 1947, №3, 311). О "святилище Девы, какой-то[24] богини" в Херсонесе упоминает знаменитый Страбон, добавляя, что "имя ее носит и находящийся перед городом на расстоянии ста стадиев мыс Парфений[20]. В святилище же находится храм богини и ее статуя. Между городом и мысом есть три гавани, затем следует древний Херсонес, лежащий в развалинах (это развалины, очевидно, пригородных селений на Гераклейском полуострове. — В.В.), а затем бухта с узким входом, возле которой преимущественно устраивали свои разбойничьи притоны тавры, скифское племя, нападавшее на тех, которые спасались в эту бухту, а называлась она бухтой Символов" (ВДИ, 1947, №4, 203).
Миф о том, что царем тавров некогда стал известный герой Персей, повторяют Дионисий Митиленский в "Аргонавтах" (ВДИ, 1947, №3, 309) и анонимный составитель "Схолий" к Аполлониеву "Походу аргонавтов"[21].
Еще один царь тавров, известный нам от древних, — Тоант — также грек; по Овидию Назону, он — сын Вакха (ВДИ, 1949, №1, 245), достигший в ходе своего преследования спутников Ореста и Пилада страны тавров, считает Арриан[22]. Более сведущий в истинной, не мифической, истории тавров Дяодор Сицилийский (I в. до н. э.) описывает их быт — быт морских пиратов, жестоких разбойников (ВДИ, 1947, №4, 257, 266), обитавших, согласно
Страбону, на большей части Крыма, "до перешейка и Каркинитского залива" (ВДИ, 1947, №4, 205), т. е. южнее линии Евпатория — Перекоп. Однако Керченский полуостров во второй половине II в. н. э. принадлежал не им, а боспорцам, с царем которых Митридатом тавры поддерживали добрые отношения[23]. Очевидно, с северным соседом, со скифами, они нередко воевали, выработав при этом своеобразную тактику: тавры, "предпринимая войну, всегда перекапывают дороги в тылу и, сделав их непроходимыми, вступают в бой; делают они это для того, чтобы, не имея возможности бежать, необходимо было или победить, или умереть"[24]. Впрочем, возможно, это искаженное свидетельство о существовании древнего оборонного рва и вала на Перекопе, встречающееся и у более поздних авторов[25]. Сооружения эти существовали уже в III — II вв. до н. э., ныне они весьма точно локализованы (Вдовиченко И.И., Колтухов С.Г., 1986, 155).[25]
Границы расселения тавров первым намечает Геродот: "Скифия... простирается до города, называемого Каркинитидой. Отсюда идет гористая страна, лежащая вдоль того же моря. Она вдается в Понт и населена племенами тавров вплоть до Херсонеса Скалистого (Керченский полуостров. — В.В.). Херсонес этот на востоке выступает в море" (Геродот, 1975, 212). То есть древний историк проводит северную границу расселения их от Евпатории до Феодосии, отсюда следует, что тавры занимали часть степи, все предгорье, горные и южнобережные территории. Если площадь эта со временем и сокращалась, то незначительно. Еще в V в н. э. тавры владели горами и берегом, включая Судак на севере. "От Феодосии до пустынной гавани Афинеона, или гавани скифо-тавров, 200 стадиев", — указывает Псевдо-Ариан в "Объезде Эвксинского Понта" (ВДИ, 1948, №4, 235).
Как о своих современниках пишут о таврах и более поздние авторы, жившие во II — V вв. н. э. Упоминая о сохранившемся в Крыму обычае человеческих жертвоприношений Деве, они называют ее Артемидой, добавляя, что иногда богиня лично умерщвляет пленников (Афинагор. ВДИ, 1948, №2, 263). Другие более реалистично полагают, что этим все же занимаются люди. "... Тавры... кого ни захватят у себя из иностранцев, потерпевших кораблекрушение на море, тотчас приносят в жертву Таврической Артемиде", — говорит в "Увещательной речи к эллинам" Климент Александрийский (ВДИ, 1948, №2, 280 — 281). Более детально раскрывает и эту интересную тему Геродот: "У тавров существует такой обычай: они приносят в жертву Деве потерпевших кораблекрушение мореходов и всех эллинов, кого захватят в открытом море, следующим образом. Сначала они поражают обреченных дубиной по голове. Затем тело жертвы... сбрасывают с утеса в море, ибо святилище стоит на крутом утесе, голову же прибивают к столбу... Живут тавры разбоем и войной" (1972, 213).
Таким образом, опасность стать таврской жертвой была отнюдь не мифом, а суровой действительностью той эпохи; Ориген призывал в 249 г. н. э. даже "уничтожить... существующие у тавров законы о принесении иностранцев в жертву Артемиде" ("Против Целеса", ВДИ, 1948, №2, 299). Актуальный этот[26] призыв остался явно безрезультатным — о продолжавшейся практике кровавых оргий мы встречаем упоминания у авторов и IV[26] и даже V в. н. э.[27] Единственное утверждение об употреблении таврами жертв в пищу[28], видимо, ошибочно.
Существует предание, согласно которому культ Дианы был учрежден Орестом, убившим Фаоса, царя Херсонеса, и бежавшим с сестрой в Италию. При этом он привез в пучке веток изображение Дианы Таврической. Однако на римской почве жестокий ритуал жертвоприношения вылился в более мягкую форму. Беглый раб, которому удалось сломать ветку на священном дереве, приобретал право сразиться со жрецом немийского святилища за титул царя Леса. Д.Д. Фрэзер считает, что этот смертельный поединок является отголоском человеческих жертвоприношений, некогда свершавшихся в Крыму (1983, 11).
Тавры в свете археологии. Советские историки пришли в последние десятилетия к весьма важному выводу о таврах как значительной части складывавшегося в древности и средневековье коренного крымского населения, отчего и изучение их приобрело "первостепенное значение для выяснения роли местных племен в истории... Крыма" (Лесков А.М., 1961, 1).
Впервые ученые столкнулись с материальными памятниками тавров еще в конце XVIII в., когда Паллас обнаружил таврский дольмен (каменный ящик) у деревни Токлук. Но до того как было найдено первое таврское селение (у Кизил-Кобы), прошло еще более века. А потом последовали более многочисленные находки самых разнообразных памятников — начались целенаправленные поиски, раскопки, исследования горного Крыма.
Исследования эти неопровержимо показали, что о единой таврской культуре можно говорить лишь в общем плане. Она имела ряд основных черт, общих для всех тавров (например, способ захоронений, изготовления инструмента и посуды, сам физический облик). Однако некоторые местные отличия и особенности позволяют четко выделить ряд субэтнических групп, проживавших в пяти районах:
I. Гераклейский полуостров, Инкерманская долина, побережье Балаклава — мыс Айя.[27]
II. Предгорная часть долин рек Бельбек, Кача, Альма, Салгир, Зуя, Карасу и др.
III. Северные склоны юго-запада Главной гряды и горные долины — Байдарская, верховий Бельбека, Качи,
Альмы, Салгира и др.
IV. Северные склоны Главной гряды в ее центральной и юго-восточной частях — верхняя часть долин рек Бештерек, Карасу, Бурульчи и др.
V. Алуштинская, Судакская, Капсельская, Козская, Отузская и другие долины южного и юго-восточного побережий (Шульц П.Н., 1959, 236).
Наиболее заметны следующие культурные различия этих таврских племен: ранние тавры Керченского полуострова испытали влияние прикубанских культур; там, где горные тавры сталкивались со степняками, они восприняли некоторые элементы срубной культуры (например, белогорская стоянка); наиболее быстро развитие шло в удобных для земледелия и рыбного промысла районах — в Инкерманской долине, на Гераклейском полуострове.
На сегодняшний день накопились весьма заметные результаты полевых исследований. Это позволяет выделить следующие разновидности памятников таврской культуры, относящиеся ко всем трем периодам[29], на которые можно разбить историю этноса: стоянки в пещерах и под нависающими скалами (Кизил-Коба, Кош-Коба, Эни-Сала, Замиль-Коба, Алимов навес у Баштановки); открытые стоянки (Альма, Балаклавская, Евпаторийская, Белогорская, Заветнинская, Симферопольская, Кизил-Кобинская, Инкерманская и др.); укрепленные поселения (мыс Ай-Тодор, горы Кастель, Агармыш, Аю-Даг, Базман, Ай-Иори и др.); неукрепленные убежища на скалах (Кызыл-Кулак-Оба, Караул-Оба и др.); "длинные стены", закрывавшие перевалы (у Байдарских ворот, на Чучельском перевале, на Бабугане, на Караби-Яйле, между Демерджи и Тырке и др.); менгиры и кромлехи (долины Байдарская, Алуштинская, урочище у с. Высокое); дольмены и каменные руины (Байдарская долина, окрестности Ялты, Мангул и др.); святилища (у Ялты); жертвенники (г. Кошка); четырехстенные дома с очагами (Евпатория).
Ранние тавры (X — VI вв. до н. э.). В ранний период своей истории тавры вполне еще "шли в ногу[28] со временем", если сравнивать их с соседями. Они умели строить мощные оборонительные стены с напольной стороны горных мысов или полуостровов побережья (Таш-Джаргал в предгорье Уч-Баш на Гераклейском полуострове). Как правило, эти укрепления господствовали над местностью, с них открывался широкий обзор подходов к стенам — особенно характерно в этом смысле укрепление на вершине Аю-Дага (Кропоткин В.В., 1953, 11).
Судя по таким находкам, как зернотерки, мотыги, гарпуны, грузила, они жили оседло, занимаясь земледелием и рыболовством. Среди таврских зерновых культур уже в X — VIII вв. до н. э. встречаются твердые и мягкие карликовые пшеницы, перешедшие сюда, очевидно, с родины земледелия — Ближнего Востока — в весьма отдаленные эпохи, во всяком случае задолго до греческих колонистов. Семена пшеницы найдены в раскопках таврского поселения Уч-Баш; ближайшие по времени и месту находки такого рода, сделанные на Украине и в Молдавии, относятся лишь к средневековью (Янушевич З.В., 1986, 48). Кое-где, например в Инкермане, намечается переход от примитивного мотыжного к плужному земледелию на тягловой силе домашних животных. К IV в. до н. э. относятся первые винодельни — значит, тавры выращивали и виноград; скорее всего это были местные мелкоягодные высокоурожайные сорта. Эти люди носили одежды, ткань для которых изготовляли сами; они искусно обрабатывали бронзу (волочение, штамповка), но еще не избавились от наследия неолита — в ходу были каменные и костяные ножи, топоры, скребки. Посуду делали как из камня, так и из обожженной глины без помощи гончарного круга (Репников Н.И., 1910, 19), ленточным способом с последующим лощением. Огромные кувшины типа пифосов обжигались в гончарных печах (Ашлама-Дере). Орнамента на керамике не было.
Своих покойников ранние тавры хоронили в каменных ящиках, напоминающих дольмены, но без классического круглого входного отверстия в одной из стен. Иногда ящики достигали огромных размеров — так, отдельные плиты весили до 20 т. (Лесков А.М., 1965, 172). Эти монолиты откалывались от скалы клиньями, затем их доставляли к местам захоронений за километр и более. В один ящик тавры могли помещать[29] умерших неоднократно, нередко встречаются парные (мужчина и женщина) захоронения. К концу раннего периода в погребениях все чаще встречаются железные изделия.
Греческой керамики (амфор) относительно немного (Таш-Джарган, Кошка, Инкерман); эти единичные находки свидетельствуют о торговых связях тавров с греческими колонистами. Другая, более древняя, относящаяся к доэллинскому (т. е. до VI в. до н. э.) периоду разновидность греческой посуды (см. Каллистов Д.П., 1949, 8), очевидно, привозилась заморскими купцами. Что же могли предложить тогдашние крымчане высоко поднявшимся над их уровнем, культурно более развитым грекам? Об этом мы ничего не знаем, но можем догадаться — скорее всего хлеб, шкуры, сыр. Или один из этих простых товаров.
"Средние" тавры. В своей "Истории" (IV, 102) Геродот указывает, что таврские племена V в до н. э. возглавлялись "царями" (басилевсами). Однако подобная централизация, слияние племен в более крупные государственные объединения сопровождаются, как правило, и укрупнением поселений, строительством крепостей и т. п. Что же касается тавров, то пока наука подобными фактами не располагает. С другой стороны, такого рода объекты обычно не ускользают от внимания исследователя, скорее всего их в Крыму, изучение которого ведется не одно десятилетие, просто не было. А это заставляет усомниться в свидетельстве Геродота; очевидно, он имел в виду старейшин родов или вождей племен.
Между тем быт тавров средней поры изучен гораздо лучше предыдущей, ранней. Мы знаем, что к этому времени их связи с греческими колонистами окрепли — обильны находки из бронзы, все чаще встречается греческая посуда, гривны, браслеты, кольца, цепочки, много бронзовых наплечников, бронзовых и железных частей конской упряжи, железных мечей типа акинаков.
Преобладавшие в раннюю пору дома столбовой конструкции, оплетенные лозой и обмазанные глиной (Уч-Баш), полуземлянки с аналогичной наземной частью (Ашлама-Дере), обычные землянки (Кизил-Коба) сменяются одно-и двухкамерными домами (Кошка). В селениях нередки гончарные печи, системы[30] водоотводных каналов (Айвазовское). К концу средней поры из погребений исчезает массивная бронза, сменяясь железом, появляется удивительно изящная гладкая, без орнамента, керамика — еще одно свидетельство греческого влияния.
Изменяется и ареал расселения. С V в. до н. э. скифы, опередившие тавров в государственности, усиливаются, возможно, кое-где теснят аборигенов. Эти кочевники заселяют предгорья; постепенно тавры оставляют степь — так, в селении на месте будущей Каркинитиды они жили не позднее V в. до н. э. (Драчук В.С., Кутайсов В.А., 1985, 83). Но в более позднюю эпоху, около III в. до н. э., тавры уже строят неприступные для кочевников укрепления; самое крупное из доныне известных сооружений такого типа — Харакс на Ай-Тодоре. Крепостные стены клали без раствора из точно подогнанных огромных блоков местного камня.
Расширяется и тавро-скифо-греческая аккультурация. Так, мы встречаем чисто таврские захоронения в античном Херсонесе. А румынский историк Д. Пиппиди, исследуя одну из херсонесских надписей II в. до н. э., пришел к выводу, что в городе и окрестностях постоянно проживали тавры, по греческой терминологии "парэки" (Pippidi DM., 1959, 91, 93 — 94). На Боспоре о том же говорит надгробная стела: "Памятник Тихона. Под этим памятником лежит муж, для многих желанный, родом тавр. Имя же его Тихон" (Коркус, 1965, 113). Надпись эта заставляет задуматься по крайней мере о двух вещах. О том, что тавры уже настолько поднялись в глазах греков, что были "желанны" боспорянкам — или некоторым из них? Второе — возникает сомнение в том, что все памятники, носящие греческие имена, воздвигнуты грекам же; не есть ли значительная часть их эпитафии огречившимся таврам?
Впрочем, относительно Херсонеса сомнений в большом числе горожан-тавров нет — в эллинистических слоях найдено огромное количество керамики, где на ручках стоят имена мастеров с этнонимом "тавр". Хотя в процентном отношении, полагает А.Н. Шульц, больше их жило в боспорских городах (1957, 249; также: Щеглов А.Н., 1976, 11).
Раскопки подтверждают и отмеченные античными авторами факты выступлений тавров совместно со[31] скифами против войск Митридата, что дополнительно подтверждает возможность тавро-скифского смешения. Отмечена она в захоронениях этой поры, в которых явна отчетливая взаимосвязь погребальных культов (Троицкая Т.Н., 1954).
О культурных заимствованиях у тавров другими народами уже говорилось. Это прежде всего культ Девы (Артемиды), нашедший благодатную почву и развившийся у греков и римлян. Менее известны факты перехода таврских божеств к соседним народам; между тем их не могло не быть. Так, например, по некоторым данным, скифы заимствовали у тавров культ верховной богини в виде полуженщины-полузмеи и т. д. (Ростовцев М.И., 1918, 74).
Поздние тавры. Наивысшего уровня таврская культура достигла в поздний период истории народа, когда полностью завершилась хозяйственная и социальная дифференциация. Горцы стали преимущественно скотоводами (отгонный тип отрасли с преобладанием мелкого скота). Жители долин между Главной и Второй грядами, этих наиболее густо заселенных (и тем не менее ускользнувших от внимания античных ученых) областей, стали земледельцами. Они выращивали пшеницу, ячмень, горох, фасоль, а хранили урожай в зерновых ямах глубиной до 2 м и по-прежнему, в огромных, типа пифосов, кувшинах. Эти хранилища, сопоставленные с количеством жителей селений, свидетельствуют о производстве и товарного зерна, безусловно шедшего в греческие города-колонии. Упомянутый переход от мотыжного к плужному земледелию в III в. до н. э. в основном завершился, хотя особенности горных пашен сохранили роль мотыги во многих таврских селениях. В качестве чисто подсобного промысла сохранила свое значение охота — это касается и гор, и долин.
В приморских селениях, например на Гераклейском полуострове, жители по-прежнему оставались искусными рыбаками, охотились и на дельфина. Здесь, как ни странно, торговля была развита слабее: недаром Херсонес был основан на век — полтора позже городов-колоний в земледельческих районах, где было обилие товарной продукции.
И снова поставим вопрос: какое влияние могло испытывать таврское население от ближайших соседей[32] — скифов и греков — и могло ли оказывать обратное влияние на них?
Такое взаимовлияние началось, очевидно, с VII в. до н. э., когда на периферии таврской территории появились скифы. Погребения их стали отражать таврские обычаи; курганы между Альмой и Качей содержат много таврского инвентаря, заметно отличаясь от одновременных скифских же погребений за Перекопом. Но в начальную эпоху пребывания скифов в Крыму их здесь было немного; таврская же культура, горная по преимуществу, слишком многим отличалась от степной кочевнической, и это также повышало ее невосприимчивость к скифским влияниям.
О каких-либо крупных военных столкновениях между таврами и скифами той поры античные авторы не говорят ничего. Но у них отражен факт неприятия таврами позиции скифов по отношению к Дарию Ахемениду и отказа соседям помочь в начавшейся войне с персами (ВДИ, 1947, №2, 281). Это говорит, во-первых, о независимости тавров по отношению к скифам, а во-вторых, о мирных тавро-скифских отношениях. О том же свидетельствует открытость, незащищенность таврских поселений на скифской границе и в IV — III вв. до н. э. (Айвазовское, Альма-Кермен).
Однако позже, в III — II вв. до н. э., когда центр скифского государства переместился в Крым, а могущество этого народа многократно возросло, начинается процесс тавро-скифской аккультурации. Причем не равномерной — если у скифов влияние тавров почти незаметно, то тавры предгорья воспринимают постепенно погребальные обряды скифов — это видно из захоронений I в. н. э. в Неаполе. Исходя из этой и иных аналогичных перемен, можно сделать вывод о том, что и межэтнические, тавро-скифские, браки распространялись все шире, но отнюдь не в горах и не на Южном берегу, где скифов не было.
Однако скифы постепенно продвигались к Херсонесу и в конце IV в. до н. э. уже вовсю торговали здесь, очевидно оттесняя тавров, конкуренция которых была слабой как по количеству, так и по выбору товаров. А еще через некоторое время, в III в. до н. э., греки вступают с таврами в вооруженные конфликты — очевидно, из-за земель, необходимых для ширящихся виноградников херсонеситов (Лесков А.И.,[33] 1965, 183). Конфликты эти учащались, греки стали окружать свои селения стенами с башнями — со II в. до н. э. тавров стали поддерживать скифы, противник куда более опасный.
В ходе этих столкновений и войн не обходилось, естественно, без захватов противника в плен, откуда путь был один — в рабство. И греки сохранили в различных памятниках имена своих рабов, добытых в битвах. Но вот что поразительно — среди них нет ни одного таврского! Как не было тавров и среди рабов, отправляемых в Грецию (Лесков А.И., 1965, 184), хотя встречаются во множестве имена скифские, сарматские, даже боспорские и меотийские — здесь есть пища для размышлений. С другой стороны, среди херсонеситов первых веков н. э. немало постоянно живущих в городе тавров; очевидно, и здесь войны не помешали начавшемуся процессу ассимиляции тавров соседями с более высокой культурой.
Впрочем, имело место и обратное влияние — уже говорилось о том, что греки поклонялись таврской Деве и даже чеканили ее изображение на монетах. Добавим лишь, что культ богини-матери (Орхилохи), владычицы неба, земли, всей жизни местных племен, далеко не сразу сузился у греков до культа куда менее масштабного — Артемиды, богини не из малозаметных, но все же одной из многих. Длительное время греки поклонялись именно таврской верховной богине, и это не могло не наложить на их духовный мир своеобразный отпечаток.
К этому выводу мы приходим, сравнив культ херсонеситов с таврскими верованиями — а о последних мы знаем не меньше, чем о первых. У тавров был ряд божеств, связанных с культом плодородия. Так, в лесу над Ялтой, в урочище Селим-Бек, открыто святилище женского божества, где тавры приносили свои жертвы, а также оставляли денежные пожертвования — здесь найдено множество монет: римских, херсонесских, боспорских, датируемых I в. до н. э. — IV в. н. э. Обнаружены и две терракотовые статуэтки божества — это небольшие, около 15 см в высоту, женские фигурки; очевидно, при отправлении культа они использовались в большом числе. В дисковом орнаменте керамики и круговой ее конфигурации отразился культ Солнца, также, как известно, связанный с культом плодородия (как и обычай тавров хоронить[34] детей не в обычных могилах, а в зерновых ямах).
Особую роль в культовой системе тавра играла собака. В целом пока костей собаки найдено немного, даже в горах, где было развито пастушеское ремесло. Тем не менее этому животному явно придавалось более магическое, чем хозяйственное, значение. Кости собаки также находят в зерновых ямах Инкермана, Нейзаца, Карасубазара — псы должны были охранять урожай и благополучие народа (Богаевский Б.Л., 1937, 190 — 191).
Космогонические же представления тавров хорошо проиллюстрированы изображениями на ритуальных сосудах. Так, в одном из главных святилищ, находящихся в специально приспособленном нежилом, священном месте (одна из пещер Кизил-Кобы), был найден сосуд с изображением солнца и менее реалистичными — дождя и молний (Домбровский О.И., Щепинский А.А., 1962, 40). И этот предмет явно имел отношение к культу плодородия.
На исходе своей истории таврские племена испытывали, судя по всему, давление практически со всех сторон: с севера, северо-запада и северо-востока — скифов и понтийцев, с юга, юго-запада и юго-востока — греков, затем, гораздо более настойчивое, римлян.
В борьбе против пришельцев тавры в соответствии с вышеприведенным свидетельством Аппиана нередко меняли союзников. Так, они соединялись с занявшими Керченский полуостров скифами для борьбы с римлянами, ставшими их основным противником с I в. до н. э. Сражались с римлянами они не только на суше, но и в открытом море, где скифы им помочь не могли, — Флавий сообщает, что для уничтожения таврской флотилии маломерных судов римляне направили к берегам Крыма 40 кораблей и 3 тыс. солдат на борту (Иудейская война, II, 16, 4).
На суше же тавры успешно перенимали фортификационную технику врага. Они стали применять мелкоблочную кладку в оборонительных стенах, как римляне (г. Кошка), наращивали крепостные пояса, как это делали скифы: в Неаполе при небольшой толщине каждой из параллельных стен-панцирей общая толщина вместе с забутованным межстенным пространством достигала 2,5 м.
Над крепостными стенами нередко высились[35] башни, выступавшие вовне для обстрела противника с флангов.
Закат народа-аборигена. Когда же тавры исчезли с лица земли как самостоятельный народ с собственной культурой? Археологи утверждают, что остатки этноса сохранялись в горах до раннего средневековья, т. е. и в VII, и в VIII в. (Шульц П.Н., 1959, 257). Есть мнение, что под напором гуннов (IV в. н. э.) тавры были оттеснены в Мангуп; это подтверждается и археологическими данными, но здесь речь идет лишь о жителях близлежащих речных долин. Обитатели же неприступных горных твердынь смешались, судя по всему, с менявшимся окружением — народами, приходившими и остававшимися на полуострове, прежде всего со скифами (Соломончик E.I, 1967, 155). Но и этот процесс начался в горных районах не ранее чем в средневековье, когда в горы, к селениям тавров, поднялись остатки скифов, уцелевшие после разгрома их державы.
Автор "Жития Иоанна Готского" свидетельствует о том, что "тавроскифы" населяли Партенит и в VIII в. (с. 396). Не исключено, впрочем, что речь здесь идет не о смешанном населении — как известно, античные авторы называли тавроскифами и чистокровных тавров, а автор "Жития" мог следовать этой традиции.
Последнее в истории упоминание о таврах (тавроскифах) относится к X в. — в эту пору к ним направляются христианские миссионеры (Житие херсонесских мучеников, 406). Возможно, конечно, что это уже не этнический, а географический термин. Но с другой стороны, локализация их памятников в районе Херсонеса противоречит такому предположению — не к христианскому же населению этого северного оплота византийской церкви могли плыть корабли миссионеров. Об иных (кроме тавров) язычниках, обитавших в окрестностях Херсонеса, источники X и более ранних веков ни разу не упоминают...
Каким же был закат тавров, этого первого исторического этноса крымской земли? То, что само имя их позже 1-го тысячелетия н. э. начинает изглаживаться из памяти современников, еще ни о чем не говорит. Есть много примеров, когда этнос менял и имя, и язык, и веру, культурно и тем более антропологически оставаясь самим собой, — вспомним хотя[36] бы современных урбанизированных евреев. Древние народы так просто не "исчезают". Их нужно с территории выселить или истребить — лишь в этих случаях может быть "гарантия" бесследного их исчезновения. Да и то как сказать...
Встречающееся еще иногда утверждение о том, что тавры были где-то в IV — V вв. полностью истреблены римлянами, малообосновано. Легионеров для подавления таврского сопротивления было недостаточно и в эпоху расцвета римского могущества в Крыму; как же могли они прочесать все горные массивы в период, когда деятельность Рима здесь начала понемногу сворачиваться? И главное — с какой целью? Неудивительно, что подобные предположения были в свое время подвергнуты убедительной критике (Шульц П.Н., 1959, 270).
Более обоснованными выглядят между тем совсем иные гипотезы. Еще в XIX в. талантливый исследователь Крыма Петр Кеппен не мог не заметить: "Мне кажется очень вероятным, что в жилах обитателей почти всех богатых находками дольменов областей еще и теперь течет кровь древних строителей дольменов" (Russische Revue, Bd V, 1874, 551). Другими словами, он высказал не такую уж невероятную гипотезу о том, что тавры, будучи в средние века сильно татаризованы, остались жить на старых местах, но уже под иным именем и перейдя постепенно на татарский язык, заимствовав мусульманскую веру.
И прозрение старого ученого было спустя многие десятилетия подтверждено новыми точными науками, в частности антропологией: "Скудные данные о европеоидных брахиокранных и гипербрахиокранных черепах из пещерного города Эски-Кермена наводят на мысль о том, что не было ли средневековое население горного Крыма в основном потомками его древних аборигенов — тавров? ...В самом деле, куда же исчезли тавры? История не говорит о каких-либо переселенцах..." (Жиров Е.В., 1949, 283 — 284). Более убедительных гипотез о судьбе тавров нам, признаться, встречать пока не приходилось ни в отечественной, ни в зарубежной науке. Зато встречались весьма точные наблюдения антропологов, которые еще в конце XIX в. пришли к выводу о том, что "татары" гор и Южного берега "ничего не имеют общего с татарами в том смысле, как мы привыкли понимать[37] это слово. Многие говорят, что южнобережные татары имеют греческий тип, но и это несправедливо — татары Крыма имеют свой тип, действительно сильно колеблющийся по отдельным местностям, тем не менее тип своеобразный. Первенствующий элемент был, бесспорно, не тюркский... Первое, что мне бросалось в глаза... это их так называемый "благородный" облик и отсутствие монгольских черт" (Харузин А.И., 1890 "б", 60). Далее автор приходит к выводу о максимальной антропологической схожести татар бывшей Готии с цыганами и иранцами, т. е. индоевропейцами, минимально смешавшимися с иными расами. "Такое сходство, — заключает ученый, — может быть объяснено общеарийским происхождением тех и других" (Харузин А.И., 1890, 321). Мысль о таврском происхождении некоторых групп этих "татар" напрашивается сама собой.
Тавры оставили свой след и в культуре народов Крыма, в том числе материальной. Десятками исчисляется количество скифских, римских, греческих, понтийских, а затем и татарских селений, поднявшихся буквально на фундаменте таврских городищ и крепостей. При этом скифы заимствовали таврскую кладку камня (так называемую циклопическую), метод сужения крепостных стен кверху, ленточную керамику. Отчасти перешел к некоторым из кочевых племен, оставшихся в Крыму, и таврский погребальный культ. Римляне не только глубоко погружались в таинственный мир мифологии тавров, они не пренебрегали специфическим строительным искусством тавров, их архитектурой, так же как греки. Ведь, судя по всему, именно у аборигенов херсонеситы заимствовали идею весьма необычных построек (усеченных пирамид), нигде, кроме этой колонии, не встречающихся — ни в Элладе, ни в других периферийных греческих городах.
И уже готовые, выстроенные стены боспорских, скажем, склепов расписывались на таврский образец. Что больше всего здесь поражает — это то, что, чем позже строилось сооружение, тем сильнее был заметен в нем таврский колорит. Так, от сюжетной схожести боспорские живописцы перешли к таврскому условному стилю. И даже обычный греческий орнамент где-то в III в. н. э. резко геометризуется и упрощается — несомненно, под влиянием таврского искусства[38] (Ростовцев М.И., 1918, 180). Верховная же богиня тавров чеканится на боспорских монетах не только в эпоху первоначального знакомства колонистов с культом Девы и в эллинский период, но и в эпоху ранней империи — вот поразительный пример глубины и долговечности влияния аборигенной культуры на пришельцев.
Как истинно образованные и интеллигентные люди, греки, римляне, затем византийцы не только не стирали следы таврской культуры на крымской земле, но и поддерживали их, реставрируя и ремонтируя такие величественные сооружения, как "длинные стены", другие укрепления. И если отнести эти работы (проводившиеся и в весьма поздние периоды — даже в эпоху Юстиниана) к чисто прагматичной деятельности, вызванной собственными нуждами, то тем большее уважение вызывает строительное и стратегическое искусство тавров, смогших "заглянуть" далеко вперед, если их сооружения пригодились в прежнем виде и далеким их потомкам. Для нас же, людей XX в., память об аборигенах Крыма живет в зримых остатках этих стен и крепостей, в немногих таврских топонимах, сохранившихся до наших дней.
КИММЕРИЙЦЫ
Второй из древнейших народов, проживавших на территории нашей страны, — киммерийцы получили это имя еще в бытность свою соседями Урарту, т. е. до переселения в Крым. Так их назвали ассирийцы: "гимирри"; здесь же деяния киммерийцев были занесены в хроники. Это единственное оставленное современниками, а не более поздними авторами описание народа, споры о котором не утихают уже не первое столетие. Ученым до сих пор не известно, как киммерийцы сами называли себя; есть гипотеза, что "киммерийцы" и "тавры" вообще два названия одного и того же народа и т. д. Мы не будем вдаваться в суть этой далеко не завершенной полемики; обратимся лучше к древнейшим источникам о киммерийцах.
С глиняных клинописных табличек ассирийцев этноним перекочевал в почти неизменном виде ("гомер") на страницы трех книг Ветхого завета (Быт. 10, 2 — 3; I Пар. 1 — 5; Иез. 38, 6), но здесь "гомерты" —[39] киммерийцы — лишь поименованы. Гораздо больше сведений о народе мы можем почерпнуть у великого поэта Гомера, в его "Одиссее". Некоторые даже допускают, что гениальный грек мог быть современником киммерийцев, лично видеть, как они вторглись в Ионию и Элиду. Подробно об этих кровавых событиях затем напишет историк Страбон (ВДИ, 1947, №4, 178). Отражены они и в трудах греческого историка-поэта Каллина, в сочинениях писателя Калисфена — к сожалению, произведения эти не дошли до нас, но, основываясь на них, писали о киммерийцах более поздние авторы, в том числе и такие авторитетные, как Геродот и Плиний.
Длительное время после того, как киммерийцы уже растворились в массе других этносов, память о них жила и в географических названиях: Киммерийский Боспор (Керченский пролив), страна Киммериан, Киммерийские стены, Киммерийский брод и т. д. Город же Киммерик просуществовал с V в. до н. э. вплоть до византийского периода истории Крыма. Расцвет его пришелся на рубеж нашей эры — это был довольно крупный торговый и ремесленный центр на месте нынешней Керчи, окруженный толстыми (до 2,5 м) стенами.
Археологические исследования нашего времени во многом прояснили вопросы, которые древними авторами освещались произвольно и часто противоречиво. "Загадочность" происхождения и исторической судьбы этого народа ныне в целом развеяна. Установлено, что как этнос киммерийцы сложились к середине 2-го тысячелетия до н. э. в Нижнем Поволжье. Эти ираноязычные (Абаев В.И., 1965, 125 — 126) странники продвигались оттуда на запад, пока не расселились на огромной территории — от Белоградца (Болгария) на западе до Северного Кавказа на востоке и от южной оконечности Крыма до п. Навки (Пензенская обл.) на севере. Определить ареал расселения этноса удалось лишь после того, как советские ученые отождествили их с давно известными археологам представителями так называемой срубной[30] культуры (Тереножкин А.И., 1976, 19).
Миновав Дон, пройдя Северное Причерноморье, киммерийцы сворачивают в Крым. Это случилось в XII — IX вв. до н. э., в так называемый белозерский период (Чередниченко С.С., 1973, 36). С собой в Крым[40] они принесли массу особенностей быта и мировоззрения, характерных для прежних мест обитания. Захоронения и другие памятники на месте бывшего Киммерика, в Инкермане, Марьине, Фронтовом, Зольном, Луговом, в Зеленом Яру дают нам прекрасные представления о духовном мире, типе хозяйственной деятельности, искусстве этого древнего народа, о развитии вообще предскифской культуры.
Эти памятники позволяют сделать вывод о высоком развитии родо-племенного строя киммерийцев, а также о сравнительно слабой дифференцированности социально-экономических отношений в начале — середине эпохи их расселения в Причерноморье. Погребения их скромны, обряды просты. Так, находки одиночных погребальных сосудов весьма редки. Богатые захоронения встречаются гораздо позднее, но вне Крыма (например, у г. Энгельса), да и то весьма нечасто.
Лишь в XII — X вв. до н. э. в могилах киммерийцев начинают попадаться золотые предметы, причем даже в рядовых захоронениях. Такой феномен имеет свое объяснение: к этому времени основные традиционные занятия киммерийцев (земледелие, отгонное скотоводство) сменяются кочевым скотоводством, что сопровождалось переходом от большой к малой семье, возникновением частной собственности на стада.
Вторая причина крупных социальных перемен эпохи — становление и укрепление связей этноса с передовыми цивилизациями Восточного Средиземноморья. Кочевники научились у них искусству изготовления железных (точнее — стальных) предметов быта, прежде всего оружия. С этой поры самыми богатыми становятся могилы воинов, хотя в киммерийском обществе были и весьма зажиточные люди более мирных профессий — это видно, в частности, из раскопок у с. Зольного. Известная из наследия античных авторов воинственность киммерийцев подтверждается не встречавшимся ранее погребальным обычаем помещать в руку павшего воина оружие, служившее ему при жизни.
Из комплексных (древних письменных и современных археологических) данных можно сделать вывод о том, что киммерийцы сражались в конных отрядах, спаянных железной дисциплиной, подвижных, мало зависевших от тылового обеспечения,[41] удивительно маневренных. Во главе всего общества, бесспорно, стояла военная аристократия, но единого государства в сложившихся условиях еще возникнуть не могло. Тем не менее, вооруженные лучшей по тем временам военной техникой (особенно характерны были длинные узкие стальные мечи со змеевидным узором на рукоятке), эти прирожденные конники могли успешно меряться силами с армиями таких великих держав древнего мира, как Ассирия, Урарту, Лидия. Более того, на закате своей истории они владычествовали даже одно время над всей Малой Азией.
Историческая роль, которую сыграли киммерийцы, безусловно принадлежит к выдающимся, если даже сравнивать их с длинным рядом живших после них в Крыму народов. Прежде всего они содействовали скачкообразному развитию экономики древнего населения юга нашей страны. Ведь именно через них на огромных территориях распространились орудия, инструменты, оружие из черного металла. Они не изобрели технологии ковки стали, этой технологии будущего, а лишь заимствовали ее у передовых цивилизаций эпохи. Но через их посредство черные металлы начали свое победоносное шествие, вытесняя бронзу, на Северный Кавказ, Среднее Поднепровье, Волгу и, что особенно интересно, в Центральную Европу.
В области искусства киммерийцы, как утверждают некоторые авторы (Ростовцев М.И., 1918, 44 — 45), также сказали свое слово, передав скифам наследие, полученное от своих иранских предков. Речь идет о знаменитом зверином стиле, который скифы получили от киммерийцев уже "готовым".
В первой половине VII в. до н. э. племена киммерийцев покинули Северное Причерноморье и Крым. Это был массовый исход, вызванный, по свидетельству античных авторов, приближением несметных скифских орд. Во всяком случае, когда в VI в. до н. э. в Северном Причерноморье появились греки, киммерийцев как отдельного народа они там не застали. Возможно, ушли не все, но оставшиеся племена успели к тому времени раствориться в таврской или скифской массе, стать составной частью генофонда Крыма и близлежащих областей.[42]
СКИФЫ
Скифы у древних авторов и современных ученых. "По рассказам скифов, народ их моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой еще не обитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена... Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксаис, Арпоксаис и самый младший Колоксаис. В их царствование упали на землю с неба золотые предметы: плуг, ярмо и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем, но, когда подошел третий, младший, брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему.
Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое авхатами, от среднего брата — племя катиаров и траспиев, а от младшего из братьев — царя — племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, т. е. царскими. Эллины же зовут их скифами.
Так рассказывают скифы о происхождении своего народа. Они думают, впрочем, что со времен первого царя, Таргитая, до вторжения в их землю Дария прошло как раз только 1000 лет" (Геродот, IV, 5 — 7).
Сохранивший для потомков эту легенду Геродот (484 — 425 до н. э.), как известно, немало путешествовал в Северном Причерноморье, где, очевидно, записал ее от самих скифов, так что точность передачи ее у него, судя по всему, максимальная.
Источник второй легенды о происхождении народа — эллины, "живущие на Понте". Они сообщили "отцу истории" следующее: "Геракл, гоня быков Гериана, прибыл в эту тогда еще не обитаемую страну (теперь ее занимают скифы)... Там его застали непогода и холод. Закутавшись в свиную шкуру, он заснул, а в это время его упряжные кони (он пустил их пастись) чудесным образом исчезли.
Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и наконец прибыл в землю по имени[43] Гилея. Там в пещере он нашел некое существо смешанной природы — полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища у нее была женской, а нижняя — змеиной. Увидев ее, Геракл с удивлением спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у нее, но она не отдаст их, пока Геракл не вступит с ней в любовную связь. Тогда Геракл ради такой награды соединился с этой женщиной. Однако она медлила отдавать коней, желая как можно дольше удержать у себя Геракла, а он с удовольствием удалился бы с конями. Наконец женщина отдала коней со словами: "Коней этих, пришедших ко мне, я сохранила для тебя; ты отдал теперь за них выкуп. Ведь у меня трое сыновей от тебя. Скажи же, что мне с ними делать, когда они подрастут? Оставить ли их здесь (ведь я одна владею этой страной) или же отослать к тебе?" Так она спрашивала. Геракл же ответил на это: "Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего поступить тебе так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна, и выполнишь мое желание".
С этими словами Геракл натянул один из своих луков... Затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс (на конце застежки пояса висела золотая чаша) и уехал. Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого — Гелоном, а младшего — Скифом. Затем, помня совет Геракла, она поступила, как велел Геракл. Двое сыновей — Агафирс и Гелон — не смогли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось выполнить задачу, и он остался в стране. От этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. И в память о той золотой чаше еще и до сего дня скифы носят чаши на поясе (это только и сделала мать на благо Скифу") (Геродот, IV, 8 — 10).
Геродот не скрывает, что относится к первой и второй легенде как к малодостоверным источникам, явно предпочитая третью версию этногенеза скифов: "Существует еще и третье сказание (ему я сам больше всего доверяю). Оно гласит так. Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили[44] их оттуда военной силой, скифы перешли Араке и прибыли в киммерийскую землю (страна, ныне населенная скифами, как говорят, издревле принадлежала киммерийцам). С приближением скифов киммерийцы стали держать совет, что делать перед лицом многочисленного вражеского войска. И вот на совете мнения разделились. Хотя обе стороны упорно стояли на своем, но победило предложение царей. Народ был за отступление, полагая ненужным сражаться с таким множеством врагов. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную землю от захватчиков. Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу. Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя; цари же, напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться бегством вместе с народом... приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части и начали между собой борьбу... после этого киммерийцы покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели безлюдной страной" (Геродот, IV, 11).
Таковы первые версии о происхождении скифов, дошедшие до древних историков. Признаться, и современному читателю наиболее достоверной покажется третья из них. Однако при внимательном анализе обнаруживается, что во всех них обильно рассыпаны зерна истины, хотя и неодинаково очевидные, как, впрочем, в большинстве мифов и преданий.
Итак, одна из версий Геродота основана на небесных дарах. Миф такого рода есть у нескольких народов, и все они издавна расселялись вне пределов европейской части СССР — это весьма показательно при выяснении происхождения скифов. Но повествование Геродота целиком укладывается в устную традицию этноса, явно занесенную в Северное Причерноморье самими же скифами в период их переселения сюда из глубин Азии.
В частности, на аналогичность Геродотова рассказа некоторым персидским древним мифам обратили внимание иранисты. Причем аналогия эта весьма близкая — так, Александру Македонскому в годы его пребывания в Средней Азии саки говорили с гордостью, что они — не простое племя, ибо получили с небес дары — упряжку быков, плуг, копье, стрелу и чашу. Царские скифы — потомки Таргитая, сына[45] Зевса, — получили в точности такие же дары! (Тереножкин А.И., 1987, 6 — 7.) То, что язык скифов принадлежал к североиранской группе, вообще факт общеизвестный. Остается уточнить лишь время их великого переселения.
Нижняя граница культуры скифов как сложившегося этноса датируется в новейших исследованиях VII в. до н. э. (Клочко В.И., Мурзин В.Ю., 1987, 13). Культуры, относящиеся к более ранним периодам в Северном Причерноморье и Крыму, явно нескифские, хотя и вошедшие в культуру этноса в качестве составной ее части. Основная из этих позднейших предскифских, т. е. киммерийских, типов культуры — так называемая черногоровско-новочеркасская. Второй главный компонент — протоскифская культура, носители которой пришли из глубин азиатских просторов. И наконец, нужно назвать отдельные вкрапления в общий культурный фонд переднеазиатских элементов, происшедшие в результате походов скифов на юг (см.: Смирнов А.П., 1966, 16 — 17).
Удельный вес каждого из трех компонентов определить пока с точностью не удалось; единственное, что можно сказать, — это то, что если не самый весомый, то самый наглядный из них — последний, так как он буквально преобразовал скифское вооружение, а также художественные приемы и методы обработки камня и металла. Это привело к заметному прогрессу в скифском скульптурном и кузнечном искусстве — появились знаменитые стрелы и объемные антропоморфные статуи.
Протоскифы шли с востока двумя последовательными волнами. Сам факт такого значительного переселения в начале раннего железного века неоднократно, впрочем, оспаривался. Не столь давно утверждалось даже, что "в настоящее время советские ученые с полной неопровержимостью доказали, что скифы являлись не пришельцами-завоевателями, а коренными, автохтонными жителями Восточной Европы" (Надинский П.Н., I, 195, 21). При этом резкие перемены в культуре доскифского населения объяснялись торговыми связями киммерийцев с соседями.
Но это, как утверждают сторонники "миграционной" гипотезы, никак не согласуется с еще недавно возвышавшимися в крымских и заперекопских степях массивными каменными изваяниями ("скифскими[46] бабами"), вес которых измерялся тоннами. Их невозможно было бы доставить на небольших судах начала 1-го тыс. до н. э., и к тому же в столь массовом количестве. Да и места, где добывался камень для их изготовления, ныне известны — они совпадают с ареалом расселения именно мигрантов "первой волны" и ее хронологией, т. е. X в. до н. э. Вторая, гораздо более мощная волна переселенцев затопила Северное Причерноморье в VIII — VII вв. до н. э.; она вновь пришла с востока и снова обогатила местное население предметами иной материальной культуры. Более того, старая, киммерийская культура оказалась как бы заглушенной новой; самое заметное, что осталось и при новом населении, — это катакомбы — захоронения.
Издавна памятники скифской культуры находили на огромных территориях[31], что привело к выводам о заволжском, даже монгольском происхождении скифов (Ростовцев М.И., Коте Г., Потратц И., Артамонов М.И., Греков Б.Н. и др.). Однако еще в прошлом веке, до того, как сложился современный богатейший комплекс скифского археологического материала, некоторые ученые, опиравшиеся почти исключительно на антропометрические данные, пришли к весьма примечательным выводам. Так, профессор Самоквасов указывал, что найденные в скифских могилах "сосуды, монеты, бляхи, перстни и другие предметы с художественными изображениями скифов, передающими черты их наружности до малейших подробностей, показывают, что у скифов были волосы густые, лоб высокий, глаза открытые, прямо поставленные, нос узкий и прямой" (цит. по: Иванов Е.Э., 1912, 10). Ему вторил академик К.М. Бэр: "Скифская форма лицевых костей не представляет ничего монгольского. Нос у скифских черепов высок и узок (у монголов плоский и широкий); нет сильно выдающихся скул, и места прикрепления височных мускулов далее отстоят от средней теменной линии, чем у монголов. Остатки языка и мифология также показывают, что скифы — чистые арийцы, или, как принято называть их в филологии, индоевропейцы" (там же).
Мы могли бы назвать десятки иных гипотез о происхождении скифов. Только характеристике "скифских" теорий и проблем посвящена целая книга (Семенов-Зусер С.А., 1947), причем "попытаться примирить[47] имеющиеся в них противоречия — дело невозможное и бесполезное" (Куклина И.В., 1985, 187). Мы настроены более оптимистично, тем более что на основании находок и открытий последних лет количественное богатство накопленных данных может перейти в качественный скачок, привести к новым результативным обобщениям в скифоведении, И первый шаг, кажется, уже сделан — киевский ученый В.Ю. Мурзин своей теорией примиряет сторонников ряда гипотез, заимствуя в них самые ценные, конструктивные достоинства.
Согласно его датировке, генезис скифского этноса можно разделить на четыре основных этапа:
1) начало VII в. до н. э. — приход в Северное Причерноморье протоскифских ираноязычных племен, начало их смешения с автохтонным киммерийским населением;
2) VII — начало VI в. до н. э. — период совместных скифско-киммерийских походов в Переднюю Азию, складывание в ходе их новой этносоциальной структуры;
3) VI в. до н. э. — возникновение северопричерноморской Скифии в пределах степи и лесостепи;
4) конец VI — V в. до н. э. — окончательное смешение ираноязычных кочевников и киммерийцев, ускорение этногенетических процессов внутри Орды, сложение скифского этноса (Мурзин В.Ю., 1989, 13 — 14).
Примем эту гипотезу за рабочую и попытаемся очертить более важный для нашей темы вклад скифов в этническую историю одной из территорий бесспорного их обитания — Таврики.
Скифы в Крыму. На полуостров скифы проникли по меньшей мере в VII в. до н. э. Этнически это были еще не слившиеся в народ группы или племена (Плиний насчитывает их до 30), говорившие на семи несхожих языках. В период заселения, длившийся довольно долго, уже можно было различить по хозяйственно-социальным особенностям два конгломерата, которые издавна условно обозначают как "скифов-кочевников" и "царских скифов"; последние обитали в Крыму.
В III в. до н. э. крымские скифы занимают уже[48] главенствующее положение в Скифии, но не столько благодаря своей воинской мощи или многочисленности, а по причине упадка материковой части этноса, теснимой сарматами и частично ими ассимилированной. Была и еще одна причина возвышения крымской части народа — отмеченный многими авторами подъем ее культуры. Коренное население было к тому времени оттеснено в горы, а на освободившейся территории пришельцы развили как скотоводческую, так и земледельческую экономику. Столицей Скифии ранее был город на Днепре (Каменское городище близ Никополя), теперь им становится быстро развивающееся поселение в сердце Крыма, на месте нынешнего Симферополя. Новая столица, которую современники-греки называли Неаполем (скифское название до нас не дошло), не случайно была основана в Салгирской долине. Уступы белокаменных плато делали крепостные сооружения почти неприступными, рядом были обильные источники чистой воды, и, главное, город стоял на перекрестке основных торговых путей Крыма: от Перекопа — к Херсонесу и от Феодосии и Пантикапея — к Каркинитиде и Калос-Лимену.
Как указывалось, горы Крыма остались за автохтонным его населением, но и на оставшейся части скифы расселились неравномерно. Границы их обитания очерчены на востоке феодосийским побережьем, на западе — также прибрежной полосой, на юге — Главной грядой. В степной части этого ареала, заселенной весьма слабо, вольно кочевали пастушеские племена, следов селений по себе не оставившие; очевидно, жилище номадов, как и ранее, было кожаным или войлочным, переносным.
Городища и небольшие селища (числом более 80) располагались в районах оседлой, земледельческой экономики, у торговых гаваней (Чайка), вдоль торговых путей, шедших из столицы к гаваням восточной части Крыма (Доброе), юго-восточной (Алма-Кермен) или на материк (Кермен-Кыр). Крупных городов было четыре: уже упоминавшийся Неаполь (площадь 20 га) и безымянные, после которых остались городища Усть-Альминское (6 га), Кермен-Кыр (4 га) и Булганакское (2,5 га), между с. Пожарским и Демьяновкой.[49]
Общество и экономика. В период заселения Крыма скифское общество было раннеклассовым. Уже тогда во главе племен или родов стояли вожди (античные авторы именовали их царями), основную массу составляли рядовые кочевники, имелись и рабы. Однако ни во времена Геродота, ни позже рабство не было развито, играло в экономике второстепенную роль, как и вообще в кочевых обществах. Сама же кочевая экономика во многом определялась географической средой обитания. Степь, лесостепь и предгорья Восточной Европы были слабо заселены и покрыты богатой растительностью, которая была способна прокормить огромные табуны и стада, но для земледелия эти местности годились далеко не везде, тем более если учитывать тогдашний его примитивный уровень.
Крымские же переселенцы — скифы довольно скоро оценили благодатный климат и плодородную почву полуострова. И здесь везде, за исключением безводной степи, развилось земледелие и пастушеское скотоводство. Скифы разводят овец, свиней, пчел, сохраняя и традиционную привязанность к коневодству. Земледелие же скоро перерастает из самопотребляющего в товарное. Торговые контакты с античным миром (точнее, с причерноморскими его аванпостами — колониями) становятся постоянными и прочными. Скифы вывозили в основном свое зерно, шерсть, мед, воск, лен. Купцы Неаполя вели и транзитную торговлю между Северным Причерноморьем и Грецией, они вывозили крымский хлеб даже в порты Мраморного и Средиземного морей. Как ни странно, но бывшие кочевники стали настолько искусными мореплавателями, что иногда составляли конкуренцию грекам; недаром в этот период Черное море называли Скифским. И без чуждого торгового посредничества в столицу Крыма доставлялись заморские вина, ткани, ювелирные изделия и другие предметы искусства.
Столь развитые торговля и экономика требовали профессиональной дифференциации, и мы наблюдаем четкое разделение населения скифского Крыма на землепашцев, воинов, купцов, моряков и ремесленников. Кстати, последние, естественно, также делились на множество узких специальностей: гончаров, каменотесов, строителей, кожевенников, литейщиков[50], кузнецов (Высотская Т.Н., 1975, 20 — 23). При этом уровень ремесленного мастерства не уступал даже греческому, имевшему более давние традиции. Геродот с восхищением описывал, например, скифский котел из бронзы, толщина стенок которого была в 6 пальцев, а вместимость равнялась 600 амфорам (около 24 тыс. л), правда, изготовлен он был не для бытового использования, а как своеобразный памятник (ВДИ, 1947, №2, 274).
В Крыму социальные различия еще более углубились по сравнению с кочевым периодом истории народа. Здесь появляются сказочно богатые купцы и земельные магнаты, бок о бок с многочисленными крестьянами-собственниками живут степные нищие и рабы. На вершине общественной пирамиды по-прежнему стоят цари, их быт хорошо отражен археологическими материалами, но он был бы известен гораздо лучше, если бы мы обнаружили упоминавшееся многими древними авторами кладбище крымских владык Геррос...
Вытеснившие скифов с материка племена (в частности, сарматы), оставшиеся за Перекопом, сохранили прежний уровень развития, в том числе законсервировались многие черты матриархата, в то время как у скифов семья давно уже стала патриархальной. Более того, это была не "большая", характерная для кочевого общества ячейка, а малая семья, владевшая частными средствами производства. Но наиболее заметно опережающее соседей развитие скифского общества в области культуры.
Культура скифского Крыма. Как и на процесс социальной дифференциации и на экономику, большое влияние на культурное развитие скифов оказала их встреча с греческой цивилизацией. Век за веком вели эти кочевники довольно однообразный образ жизни скотоводов, не имея возможности скопить за постоянными переездами какие-то ценности материальной культуры. Но вот они осели, заложили ряд городов — это была необходимая предпосылка для превращения их в культурные центры этноса; правда, лишь предпосылка, ведь городища у них были и ранее, хотя и не столь значительные. Но вот скифы встречаются с античным миром — и в их среде происходит буквально духовный взрыв, культурная ре[51]волюция VI в. до н. э. Погребения их вождей отныне превращаются в богатейшие собрания греческих и иранских произведений искусства, драгоценного малоазиатского оружия, предметов античного культа и обихода. Конечно, это был результат греко-скифской встречи, обогащавшей кочевников не столько материально, сколько духовно.
Отныне Скифское царство входит в тесное общение со всем культурным миром эпохи и как мощная сила — в политическую историю. Да, оно уступало иным державам (весьма немногим) в части государственности — таких традиций у молодой страны и быть не могло в отличие, скажем, от Персии, унаследовавшей свою политическую культуру от Ассиро-Вавилонии, Лидии, Фригии, Египта и Финикии. Скифия же сложилась как кочевое государство под управлением неограниченного владыки-царя, окруженного конными дружинниками, чем, между прочим, напоминало более позднее Хазарское царство или Золотую Орду. Впрочем, внутригосударственная структура была достаточно устойчивой. Военная мощь достигла поэтому здесь высокого уровня — известно, что именно царские, т. е. по преимуществу крымские, скифы изгнали из Причерноморья полчища Ахеменида Дария и, опасно пошатнув престиж персидской династии, стали повсеместно известны как "непобедимые". Они совершали победоносные наступательные походы и на юг, в Переднюю Азию и Фракию, где также вступали в контакт с древними восточными цивилизациями, с античным миром, что не могло не обогащать культуру бывших кочевников.
Постепенно складывалась не заимствованная, а собственно скифская культура. И этому факту не противоречит практика заказов на изготовление предметов искусства в соседних странах, где ремесленничество имело более древние традиции. Античные художники и ювелиры, прекрасно знакомые со скифской культурой, поставляли в Крым изделия, которые с полным правом считаются шедеврами "скифского" стиля. Именно это культурное наследие, а также общественное развитие и политическая сплоченность выделяют скифов среди "варварских", т. е. неантичных, народов.
Огромна роль, которую скифы сыграли в распространении, передаче великих античных культур[52] населению остальной Европы. Утверждается даже, что в культурном отношении они сформировали европейскую Лесостепь (Тереножкин А.И., 1977, 14 — 15), Что же касается собственной культуры, то влияние ее распространилось еще шире — на Восточную Европу, Западную и Центральную Азию. В целом скифы стали связуюшим звеном между
Азией и Европой — даже на далеком Севере со скифской поры встречаются предметы искусства, созданные по античным образцам, — речь идет о местах обитания мари, коми, удмуртов, пермяков (Смирнов А.П., 1966, 5). Поэтому если рассматривать роль скифов в масштабе мировой культуры, то они заняли в истории цивилизаций Европы третье место — вслед за греками и римлянами. И к тому времени, когда античность, над которой навис последний, роковой кризис, подошла к своему закату, в первую очередь скифский и кельтский народы, "варвары", сохранившие и развившие свою культуру, поднялись уже на такой уровень, стали такой культурной силой, что смогли "омолодить мир, страдающий оттого, что старая цивилизация умирает" (МЭ, 16, ч. I, 133). Они наложили свой неповторимый отпечаток на все дальнейшее развитие культуры европейского типа, определили культурный расцвет "варварской" Европы, а затем Европы средних веков и Возрождения.
Чем же была характерна скифская культура? Ее достижения видны прежде всего в архитектуре. Возьмем, например, так называемое здание с портиками в Неаполе. Эта постройка длиной 30 м, с двумя классическими шестиколонными портиками по краям фасада воздвигнута явно в стиле греческого храма, хотя и не была святилищем (Скифия не знала жрецов, лишь гадателей, обходившихся без храмов). Таким образом, отличия от греческого прототипа видны уже в изменении функций сооружений; еще значительнее отклонения в архитектурном стиле, весьма заметно отличавшемся от греческого (подробнее см.: Карасева А.Н., 1951, 161, 168). В Крыму, например в Боспоре, работало немало ювелиров, греков по происхождению, но изделия их имели иные, чисто скифские стилистические особенности, не встречающиеся в античной торевтике. Здесь, как ни странно, более тонка техника, проработка деталей, заметная даже в монетах; иная религия принесла с собой новые сюжеты,[53] иной пантеон и целые сюжетные жанры (Ростовцев ММ., 1918, 53 — 54) и, главное, новую символику.
Всемирно известная чертомлыцкая ваза лишь недавно раскрыла сложный мир скифских символов. Первые ее исследователи обращали внимание только на бытовую сторону изображенного; очарованию этих сцен не могли противостоять и более современные ученые, видевшие на вазе лишь картинки из "самой обыкновенной жизни степняков... пасутся в степи вольные кони, потом бородатые скифы ловят их арканами, тянут на веревках и взнуздывают — так по кругу развивается действие" (Штамбок А.А., 1968, 31).
Между тем скифам была абсолютно чужда сюжетика сиюминутной реальности. Они устремлялись скорее к овеществленному отражению своих познаний и веры в обобщенном виде. Мышление их было по необходимости мифологическим (эту ступень эстетического мышления прошли все народы мира), а конкретно — зооморфносимволическим. Это характерно не для греческой, а именно для индо-иранской традиции. Советский ученый Е.Е. Кузьмина обоснованно доказала, что сцены вазы отражают в бытовой форме космогонические представления скифов. Так, сцена терзания (верхний фриз) символизирует небесную сферу, где разыгрывается катаклизм в космосе. Нижний фриз (растительный орнамент с птицами) — символ земной тверди, переданный известным образом "Мирового Дерева", а крылатый конь у его подножия — посредник между двумя сферами. Средний же фриз (ловля коней) — сфера обитания людей, запечатленных в момент высшего духовного взлета — жертвоприношения. Ну а сюжет вазы в целом представляет собой космограмму всего мира, но не в статике, а в вечном движении, в обновлении, сменяющем земную смерть, борьбу миров в ее универсальном значении (Кузьмина Е.Е., 1954, 93 — 104). Столь же глубоко символичны три пояса росписи раскопанного в Неаполе "здания с фресками", отразившими конкретный скифский культ (Высотская Т.Н., 1975, 23 — 25).
Подобная сложность и глубина духовного мира скифов вряд ли были характерны для тавров или более поздних готов. Однако шестивековое соседство не могло не сказаться на культуре последних, хотя,[54] возможно, лишь в области архитектуры и мелкой пластики. Что же касается скифского "звериного стиля", самого яркого отличительного признака их культуры, сохранившегося у многих народов, подверженных скифскому влиянию (сибирцев, алтайцев, кавказцев, прибалтов, славян), то в Крыму он уцелеть не мог. Этому воспрепятствовали несколько веков господства мусульманской религии, запрещающей изображения живых существ.
Что же касается скифского быта, весьма приспособленного для степного Крыма, то зримые черты его сохранились у греков Пантикапея и римлян первых веков н. э. Так, римские помещики, не строя в Крымской степи своих вилл, как это было в других провинциях Рима, выезжали из душных городов на лето с юртами, т. е. жили "на скифский лад" (Ростовцев М.М., 1918, 182). Греки переняли у скифов ряд мясных блюд, а также умение пить "по-скифски" легкие душистые крымские вина, не терпящие разбавления водой.
На закате своей богатой событиями истории Скифия сильно уменьшилась в размерах, ослабла ее военная мощь. Времена экспансии для нее давно кончились; скорее всего скифы стремились лишь сберечь достояние предков, употребляя незаурядные свои таланты на мирном поприще, и добивались здесь не меньшей славы, хотя и иного рода[32]. Но жизненное пространство сжималось — с севера скифов теснили сарматы, с юга удар за ударом наносили греки — так, лишь Диофант дважды ходил на Неаполь и Хабеи (II в. до н. э.). Тем не менее государство скифов просуществовало до конца III в. н. э. (Гайдукевич В.Ф., 1959, 278) благодаря укреплениям городов. Так, стены Неаполя достигли к этому времени чудовищной толщины (8 — 12,5 м) и такой же высоты, взять их сарматы-кочевники, естественно, не могли.
Остатки скифского этноса скорее всего мирно и незаметно растворились в общей массе крымских племен и народов. Об этом говорят и антропометрические данные позднего Неаполя — основную массу его населения составляли скифы, сарматы, тавры и греки (Кондукторова Т.С., 1964, 53). Остались и материальные памятники смешанной, тавроскифской культуры.
Наиболее впечатляющие из них — средневековые[55] города-крепости. После того как под ударами гуннов тавры, скифы и иные степные жители окончательно сконцентрировались в IV — V вв. в горах, новые географические и экономические условия и близость греческих центров оказали на переселенцев глубокое влияние. Рабство, хоть и незначительное, быстро исчезает, ускоренно развиваются ремесла, садоводство, земледелие, торговые связи с византийцами и римлянами. Растет имущественная дифференциация и, очевидно, феодальные отношения.
Поэтому в VI — VII вв. скифы и тавры горного Крыма становятся основными участниками возведения будущих феодальных городских центров, а также отдельных укреплений-замков. Эти образования резко отличаются от существовавших до той поры типов тавроскифских селений преимущественно сельского характера. Уже в VI в. буквально в каждой долине высились примитивные укрепления, которые к VIII в. превращаются в первоклассные феодальные крепости и замки.
Образец такой крепости — Эски-Кермен, чьи руины виднеются сегодня в полукилометре к востоку от с. Черкес-Кермен (ныне Крепкое Куйбышевского р-на). При строительстве были великолепно использованы особенности вытянутого горного плато, по краям которого поднялись стены, что делало невозможным применение стенобитных орудий. Крепости такого типа, а их было немало, служили не только местом обитания горожан, но и неприступным убежищем для населения близлежащих деревень в военные годы. Смешение автохтонных и пришлых культур неизбежно отразилось в архитектуре крепости. В ней сочетаются, дополняя друг друга, местные, крымские строительные традиции (пещерные казематы, исполнявшие роль машикулей, панцири стен, перекрытые крупными каменными блоками) и архитектурно-фортификационные приемы византийского происхождения (тщательная обработка камня, кладка на сложном известковом растворе, парапеты с бойницами по периметру стен) и т. д.
Эски-Кермен, расположенный на периферии, вдали от торговых путей, угас в VIII в., но другим замкам, городам и крепостям, построенным скифами, таврами и их смешавшимися потомками, суждена была долгая жизнь. Некоторые из них — Мангуп, Кыз-Кермен,[56] Тепе-Кермен, Бакла, Чуфут-Кале и др. — пережили и эпоху средневековья.
Память же о скифах, предания, связанные с этим великим народом, отлились у их наследников в твердую уверенность, убежденность в неразрывной кровной связи поколений, в преемственности культур. Автор XVI в., хорошо знавший крымчан средневековья, сообщает нам: "Хотя мы считаем татар варварами и бедняками, но они гордятся воздержанностью своей жизни и древностью своего скифского происхождения" (Михаил Литвин, 1890, 6). При всей внешней наивности такой убежденности (она не опиралась на "научные" доказательства), ее нелегко опровергнуть. И если до сих пор не обнаружено никаких свидетельств того, что скифы были изгнаны с полуострова или сами покинули его, то остается признать правоту этой крымско-татарской традиции, уходящей корнями в скифскую древность.[57]
II. ВСТРЕЧА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ГРЕКИ
Классический и эллинский периоды. Первой великой европейской цивилизацией, которую познал Крым, была древнегреческая. Выше говорилось, что полуостров, его население и природа стали известны грекам, вообще народам Малой Азии довольно рано. Трудно сейчас сказать, когда на землю Тавриды впервые ступила нога греческого путешественника — рыбака, купца или воина. Но что касается первых греческих поселений, то они возникли здесь не ранее VIII в. до н. э. И еще одно бесспорно — страсть к познанию и открытиям, владевшая этим энергичным народом не менее, чем дух предприимчивости, стала еще в классической древности причиной появления греческих колоний в Крыму задолго до того "прорыва" Эллады в культуру Востока, который мы связываем с походами великого Александра.
Итак, это были мелкие поселения рыбаков и торговцев, приютившиеся на южной границе опасного мира неведомых племен кочевников-скотоводов, племен менявшихся и мало надежных для прочного торгового партнерства. Ситуация меняется в VII в., когда крепнет и усиливается экономически держава скифов. Лишь теперь в стратегически и экономически важных пунктах, в устьях богатых ценной рыбой рек, в проливах и на лиманах на месте факторий возникают города с греческим населением. На берегу обширной бухты в 600 г. до н. э. милетцы основывают Феодосию. Затем в самом узком, позволяющем установить контроль за проходом судов месте Керченского пролива разрастается Пантикапей. Этот порт стал перевалочным пунктом для товаров, шедших через Азовское море из Скифии, с севера и северо-востока Крыма, а также с Урала, из Сибири и Средней Азии. При этом важную роль играла и гавань с ее вмести[58]тельным и хорошо защищенным рейдом, а также пресноводные источники в городе и окрестностях.
Не столь удобными были южные и юго-западные берега Крыма. Две наиболее привлекательные для стоянки бухты у южной оконечности полуострова, без сомнения, использовались с глубокой древности, но лишь в 422 г. до н. э. на берегу одной из них выходцами из Гераклеи был заложен город Херсонес. Отсюда, как и из соседнего Символона (Балаклава), за море отправлялись продукты горного Крыма и рыба, которую ловили тут же, в Балаклавской бухте.
И конечно, вдоль всей береговой полосы — от Азова до Тарханкута — рассыпалась цепь новых и старых мелких рыбопромышленных станций и торговых факторий, крупнейшей из которых была Каркинитида, основанная греками же лет за сто до Херсонеса (Драчук В.С., Кутайсов В.А., 1985, 82 — 83). Отсюда шел на юг и хлеб — главным образом в города, отправившие некогда своих посланцев в Крым, ведь анатолийское побережье, да и Архипелаг никогда зерном особенно богаты не были.
Какими были взаимоотношения колонистов с местным крымским населением? Вначале межэтнические контакты были, как это случалось в других районах греческой экспансии, скорее всего деловыми и сдержанными. Греки осваивали территорию, особенно не вникая в глубоко чуждую и непонятную им культуру и идеологию "варваров", которых они, естественно, опасались. Вероятно, они эту культуру глубоко презирали — Аристотель в IV в. лишь сформулировал распространенное у греков убеждение в том, что "варвары" — прирожденные рабы.
Однако потенциальные эти "рабы" многократно превосходили новопоселенцев численностью и военной мощью, и с этим приходилось считаться. Неясная угроза таилась в сердце "варварской" тьмы, в неизведанных глубинах полуострова, век за веком остававшегося для греков загадочным. Угроза эта заставляла их робко жаться к берегам родного Понта, не позволяла продвинуть ни один форпост в глубь Тавриды.
Несколько иным было положение на берегах Керченского пролива, где греки встретили "варварское" население, обладавшее весьма высокой культурой даже по греческим меркам, ибо со 2-го тыс. оно находилось[59] под мощным культурным влиянием Востока, а Восток был далеко не чужд Греции. Племена эти были подвластны скифам, но, во-первых, скифы и сами были культурным народом, а во-вторых, не подавляли местную культуру.
Поэтому неудивителен двойственный характер греческого влияния на местное население в классический период — от почти незаметного культурного обмена на юге и юго-западе до интенсивного процесса аккультурации на берегах Керченского полуострова, в районе Боспора Киммерийского. Судя по некрополю Пантикапея, здесь возникает настоящий греческий город, достигший расцвета в конце VI — начале V в. до н. э. Соседний же Нимфей стал в V в. центром не только торговли, но и культуры: здесь чеканилось превосходное художественное серебро, расходившееся по всему Крыму и вообще по Скифии. По-гречески образованные пантикапейцы, фанатически поклонявшиеся Гомеру и Платону, прекрасно знавшие Гесиода и Геродота, возбуждали всеобщий почет и удивление (Ростовцев М.И., 1918, 174). В самом городе жили вожди крымских племен, которые не могли не впитывать богатую греческую культуру — об этом говорят особенности их погребений в нимфейском некрополе. Греческие вазы и другие произведения искусства найдены, кстати, и в погребениях других древних городов и селений Крыма той эпохи. В наиболее крупных из них греки начинают с IV в. до н. э. записывать местные исторические предания и мифы (Ростовцев М.И., 1919, 93), очевидно интересуясь и другими областями крымской культуры. Это было неизбежно: ведь здесь уже появляются свои ученые и писатели, риторы, поэты и философы. Однако и в этот период по-прежнему неоднозначной остается проблема этнического взаимопроникновения.
Известно, что греки с конца III в. до н. э. обладали более широкими, чем ранее, взглядами на возможность контактов с чуждыми народностями. Именно в эту пору начинается первое оставившее след культурное движение с Востока на Запад. Это касается прежде всего заимствований религиозных ритуалов, суеверий и т. п., но также и научных, философских концепций, большей терпимости вообще. Современник Александра Македонского Исократ утверждал, что этноним "эллин" означает уже не столько при[60]надлежность к грекам, сколько человека определенного культурного круга. И чистота расы играет здесь роль второстепенную: смешанные браки среди аристократов давно стали делом привычным.
Но именно в Тавриде процесс этот пока развивался слабо. И очевидно, не из-за греков. Тавры — но не скифы — упрямо не поддавались "цивилизующему" влиянию эллинов. Причина здесь — в чрезвычайно замедленной социальной и имущественной дифференциации этих крымчан. В среде колонистов торговля давно уже выделила весьма зажиточные прослойки судовладельцев, купцов, землевладельцев, городских патрициев, а ведь именно эта городская элита наиболее склонна к культурному и этническому смешению. Но к смешению со стратами, стоящими на равном уровне, а отнюдь не с малообеспеченными, с их точки зрения, таврскими пастухами, землепашцами или рыбаками.
Не менее важным принцип эквивалента был и в духовном обмене. Лишь на первый взгляд может показаться необъяснимым вопрос, отчего греки эллинского периода легко воспринимали культурные сокровища весьма неблизких стран, а скифская цивилизация оставалась им по сути малоизвестной. Дело в том, что Крым не настолько привлекал греков-интеллектуалов, как, скажем, далекая Индия. Он не мог пока предоставить ни сочинений, способных восхитить Запад, как "Вавилоника" халдейского жреца Бероса, ни развитой, богатой и сложной религиозной системы, настолько пленившей мыслящих эллинов, что смог возникнуть целый грекоегипетский культ (Сераписа) — недаром грека Птолемея I называли даже "македонским фараоном" (Светлов Э., 1983, 89). Нет, ничего подобного в бесписьменном Крыму не было и быть не могло — отсюда более прагматичное отношение к нему греков.
Много сил отнимало и соперничество между колониями, прежде всего экономическое. И оно также накладывало отпечаток на греко-тавро-скифские отношения. Так, стоило Пантикапею попасть под власть боспорских царей (середина IV в. до н. э.), как херсонеситы, которых не могли удовлетворить оставшиеся на их долю скудные излишки экономики юго-восточных тавров, распространяют свои притязания на плодородный северо-западный Крым. Они вытес[61]няют обосновавшихся было здесь гераклеотов и надолго включают Каркинитиду в состав своего государства, возводят вокруг нее укрепление, самое мощное среди известных эллинистических памятников херсонесской Хоры (городище Чайка близ Евпатории). Конечно же это не могло содействовать укреплению упомянутых связей с таврами, снова оказавшимися на периферии греческих интересов.
Устоявшиеся эти довольно вялые отношения стали на рубеже IV и III вв. меняться. Скифская аристократия после укрепления государства усиливается и богатеет. Она уже не заинтересована, как ранее, в посреднической деятельности греческих колоний, но сама стремится к захвату торговли и, следовательно, к вытеснению колонистов. К тому же сарматы, появившиеся в это время в Причерноморье, теснят скифов с севера, а это также ведет в свою очередь к усилению скифского нажима на греческие города.
Начинаются военные столкновения, в которых, как правило, побеждают скифы — остатки сгоревших имений херсонеситов встречаются в раскопках середины III в. до н. э. во множестве. Об этом же говорят Полиен и другие античные авторы (Сапрыкин С.Ю., 1986, 142 — 143); в знаменитой присяге херсонеситов о многих владениях Хоры уже говорится в прошедшем времени. Да и сам факт этой присяги — свидетельство возросшей военной опасности. Обострилась в греческих городах и внутриполитическая борьба, связанная с недовольством населения его олигархически настроенными правителями.
Короче, к середине II в. до н. э., когда уменьшившийся хлебный вывоз из Крыма ослабил связь колоний с метрополией, скифы овладели всем Северо-Западом, оставив бывшим его хозяевам лишь Гераклейский полуостров с прилегающими угодьями. Столь же сильно были сужены границы колоний Восточного Крыма. Отсюда — понятное сближение этих двух ранее конкурировавших греческих областей с целью противостояния скифам. Сблизились они и с понтийскими царями, в частности с Фарнаком. Когда же воцарился Митридат VI Евпатор, то отношения его с крымскими колонистами стали настолько тесными, что в 110 г. до н. э. в некоторых греческих укреплениях Крыма уже стояли понтийские гарнизоны, помогавшие охранять города от скифов (Сап[62]рыкин С.Ю., 1986, 213), а полководец Диофант руководил обороной Херсонеса и даже выступал в совместный с херсонеситами поход в глубь Скифии.
Диофантовы войны были удачными, и по окончании их греки возобновили не только прекратившуюся было чеканку монеты, но и вывоз хлеба с Северо-Запада. Установившийся позже новый статус колоний как автономных государств-полисов в рамках Понтийской державы предусматривал взамен относительной свободы и господства в возвращенных областях уплату огромной дани Евпатору.
Однако понтийские цари недолго пожинали плоды победы над скифами — в 47 г. до н. э. их войско было разбито Юлием Цезарем и Боспорское царство отошло к Риму. Впрочем, и при новой власти Херсонес и Пантикапей сохранили свою относительную независимость и даже усилились. А спустя три века Херсонесу уже подчинился весь Южный берег Крыма.
Несмотря на свою трудную политическую историю (а может быть, и благодаря испытаниям), греческие города, колонисты-греки являли образцы экономической и политической предприимчивости и настойчивости в освоении прибрежной полосы, а кое-где и хинтерланда. Экономика их была многосторонней, чтобы не сказать универсальной. Большую роль наряду с хлеборобством играл рыбный промысел. В те времена в Черном и Азовском морях, по словам Страбона, в сети шли осетры, величиной "почти равные дельфинам", водился и тунец. Добывались огромные массы мелкой рыбы — султанки, тарани, бычка, а также камбалы и сельди.
Население городов охотно использовало в пищу мидий и других моллюсков. Рыбный промысел был нацелен на экспорт — об этом свидетельствуют, например, огромные комплексы рыбозасолочных ванн в относительно небольшой Тиритаке (ДТ, 1969, 53). К началу нашей эры все большее значение приобретает вывоз кож и шерсти.
Однако в полном объеме сохраняется значение товарного хлеба. Греки выращивали сами или закупали у степняков различные сорта пшеницы, ячмень, просо. Культивировались гречиха и чечевица, вика шла на корм и зеленые удобрения. И на боспорских монетах чеканились символы экономики Крыма — плуг или колос хлеба.
Все большую площадь зани[63]мали виноградники, а винные цистерны достигали вместимости 5 тыс. л, что говорит о промышленном характере виноделия. Анализ обуглившихся семян винограда показал, что это были морозостойкие, стелющиеся лозы в предгорьях и элитные, вьющиеся сорта в долинах Южного берега и Восточного Крыма. Греки создали на основе гибридизации (кстати, проводившейся централизованно) привозных отборных сортов с местным мелкоягодным, продуктивным и выносливым виноградом новые, крымские сорта, сохранившиеся до наших дней. Очевидно, они обладали искусством, которого не было у русских, пытавшихся в 1770-х гг. привить в Судакской долине токайские и греческие сорта — все они быстро выродились (Янушевич З.В., 1986, 62). Колонисты разводили сады, где росли не только алыча, яблоки и груши, но и инжир и даже гранат — об этом также упоминают античные авторы.
Высокого уровня достигало гончарное и строительное искусство. Неоднократно описаны прекрасные амфоры и пифосы, изготовленные из местных глин. Токарные изделия из местных пород дерева обнаруживаются в греческих захоронениях Крыма, датируемых IV в. до н. э. и позднее. Металлические инструменты, еще в VI в. до н. э. привозившиеся из метрополии, в IV в. до н. э. уже производятся в Боспоре в таком количестве, что их экспортируют на север. Очевидно, благодаря крымским грекам многие виды инструментов позднее стали известны и в соседних славянских странах (Сокольский Н.И., 1971, 185, 188, 194).
Реконструированы впечатляющие общественные и культовые здания Пантикапея и Херсонеса; многие из них сохранились под слоем земли и даже на ее поверхности в малоповрежденном виде. Не меньший интерес представляют обычные жилые дома. Вот описание одного из них, стоявшего некогда на склоне горы Митридат: высота каменных оштукатуренных стен — 2,5 м; прочный фундамент на материковой скале; три помещения — жилое, кухня и кладовая — общей площадью 40 м. Судя по инвентарю, дом принадлежал небогатому рядовому горожанину, до нас дошло и его имя — Кой (ДТ, 1969, 58). Имелись и многоквартирные дома на несколько семей.
Жизнь в греческих колониях на рубеже двух эр[64] мало чем отличалась от общеэллинской действительности. На полях наряду с немногочисленными рабами, закупленными в причерноморских степях, трудились свободные крестьяне. Часть этого слоя уже не была чисто греческой по крови, среди них было немало и тавров, и скифов, и представителей других племен, связанных с колониями экономической зависимостью. Со временем изменяют свой облик и сами города. Исчезают черты полусельской застройки — улицы спрямляются и в плане становятся не столь хаотичными. Однако важнее перемены социального и политического характера. Последние три века своего существования Боспор превращается в типичную торговую державу, стоящую на границе между кочевыми племенами и угасавшим греческим миром. И государство полностью зависело от регулярного товарообмена между ними, весьма напоминая в этом отношении, скажем, семитический Карфаген на берегах Африки. Боспор существовал, пока в этом были заинтересованы как Афины (они сохраняли здесь верховную власть), так и крымские племена (боспорцы обеспечивали их неподчинение скифам и возможность торговли).
Такое пограничное положение не могло не сказаться на самих греческих городах. Теперь в них концентрируется многонациональное по происхождению искусство, ремесла и наука. Почти полное прекращение притока свежих сил из Эллады, вызванное войнами (в том числе и гражданской с Римом), этой интернационализации культуры весьма содействовало. Сквозь греческую оболочку в социальной, политической, экономической и культурной жизни все сильнее проступает местный колорит, крымские элементы. Наряду с этим растет грамотность, под местным влиянием меняются основы религии, зарождается массовая культура, отражающая в вульгаризованном виде идеи великих греческих и зарубежных мыслителей, ученых, политиков. Создается почва для вселенского, экуменического сознания, которое греки назовут космополитическим. Логично предположить, что такого рода воззрения были переданы последними эллинами своим соседям и потомкам. Тем, кто нес это наследие и тогда, когда Древняя Греция исчезла с исторической карты мира.[65]
Византийский период. После раздела Римской империи на Западную и Восточную (рубеж IV и V вв. н. э.) последняя сравнительно легко распространила свое влияние на Причерноморье, в том числе на Крым. В авангарде новой волны экспансии шли дипломаты, являвшиеся в то же время христианскими миссионерами и купцами. Они искали путь к сказочным богатствам Востока, в том числе даже Китая, а путь этот мог идти через Крым и далее, по степям Прикавказья и Прикаспия. Поэтому уже в 520-х гг. Херсонес подчиняется императору Зенону, а вскоре, опираясь на этот форпост, византийцы овладевают и остальной частью Юго-Запада, затем Востока Крыма.
Херсонес и Боспор должны были служить заслоном от нападений на владения византийцев со стороны кочевников в будущем, но у греков были и более актуальные задачи. Эти города становятся центрами культурных сношений с аборигенами. В отличие от первых колонистов византийцы осознали плодотворность контактов с коренным, тавро-скифским по происхождению населением, а также с укоренившимися на полуострове к тому времени готами, аланами, гуннами и их потомками смешанной крови. Теперь не только сырьевые товары интересуют греков — через города побережья в Византию идут нескончаемым потоком отряды нанятых императором в Крыму и Северном Причерноморье солдат, необходимых державе для почти непрерывных войн на Западе и Востоке. И города эти вновь расцветают, византийцы расширяют и перестраивают их, как того требовали новые задачи.
Теперь Херсонес, Феодосия, Пантикапей более не узконаправленные экспортирующие базы. Они приобретают значение потребляющих центров, а также пунктов транзитного ввоза. Теперь уже именно сюда везут греческие и иноземные купцы разнообразные товары, в том числе восточные драгоценные камни, жемчуг, златотканые и шелковые ткани. Узкие улочки крымских городов, припортовые кварталы окутаны незнакомыми ранее запахами ароматных смол и пряностей Востока, слышна не только греческая или азиатская, но и западноевропейская речь. Среди гостей крымского города нередко встречаются и кочевники Севера — гунны, которые закупают здесь и более скромные товары, предметы первой необхо[66]димости — свинцовую и стеклянную посуду, керамику, прочные, теплые ткани.
В портах стоят суда, готовые везти за море, в Константинополь и дальше — в Архипелаг, в иные, негреческие пределы, меха, выделанные кожи, скот, соль. И все меньше — хлеб, которого становится мало даже для населения разросшихся крымских городов. И все больше — рабов, которых в изобилии поставляют кочевники причерноморских степей (История Византии, I, 335). Да, именно греки, а не аборигенное население проложили, а затем постоянно расширяли этот канал, сохранившийся на много веков, по которому "живой товар" шел на невольничьи рынки Византии, Западной Европы и Востока.
Разворачивалась и духовная экспансия. Здесь, как и в других объектах своей колонизации, византийцы широко использовали с целью идеологического внедрения подкуп, политическую интригу. Местным вождям жаловались имперские должности, пышные титулы, ценные привилегии. Огромное значение придавалось христианизации крымчан, которые, надо сказать, оказывали весьма стойкое сопротивление опытным миссионерам. Но лишь когда эпоха стала более соответствовать идее Бога живого и новым этическим идеалам, чем сохранению языческих систем, отражавших старые, отжившие социально-экономические отношения, т. е. не ранее VII в.[33], христианство стало более или менее массовым, да и то лишь в городах.
Век VII н. э. отмечен новым упадком городов, в том числе и Херсонеса. Слабела экономика — хирели ремесла, прекратилась чеканка монеты. Взамен неуклонно возрастает значение крымской периферии, мелких земледельческих поселений и монастырей, населенных в основном выходцами из Византии. Именно здесь в VIII в. сосредоточиваются наиболее перспективные отрасли крымской экономики. Города же становятся по большей части не производительными, а чисто военными центрами. Мощно укрепленные, они играют роль форпостов, откуда византийцы внимательно следят за тревожным ростом сил причерноморских кочевников, а с X в. — и русских городов. Раньше городское самоуправление в Крыму было высокодемократичным, теперь в демократии не заинтересованы императоры — и уже в[67] первой половине IX в. они создают новую административную систему — фем. Отныне фемой климатов правит не херсонесский, скажем, чиновник-протевонт, но назначенный Константинополем и послушный высшей власти стратиг.
Возможно, такая реформа была вызвана оборонными задачами: ведь в 960-х гг. войска князя Святослава охватили крымские владения Византии с севера и востока. Но подобные меры не могли сдержать русской экспансии — в 1016 г. Василий II захватил чуть ли не весь Крым, причем в плен попал и Георгий Цул, тогдашний стратиг Херсонеса.
Но вот пал Константинополь, и право верховной власти над Крымом перешло к Трапезундской империи. Когда и как утвердилась эта новая зависимость, мы пока в точности не знаем, но известно, что Херсонес с фемой климатов и внутренняя область Готия отныне регулярно вносят в имперскую казну налог, а крымский верховный чиновник — архонт полностью послушен новому императору. Положение это сохранялось в общих чертах до падения империи в XIII в.
Наследие Греции. Греческие города-колонии Крыма сыграли огромную роль в культурной истории европейской цивилизации в целом. В этих космополитических центрах представители народов Европы входили в прямой контакт с Элладой, ее религией, искусством, литературой. Продолжался этот процесс и в византийскую эпоху. Неизвестно, как сложился бы культурно-мировоззренческий облик той же России, не имей она с глубокой древности у своих южных границ столь широко распахнутых ворот в цивилизованный мир. Именно через крымские города в русские пределы вливался полноводный поток культуры древности, а в более поздние периоды именно Крым был последней "станцией" для многонациональных культуртрегеров Восточной империи, ее миссионеров на их пути к предкам современных русских, украинцев и белорусов, которых они готовились просветить — и просвещали.
Так, перед прибытием в Новгород, а затем в Москву именно в Крыму на длительное время остановился Максим Грек (Obolensky P., 1971, 280). Крымские греки стали передаточным звеном и для древних культур Азии и Африки в пору, когда о непосредственном^] проникновении этих культур в Европу еще и речи не могло идти. Трудно, хотя и не невозможно, проследить пути миграции отдельных идей, скажем, из Египта в Европу. Но гораздо легче исследовать "путешествия" вещей материальных. Так, древнеегипетские инструменты, проникшие в Грецию классического периода, в IV — III вв. до н. э. оказываются уже в Пантикапее (отвес, ватерпас, циркуль), затем в соседних славянских землях, избежав при этом, в отличие от некоторых идей, кружного пути через Западную Европу (Сокольский Н.И., 1971, 187). Но конечно, гораздо более заметным византийское влияние было в самом Крыму.
Собственно, влияние греческой культуры в целом на крымскую было далеко не односторонним. Точнее, было не всегда односторонним. Дело в том, что и Крым, при всей его весьма относительной "отсталости" в сравнении с великой культурой Греции, внес весомый вклад на заре ее становления — это давно зафиксировано историками-культурологами (История Византии, III, 325). Но достаточно разработано и более для нас интересно обратное влияние — Греции на Крым, наблюдавшееся в значительно позднейшие времена.
Самые зримые памятники этого влияния — жилища. И речь идет не только об остатках их, обнаруживаемых лишь в ходе раскопок. Глазам современного путешественника по Крыму предстают удивительные, исчисляемые десятками и сотнями кельи пещерных монастырей, высеченные в скале в эпоху массовой иммиграции греческих монахов, изгнанных иконоборцами в VIII — IX вв. из Византии. Эти соты-жилища целы и долго еще будут придавать горному Крыму облик таинственный и неповторимый.
Более ранние, хотя и не столь заметные памятники великой греческой культуры мы находим вдоль береговой полосы, в отдельных частях которой греки составляли на протяжении многих веков основную часть населения (Суперанская А.В., 33). Цивилизация эта ни в чем не уступала тем, что сложились у наиболее развитых европейских народов. Говорить о том, что она на протяжении всего "греческого" периода влияла на самые разные стороны культуры аборигенов, пока удавалось лишь немногим авторам. И только по поводу отдельных, часто разрозненных культурных фе[69]номенов. Тем не менее, сведенные воедино, такого рода мазки складываются в весьма полную и цельную картину многоплановой аккультурации. Причем во многих своих фрагментах картина эта не нуждается в сугубо научном рассмотрении — они предстают во всей своей органичной взаимосвязи перед глазами и зрителя неискушенного, но умеющего мыслить логически.
Тех, кто бывал в странах Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья, у нас на Кавказе, в Румынии и Болгарии, не могла не поразить удивительная схожесть традиционных жилищ, хотя населены эти края разноязычными и разноплеменными народами, мусульманами и христианами. Характерен этот тип жилища и для Крыма: глухая стена с калиткой на улицу, окна дома, обращенные во двор, почти плоская крыша, галереи на уровне второго этажа — вот основные его черты. Обычно тип этот выводят из традиций турецкой, татарской или караимской архитектуры, что не совсем верно. Интересный в этом отношении материал дают раскопки не парадно-общественных или культовых, но жилых построек западной части Херсонеса.
Мы видим здесь резко отличающиеся от классической античной прямоугольной планировки старого города вьющиеся узкие уютные улочки, неправильной формы кварталы, внутрь которых (отнюдь не на улицы!) обращены выходы из внутренних двориков отдельных жилых комплексов. Оттого-то здесь и преобладают замкнутые в неправильные каре внутриквартальные площадки-тупики, огражденные глухими стенами с немногими воротами и соединенные с близлежащей улицей нешироким переулком. Система, чрезвычайно характерная и для сохранившихся до наших дней средневековых татарских кварталов той же Евпатории.
До мелочей подобны древним херсонесским и немногие сохранившиеся татарские дворы. Отделенные от внешнего мира высокой каменной стеной, они, собственно, представляют собой единый жилой комплекс "дом-двор". Выложенная плоскими каменными плитами, сквозь которые пробиваются виноградные лозы и стволы плодовых деревьев, поверхность двора неотличима от каменных же или глинобитных полов нижней части собственно жилища. В теплую пору, т. е.[70] большую часть года, жизнь херсонеситов проходила во дворе. Здесь на ручных мельницах мололи зерно в пищу, готовили корм скоту, чьи стойла находились тут же, в каменных сараях или под навесом. Во дворе копали колодцы, огражденные каменными кольцами метровой высоты, здесь строили летние печи — все это в точности соответствует более поздней татарской традиции. Вплоть до материала для постройки печей — на них не тратили дорогостоящий кирпич, а использовали осколки черепицы (Якобсон Л.А., 1973, 87).
Стены домов и херсонеситы, и их наследники — татары обмазывали глиной, а затем белили; так же характерны, особенно для бедных жилищ, саманные стены с горизонтальными прокладками из отесанных брусьев или даже каркасом типа фахверка. Такого рода постройки можно встретить во многих деревнях и в наши дни — например, в Восточном Крыму. Дома, даже довольно скромной площади, были двухэтажными. При этом в нижнем, каменном, как правило, невысоком помещении устраивались кладовые и сеновалы, иногда — стойла для скота.
В нижних же помещениях и подвалах греки устанавливали свои знаменитые пифосы — кувшины в рост человека и более, диаметром до 1,3 м. Эту посуду для хранения вина или зерна использовали позднее татары. Автору известен случай, когда один такой пифос продолжал использоваться и нашими современниками — он был вкопан на огороде близ перекрестка ул. Некрасова и В. Короткова в Евпатории в 1950-х гг., в нем держали воду для полива. Сколько веков прослужил он человеку? Или тысячелетий? Но пифосы встречались не только вдоль побережий, там, где некогда были греческие колонии, они проникли в глубь полуострова — ими пользовались, например, тавры Бельбекской долины в VIII — IX вв., а затем татары. Не прерывалась, кстати, с приходом татар и греческая традиция производства поливной посуды — ее делали в Фуне и в XIII, и в XIV в., и позднее (Мыц В.Л., 1988, 315 — 316). Более легкий и высокий второй этаж строили деревянным или саманным. Почти повсеместно над двором (иногда и над улицей) нависала широкая, просторная веранда. Стропильная система, земельноглиняное покрытие крыш также были заимствованы татарами у византийцев без всяких изменений.[71]
А желобчатая черепица, которая и ныне встречается в крымской глубинке и которую зовут татаркой, на самом деле не татарского, а византийского происхождения — особенно ярко доказывают это раскопки Алустона IX — X вв. (Мыц В.Л., 1988, 315).
Духовное, идеологическое влияние греков не менее ощутимо, чем в области материальной культуры. Интереснейшего феномена — поклонения татар христианским святым — мы коснемся ниже, а здесь отметим факт перенесения греками на крымскую почву своих святых с их последующим органичным омусульманиванием. Приведем лишь один пример — в крымский пантеон вошел святой (азис) Гази-Мансур-султан, грек по происхождению (Гудзий Н., 1919, 103). Сказалась на крымском обществе и византийская образованность в целом (подробнее см.: История Византии, III, 340).
Наконец, известную роль сыграли греки и в складывании социальных отношений, в частности сельской общины, в средневековом Крыму, уже после того, как угасли византийские колонии. Еще в VIII — IX вв. в Таврике были широко распространены земледельческие общины со свободным населением. Для крымской общины были характерны распределение земли по паям (и наряду с ними общинная запашка), круговая порука, право предпочтительной покупки освобождавшейся земли общиной и т. п.
Такие черты абсолютно аналогичны правам византийской земледельческой общины VIII в. Позднее в Византии коллективная собственность на землю распалась, сменившись частной, но не в Крыму, где она уцелела до татарского периода, став органичной составляющей института территориальной общины "джемаат" с общим владением сенокосами, выпасами, колодцами и дорогами (Пашков Ф.Ф., 1887, 9, 13, 37, 45).
Высказываемое иногда предположение, что право джемаат было занесено в Крым татарами, малонаучно. Кочевники, как известно, стали медленно переходить к оседлости лишь в XVI — XVII вв. Оседая же на земле, они во всех без исключения областях Таврики принимали единообразный, сохранившийся, судя по всему, с византийских времен закон общины.
И уж конечно дотатарское происхождение имеет крымская городская ремесленная традиция, сохранившаяся[72] до XIX в. (Гордлевский В., 1928, 56 — 65). Многочисленные татары-ремесленники, среди которых было немало иноязычного элемента[34], объединялись в 32 цеховые корпорации. Как и в европейском городе, во главе цеха стоял старший мастер (уста-баши). Согласно вполне четко прослеживающейся византийской традиции, мастера и их помощники ведали всей экономической и кадровой деятельностью цеха — закупкой сырья, установлением цен на готовую продукцию, приемом учеников (шергит), экзаменами на мастерство и т. п. Избрание уста-баши или посвящение в мастера сопровождалось, как и в Византии, цеховым праздником, иногда превращавшимся в общегородские торжества, причем с отчетливой религиозной окраской, — и этот обычай сохранился почти до наших дней (Никольский Н.В., 1927, 12 — 24).
В целом же, очевидно, в Крыму имела место не только "передача по наследству" старых греческих обычаев и прав частично новому населению ушедшими за море византийцами. Ведь после ослабления Византии и ее позиций в Крыму многие греки-земледельцы здесь остались. Ширился неизбежный в такой ситуации процесс межэтнического смешения, как известно максимально ускоряющий аккультурацию. А о том, что смешение имело место, причем даже в скифской столице, не говоря уже о деревне побережья, говорят результаты краниологического анализа материала раскопок Неаполя. В слоях, относящихся к VI — VII вв. н. э., здесь обнаружены черепа высокого и узкого типа с большим выступом носовых костей, чем это наблюдалось у более однородного провинциального населения горных районов, например Чуфут-Кале (Соколова К.Ф., 1958а, 64). Примерно тот же вывод можно сделать и в отношении более поздних могильников (VIII — IX вв.) Коктебеля и Судака (там же, 74).
Конечно, смешение шло не столь быстро, как это бывает в местах сселения массы мелких разноязычных групп. Оно затянулось на столетия; не только в XVI[35], но и в конце XVIII в. в Крыму жила масса потомков византийцев и более ранних колонистов, частью отатарившихся, частью сохранивших язык и религию. И даже после того, как в 1779 г. часть греков была выселена в Мариупольский уезд (см. ни[73]же), в горной части и на Южном берегу Крыма осталось 66 греческих по преимуществу деревень, входивших в состав Бахчисарайского, Мангупского, Муфти-Арпалыкского, Акмечетского, Карасубазарского, Судакского и Ширинского кадалыков (Лашков Ф.Ф., 1895, 39).
В XIX в. число крымских греков резко возросло в результате переселения сюда так называемых архипелагских греков, т. е. жителей островов Мраморного и других морей (см. ниже). Это были представители иной, новогреческой культуры и языка, но и они продолжали оказывать весьма неоднозначное влияние на культуру, быт, идеологию местного населения.
Влиянию этому был положен конец лишь в XX в., точнее — страшной весной 1944 г., когда греческому населению Крыма был нанесен самый жестокий в истории этноса удар — оно было депортировано по известному указу в Среднюю Азию, разделив участь коренного населения, вместе с которым было прожито столько столетий. Но в отличие от татар греки не обвинялись во всенародной измене Советской власти — здесь геноцид не был прикрыт и такой смехотворной маской, их просто обрекли на лишения и смерть в изгнании, исходя единственно из национальных признаков.
Обычно бывает нелегко смоделировать даже предположительный ответ на такой "антиисторичный" вопрос, как: а что было бы с греками, если бы их не выселяли при царе и при Сталине? Но в данном случае у нас есть редчайшая возможность такой ответ дать. Дело в том, что колония выселенных в XVIII в. греков сохранилась, не смешавшись с местным населением. Они сберегли и остатки своей культуры. Недавно здесь были собраны "десятки народных песен, баллад, танцевальных мелодий" (Лисовенко Н., 1988), и была даже выпущена стереофоническая пластинка с ними. Поэтому мы ненамного ошибемся, если предположим, что если бы не шовинистические эскапады Екатерины II, а также Сталина, то до сих пор, как ранее, крымская культура обогащалась бы последним отблеском великой греческой цивилизации, давно угасшей в самой Греции, но сохранившей поразительную жизнеспособность на земле Тавриды.[74]
САРМАТЫ
Сарматы начали проникать в Северное Причерноморье в последние века до н. э.[36] Покинув Нижнее Поволжье и Приуралье, этот кочевой народ, в основном ираноязычный, устремляется на запад. Особенно интенсивным переселение становится в III — I вв. до н. э. Встретившись в Крыму прежде всего со скифами, заселявшими приперекопские степи, сарматы, судя по письменным античным источникам, вступали с ними в борьбу, оттесняя местное население на юг и восток[37]. Однако иногда, в основном в более поздний период, отдельные отряды сарматов заключают со скифами временные союзы для совместной борьбы с общим врагом. Так было, например, в период Диофантовых войн.
Сражались они и с Боспором, уже во II — I вв. до н. э., поддерживая, в частности, Митридата VI Евпатора (об этом говорит Аппиан), а также Фарнака в его войне с Асандром (I в. до н. э.). Затем сарматов используют в своих походах римляне, да и те же боспорцы. Однако крайняя переменчивость, нестабильность международного положения в Северном Причерноморье содействовала частым метаморфозам в политике сарматов в целом и отдельных их племен (аланов, сираков, савроматов) в частности. Поэтому в истории этого воинственного племени нередкими были и мирные периоды; так, уже с III в. до н. э. отмечен приток сарматов-переселенцев на Боспор (Лобова И.И., 1956, 10).
Именно из Боспора, судя по всему, сарматы попадают в Центральный Крым; происходит это где-то на рубеже тысячелетий, возможно раньше. Такой вывод можно сделать исходя из погребений в районе Неаполя Скифского, где обнаружены как сарматский инвентарь (мечи без перекрестья, зеркала, массивные пряжки и фибулы сарматского полихромного стиля), так и материальные признаки сарматского погребального обряда[38] — это более важное свидетельство о миграции племени, так как украшения и оружие могли быть покупными. И наконец, наиболее бесспорный признак такого рода — найденные здесь черепа, деформированные с детства, как это было принято в Причерноморье и Крыму только у сарматов.
Во второй половине I в. н. э. сарматы в союзе со[75] скифами вступают в упорную борьбу с херсонеситами. Город был осажден, положение греков стало безвыходным, но они использовали незнакомство степняков с морем (бухта не была блокирована) и послали за помощью к римлянам. Армия Плавтия Сильвана обрушилась на осаждавших, и те после тяжелых боев отступили. Поражение резко изменило политику сарматов — они всецело становятся в борьбе скифов с Боспором на сторону последнего. Это и было, как считают некоторые авторы (Грибанова Л.С., 1952, 8), основой роста военного могущества боспорян при царе Савромате I (правил в 93 — 123 гг.) и Котисе II (123 — 132 гг.). Более того, в отличие от Херсонеса, где римская власть в эту эпоху была бесспорной, такого положения на Боспоре не сложилось благодаря именно сарматам. Римляне знали, что боспорские правители в любой момент могут получить неограниченную поддержку со стороны сарматских племен, и это заставляло императоров считаться с полисом.
Во II — IV вв. продолжается и мирное наступление сарматов в горных и предгорных областях. Они заселяют свободные земли, часто проникают и в старые поселения, нередко смешиваясь с аборигенами. Есть случаи основания ими крупных новых убежищ-крепостей; самый известный пример — город на горном обрывистом плато в верховьях Чурюк-Су, позже названный Чуфут-Кале.
Сарматов постигла судьба других, больших и малых племен и народов, оказавшихся в "плавильном тигле" Крыма в дописьменную эпоху. Они растворились в местном населении, не оставив по себе памятников, кроме тех, что извлекаются в наше время из их захоронений. Что же касается культурного наследия сарматов в Крыму, то эта проблема еще далеко не разрешена. Есть немало бесспорных фактов влияния сарматов на культуру их современников, как скифов, так и колонистов из Греции и Рима[39]. Однако мы не можем присоединиться к весьма решительным выводам некоторых специалистов о "всеобщем процессе сарматизации материальной культуры народов, населяющих Крым" (Лобова И.И., 1956, 15). Уже на текущий момент культурное наследие крымского населения первых веков н. э. изучено вполне достаточно для того, чтобы отнести подобный вывод к явным преувеличениям.[76]
ГОТЫ
Предыстория "готской проблемы". Готы — скандинавская группа племен, поднявшихся с места в эпоху Великого переселения народов и неудержимо двинувшаяся на юг двумя потоками: вестготы завоевали огромную и густонаселенную территорию Испании, остготы — Италию и прилегающие области Южной Европы.
Однако уже к середине VIII в. готы растворились среди аборигенов завоеванных земель, оставив в обиходе раннего средневековья лишь свое имя. Ассимилируя большие и малые этносы, бывшие скандинавы неимоверно разрослись количественно, изменилась и их культура, размылся язык, запечатленный для потомков в Евангелии, переведенном готским епископом Вульфилой (Ульфилой). Лишь на востоке, на далекой периферии европейского мира, в дикой Тавриде, остался в целости нетронутый, изолированный от своих германских собратьев осколок этноса. Только готам, укрывшимся высоко в горах Крыма, — трапезитам и тетракситам — удалось при помощи оружия и хитрости уцелеть в годы нашествия гуннов, и лишь они сохранили величайшую из своих святынь — язык предков — до XVII, а по некоторым свидетельствам — и до XVIII в., т. е. на тысячу лет дольше, чем их более могущественные соплеменники, углубившиеся в мир древних цивилизованных народов.
Исследования истории крымских готов издавна осложнялись соображениями, далекими от "чистой" науки. "Готский вопрос" (суть которого сводилась к выяснению степени влияния готов на складывавшиеся причерноморские или восточноевропейские народы) получил в XX в. столько же ответов, сколько было политически заинтересованных в том или ином ответе сил. В 30-х гг. два основных политических направления в этом вопросе представляли довоенная Германия и Советский Союз.
Германские гипотезы, клонившиеся к обоснованию некоего "исторического права" немцев на крымские территории, строились на теории расового превосходства арийцев над иным народонаселением Земли.
В этом контексте представляется объяснимым то, что по закону маятника советские ученые откачну[77]лись от оси истины в противоположную сторону, отрицая какую бы то ни было культуртрегерскую роль готов в Крыму.
В послевоенной Германии немецкая гипотеза 30-х гг. давно отвергнута, ее антинаучность доказана, и дальнейшей критики с чьей бы то ни было стороны она не заслуживает, как не заслуживает ее, например, "теория" о том, что вестготы являются исконным населением Испании.
Однако при анализе современных советских трудов по "готскому вопросу" создается впечатление, что некоторые, даже весьма авторитетные, ученые-марксисты до сих пор ведут борьбу с гитлеровской пропагандой, как будто боясь признать очевидный факт, что на перепутьях истории сталкивались, ассимилировались или противостояли друг другу этносы, из живого общения которых и образовались современные народы. Степень взаимного влияния народов, их исторические истоки и судьбы — вот единственно благодарный и благородный предмет исследования.
До сих пор "готский вопрос" все еще остается "первородным грехом" советской исторической науки, поэтому автор с сожалением вынужден сделать небольшой экскурс в историю его изучения.
Важность научного ответа на "готский вопрос" чрезвычайна по причинам далеко не только политическим. По выражению известного филолога и историка Н.Я. Марра, этот вопрос — "один из основных в истории Восточной Европы. Без его разрешения или хотя бы правильной постановки его решения, думается, этногоническая проблема народов европейского Востока едва ли сдвинется с места, на котором она застряла" (Марр Н.Я., 1930, 445).
Позиция огульного отрицания роли, которую могли сыграть остготы в Крыму и Причерноморье в период складывания раннефеодальных этносов, не конструктивна. Советскими историками, кстати, отрицался и сам факт переселения в Крым готских иммигрантов как цельной группы, обладающей единым языком и национальностью. Утверждалось, что в противоположность "историческим готам", т. е. жившим в Западной Европе, "причерноморские готы автохтонно и стадиально образовались из ранее бывших здесь (т. е. в Крыму) племен путем скрещивания" (Равдоникас В.П., 1932, 87). И далее: "Для готов,[78] вторгшихся как сложившаяся германская народность откуда-то с севера, нет места в культурной истории Причерноморья" (там же, 44). Противостоя гипотезам, "подсказанным чуждой нам идеологией", сторонники этой точки зрения "отказываются" от "переселившихся из Скандинавии готов — первоначально германцев" (там же, 86).
О подобной крайней точке зрения также не стоило бы вспоминать, хотя бы из-за ее почтенного возраста. Однако ее гальванизировали послевоенные советские ученые, утверждающие, что в юго-западном Крыму осело некогда "три тысячи готов, служивших в наемных войсках Византийской империи" (Надинский П.Н., 1951, 43). Другими словами, это всего лищь солдаты, пришедшие в Крым довольно поздно, вряд ли какое-либо влияние на местное население оказавшие оккупанты. Но, во-первых, судя по некоторым выкладкам, число готов здесь преуменьшено минимум в 5 — 7 раз (Домбровский О.А., 1972, 24), а во-вторых, готы никогда ничьими наемниками не были, занимаясь в Крыму исключительно земледелием и скотоводством (см. ниже). Отсюда — и неправомерность следующего вывода: "Вот эту-то группу наемников-готов, осевшую в Крыму и полностью растворившуюся среди местного населения, немецкие буржуазные историки и их подпевалы пытались, грубо фальсифицируя историю, изобразить "народом"..."; "Больше того, они приписывали этой группке готов создание самостоятельного в Крыму государства, которое будто бы просуществовало здесь вплоть до XIV — XV вв. и даже далее... Советскими историками сказки о "крымских готах" полностью разоблачены" (Надинский П.Н., 1951, 43).
В отличие от подобных чисто декларативных утверждений попытки отрицать сам факт более или менее значительной миграции готов в Крым делались и на "научной основе". Так, Дебеэ сделал подобный вывод на основе обмера черепов из крымских могильников, не смущаясь малым количеством их — около 30 захоронений (см.: Кропоткин В.В., 1953, 7). Наконец, до абсурда доводится подобная точка зрения у авторов, утверждающих, что "готы" вообще этноним собирательный и означает группу племен, ничего или почти ничего общего со Скандинавией или Германией не имеющих (Равдоникас В.И., 1932, 92; ДТ,[79] 1966, 13). Однако, прежде чем воскликнуть: "А был ли мальчик-то?", обратимся наконец к трудам хоть и не столь общим тематически и заостренным политически, но написанным специалистами именно по этногенезу готов, изучившими проблему досконально.
Происхождение готов Крыма. Шведскими историками неопровержимо доказано, что прародиной их далеких предков-готов был Скандинавский полуостров, точнее — область Вестерготланд (Oxenstierna E.C., 1945, 189), откуда они где-то на рубеже нашей эры переселились на противоположный берег Балтики, в устье Вислы. Далее, приблизительно в 100 — 200 гг. н. э. готы двинулись на юг и достигли берегов Черного моря в III в. н. э.
Северные пришельцы тут же вступили в борьбу за жизненное пространство с Боспором, большая часть которого через некоторое время попала к ним в зависимое положение. По данным археологии, готы заняли прежде всего северо-западный Крым. С середины III в. там почти не остается греков и иных местных жителей по единственной причине — тому виной "готское нашествие, прошедшее по северо-западному Крыму сокрушительным валом" (Щеглов А.Н., 1978, 135). Воспользовавшись затем боспорским флотом, готы совершили ряд морских походов к устьям Днестра и Днепра, в Синоп, Питиунт (Пицунду) и далее — на острова и материковые города бассейнов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей (Васильев А.А., 1921, 267). Походы эти намного опередили знаменитые набеги на европейские страны викингов, оставшихся на Севере; это было лишь первое предвестие их. Но народы того же Средиземноморья могли получить полное представление о грядущем furor normanorum, т. е. "ярости викингов", встретившись с крымскими готами еще в III в.
Готское государство. Уже на крымской земле в готском обществе произошли две значительные метаморфозы. В III — IV вв. свершился переход от военно-демократических институтов, свойственных родо-племенному строю, к первым государственным образованиям с соответствующим аппаратом (Буданова В.В., 1983, 1). И с середины III в. среди готов, поклонявшихся ранее древнескандинавским богам,[80] т. е. язычников, распространяется христианство. Причем, по мнению некоторых авторов, оно проникло в Крым не из соседнего Константинополя, но прямо из Иерусалима, вместе с пленными, обращенными готами в рабов. А в IV в. в Крыму уже появляются первые готские мученики за веру (Беликов Д., 1887, 30 — 32), что противоречит уверениям о гораздо более позднем проникновении новой веры в Крым — лишь в VIII в. (Домбровский А.И., Махнева О.Л., 1973, 23). Да и на Никейском соборе в начале IV в. мы встречаем готского епископа Кадма из Крыма (Tomaschek W., 1881, 10; Harnack A., 1906, 203). При этом крымских готов, очевидно, не коснулся раскол восточной церкви на арианский и афанасьевский толки — вплоть до своей ассимиляции среди других народов они оставались единственными тогда среди германцев (не считая вестготов), сохранившими приверженность древнему, ортодоксальному символу веры, утверждавшему единосущее всех лиц Троицы.
Вполне историческим лицом был и гот Унила, рукоположенный на рубеже IV и V вв. в епископы Крыма самим Иоанном Златоустом в бытность последнего константинопольским патриархом. К этому времени православие, очевидно, стало государственной религией готов, так как по смерти Унилы они просят Иоанна прислать к ним нового епископа (Творения Иоанна, т. III, 1897, 644 — 645).
Возникает естественный вопрос о сравнительной распространенности христианства в IV — VII вв. среди крымских готов и крымских же греков. Если, как мы видели, готы сами просят себе епископа, то в это же время в Херсонесе православие, жестко внедрившееся сверху, и в V в. было "номинальным", и в VI в. повседневные традиции были языческими (Зубарь В.М., 1988, 62). Это касалось основной массы горожан, не считая, естественно, групп ссыльных монахов, оставивших после себя следы, которые иногда принимаются за подтверждение распространения христианства среди греков в IV — VI вв. Таким образом, массовым христианство стало в Крыму впервые в готской среде, причем задолго до завершения христианизации крымских греков в IX в.
В IV в. сведения о готах начинают встречаться у греческих авторов. Так, Эпифаний (314 — 403) пишет, что византийским императором Констанцием[81] (337 — 361) в Крым был сослан некий старец Авдий, который, "идя вперед, в самую внутренность Готии, огласил христианским учением многих готов, и с тех пор в самой Готии возникли монастыри" (Авдий, 1948, 246). Современник Эпифания Филосторгий упоминает о крымчанине Фравите, "который был родом гот, а по религии эллин, верный римлянам и весьма искусный в военном деле" (Филосторгий, 1948, 282). Анонимный автор середины IV в., повествуя об Александре Македонском, упоминает о том, что великий завоеватель, "перейдя Меотиду, уже на возвратном пути напал на готов и их также одолел в битве" (Дорожник Александра, 1949, 276), но, судя по всему, большого вреда готам это поражение не принесло, они не попали даже в какую-либо зависимость от веры иноземца; это можно отнести и к другим крымским племенам.
И вот возникает вопрос о количественном соотношении готов с этими племенами. Вопрос достаточно сложный; можно лишь предположить, что в IV в. скандинавы владели значительной частью Крыма, скорее всего степной, так как Керченский полуостров и Херсонес с прилежащими землями были заняты греками, а горная часть — таврами, впрочем не вся (см. ниже). Но после нападения на Крым гуннов (около 370 г.) подвластная готам территория значительно расширилась. Некоторое время готы и гунны могли сосуществовать мирно — во всяком случае материала о столкновениях между ними мы не находим ни у старых авторов, ни в раскопках. Однако после смерти Аттилы (453 г.) и начала распада его огромной державы часть гуннов, возвращавшаяся с восточных ее окраин, вторглась в Крым, чем обусловила перевес своих собратий над готами. В результате, как сообщает Прокопий Кесарийский в "Готских войнах", христиане отступили в горную часть Крыма, в так называемую "область Дори" (Procopii. De bello gothico, IV, 5).
Этот же автор VI в. описывает общее положение горных готов позже — они входили в союз с римскими колониями в Крыму, отчего находились в относительной безопасности. Готы по-прежнему славились, по его словам, как "... прекрасные воины, а также деятельные, искусные земледельцы", отличавшиеся "наибольшим гостеприимством между всеми людь[82]ми". Страна их, продолжает Прокопий, "лежит высоко, однако она не дика и не сурова, но приятна и богата наилучшими плодами. В этой стране император (Рима. — В.В.) нигде не строил ни города, ни крепости, потому что тамошние жители не терпели, чтобы их запирали в каких-нибудь стенах, но всего более всегда любили жить в полях" (цит. по: Васильев А.А., 1921, 309 — 310).
Таким образом, к VI в. крымская Готия (именно так именует готское княжество Иоанн Богослов) располагалась в установившихся границах на территории к востоку и северу от Балаклавы, доходя до Сугдей (Судак). "Область Дори", упоминаемая Прокопием, — это, по мнению многих, имя города, столицы Готии, звавшегося по-разному в различные эпохи: Дори, Дорас, Дарас и, наконец, Феодоро — имя, которым его зовут в основном ученые. Как называли свою столицу сами готы, пока неясно; ныне руины ее более известны под именем Мангуп.
Местоположение столицы готов ныне споров не вызывает: она раскинулась на Бабадаге, столовидном известняковом останце, возвышающемся среди долин Джан-Дере, Адым-Чокрак и Каралез. Верхняя часть Бабадага — обширное плато, в плане похожее на кисть руки. Внизу его до наших дней сохранились готские дороги, петлей охватившие гору; одни концы этой петли выходят к селу Биюк-Сюйрен (ныне Танковое), другие — к Албату (ныне Куйбышево). Плато почти неприступно, до сих пор единственный путь на него — широкая тропа, идущая от турбазы сквозь рощу реликтового древовидного можжевельника к руинам крепостных ворот.
Величественное горное обиталище готов, как и сам Бабадаг, всегда производило на путешественников неизгладимое впечатление. Англичанин Э.Д. Кларк писал в 1800 г.: "Ничто в какой бы то ни было части Европы не превосходит ужасной величественности этого места"; ему вторит француз Дюбуа де Монпере: "... эта громадная скала, отвесная со всех сторон, возвышается как отдельный бык моста... Ни одна позиция в Крыму не могла быть более сильной, не было ни одной более важной" (цит. по: Васильев А.А., 1921, 316). До сих пор сохранились и стены этой крепости с башнями, кое-где двойные.
Здесь давно ведутся раскопки, но и на поверхности[83] земли еще целы древнехристианские базилики. Что же касается общего архитектурного облика Мангупа, то при всем разнообразии стилей менявшихся поколений специалисты прежде всего выделяют скандинавский, готский (Домбровский О.И., Махнева О.А., 1973, 21).
Готия пользовалась немалой поддержкой византийских императоров, озабоченных безопасностью своих крымских владений от северных кочевников. Поэтому Юстинианом I и были возведены на северной границе ее длинные стены, остатки которых заметны и сейчас. Естественно, готско-византийское содружество не было союзом равных: княжество имело вассальные обязанности. Но в конце VII в. мы видим его уже независимым, а готов — достаточно сильными, чтобы принимать и скрывать у себя бежавших от гнева византийских владык политиков и инакомыслящих бунтарей. Скрывался здесь и низвергнутый император Юстиниан II.
Заметное влияние на этническую ситуацию Готии оказали и результаты развернувшегося в VIII в. в далекой Византии иконоборческого движения. Православное византийское духовенство, верное устоям этой иконопочитательской конфессии, подверглось гонениям, но предпочло хранить чистоту ее в изгнании. Одним из убежищ, избранных греческими монахами и просто верующими огромной империи, стала единоверческая Готия. Влившиеся сюда значительные массы весьма образованного духовенства повлияли не только на общую культуру княжества, но и, в частности, на готские строительство и архитектуру. Иммигрантами были возведены на всей территории Готии десятки церквей и монастырей. "Житие Иоанна Готского" (см. ЗООИД, 13, 1885, 25 — 34) — памятник, созданный современником этих событий, — дает нам немало любопытных исторических сведений об эпохе. Мы узнаем, как столицей овладели, правда на краткий срок, хазары (787 г.), о восстании готов против оккупантов, о том, как был схвачен вождь восставших епископ Иоанн, о его побеге из плена и смерти далеко от Крыма, о том, как тело его было доставлено к месту рождения владыки, в Партенит, и предано земле в ограде монастыря Св. апостолов Петра и Павла, им же некогда построенного. Позже монастырь разрушился[40], но память о[84] православном епископе жила среди южнобережных татар и в 1920-х гг. "Несмотря на то, что население приняло ислам", — замечает с удивлением исследователь (Васильев А.А., 1927, 207). Впрочем, объяснить столь долгую память крымчан можно, очевидно, тем, что епископ был не только борцом за освобождение Крыма от захватчиков, но и видным деятелем культуры и просвещения (он собрал, к примеру, богатейшую библиотеку монастыря в Партените).
Впрочем, стремление хазарского тудуна захватить Дорос было не самой грозной опасностью. Южный берег Крыма, т. е. основная часть готских владений, был столь мощно укреплен, что претензии хазар на него не распространялись. Да и отношения между ними и готами вскоре сменились на более мирные ввиду новой общей опасности, надвигавшейся с севера.
Около 833 г. хазары отправляют в Византию посольство с просьбой прислать в Крым инженеров-фортификаторов для строительства укреплений на северной границе их владений. Это было вызвано недавним — первым в истории — русско-крымским военным столкновением, точнее, русским набегом. Вот как сообщает об этой кровавой драме "Житие Стефана Сурожского":
"... Прииде рать велика русская из Новаграда, князь Бравлин силен зело, плени от Корсуня и до Корча (т. е. от Херсонеса до Пантикапея. — В.В.). С многою силою прииде к Сурожу. За 10 дней бишася зле межоу себе. И по 10 дней вниде Бравлин, силою изломив железные врата и вниде в град, и зем меч свой, и вниде в церковь святую Софию, и разбив двери, и вниде, идеже гроб святаго, а на гробе царское одеало, и жемчюг, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и сосудов златых много, все пограбише" (Василевский В.Г., III, 95). Кроме того, русский князь захватил в рабство пленников — не только взрослых, но и детей.
Беда обрушилась не только на готов — "большая часть полуострова испытала ужасы этого грабительского похода", а "к тридцатым годам (X в. — В.В.) русская опасность являлась уже реальным фактом" для всего Крыма (Васильев А.А., 1927, 226). И в 944 г. русские вновь пришли сюда с мечом в руке. Херсонес с его уникальной культурой от разграбления[85] и, возможно, уничтожения спасло лишь то, что князь Игорь не смог одержать победы в "Корсунстей стране, елико же есть городов в той части..." (ПСРЛ, т. I, 1926, стлб. 50). Поскольку же "города той части", т. е. вблизи Херсонеса, были почти сплошь готскими, ясно, что русские воевали не только с херсонеситами и что отражением набега Крым обязан также и скандинавским мечам.
В том же X в. хазарское господство в Крыму начинает слабеть по той же причине участившихся нападений сначала русских, а затем печенегов. Воспользовавшись этим, Византия снова стала приводить готов под свое владычество. В этом длительном процессе были и положительные стороны — империя брала княжество под свою защиту. О том же, что опасность с севера становилась после первых походов русских все более грозной, говорит договор князя Игоря с Византией.
После набега на Константинополь, в котором князь потерпел поражение, он был вынужден подписать такой пункт трактата: "А о Корсунстей стране, елико же есть град на той части, да не имать власть кънязь Русьскый, да воюет в тех странах, и та страна не покоряется вам" (ПСРЛ, там же). Отсюда следует вывод: готские владения, т. е. не только греческий Херсонес, но и "находящиеся в той части (Крыма. — В.В.) города", подвергались, как и ранее, набегам русских, отчего победительница Византия обязала Игоря эти нападения прекратить на вечные времена ("дондеже солнце сьяет и весь мир стоит").
Однако договор 945 г. вряд ли мог действенно защитить Готскую епархию — хотя бы по причине общего ослабления Византии. Поэтому и готы были вынуждены взять дело обороны своей страны в собственные руки. Как им это удалось, мы можем судить по современной описываемым событиям "Записке готского топарха".
Здесь повествуется о встрече послов топарха (готского князя) в 962 г. в Киеве с неким могущественным князем Севера (судя по всему, Святославом или Владимиром). Готское посольство было вызвано не прекратившимися после похода Игоря набегами русских (Домбровский О.И., Михнева О.А., 1973, 39 — 40), но еще более — "варваров", очевидно хазар[41]. Избрав из двух зол меньшее, готы решили остаться под покро[86]вительством одного из врагов, естественно более сильного.
Киевский князь принял предложение топарха, наградил и утвердил его власть над Готией. Но русский протекторат продлился недолго. Через 10 лет Святослав был побежден императором Иоанном Цимисхием, отказался от покровительства над Готией, после чего она вновь попала в сферу политического влияния Константинополя.
История готов с середины XI до начала XIII в. весьма темна, так как не сохранилось о ней ни достоверных источников, ни свидетельств современников необходимого объема и подробности. Лишь в записках миссионера Людовика IX Святого монаха Гийома де Рубрука встречается обширное описание Готии середины XIII в.: "На море, от Херсона до устья Танаида, находятся высокие мысы, а между Херсоном и Солдайей существует сорок замков; почти каждый из них имеет особый язык; среди них было много готов, язык которых немецкий (teutonicum). За этими гористыми местностями к северу тянется по равнине, наполненной источниками и ручейками, очень красивый лес, а сзади этого леса простирается огромная равнина... она суживается, имея море с востока и запада, так что от одного моря до другого существует один большой перекоп (forsatum). На этой равнине до прихода татар обычно жили команы и заставляли вышеупомянутые города и замки платить дань" (Рубрук, 1910, 68).
Команы (куманы), или половцы, появились в степном Крыму в XII в. Рубрук же говорит о знаменательном событии — смене половецкого влияния татарским, начавшейся с 1233 г., когда татары впервые совершили набег на Судак. Итак, готы платили дань половцам, но здесь подтверждается и факт продолжавшегося обладания готами Южным берегом. О тяжести половецкого ига для крымских германцев говорит и "Слово о полку Игореве": "Се бо готские красные девы въспеша на брезе Синему морю (т. е. Азовскому. — В.В.). Звоня рускым златом, поют время Бусово, лелеют месть Шаруканю".
Тем не менее до полного порабощения дело и на этот раз не дошло. Готы не только продолжали заниматься традиционными видами деятельности, но и торговали, нередко пересекая с ценным товаром половецкие степи. Так, в "Житии Антония Римлянина"[87] мы встречаем известие о прибытии в Новгород в первой половине XII в. некоего крымского гота, владевшего греческим и русским языками (Новгородские летописи, 1879, 187 — 188), из чего можно сделать вывод, что гость посещал русские земли неоднократно, т. е. между двумя единоверными государствами связи были более или менее постоянными.
Упомянутое уже начало татарских набегов пока мало что значило — разве что избавляло готов от дани половцам. Не стало над ними и византийской верховной власти — после того как на смене XII и XIII вв. могущество империи пало, ее место в Крыму пыталась занять новообразовавшаяся Трапезундская империя. Учитывая сравнительную немногочисленность ордынцев и более высокий уровень культуры готов-христиан, не кажется странным и вывод о том, что последние активно ассимилировали татар в эту эпоху, тем более что они, пришельцы, охотно принимали православие, а некоторые даже входили в состав клира Мангупа (Малицкий Н.В., 1933, 7).
В XIII — XIV вв. в истории готов все большую роль начинают играть генуэзцы, основавшие в 1266 г. колонию в Кафе и купившие у татар обширную прилегающую территорию. Они продвигались вдоль Южного берега, а с 1365 г. стали вне конкуренции в торговле и политическом влиянии в этой части Крыма. И в 1380-х гг. они договорились с ханом Мамаем о разделе Крыма; готы получили при этом территорию от Балаклавы до Алушты, за исключением ряда крепостей: Форы (Форос), Хихинео (Кикинеиз), Лупико (Алупка), Мусакори (Мисхор), Ореанда, Джалита, Сикита (Никита), Горзовиум, Партените, Ламбадие (Биюк-Ламбат и Кучук-Ламбат), Луста (Алушта), оставшихся за генуэзцами (Малицкий Н.В., 1933, 6). Новая область стала при этом называться "Губернаторство Готия" (Капитанатус Готиэ).
Ясно, что итальянцы получили лишь узкую полоску берега; горы и леса к северу от Ялты, сердце старой Готии, остались в целости и независимости. Во главе ее по-прежнему остался князь (он мог быть и греческого происхождения), обязанный данью татарам и вассалитетом Трапезунду. О сохранении им власти согласно свидетельствуют М. Броневский (1867, 343) и надпись 1427 г. на плите из Каламиты: "Князь Алексей из Феодоро воздвиг крепость и церковь[88] Св. Константина и Елены" (Малицкий Н.В., 1933, 25 — 32).
Этот же князь Алексей позднее положил начало возврату приморских земель. Умный и энергичный политик, он стал инициатором тесного сотрудничества Феодоро с крымским ханом, также опасавшимся и генуэзцев, и стамбульских турок. При нем было возвращено прежнее значение захиревшему было порту Каламите, расширены границы города. За год до смерти (1434 г.) князь вернул готам бухту Символов (Балаклавская) и крепость Чембало, отнятую у них генуэзцами за 66 лет до того.
Борьба за побережье продолжалась и позже, чему способствовал рост престижа княжеского дома — дочь князя вышла замуж за Давида Комнина, ставшего вскоре императором Трапезунда. "Сеньором Феодоро" стали итальянцы именовать уже сына Алексея, занявшего престол отца (его имя до нас не дошло, но татары именовали молодого властителя Олу-бей, т. е. Большой князь). Князем величали его и русские. Врак с членом княжеского дома, близкородственного константинопольским Палеологам и трапезундским Комнинам, отныне мог считаться честью для представителя любой христианской династии — и мангупская княжна, дочь Олубея, стала женой Стефана Великого, а Иван III вел переговоры с князем Сайком, ее братом, о браке другой княжны с московским царевичем.
Укрепив таким образом свои политические позиции, князья Феодоро могли после завоевания Константинополя турками (1453 г.) вступить в серьезный конфликт с итальянцами. Генуэзцы разработали план полного подчинения себе готов. В конфликте победили германцы, и уже в 1458 г. в официальном документе, составленном в канцелярии Кафского консулата, готский князь (Dominus theodori) был признан одним из четырех "черноморских государей" (Braun F., 1890, 34). Это свидетельствовало и о признании того важного факта, что, опираясь на мощную армию, готы, эти прирожденные мореплаватели, вернули себе значительную часть южнобережных крепостей и портов.
Закат страны Дори. Однако этот всплеск былого величия Готии был последним перед ее окончательным падением. В 1475 г. Кафу взяли турки; осадили[89] они и Мангуп. Установив на примыкавших к главным воротам высотах легкую и осадную артиллерию, они подвергли столицу непокорных готов разрушительному обстрелу — впервые в ее истории. Тем не менее она держалась около трех месяцев и сдалась, лишь когда иссякло продовольствие. Турки, обещавшие помиловать горожан, устроили дикую резню — об этом говорят братские могилы казненных мангупцев.
Тем не менее княжеский род уцелел; сохранился и старый титул князей. Мы встречаем их имена в числе вассалов султана и послов Стамбула в Москву: князя Кемальби, его сына Мануэля, очевидно христианина (Карамзин Н.М., т. I, с. VII, примеч. 105), в Москве же проводит последние годы жизни князь Скиндер (Александр) Мангупский (там же, с. VII, 115, примеч. 233, 235, 236).
Но это уже был последний упомянутый в известных нам источниках князь, хотя линия их продолжалась в боярском роде Головиных — сын мангупского князя Стефана (ум. в 1400 г.), брат топарха Алексея (ум. в 1428 г.), стал членом этого рода (Бархатная книга, 1797, 270). Само же княжество безвозвратно пало; города Мангуп, Чембало, Каламита и все их земли вошли в Мангупский кадылык султана; Каламиту при этом переименовали в Инкерман, Чембало — в Балаклаву, столицу же — в Мангуп-Кале. Последняя сохранила свое значение лишь как крепость; торговля и ремесло здесь быстро пришли в упадок. Виной тому было ее новое, периферийное положение — вдали от турецких торговых магистралей. Город дважды выгорает — в 1493 и 1592 гг. ...
Однако в столице и других городах готское население отнюдь не представляло собой всего народа и даже большей части его. Основная масса готов-крестьян в отличие от горожан, не подвергшихся в XV в. ни эллинизации, ни тюркизации, продолжала жить в глухих горных селениях, поддерживая минимальные связи с внешним миром, сохраняя свою древнюю культуру, свой язык еще многие столетия. И это не пустые предположения.
Последние готы. В 1557 — 1564 гг. в Турции послом цесаря был некий Бусбек. Этот образованный по своему времени чиновник встречал в Стамбуле двух посланцев готского населения Крыма и имел с[90] ними длительные беседы. Перу Вусбека принадлежит уникальное описание одного из них — гота: "Он был высокого роста, и во внешности его сквозила прирожденная скромность, что делало его похожим на фламандца или голландца". Контрастом готу выглядит его товарищ: "Второй был ниже ростом, коренастый, темнолицый, судя по всему, греческого происхождения... Когда я спросил их о натуре и языке их народа, они ответили мне весьма недвусмысленно, что их народ, готы, весьма воинствен, что он и поныне еще занимает многие области и что они предоставляют татарскому хану, когда ему есть в том нужда, 800 легковооруженных солдат, составляющих ядро татарского войска, что у них есть два главных города — один зовется Мангуп, другой — Скиварин[42]"(Вгаип F., 1890, 65). Далее Бусбек сообщает, что готы — до сих пор христиане, хотя и окружены иноверцами.
Ценнейшим в сообщении Бусбека является запись нескольких десятков слов и песни на языке его знакомцев-готов. Это, без сомнения, готский язык, известный нам из Евангелия Вульфила. Небольшие различия здесь легко объяснимы погрешностями фонетической системы записи Бусбека, а также неизбежным развитием языка, ведь с эпохи готского епископа прошло немало времени — целых 12 веков! Для исследователя запись эта имеет огромную ценность и потому, что представляет собой неопровержимое доказательство сохранности крымско-готского языка во второй половине XVI в., тогда как некоторые авторы "хоронят" его веком раньше (см.: Надинский П.Н., 1951, 43) или даже в 1-м тысячелетии н. э. (ДТ, 1966, 14).
Между тем готская речь еще долго звучала под крымским небом. В 1683 г. известный путешественник, входивший в состав шведского посольства, Энгельберт Кемпфер записывает, находясь в Московском государстве, что "в Крыму еще сохранились многие немецкие слова, принесенные туда готскими колонистами. Господин Бусбек... дал в своем четвертом сочинении значительное количество этих слов, я же записал их гораздо больше" (цит. по: Adelung, 1817, 168). Таким образом, Кемпфер располагал коллекцией лексических единиц готского языка конца XVII в., но, к сожалению, этот бесценный материал пропал во время путешествия ученого в Китай.[91]
Следующее известие о готах находим в книге ученого-митрополита, члена Российской Академии С. Сестренцевича-Богуша (1731 — 1826), где он пишет, что готы, живущие близ Мангупа, резко отличаются от жителей соседних сел как внешностью, так и языком (1806, 283). Он же в письме к отцу сообщает, что в "городах, где история указывает на обитание готов, остались немалые пятна (Flecken), где местный татарский язык похож на нижненемецкий; некоторых людей в Мангупе я понимал. Но все они мусульмане и татаризованы. Они, собственно, не знают, что это за язык, на котором говорят, и сообщают лишь, что первоначально были христианами, а не мусульманами" (Adelung, 1817, 167 — 168).
Академик — последний автор, описавший живых готов, хоть и "татаризованных", но сохранивших и в конце XVII в. сознание своего национального отличия. Нетрудно догадаться о том, что позже время стерло из памяти мангупцев предание об их происхождении.
Однако не всех готов ждала судьба мангупской округи. Горцы также забыли родной язык, но сохранили при этом православную веру до конца XVIII в. В 1778 г. в числе христиан, депортированных по указу Екатерины II из Крыма на север Приазовья, были не только греки и армяне, но и потомки феодоритов, во главе которых по-прежнему стоял их духовный пастырь — митрополит Готфейский и Кафийский (тогда им был отец Игнатий) (Кондараки В.Х., 1871, 27; Херсонские епархиальные ведомости, 1862, 150).
Переселенцы основали на новом месте город, который назвали Мариуполем, как и крупнейший центр татароговорящих христиан — Мариамполь, расположенный близ Бахчисарая. Первые мариупольцы по-прежнему тесно общались с единоверцами — армянами и греками — по-татарски; на татарском звучали и проповеди в их церкви. Не исключено, что для разноплеменного прихода это был единственный способ "найти общий язык", считают специалисты (Braun F., 1896, 199). Этому имеются, впрочем, многочисленные аналогии в других странах: например, в Бразилии или Мексике масса разноязыких переселенцев общалась на чуждом всем им, но универсальном португальском или испанском языке, пока он не стал для них своим. Не исключено, что дома, в семье,[92] все три группы переселенцев Мариуполя продолжали говорить какое-то время на родном языке. И если отмечена бесспорная сохранность готского в середине XVIII в., то, конечно, последние из стариков могли помнить его и в самом начале XIX в. — но это уже чистые предположения.
Во всяком случае, когда Ф.А. Браун в конце XIX в. занялся поисками остатков готского языка в Мариуполе и окрестностях, он не обнаружил здесь ни одного слова — впрочем, он работал там всего 10 дней. Зато ученому бросилось в глаза резкое различие между двумя этнотипами населения. Представители одной из групп были типичными греками: "среднего роста, не слишком крепкого телосложения, цвет лица смуглый, волосы черные, нос большой, с горбом, губы широкие" и т. п. И почти в каждой деревне жили говорившие также по-татарски, резко отличавшиеся от них люди, которые были "ростом повыше греков, стройнее, но вместе с тем более крепкого телосложения, глаза темно-голубые, красивого разреза, но не такие широкие, как у греков, волосы золотистого цвета, с рыжеватым оттенком в кудрях (т. е. на изгибе. — В.В.), цвет лица, как у всех блондинов, нежный, щеки и губы алые, нос короткий, прямой. Одним словом, это чисто готский тип" (Браун Ф.А., 1890, 84).
Если учесть, что часть переселенцев была с Мангупа, то можно согласиться с выводом Ф. Брауна. Напрашивается и второй вывод: если потомки готов попали даже в состав горстки переселенцев, то в Крыму их, безусловно, осталось во много раз больше. Весьма вероятно, что потомки их — татары ряда селений Крыма, резко отличавшиеся от жителей соседних деревень высоким ростом и другими признаками, характерными для скандинавов. Это относилось, например, к татарам дер. Никита (Харузин А.Н., 1890а, 83).
Готия — Феодоро угасла, жители этой области без остатка растворились в массе складывавшейся татарской нации. Не осталось памятников крымско-готской письменности, и это позволяет сделать предположение, что феодориты были бесписьменным народом. Однако лингвисты с уверенностью отмечают ряд готских слов, вошедших в фонд крымскотатарского языка (Braun F., 1896, 209). Столь же уверенно[93] можно говорить и о готском вкладе, пусть относительно небольшом, в крымскотатарский генофонд.
РИМЛЯНЕ
Первые легионы. Римские воины сошли на крымскую землю по узким трапам триеров где-то в районе нынешней Керчи. Это случилось при императоре Клавдии в 45 г. н. э., в эпоху, когда посланцы "вечного" города осваивали берега Черного моря — восточный и западный, продвигаясь все дальше в чуждом "варварском" мире, легаты и трибуны оставляли гарнизоны в небольших, наспех построенных крепостях, а легионы и когорты уходили по берегам все дальше и дальше, чтобы сомкнуть гигантские клещи вокруг Понта Эвксинского в высшей его точке. И тогда настала очередь Крыма изведать судьбу "друзей римского народа".
Собственно, вмешательство римлян в дела Крыма было заметно и раньше, его испытали уже и Боспор и Херсонес — так, упоминавшийся нами Форнак получил во владение Херсонес — при известном условии: отныне он должен был стать "другом римского народа", другими словами, признать свою зависимость от императора. Но впервые римляне решили непосредственно вмешаться военной силой во внутрикрымские дела лишь теперь, когда греческая власть ослабла.
Тем не менее не стоит полагать, что греки крымских полисов восприняли римлян как враждебную силу. Нет, это было мирное завоевание, смена караула на границе цивилизаций. Занимая эллинские колонии, римляне опирались на греческую аристократию, поддерживали ее, предоставляя ей привилегии и субсидии (Цветаева Г.А., 1979, 51). Колонисты знали, что на собственную военную силу им, соседям все более усиливавшихся кочевников, надеяться не стоит. Римская же армия, хорошо обученная, обладавшая лучшей стратегией и тактикой эпохи, а также огромным опытом дальних походов против "варваров", короче — лучшая армия Европы, могла защитить города надежнее любой иной. Эти надежды простирались и на морские торговые пути, причем не напрасно. Так же надежно, как берегами, римляне[94] овладели Понтом — уже в I в. н. э. пиратство здесь было полностью уничтожено Равеннской и Мезийской боевыми эскадрами.
Резко уменьшилась с приходом римских гарнизонов и опасность исчезновения неповторимого культурного облика городов Крыма. Напротив, лишь благодаря римлянам надолго отодвинулась угроза полной ориентализации полисов: ведь Ольвию уже взяли и разрушили готы, к Крыму все ближе продвигались кубанские и донские сарматы, да и собственные, крымские скифы в это время представляли собой враждебную грекам силу, схватка с которой была неизбежной — рано или поздно.
Политические интриги Рима и Боспора, в результате которых легионеры то выступали совместно с боспорцами, то помогали царям бороться с восставшим народом, были мало известны таврам, все еще населявшим горное пространство вдоль Южного берега. Поэтому, когда римляне стали планомерно "осваивать" берег, они встретили неорганизованное, но дружное сопротивление местного населения. Не обладая классической римской стратегией и тактикой, не говоря уже о военной технике, тавры тем не менее весьма эффективно использовали особенности ландшафта, дополненные искусственными завалами в горных проходах и длинными стенами (иссарами) в долинах (циклопические эти сооружения сохранились до сих пор). Были у тавров и оборонительные укрепления в виде крепостей и отдельных башен, часто сложенных в примитивной технике (всухую), но достаточно мощных, чтобы отражать нападения пришельцев.
Обладая всеми преимуществами местных, привычных к крымским условиям жителей, тавры нередко предпринимали дерзкие вылазки, нападая на гарнизоны новых крепостей, которые постоянно ощущали в своем окружении враждебный мир. Вот как описывает Овидий будни одной из таких крепостей: "... чуть часовой с дозорной вышки даст сигнал тревоги, мы тотчас дрожащей рукой надеваем доспехи. Свирепый враг, вооруженный луком и напитанными ядом стрелами, осматривает стены на тяжело дышащем коне, и, как хищный волк несет и тащит по пажитям и лесам овечку, не успевшую в овчарню, так враждебный варвар захватывает всякого, кого найдет[95] в полях, еще не принятого оградой ворот; он или уводится в плен с колодкой на шее, или гибнет от ядовитой стрелы" (Блаватский В.Д., 1954, 136). И недаром вся цепь римской обороны была обращена фронтом к горам — опасность грозила не с моря.
Римский порядок. Но понемногу уменьшалась и угроза изнутри полуострова. Римляне шаг за шагом овладели всем Южным берегом, а также крепостями, стоявшими у узловых скрещений крупнейших торговых путей внутреннего Крыма — их гарнизоны остались и в Неаполе Скифском, и в старом городе близ нынешнего Бахчисарая (Альма-Кермен). Поднялись крепости на горах Кошка, Аюдаг, Кастель, где они господствовали над местностью. Цепь укреплений протянулась, как было сказано, вдоль берега от Херсонеса до Пантикапея. Городскими центрами отныне становятся Джалита (Ялта), Горзувиты, Алустон. Преобразуются и старые города — идет перепланировка Херсонеса, укрупняются кварталы, площадь домов увеличивается по сравнению с греческими в 2 — 3 раза, ширина улиц уже достигает 7,5 м. А в Пантикапее во II в. были устроены мощные террасы, на которых выросли новые жилые кварталы (см.: Цветаева Г.А., 1979, 66).
Впервые к высшей культуре тогдашней Европы, по сути греческого уровня и типа, приобщается весь Южный берег и часть Центрального Крыма — также благодаря прежде всего римским крепостям.
Это были не только новые укрепления — римляне охотно занимали и совершенствовали отбитые у тавров цитадели. При этом скромные постройки аборигенов, естественно, сменялись просторными казармами, комфортабельными термами и храмами. Почти непременной составной частью гарнизонных построек становится бассейн для плавания — такого рода спортивных сооружений ранее в Крыму не было. И конечно же коренной модернизации подвергалась сама фортификационная система, что превращало старые укрепления в первоклассные крепости. Самой мощной из них был Харакс.
На бурной оконечности мыса Ай-Тодор, там, где испокон века было гнездо таврских пиратов, на головокружительную высоту взлетела двойная цепь стен этой римской крепости. Отчасти использовав фунда[96]менты и уцелевшие башни таврской цитадели, отчасти надстроив их и возведя новые стены, римляне уже в I в. довели площадь Харакса до 6 га. Место это было когда-то избрано таврами не случайно, и римляне как по достоинству оценили стратегические качества мыса, так и сумели их развить. Там, где ныне стоит Ай-Тодорский маяк, они выстроили преторий с наблюдательной и сигнальной башней, откуда открывалась вся цепь южнобережных крепостей в алустонском и херсонесском направлениях. И конечно же с этой высоты был великолепный обзор морского пространства.
Под прикрытием стен выросли кварталы поселка при гарнизоне, где жили солдатские семьи и ветераны, ремесленники и торговцы. Конечно, они обслуживали только гарнизон, как и сам Харакс не играл никакой роли в системе крымской экономики. Это был исключительно стратегический, военный центр: трудно выбрать более неудачное место для торгового или ремесленного города, чем Ай-Тодор — местность, не менее, чем постоянными ветрами, известная своим безводьем. Впрочем, с последней проблемой римляне справились, уже в I в. н. э. проведя водопровод с Аи-Петри. И пили они не теплую рыжеватую жидкость, как нынешний смотритель маяка, а хрустально-чистую, прохладную в любую жару родниковую воду — ведь шла-то она не по железным, а по керамическим трубам собственного производства...
Да, прекрасная была крепость, как и вся оборонительная система крепостей и застав побережья, связанных друг с другом легендарными римскими дорогами[43]. И тем не менее даже в пору расцвета своего могущества в Крыму, во II в., Рим настолько опасался тавров, этих нищих горцев, что постоянно держал здесь отборные войска: I Италийский, V Македонский, XI Клавдиев легионы, а также I Киликийскую, II Лукенсийскую, I и II Боспорские, IV Кипрскую, I Бракаравгустановскую когорты, боспорскую алу и фракийскую спиру! И это не считая Мезийской эскадры, чьи триеры постоянно крейсировали в прибрежных водах (Блаватский В.Д., 1954, 132 — 133).
Тем не менее жителям городов не хватало и этих войск по весьма веской причине — регулярные части теперь не поддерживались наемным войском. Ведь[97] ранее население эллинских и боспорских городов нанимало солдат вспомогательных отрядов по соседству. Теперь же соседям и самим нужны были воины: вплотную подступившая римская опасность была весьма нешуточной. Многие потенциальные солдаты самого Крыма служили римским императорам, так что и на ополчение большой надежды не было. Поэтому в городах создаются особые братства (синадельфии или синоды) мужчин — конных рыцарей, копейщиков, закованных в броню лучников. Это были сакрально-политические корпорации с военной организацией; по римскому образцу они были разбиты на отряды, подчинявшиеся жесткой дисциплине. Связывали этих рыцарей и совместные отправления культа, общая забота о погребении павших сочленов и об оставшихся после них семьях (Ростовцев М.И., 1918, 184 — 185). Существование братств резко отличало город от окружающих селений, придавало ему особый колорит, невиданный ни в других провинциях Рима, ни у соседей крымчан.
Великий перелом. Были и более глубокие перемены. С приходом римлян, когда обезопасилось от пиратов торговое мореплавание, начался новый расцвет городов. Из руин поднимались сметенные скифами селения, развивались ремесла, промыслы, торговля в больших и малых городах, росло количество товаров, производимых как для внутреннего рынка, так и на экспорт. А затем произошла и качественная метаморфоза — возникла новая урбанистическая форма, зарождается тип промыслового города. Вместе с тем (и благодаря этому) Крым уже никто не рассматривает как далекую окраину цивилизованного мира (хотя и весьма неплохо известную в Константинополе и Риме). Окраина не приблизилась к культурным центрам, произошло иное. В первые века нашей эры в восточные римские провинции смещается экономический центр тяжести огромной империи. И далеко не случайно, так как в хозяйственном отношении ее Запад стал отставать от хранившего неиспользованные потенции, неисчислимые экономические ресурсы Востока. Северное Причерноморье во II в. уже развитая сырьевая база, поставщик сельхозпродуктов и практически неограниченный рынок сбыта готовой продукции.[98]
И далеко не случайно именно здесь, на границе, столкновение двух миров высекает ослепительную искру новых, невиданных ранее экономических и социальных отношений. Не случайно именно в Крыму, где оживленные неслыханными конъюнктурами торги манят землевладельцев, маклеров и купцов миражами — и не только миражами — в одночасье возникающих огромных состояний, где цены на зерно и рыбу уже пустились в свой аритмичный до сумасшествия, свой неутомимый танец, именно тут старые, окостеневшие отношения, еще годные стылому имперскому миру, ancient regimy материка, не выдерживают ударов новых волн и безнадежно ломаются.
Количественные изменения экономики выливаются в социальные метаморфозы, качественные, естественно — и в Крыму II в. исчезает отмененный сверху рабский труд (Цветаева Г.А., 1969, 52).
Вдумаемся в этот простой и бесспорный факт: полуколониальная провинция на века обогнала в социальном прогрессе метрополию! Христианский Рим из последних сил цепляется за рабовладение (кстати, в свете новой веры недопустимое), прилагает огромные усилия для его сохранения, буквально давит своей массой взрывные внутренние катаклизмы[44], а полуязыческий Крым уже столетие как свободен, а крымские практики уже давным-давно обсудили на своей "варварской" латыни теорию нерентабельности рабского труда и согласно его отменили. Древний мир угасал повсеместно, но зарево грядущей великой эпохи, средневековья, загоралось на Востоке, где Крым первым в Европе дал свободу своим рабам.
Вернемся же к крымскому городу, основному проводнику новых веяний, вглядимся в его облик пристальнее. Как никогда ранее, город римского периода истории Крыма был славен базарами. Прекрасный торг был, например, в Херсонесе, на площади перед храмом Артемиды. Лавки сильно смахивали на италийские, римскими были и гири, и весы. Здесь бойко торговали хлебом, перекопской и керкинидской солью, рыбным соусом "гарум", ценившимся наравне с пряностями, вином, мясом, птицей, оливковым маслом[45], зеленью, фруктами, пряностями. И конечно, рыбой, которую все больше вывозили на экспорт — это было выгодно. Так, Полибий писал, что за одну амфору маринованной сельди пантикапейского за[99]шла гурманы с Капитолийского холма давали 300 драхм, а ведь это стоимость пусть небольшого, но дома!
Прямо в дверях мастерских, которых было близ базара множество, на соломенных подстилках были расставлены керамические, стеклянные, медные, деревянные сосуды, литые и кованые изделия из меди и стали, оружие и инструменты, обувь и ткани, мотки шерсти, статуэтки местных римских божеств, принадлежности для письма.
Уже во II в. здесь можно было встретить товары не только из Греции или Рима, но и из далеких римских провинций — Германии, Галлии, Паннонии (Сорочан С.Б., 1981, 9). И покупателями были в III — V вв. уже не одни лишь херсонеситы, но и жители гор, готы и тавры, приезжавшие сюда на двуколках с огромными колесами не только из соседних Балаклавской, Байдарской и Инкерманской долин, но и с Альмы, Качи, Каралеза, а в V в. — и из Чуфут-Кале, Мангупа, Эски-Кермена... За море шли не только рыба, соль и хлеб, но и по-прежнему исправно поставлявшиеся северными соседями рабы (Ростовцев М.И., 1918, 162) — товар, на который был спрос везде, кроме Крыма.
Наследие римлян. Римляне пробыли в Крыму довольно долго — до IV в. и, естественно, не могли не испытать влияние местной культуры. Они возводили свои крепости, используя циклопические фундаменты и цоколи захваченных таврских укреплений, подчиняясь плану этих древних цитаделей. Очевидно, у скифов был ими перенят опыт строительства крепостных стен в виде двух панцирей, пространство между которыми (до 2,4 м) забутовывалось, — так, стены Неаполя весьма схожи с хараксскими, воздвигнутыми на месте таврской крепости.
Наверняка заимствовали римляне в Крыму и местные традиции и мифы; так считает Д.Д. Фрэзер, исследуя мифы об Оресте и Диане Таврической, ставшей римской богиней (1983, 11).
В экономической же области более заметно обратное влияние — римлян на крымчан.
Крымское земледелие вступает в новую фазу развития — вначале не совсем по "крымским" причинам. Поскольку благодаря истреблению римлянами пиратов оживилось мореходство и повысилось товарное,[100] ориентированное на вывоз производство, это в свою очередь повлекло за собой рост как городов (здесь были обрабатывающие предприятия и торговые склады), так и земельных латифундий (в них стало возможным укрупненное товарное производство).
Усовершенствования коснулись прежде всего традиционных отраслей агротехники. На виноградниках появляются римские мотыги, ножи, пилы, короткие италийские косы, удобные для работы в междурядьях, а также более длинные, типа галльских, для обкоса лугов. Римляне завезли и первые усовершенствованные рычажно-винтовые прессы с семисоткилограммовой гирей на длинном, свыше 7 м, рычаге. Тарапаны заменил каменный вмурованный настил, а в цистернах стала применяться цемянка, которую винная кислота не разъедает так, как бетонное покрытие, и это тоже было римским новшеством I в.
Но наиболее заметными стали все же перемены в хлеборобстве. Хлеб стал основой нового подъема экономики Крыма, который уже снабжал зерном и мукой римские армии, стоявшие на Дунае, в Понте, Каппадокии,
Армении. Именно поэтому начались перемены и в структуре экономики Крыма — в херсонесском клере и в других местах даже вырубали сады и виноградники. Подавляющее большинство населения теперь занимается земледелием — в Боспорской Хоре до3/4 жителей. Выращенное ими зерно свозилось в огромных количествах в города, где для постройки складов уже начали сносить общественные здания и жилые кварталы.
Зернохранилища цилиндрической формы достигали размеров 6,4 м в высоту и 4,5 м в диаметре; внутренняя сторона их покрывалась глиной с последующим обжигом, что позволяло хранить зерно десятки лет. На полях стали нередкими итальянские усовершенствованные колесные плуги с подплужником, резцом и лемехом.
Развитие рыбной ловли промышленных масштабов также первоначально было вызвано нуждами римской армии — в рацион легионера непременно входила килька, анчоус, поэтому часть солдатского пайка шла из Крыма на не столь далекие Кавказ и Дунай. То, что рыба, не весьма популярная в Крыму, добывалась в основном на вывоз, доказывается почти полным отсутствием рыбных костей в раскопках Херсонеса — а ведь в этом рыбозасолочном центре[101] найдены цистерны, объемом превышавшие 2 тыс. м3. Римляне организовали крупные рыболовецкие базы и в Пантикапее, Мирмекии, Киммерике.
В ремеслах наблюдается весьма примечательное явление — унификация производства — без сомнения, под римским влиянием. Так, эталоном кирпича нового типа, обожженного, становится изготавливавшийся в Хараксе. Такая стандартизация намного облегчала и ускоряла строительство, кстати также нередко ведшееся по римским типовым проектам. Черепица была двух основных видов, заимствованных у греков, но и на ней, и на кирпичах обязательно ставились клейма легионов, в мастерских которых они изготовлялись. Новыми были и некоторые зодческие приемы — с римской эпохи в Крыму стали известны полукруглые своды, арки над воротами.
Производство оконного стекла было налажено римлянами во многих крымских городах, как и разнообразной посуды с полихромным орнаментом. И эти мастерские чаще всего принадлежали армии, в них работали солдаты и ветераны; крупнейшей была стекольная мастерская XI Клавдиева легиона в Альма-Кермене.
Модернизировался строительный инструмент. Так, известный еще в IV в. до н. э. греческий рубанок (весьма несовершенный, нечто вроде тесла в рамке, и малопродуктивный) давно приобрел у римлян современную форму. Причем уже в I в. н. э. в Крыму имелся весьма широкий выбор этого инструмента — шерхебели, чистовые фуганки, цинубели, зензубели и даже фигурные (Сокольский Н.И., 1973, 184). Крымские мастера тогда уже работали поперечными и продольными пилами.
В строительстве, очевидно, ранее всего зародилось разделение труда — непременное условие крупного производства мануфактурного типа, на этот счет есть твердые свидетельства (Цветаева Г.А., 1979, 71). Но и без них это явствует из множества захоронений эпохи, где в качестве подстилки использовались опилки и стружки, эти скапливавшиеся большими массами отходы крупного производства (Сокольский Н.И., 1971, 185).
Очевидно, важной производственной базой был и боспорский рыболовный флот, организованный по образцу римского. Держали его в основном в пантикапейских доках, вмещавших 30 судов, а также в Фе[102]одосии, где в ковше гавани могло стоять и сто, и больше кораблей. Крупным транспортным портом был Херсонес. Сами суда конструктивно были аналогичны римским — это видно из росписей пантикапейских склепов.
Столь сильное римское влияние на крымское население не ограничивалось, естественно, производственной сферой. Изменился и быт, особенно горожан. Они охотно посещали театры и цирки, где выступали приезжие и местные актеры и гладиаторы. Обычным стало времяпровождение в термах — сообщают, что даже в небольших городах они были "полными", т. е. с горячим отделением (кальдарием), тепидарием и фригидарием.
Имелись и более глубокие, идеологические перемены, причем не только среди смешанного населения городов, но и среди автохтонных племен гор и предгорий. Так, древний таврский обычай погребения в каменных нишах сменяется на местностях вдоль периферии римских владений практикой грунтовых захоронений. После ухода римских войск крымчане уже широко использовали кремацию трупов с последующим погребением праха в урнах — типично римский обычай.
В области религии в Крыму довольно заметно ощущались даже перемены, происходившие в Риме. Так, уже в III в. здесь стало распространяться христианство, но в IV в. заметна антихристианская реакция. Она была не такой острой, как в Риме, но в Херсонесе новый алтарь Юпитеру все же воздвигли. Известен ряд святых, перешедших из пантеона "вечного" города в сонм христианских святых Крыма. Это фракийские по происхождению святые-всадники, популярные среди легионеров; они превращались в Георгия Победоносца, возможно, с ними связан культ Михаила Архангела. Усилился процесс проникновения в мир крымских культов восточных и североафриканских божеств, начавшийся в доримский период.
Наиболее заметным влияние римской культуры было, естественно, там, где население было смешанным, т. е. в городах. Так, для искусства Херсонеса уже послеримской эпохи характерен весьма специфический и редкий вид его — портретный рельеф, заимствование, несомненно, римское (ТД, 1969, 141). Ог[103]ромно число найденных в Крыму ювелирных и ритуальных изделий римского типа. Много таких статуэток из крымских пород камня — их делали местные мастера. Были переняты здесь и весьма сложные виды римской техники — например, изготовление мозаичного стекла (миллифиоре), освоенное пантикапейскими мастерами.
Наконец, в ряду аккультурационных феноменов особняком стоит чисто антропологическое смешение. Такого рода фактором были контакты, неизбежные в условиях службы местных уроженцев в римских крепостях и селениях. Это занятие имело массу выгод — ветераны, пусть даже готского или таврского происхождения, заслужив звание римского гражданина, освобождались от всех налогов, а их семьи — от военного постоя, призыва в части самообороны, литургий. Более того, занимаясь торговлей, они освобождались от пошлин, а в случае ущемления прав имели привилегию судебной апелляции к римским магистратам и даже сенату. Не все крымчане, естественно, могли дослужиться до таких льгот, но тем не менее число римских граждан иногда превышало количество легионеров в гарнизоне в пять и более раз (Ай-Тодор, 1909, 99). Известно также, что Боспорская ала, I и II Боспорские когорты состояли из крымского в основном населения.
Далее, с уходом римских войск не все легионеры и цивильные римляне захотели покинуть Крым. Привыкнув к этому благословенному краю, завязав на протяжении длинной цепи веков и поколений родственные и иные связи, а может быть, и чувствуя приближение роковых для старой родины, Рима, катаклизмов, они не решились бросить землю, которую считали землей своих предков. Как писал римлянин Сальвиан, правда в несколько более поздний период, "они идут на службу к готам... или к каким-нибудь другим повсюду господствующим варварам и не раскаиваются в своем поступке. Они предпочитают жить свободно, нося звание рабов, нежели быть рабами, сохраняя одно имя свободных" (цит. по: Ковалев С.И., 1986, 691). Постепенно они растворились в массе основного населения полуострова.
А в широкие жилы крымского народа влилась еще одна струйка — римской крови...[104]
III. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ГУННЫ
Во второй половине IV в. на Крым обрушивается один за другим ряд ударов полчищ, нахлынувших из степей Средней Азии. Это были гунны, центрально-азиатские тюркские племена, но с сильной примесью монголотунгусской крови. Поэтому даже чисто внешне они сильно отличались от кочевников-тюрков, с которыми европейцам приходилось иметь дело несколько последних веков. Сильное впечатление, которое произвели гунны, например, на крымских итальянцев, отразилось в записях современников: "Племя гуннов, о которых древние писатели осведомлены очень мало, обитает за Меотийским болотом (Азовским морем. — В.В.)... и превосходит в своей дикости всякую меру. Они доживают свой век без бороды, безобразные, похожие на скопцов... Члены у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей или уподобить тем грубо обтесанным наподобие человека чурбанам, какие ставят на концах мостов" (Аммиан Марцеллин, 1908, 236 — 237).
Судя по источникам, эти кочевники избегали селиться в городах, но свободно кочевали по просторам Тавриды, причиняя экономике ее многоязычного населения немалый вред. Ведь гунны не просто пасли свои стада, но часто грабили соседей, они "разгоняли и разоряли тавро-скифов и мирных готов и тем, что грабили караваны с товарами" (Иванов Е.Э., 1912, 63 — 64). Противостоять этим азиатским наездникам было невозможно уже в силу их многочисленности. Единственная непреодолимая для них преграда — горы Крыма стали самой надежной защитой для мирного населения полуострова. Конечно же в полной безопасности чувствовали себя тавры в своих неприступных каменных гнездах, затерянных в зарослях[105] горного леса. И если гунны смогли взять равнинный Пантикапей, то Мангуп или Чуфут-Кале при всей многочисленности осаждавших остались невредимыми.
Гуннам понадобился почти век, чтобы полностью овладеть Боспорским царством. Но как свидетельствует Прокопий Кесарийский, произошло это уже на закате истории гуннского владычества на значительной части Крыма и через два десятка лет после смерти самого выдающегося из их вождей — Аттилы (454 г.). Огромная, но внутренне рыхлая империя стала быстро распадаться, как только развернулось широкое освободительное движение среди племен и народов, порабощенных этим великим завоевателем. Кочевники медленно оставляли европейские степи; основная часть их покинула и Крым. Однако какое-то количество кочевников-монголоидов и тюрков осталось в степной части полуострова. Сколько их было — науке неизвестно (Якобсон А.Л., 1964, 9).
Закономерен вопрос: а все-таки, может быть, оставшихся в Крыму гуннов было достаточно много для того, чтобы повлиять на культуру местного населения после V в.? Ответ, очевидно, должен быть отрицательным. Ни один из исследователей нигде не упоминает о каких-либо изменениях в готском, скифском, таврском и других художественных стилях, которые можно было бы приписать гуннскому влиянию. Оно если и имело место, то на протяжении слишком краткого времени. Да и сами гунны стояли в сравнении с крымским населением своей эпохи на неизмеримо более низком культурном уровне.
Что же касается чисто антропологического смещения, то здесь вопрос сложнее хотя бы потому, что решен он может быть лишь на основе материала, относящегося к эпохе, предшествующей очередному нашествию восточных, азиатских завоевателей-монголоидов. Далее, материал этот должен быть достаточно широким, репрезентативным, чтобы делать из него какие-то выводы. Пока же такого рода анализ находок, относящихся к VI — VIII вв., проведен лишь по одному региону. Правда, регион этот весьма показателен, поскольку это была территория гуннского расселения на Южном берегу, конкретно на местности у Суук-Су и Алушты, а также близ Мангупа и Эски-Кермена.[106]
Наиболее доказательны результаты анализа краниологического материала — 70 черепов из могильника близ Алушты; впрочем, результаты аналогичных исследований и в других местах оказались сходными, а именно: во всех четырех группах захоронений основная масса местного населения типологически наиболее близка таврам, возможно, сарматам поволжского происхождения. Другими словами, и на Южном берегу, и в глубине Главной гряды в эти века по-прежнему проживало население европеоидного типа, ничего общего с гуннами не имевшее.
Впрочем, обнаружены и смешанные, монголоидно-европеоидные типы черепов, но лишь у Херсонеса и Каламиты. Но этот феномен легко объясняется близостью главных крымских портов, а в портовых центрах и близ них смешение местных и пришлых рас идет; как известно, с многократно большей активностью. Мелкие же порты, т. е. такие, которыми пользуются лишь местные моряки, такого влияния на тип населения не оказывают. Поэтому в могильниках Судака и Коктебеля, относящихся к рассматриваемому периоду, "черепов с признаками монголоидности не обнаружено" (Соколова К.Ф., 1958а, 70).
Таким образом, очевиден общий вывод об отсутствии какого-либо культурного влияния или сколько-нибудь заметного расового смешения берегового и горного населения Крыма с гуннскими завоевателями. Вопрос же о причинах столь необычной "неконтактности" гуннов пока остается открытым.
ХАЗАРЫ И МАДЬЯРЫ
Колыбелью хазар считается ныне Северный Кавказ, точнее, восточная, прикаспийская его часть. Этнически хазары являются тюрками, более всего они были близки поволжским болгарам. Язык их относится к болгаропеченежской группе тюркских языков; единая письменность, сложившаяся к VIII в. н. э., была аналогичной принятой у тюркоязычных народов той эпохи, т. е. рунической. Образование их государства началось в VII в., а поскольку хазары считали себя прямыми наследниками некогда могущественного Тюркского каганата, то новое образование[107] переняло этот термин, став Хазарским каганатом, во главе которого стал правитель — каган.
В конце VII в. хазары продвинулись к Азовскому морю, затем захватили почти все Северное Причерноморье, степную часть Крыма и Сугдею. На рубеже VIII в. мы видим под протекторатом могущественного кагана всю Крымскую Готию, да и Херсонес уже находится во власти хазарского тудуна. Впрочем, ненадолго — Херсонес вскоре снова отошел к Византии, но все остальное хазары сохранили за собой.
Еще в VII в. крымские хазары были язычниками, они "приносили жертвы огню и воде, поклонялись некоторым богам путей, также луне и всем творениям, которые им казались удивительными" (Каганкатваци М., 1861, 90). Божеств у них было, таким образом, огромное количество; главным считался герой Тенгри-хан. В честь его посвящали капища и деревья, приносили жертвы животными (в основном лошадьми). Но единого, верховного божества не было, хотя необходимость в нем уже ощущалась — общество делилось на классы, шло экономическое развитие крепнувшего централизованного государства. В этот период в Крым проникают монотеистические идеи, хотя мы остереглись бы безапелляционно утверждать, что уже тогда к числу "областей со сплошным христианским населением" следует "в первую очередь отнести крымские владения хазар" (Артамонов М.И., 1962, 412).
Один из тудунов, Али-Алитвер, смог обратить подвластное ему население в христианство, разрушить капища и выстроить новые храмы. Однако каган, не заинтересованный в духовном подчинении подданных соседней Византией, подавлял христианское движение — культ Тенгри-хана пока укреплял его власть в качестве "бога живого", представителя небесных сил на Земле. Через 100 лет, в VIII в., Византия учредила в Крыму Готскую митрополию, семь епархий которой находились на хазарской территории: в 710 г. они не только владели Сугдеей, но и вернули себе Херсонес (Зубарь В.М., 1988, 77). Тем не менее в отличие от местных готов-христиан большинство хазар по-прежнему придерживались язычества, а правители их длительное время еще меняли различные вероисповедания, колеблясь между мусульманством и иудаизмом. От христианства их[108] отталкивала политика Византии, по-прежнему стремившейся использовать любую слабость хазар, чтобы выдворить их из Крыма. Наконец, на рубеже VIII и IX вв. каган Обадия решился на важный политический шаг — перейти в иудейскую веру.
Это было весьма удачное и своевременное решение. Именно в ту эпоху под усилившимся давлением мусульман множество иранских евреев переселилось в Восточное Предкавказье, а затем в Крым. Вскоре крымские города стали прибежищем и для других иудаистов, подвергавшихся гонениям в ряде мусульманских и европейских стран. Под влияние наиболее образованных раввинов из числа этих бездомных скитальцев попал, кстати, и каган Обадия (Плетнева С.А., 1986, 63).
Но иудаизм стал религией лишь слоев, близких к кагану. Основная масса населения не только не последовала за еврейскими проповедниками, но и выступала в оппозиции своему правителю-талмудисту. Междоусобицы, в которых деятельно участвовали феодалы-вассалы, сильно ослабили каганат. В IX в. в Крыму появились орды пришедших из-за Урала мадьяр-огнепоклонников, оказавших поддержку крымской христианской оппозиции. Борьба кагана с подданными разгорелась с новой силой; в конечном счете соединенными усилиями мадьярам и хазарам-христианам удалось вытеснить властителя за пределы Крыма.
Но не вся иудаистская аристократия последовала за изгнанником-каганом; в Крыму остались многие хазары, со временем также принявшие иудаизм. Эти сравнительно малочисленные остатки некогда могущественного народа еще долго отмечались в средневековых крымских источниках. Так, имеются документы о мессианском движении среди крымских татар в XII в. (Плетнева С.А., 1986, 75). Потом они незаметно растворились в местном населении, оставив по себе весьма скромные следы в культуре и языке крымчан. Впрочем, итальянцы еще в XVI в. по-прежнему называли полуостров Хазарией. О мадьярах же не осталось и этой памяти.[109]
ПЕЧЕНЕГИ И ПОЛОВЦЫ
Печенеги появились в восточноевропейских степях в конце IX в. Собственно, новый поток азиатских переселенцев представлял собой не единый этнос, но союз племен, некий конгломерат, разноликий и разноязыкий. Но общее имя он получил по печенежским племенам (их было восемь), шедшим в авангарде этого тюркоязычного (возможно, с небольшой примесью угров) потока и составлявшим количественно более половины его (Артамонов М.И., 1962, 345).
Культура печенегов была довольно высокой для кочевников. В насыпанных ими курганах обнаружены мечи, глиняные кувшины, украшенные причудливым, пышным орнаментом, костяные орнаментированные накладки на луки, пряжки и подвески для поясов. Сбруя печенежских коней уже мало чем отличается от современной, в ее состав входят жесткие удила с трензелями, седельные подпруги и, главное, стремена, позволявшие стрелять из лука, не покидая седла.
Печенеги входили ранее в Хазарский каганат и откололись от него, как только он стал слабеть. Уйдя от преследований бывшего владыки, они двинулись на запад и юг. В начале X в. эти скитальцы степей уже достигли Крыма, где захватили Боспор и Херсонес, потеснив хазар. Очевидно, полуостров весьма подошел им, так как здесь многие остановились (основная часть их пошла на запад, дальше к Днепру) и стали устраиваться вполне основательно. Они заключили в начале X в. союзные договоры с Византией и Русью, впрочем не мешавшие войнам и в дальнейшем. Византия все же стремилась всячески крымских печенегов ублажать, поддерживать их и экономически и политически. Императорам была выгодна дружба с воинственными и многочисленными степняками, которые образовывали барьер против проникновения в византийские владения русских, ибо последние были более опасны: не ограничиваясь грабежом мелких поселений, они угрожали Константинополю, организовывали совместные походы, в которых против греков выступали, как, например, в 944 г., варяги, русь, поляне, словены и кривичи. Согласно выводам советского историка, союз с печенегами Крыма вообще[110] "являлся центром византийской системы поддержания политического равновесия в X в. " (Левченко М.В., 1940, 156). Но, судя по русским летописям, с Русью печенеги воевали не только по договоренности с Византией и совместно с ее войском, но и по собственному почину, причем неоднократно. В одной из таких войн пал знаменитый князь Святослав, из черепа которого печенежский хан Куря сделал себе ритуальную чашу.
В середине XI в. четыре печенежских орды, кочевавших в Причерноморье, распались. В конце века они попытались было снова объединиться в племенной союз и даже двинулись совместно на Византию, но это был их последний крупный поход. Император привлек на свою сторону половцев и устроил, окружив печенегов, страшное побоище, где их погибло более 30 тыс. Это был решающий удар, более этнос так и не смог подняться. Часть печенегов ушла из Крыма в южные степи, в долину реки Рось и к Белой Веже; осталось, очевидно, немного.
Влияния на крымское население печенеги не оказали почти никакого — и по краткости пребывания там, и по невозможности конкурировать с мощным культурным влиянием более развитых византийских соседей по Крыму. С другой стороны, печенеги отличались от иных завоевателей тем, что не только не разрушили классических древностей Тавриды, но и со временем "стали дорожить" ими, приобретя вкус к оседлой культурной жизни (Лашков Ф.Ф., 1881, 24).
Более того, они переняли и многое из социально-экономических достижений тогдашних крымчан. Если они пришли сюда кочевниками, причем довольно низкой, таборной стадии развития (она характерна военной демократией и слабой имущественной дифференциацией), то вскоре, освоив степь и предгорья, стали быстро переходить к земледелию. Часть печенегов переселилась в портовые города, где они также проявили неожиданные способности, занявшись торговлей. Более того, известно немало печенежских купцов, которые вели крупную транзитную торговлю между Византией и Херсоном — с одной, и Россией и волжской Хазарией, с другой стороны. Есть сведения о том, что печенежские торговые дома даже вытеснили коренных херсонеситов из са[111]мой перспективной сферы их интересов — торговли с Востоком (там же, 25).
Половцы, или кыпчаки (по имени одного из крупнейших половецких племен), появились в Крыму в X — XI вв., придя из регионов рек Волки (Идиль) и Урала (Джаик). Это были такие же, как печенеги, кочевники, по происхождению они также имели определенную степень родства. И те и другие принадлежали в основном к тюркам. По найденным в погребениях скелетам мы видим, что это были круглоголовые (брахикранные) европеоиды, некоторые — с незначительными монголоидными чертами. Половцы были по большей части светловолосыми и голубоглазыми, чем отличались от темноволосых печенегов. В XI в. основная масса половцев приняла ислам.
Первое время по приходу в Крым половцы-кыпчаки продолжали и кочевать, и устраивать опустошительные набеги — главным образом на Русь и Византию. Причем добились больших успехов: с одной стороны, Византии пришлось на горьком опыте убедиться, что с ними выгоднее дружить, чем воевать, с другой — русские ни разу за весь XI век не смогли углубиться внутрь половецких владений. Политические половецко-византийские связи осуществлялись в основном через Херсонес, хотя столицей крымских половцев был Судак (Сугдея).
Половецкая орда процветала в Крыму значительно дольше печенегов — до начала татаро-монгольского вторжения в XIII в.[46] Основная эмиграция началась после битвы на Калке, но многие, особенно купцы и земледельцы, смешавшиеся с местными племенами и принявшие к тому времени христианство, остались. Затем их постигла судьба столь многих племен, заселявших Крым в древности, и они окончательно слились с местным населением, не оставив по себе памяти даже в чертах лица коренных крымчан; как было сказано, и те и другие были европеоиды.
Зато остались весьма примечательные памятники половецкой материальной культуры. В северо-западном Крыму до сих пор находят полускрытых землей, а то и под пахотным слоем так называемых половецких баб — массивные каменные изваяния. Это великолепный жанр искусства, причем строго индивидуального. Древние мастера сильно стилизовали[112] свои творения, они компоновали их по общему образцу (выпрямленная фигура с кувшином, прижатым обеими руками к животу), но умели достичь, невзирая на каноны, портретного сходства.
В этих статуях отразилась живая история народа, даже изменения в его внешности — "бабы" прикавказских равнин приобретают в XIV в. горбинку на носу (след межэтнического смешения с грузинами), крымские же сохраняют благородную простоту и ясность старого половецкого типа. И еще один след, к сожалению менее долговечный, чем статуи. До 1944 г. в Крыму имелись населенные пункты с топонимическим компонентом "кипчак". Ныне это села с такими бездарными, выдуманными без опоры на историю названиями, как Громове, Рыбацкое, Самсоновка и т. д. и т. п. ...
Из духовного наследия половцев мы можем назвать занесенные ими на крымскую почву такие общие для исламского мира образцы устного арабского фольклора, как "Лейла и Меджнун", "Юсуф и Зулейка", позднее — "Ашик-Гариб", анекдоты о Ходже Насреддине и другие, обогатившие крымскую народную культурную традицию.
В среде этих первых мусульман Крыма был в XII — XIII вв. создан и первый памятник крымскотатарского языка — словарь "Кодекс Куманикус". Признано, что язык крымских кыпчаков того периода был более развит и совершенен, чем диалекты пришедших в Крым позднее орд (см. ниже), в которых смешались самые различные тюркские и монгольские элементы, и поэтому именно кыпчакский язык послужил основой при формировании и письменного, литературного крымскотатарского языка (Фазыл Р., Нагаев С., 1989, 136).
РУССКИЕ
О том, что славяне Восточной Европы, в том числе и русские, издавна проникали в Крым, есть немало свидетельств у самых разных авторов. Однако это были отдельные случаи более или менее кратковременных поездок с торговыми целями, и даже о мелких поселениях славян в Крыму до X в. не говорит решительно ни один источник крымского или иного происхождения. Затем положение меняется: взамен не[113]частых купеческих поездок в Крыму появляются русские с мечом в руке, стремившиеся к захвату и удержанию за собой отдельных частей полуострова, к уничтожению чуждого им автохтонного населения завоеванных территорий.
Первое такое вторжение относится к VIII в., о нем истории мало известно, очевидно, оно было неудачным (ДТ, 1966, 93). Вторично русские появляются здесь уже после того, как в IX в. в Среднем Поднестровье образовалось Русское государство. В 860 г. северные пришельцы под началом Аскольда и Дира спустились по рекам на множестве мелких судов в море и, подойдя к полуострову, разграбили его береговые города (Иванов Е.Э., 1912, 111).
Очевидно, разбойничья добыча была немалой, так как набеги стали повторяться. В 913 — 914 гг. русские напали на местности у г. Самкерца (на месте нынешней Тамани); в 988 г. киевский князь Владимир захватил Корсунь (Херсонес), Тмутаракань и Феодосию. Некоторые историки считают, что уже к тому времени в Крыму или на Таманском полуострове образовалось особое русское княжество (Артамонов М.И., 1962, 378; Якобсон А.Л., 1964, 56, и др.). При этом единственным доказательством выступает договор, заключенный князем Игорем с Византией в 945 г., точнее, приводившиеся уже его строки: "В Корсунстей стране, елико же есть град на той части, да не имать волости князь Русьскъй", а также обязательство Игоря защищать Корсунь от черных болгар (ПСРЛ, 1, 1926, стлб. 51). А это, как считают, "возможно было лишь при владении определенной территорией в восточной части Таврики или на Таманском полуострове, где, по-видимому... в начале или в середине X в. складывалось будущее Тмутараканское княжество" (Якобсон А.Л., 1964, 57).
Однако, как замечено весьма рано, в договоре сказано лишь то, что сказано, а именно что русский князь не должен присваивать себе власть в Херсонесе; обязательство же защищать херсонеситов от болгар говорит о вынужденности, невыгодности договора для русских, о слабости их позиций на переговорах, и не более. Кроме того, как справедливо указывал М.И. Артамонов, "русские", активизировавшиеся в Северном Причерноморье в X в. и отмеченные в источнике, вообще вряд ли были русскими. Эта военная[114] сила, называвшаяся русью, состояла среди прочего из норманнов, хазар и т. д.[47], а сам термин "Русь" исходит из исторической области в Швеции Руотси (см.: Очерки истории СССР, 739 — 878; Талис Д.Л., 1974, 87 — 99). Впрочем, авторитетные лингвисты, такие, как М. Фасмер и О.Н. Трубачев, а также археолог В.В. Седов, считают, что этноним "Русь" иранского происхождения (Седов В.В., 1979, 99, примеч. 92). Таким образом, понятие "русь" не является аналогом Русского государства. И причерноморские "русские" действовали независимо от киевского князя (Суперанская А.В., 1985, 41) и даже вопреки ему (Артамонов М.И., 1962, 383).
Те же условия (т. е. ненападения русских на Херсонес и обязательной помощи Византии в ее войнах) содержит русско-византийский договор 972 г. (ПСРЛ, I, 1926, стлб. 72 — 73), заключенный императором с побежденным им Святославом, из чего явствует, что влияние князей в Причерноморье было фактически ликвидировано. Но Владимир Святославич вновь напал на Херсонес в 989 г. и взял город (там же, стлб, 109), чем восстановил роль Киева; это означало и падение влияния Византии, и рост могущества Тмутараканского княжества, в которое вскоре вошел и Боспор. Многолетняя борьба Руси с Византией прекратилась, но начались почти перманентные столкновения русских с печенегами, особенно в конце X — начале XI в. Эти конфликты перекрыли товаропоток из южных степей в крымские города. Некоторые из них, богатевшие от транзита, приходят от этого в запустение.
Так, например, Херсонес больше не смог подняться после того, как "разорен бысть от Руси" (ПСРЛ, XV, 1863, 108).
Напротив, росла и крепла многоязычная Тмутаракань. Культура княжества носила ярко выраженный местный характер, русские элементы были в ней малозаметны, хотя политически князья зависели от Киева. Когда же в конце XI в. Киев раскололся на независимые княжества, утратила жизнеспособность и Тмутаракань — в 1094 г. она упоминается в летописях в последний раз. Что же касается ее населения, то, судя по всему, этот пестрый конгломерат рассеялся или был поглощен окружающими племенами без остатка, не оставив следов ни в материальной культуре, ни в устной традиции Крыма. И в "Слове о полку[115] Игореве" (1187 г.) о бывшем княжестве уже говорится, что это "земли незнаемые"[48].
Более стойкими оказались давние экономические связи различных русских княжеств с торговыми людьми Крыма, очевидно не прерывавшиеся и в годы войн. Основным предметом ввоза были русские меха; вывозили, судя по содержанию русских кладов, огромное количество наперсных крестов, паникадила и другую церковную утварь, ткани, посуду и т. д. Не исключено, что некоторые русские купцы оседали в Крыму наряду с другими иноземцами, что характерно для больших торговых или портовых центров. Однако не подтвержденная никакими источниками гипотеза о том, что, например, в Суроже "всегда было очень (!) много русских" (Надинский П.Н., 1956, 57), — явная натяжка.
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о роли славян вообще в дотатарский период истории Крыма.
Дело в том, что некоторые авторы утверждают, что роль эта была чрезвычайно велика, более того, они относят славян к "местному, коренному населению", утверждая, что в отличие от остальных народов "только русские имели неоспоримые исторические права на Крым как на свою, древнерусскую территорию" (там же, 57). Это положение ничем необосновано, но корни его найти несложно в других местах цитируемой и в иных работах П. Надинского. Так, рассматривая историю похода Бравлина на Сурож, автор считает, что князь, "естественно, опирался на местное, проживавшее здесь славянское население". И доказывает обитание в столь раннюю пору славянских племен в Крыму очень просто: "Иначе успех такого похода маловероятен... Без поддержки местного населения он был бы невозможен" (там же, 50). Ученого не смущает тот факт, что ни один автор — будь то русский летописец, византийский мемуарист или готский топарх — ни словом не упоминает о какой-то славянской "пятой колонне" в Крыму.
Впрочем, возможно, сторонники гипотезы "коренного славянства в Крыму" имеют в виду не славян, пришедших с севера, но местное население, постепенно "превращавшееся в русских". При всей фантастичности этой гипотезы она имеет известную литературу. Так, указывают, что некие (не обозначенные точно) археологические раскопки "древней[116]ших славянских поселений (в Крыму? — В.В.) неопровержимо утверждают, что славяне являлись коренными жителями этих мест" (Надинский П.Н., 1946, 64). При этом Неаполь Скифский переводится, естественно, как Новгород, а известные события второй половины XVIII в. именуются "не захватом чужой земли", а "возвращением" "исконных" территорий, "которые в течение многих сотен лет были населены предками русских" (там же, 69, 73). Эти и иные положения, оправдывавшие экспансионистскую политику царей, основываются (если не считать глухих упоминаний о каких-то экспедициях) на "аксиоме", что "скифы — это предки славян" (там же, 64; Шульц П., 1946, 101).
Теория автохтонного стадиального "развития" славян в Крыму на скифо-сарматской этнической основе, восходящая к Н.Е. Марру, критики, как говорится, не выдерживает. Но мы вынуждены вновь обратиться к ней, так как апологеты ее сохраняют за собой "последнее слово", пока не появится наконец исследование о том, кто из современных народов может с наибольшим правом называться наследником автохтонов Крыма.
Вкратце дело обстоит так. Еще в эпохи неолита и энеолита предки славян расселялись "севернее европейского горного барьера (Рудные горы, Судеты, Татры, Бескиды, Карпаты), вступая в соприкосновение с местными охотничьими племенами" (Рыбаков Б.А., 1978, 182). В эпоху раннего железа славяне занимали столь же далекую от Крыма территорию, ныне занятую частично Польшей, Германией, Чехо-Словакией, Венгрией (Алексеева Т.П., Алексеев В.П., 1973, 221 — 222).
Далее, как показывают краниологические и антропологические исследования, славяне и скифо-сарматское население образовали два глубоко различных этнических конгломерата, не имевшие ничего общего ни в культуре, ни в языке. И если даже обнаруживаются позже некоторые схожие черты их духовного мира, то это только по причине скифо-сарматского влияния на локальную группу восточных славян (Седов В.В., 1979, 24, 89, 98 — 99 и др.). Жившие ранее "где-то в стороне от скифского населения" славяне начали свое передвижение на юго-восток "уже после падения скифского царства", т. е. с IV в. н. э. (там же,[117] 25). Это — общая картина; что же касается Крыма, то именно здесь и на Нижнем Донце контакт славян со скифами и сарматами был минимальным (если вообще имел место!). Лишь тут, в отличие от степной зоны, сохранилась "особая скифская культура" (там же, 85), т. е. культура без какого-то славянского влияния, что подтверждается и археологией: ни один исследователь не упоминает в результате анализа богатейшего крымского материала ни одним словом о возможности автохтонного крымского происхождения ни скифов, ни славян.
Теория "крымских славян" заслуженно, как упоминалось, была раскритикована (Веймарн Е.В., Стржелецкий С.Ф., 1952, 94 — 95), но те же критики предложили не менее зыбкую гипотезу о заселении славянами Крыма во II в. до н. э. — II в. н. э., одновременно с сарматами. Она основана на единичных находках, "поразительно близких культуре Среднего Поднепровья", да на обычае трупосожжения с захоронениями праха в урнах по обряду, который, "очевидно, нужно признать" славянским (там же, 97). Но бесспорно славянские предметы (ювелирные) обнаруживаются лишь в могильниках VI — VII вв. Очевидно, именно они дают авторам возможность сделать вывод о том, что славяне появились в Крыму где-то в III в. н. э. (там же, 98).
Но ведь трупосожжения известны не только предкам славян, но и весьма широкому кругу народов, в том числе и римлянам — этносу, появившемуся в Крыму в I в. н. э., что в отличие от "славянского заселения" безусловно подтверждено массовыми источниками. Что же касается ювелирных находок, то вряд ли можно назвать иной, более мобильный предмет торговли и мены — разве что монеты. Так, например, широко известны клады арабских монет и украшений в Северной Руси, но из этого никто не делает выводов, столь далеко идущих: о том, что "процессу... объединения" гипотетических крымских славян с кровно родственным "древнерусским государством" мешали всего лишь некие "заселившие степи Причерноморья и Крыма" кочевые народы (там же, 99). Автохтонное крымское население при этом (как и ранее, в годы распространения теорий Марра) в расчет не принимается. Впрочем, может быть, это они и выступают под именем кочевников, т. е. в роли клина, вбитого[118] между Русским государством и "славянским Крымом"?
Никаких иных, кроме изложенных, вопросов славянская проблема в Крыму не вызывает, как нет и материальных и культурных следов раннего пребывания русских в Крыму. Другое дело — приход этого народа в Крым в XVIII в. Тут, как говорится, лучше, чтобы этих "следов" было поменьше, особенно в послевоенное время...
ВЕНЕЦИАНЦЫ И ГЕНУЭЗЦЫ
Венецианцы появлялись в Крыму уже в конце XI в., а в первые годы после четвертого крестового похода итальянские источники говорят о прочно установившихся торговых связях итальянских княжеств с Солдайей, т. е. Судаком (Ульяницкий В., 1883, 2). Неудивительно, что именно Солдайя была избрана Венецией в качестве опоры для экономической экспансии в Крыму. Еще при половцах Судак стал самым богатым из торговых городов Крыма, далеко обогнав Херсонес (Секиринский С.А. и др., 1980, 11)[49].
Вслед за Венецией в Крым стала слать своих торговых и политических агентов Генуя, этот старый и непримиримый конкурент Республики святого Марка. Первое документальное известие о генуэзской колонии в Кафе относится к 1282 г., но они, конечно, появились здесь гораздо раньше, избрав этот перспективный порт для создания экономического противовеса Венеции. Жесткая торговая борьба, в которой использовались не только экономические, но и политические и даже военные средства, окончилась победой Генуи — ее посланцы шаг за шагом вытеснили из Крыма венецианцев.
В конце XIII — первой половине XIV в., когда крестоносцы утратили свои восточносредиземноморские позиции, торговые пути из Европы в Азию переместились к берегам Черного и Азовского морей. Путь в Китай шел, к примеру, через Тану (устье Дона, ныне Азов) в район современной Астрахани, а затем далее, в Среднюю Азию и на Дальний Восток. Оттого-то Крым, очутившись на торгово-мореходном перепутье, и стал играть столь важную роль в мировой торговле, заняв, естественно, центральное поло[119]жение в экономической жизни Черного моря (Еманов А.Г., 1986, 1).
Сюда приходили караваны купеческих парусников и галер из Египта, Западной Европы, Передней Азии. Здесь оканчивались, с другой стороны, тысячекилометровые сухопутные дороги из земель Золотой Орды и десятка азиатских государств. Еще в XII в. вторым после цветущего Судака торговым центром стала Кафа. Одновременно возросло значение бывших торговых факторий итальянцев Таны, Копы, Чембало (Балаклавы), Боспора (Керчи). Поэтому именно Восточный Крым с его новыми и старыми городами экономически становится наиболее перспективным регионом полуострова. Херсонес же, издавна тяготевший к степному, хлеборобному району края, добился независимости от Византии — вначале экономической, а затем и политической. Здесь также бурно развивались производительные силы, население все четче делилось по социальным и экономическим признакам, шла феодализация общества. Извечно центробежные устремления феодалов привели в конечном счете к разделению Херсонесской Хоры на ряд полунезависимых от города княжеств.
Одним из крупнейших образовавшихся таким образом княжеств стало Кырк-Йер (ныне Чуфут-Кале), большинство населения которого состояло из асов (аланов). Но гораздо большим политическим могуществом и экономическим процветанием прославился Мангуп (Феодоро), населенный готами. Итальянцы стремились поддерживать тесные торговые связи с этими и иными княжествами. Они довольно часто становились и посредниками в торговле последних с зарубежными купцами. Обороты итальянских маклеров и купцов со временем настолько возросли, что метрополии пора было подумать о защите этих "солдат коммерции", приносивших ей нешуточный доход. И в 1287 г. в Солдайе была учреждена официальная должность консула Венеции, в распоряжение которого поступали солдаты гарнизонов, чиновники, финансовые средства — и, очевидно, немалые. Как правило, на должность консула Солдайи назначались лица не только опытные в политике, но и энергичные и, главное, любящие и умеющие трудиться над расширением влияния республики на краю цивилизованного мира.[120]
В XI в. Крым вошел в редкую для его истории полосу покоя и находился в ней вплоть до вторжения татар в XIII в. Конечно, покой этот был весьма относительным, но и он содействовал стабилизации внутреннего положения, что в свою очередь повлекло за собой расцвет предприимчивости и хозяйственной деятельности жителей края, проявило, как, пожалуй, ни разу до этого, все чисто природные возможности Крыма. Число крымчан в эти века сильно увеличилось — и не только в сельской местности, где рост экономических возможностей сопровождался бурным естественным приростом населения, закладкой новых садов, виноградников и деревень, конечно.
Венецианские и генуэзские крепости, обнесенные неприступными стенами, взметнувшими на головокружительную высоту свои украшенные гордыми гербами консулов башни, сулили безопасность и покой посреди неведомого мира, чуждого и опасного с точки зрения многочисленных итальянских переселенцев. Влекли же их сюда не только свободные земли в окрестностях городов, не только цветущая природа и тучные почвы, но и то "экономическое чудо", что испытал Восточный Крым на исходе раннего средневековья. Постройка в Крыму дома-конторы со складом считалась в банках и торговых кланах Венеции весьма выгодным и дальновидным помещением капитала[50]. Границы первых факторий давно скрылись под жилыми кварталами; теперь оказались тесными и крепостные стены, возникали форштадты, там, за городской чертой, уже возводили храмы — так было в Солдайе, Кафе. Кстати, последнюю за многонаселенность и бурную городскую жизнь уже в XIII в. называли Таврическим Константинополем. Такое увеличение массы христианского населения не могло не сказаться и на церковной жизни: Солдайя и Боспор из обычных епархий становятся митрополиями, непосредственно подчиненными лишь патриарху.
Первый удар по цветущим городам юго-востока нанесли в 1223 г. татары, и пришелся он на Солдайю. Затем волна пришельцев отхлынула, и город оправился от нашествия. Но кочевникам пришлась по вкусу богатая добыча в крымских городах, и удары стали повторяться — в 1238, 1242, затем в 1249 г. (Васильевский В., III, CXXVI). В конечном счете горожане Солдайи признали свою зависимость, татары[121] обложили город данью и посадили в нем наместника хана. Затем участь эта постигла и остальные итальянские крепости Крыма. Тем не менее, несмотря на немалые поборы в пользу пришельцев, население городов не спешило мигрировать назад, на свою историческую родину. Дело в том, что прибыль от торговли и местных промыслов оставалась весьма значительной и после уплаты дани ордынцам. Золотая же Орда стала своеобразной защитой мирным итальянским купцам и ремесленникам — выгода здесь была обоюдной. Звучит это, конечно, несколько парадоксально, и автор опасается даже, не обвинили бы его в апологетизме ранних татарских захватов в Крыму. Поэтому обратимся к работе полуторавековой давности, создателя которой трудно упрекнуть в какой-либо предвзятости по отношению к крымским татарам или в конъюнктурных соображениях, ставших актуальными не столь давно.
"Подведомственные Кафе поселения, окруженные кочевыми и земледельческими народами, доставляли хлеб, кожи и другие предметы сельской промышленности. Окрестность Кафы и прочие места Крыма в изобилии доставляли соль, за которой приезжали русские и польские купцы. К Кафе приставали корабли из Перы и Константинополя с мануфактурными произведениями Запада, а суда Таны — с соленой рыбой, драгоценными каменьями, шелком и благовониями Леванта и Индии. Из Польши и России по Днепру и Днестру привозились пшеница, железо, пенька, лен; русские купцы караванами через Киев, Тамань и Перекоп привозили меха. Кавказ и татары доставляли невольников и невольниц, за которыми с дозволения императора Михаила Палеолога раз в год приходили суда египетского султана. Гераклея, Синоп, Трапезунд, Кутаис в Мингрелии, Тифлис и Кубетша в Дагестане, Константинополь были в постоянных торговых сношениях и производили деятельный торговый обмен с Кафой... куда приходили караваны с товарами через Астрахань даже из Центральной Азии, Китая и Индии.
Сукна разного рода, в особенности пурпурового и красного цвета, пояса, ожерелья, кольца и другие женские украшения, леопардовые кожи, меха, шелковые и шерстяные материи, разные изделия из железа и меди, предметы роскоши шли в Азию взамен жемчуга, алмазов, пря[122]ностей, фарфора, опиума, шафрана, сандалового дерева, корицы, мирры, ладана и слоновой кости. Считавшаяся в то время лучшей пшеница отправлялась в Константинополь, соль и вино — в Польшу, Россию или на Кавказ. В Трапезунде, Искурии, Тебризе, Персии были генуэзские консульства, стоявшие в зависимости от Кафы; она же заведовала крымскими колониями, Таманью, Копою (на реке Кубани), Кутаисом, Кубетшою, Таною и другими поселениями" (Мурзакевич Н., 1837, 30, 34 — 38).
Но генуэзские города были не только импортерами и реэкспортерами западных и восточных товаров, они и сами использовали массу продуктов. Так, в Кафе до1/5 западноевропейского импорта потреблялось самими горожанами, расходилось среди ремесленников. Здесь шили одежду, ковали железо, изготавливали ювелирные изделия, кроили седла и сапоги. Еще2/5 импорта расходилось в Крыму и ближайших областях. И лишь1/5 шла дальше, в Азию, Восточную Европу, в том же виде, как сгружалась в кафинском порту (Еманов А.Г., 1986, 6).
Со второй половины XIV в. дальние связи Кафы постепенно сокращаются, заменяясь региональными. Босфор теряет свое значение как канал для западного импорта; все больше товара идет через страны Центральной и Юго-Восточной Европы, через порты Западного Причерноморья, через Польшу и Россию. Импорт из Восточного Средиземноморья поступает через Малую Азию и порты Южного Причерноморья, азиатские товары перегружают на суда в гаванях Анатолии и Кавказа. Расширение географии торговых связей имело и субъективные причины, а именно рост крымского купечества. Пестрота этого сословия возрастает еще более — в Кафе натурализуются выходцы из Польши, Молдавии, Галицкой Руси, Венгрии, Валахии, Малой Азии и Кавказа.
Итальянская торговая система Кафы и Солдайи, основанная на централизации и монополии, увядает, подверженная жестокой конкуренции неофитов из сухопутных стран. Масштабы торговых операций итальянских купцов уменьшаются (особенно в зарубежных направлениях) по причине роста внутрирегионального обмена товаров, внутричерноморского сотрудничества. Многие из них переключаются на более перспективный рынок продукции собственного[123] аграрного хозяйства, садоводства, промыслов и разработки природных богатств Крыма и всего Черноморья. Постепенно торговая роль Кафы если не падает, то нивелируется в сравнении с другими портовыми городами, ранее от нее зависимыми.
Генуэзские колонии, процветавшие при татарах, погибли не от этого мирного соседства. Они пали лишь в 1475 г., когда на берег вышли турецкие янычары и, поддержанные корабельной артиллерией, взяли крепости одну за другой, учинив в них страшную резню. Так, когда часть горожан Солдайи укрылась в церкви, османы сожгли ее вместе с людьми, говорит старинный автор Мартин Броневский. И археологические раскопки 1928 г. подтвердили истинность древнего предания — в руинах храма была обнаружена масса обгорелых человеческих скелетов (Секиринский С.А., 1957, 39).
Однако значительной части генуэзцев удалось спастись. Главы старых кафинских и солдайских родов, не дожидаясь падения крепостных стен, "со своими семействами и своим имуществом взобрались на горы" (Тизенгаузен В., 1889, 26) еще в годы первых татарских походов, т. е. в начале XIII в. И с тех пор жили там, уже полтора века занимаясь виноградарством и садоводством. Турки их не тронули, как и многих керченцев и феодосийцев итальянского происхождения, которые остались жить в старых кварталах.
В дальнейшем, когда утихли военные действия, эти католики даже поддерживали связь со своими родственниками в Генуе. Поразительно, но связи эти сохранились вплоть до XX в.! Католическое меньшинство не слилось с основной массой населения, хоть и сильно ассимилировалось. Язык свой по большей части они забыли, но сохранили старые общины, члены которых по-прежнему называли себя "женовезе", т. е. генуэзцы. Но, подчеркиваем, не все они говорили по-татарски, и в прошлом веке в некоторых семьях портовых городов был в ходу итальянский язык (Суперанская А.В., 1985, 43).
Но вернемся в средневековье. При турках главенствующее место в торговом мире Крыма снова занимают венецианцы. Османы позволили им торговое мореходство, установив дань в виде пошлин размером в 10 тыс. дукатов ежегодно (Уляницкий В.,[124] 1883, 9). Более того, Венеция пользовалась монопольным правом коммерческого мореплавания на Черном море, почти полностью оказавшегося под властью Турции, еще не имевшей своего торгового флота. Венецианцы вели и сухопутную торговлю в Кафе и Азове с Московским княжеством — также по привилегии, выданной им турками.
Упадок венецианской торговли на Черном море начался лишь с середины XVI в., но не из-за турок или татар, а по весьма далеким от крымских дел причинам. Была открыта Америка, установились прочные торговые связи Европы с Индией, все жестче становилась конкуренция новых великих торговых держав — Франции, Англии, затем Нидерландов, что значительно ослабило экономическую мощь Венеции. Именно в эту эпоху ее место в торговых связях Турции занимает на несколько веков Франция, заключившая еще в 1535 г. первой из европейских держав договор о дружбе с Османской империей.
Перемены, происшедшие при этом в положении итальянских жителей Крыма, были характерны крайней замедленностью, постепенностью. Именно это позволило генуэзцам и итальянцам безболезненно перейти к новым формам хозяйственной и торговой деятельности, которая, как было показано выше, еще сотни лет давала хлеб насущный крымским итальянцам, содействовала их органичному вхождению в состав основного, татарского населения полуострова.
ТАТАРЫ
Тот, кто занимается татароведением, — занимается приведением в порядок себя.
Акад. Д.С. Лихачев Первая волна
Начало заселения Крыма татарами. Многоязычный и многоплеменной массив азиатских кочевников, получивший название Золотой Орды, вторгся на Крымский полуостров в XIII в. До этого события тюркский этнический элемент не оставил в Крыму заметного следа, что, конечно, не исключает[125] возможности отдельных проникновении тюрков на территорию Крыма.
Среди золотоордынцев антропологически преобладали именно тюрки (впрочем, немало было и монголов). Деление это часто условно: по пути в Крым кочевники Батыя, монголоиды по преимуществу, смешивались и даже растворялись в массе жителей причерноморских степей — кыпчаков-тюрков по языку и происхождению. Администрация Золотой Орды составляла первые крымские грамоты на своеобразном языке — сплаве кыпчакского, половецкого и гузского (туркменского) языков; пришельцы восприняли по сути даже язык причерноморских кочевников.
Современникам эти факты казались несущественными, поэтому в древней традиции новых насельников Крыма стали наименовать татарами — этнонимом чисто монгольского происхождения.
Для современного исследователя, однако, дело даже не в названии. Речь идет об уточнении тезиса о "завоевании Крыма татарами". Ассимилировавшаяся с местным населением Золотая Орда воевала фактически не с крымчанами, а с их турецкими угнетателями — сельджуками, впрочем относительно немногочисленными. Как сообщает современник Ибн-аль-Асир (ум. в 1233 г.), вхождение татар на территорию полуострова в 1223 г. произошло почти без сопротивления местного населения. Чтобы быть объективными, отметим, что крымцы были ослаблены происшедшим за год до того нападением на Крым сельджуков под предводительством Хусейна-ад-дина Чобана[51].
В том же 1233 г. золотоордынцы установили в освобожденном от сельджуков Судаке наместничество. Этот год считается в этнической истории "началом крымских татар" (Суперанская А.В., 1985, 43).
Вышесказанное важно для понимания и объяснения последующих взаимоотношений золотоордынцев с местным населением. Взаимоотношения эти далеко не однозначны.
Административная власть с самого начала сосредоточилась в руках пришельцев. Она установилась и укрепилась уже во времена их широкого проникновения в Крым. Проникновение шло двумя путями: сухим — через Перекоп (отсюда вливались различные[126] тюркские орды из-за Волги и Дона) — и водным — через Черное море (речь идет о малоазиатах-сельджуках, сливавшихся с кочевниками). Впрочем, лишь небольшая часть их в конечном счете осталась на полуострове.
Формы административной власти с течением времени изменялись. Первое время татары-кочевники в полном смысле слова в Крыму не оседали — они оставались здесь лишь на зимовки, летом снова уходя в бескрайние травянистые степи Причерноморья. При этом каждый улус имел в Крыму установившуюся зону для зимовки; всего их было семь. Со временем осевшие улус-беи образовали здесь свои бейлики, или вотчины, получившие наименования по именам бейских родов: Ширин, Барын, Кыпчак, Мансур, Сиджеут, Яшлав. Еще позднее бейлики объединились в цельное государство Крымский юрт.
Относительно немногочисленные и дисциплинированные золотоордынцы поставили в положение данников население Крыма. Однако в культурном отношении местное население далеко превосходило пришельцев — оседлые крымчане итальяно-греческого происхождения составляли в XIII — XIV вв.2/3 городского населения Восточного Крыма. Влиянию местного населения способствовало то, что ко времени образования Крымского юрта произошли перемены в расселении крымских татар. Если первоначально пришельцы предпочитали степные пастбища, то теперь некоторая часть их живет не только в селах побережья, но и в городах Центрального и Восточного Крыма. Так, во второй половине XIII в. мы видим татар хозяевами старинной армянской колонии и генуэзского торгового пункта Солхата-Солката (ныне Старый Крым). Этот город под именем Крыма стал татарским административным центром типа главного наместничества, чья власть постепенно распространилась на весь полуостров. За 75 лет оседлые ордынцы успели не только породниться с местным, итальянско-греческим населением, но и перенять их язык, культуру, веру, а некоторые даже вошли в число христианского духовенства (Смирнов В.Д., 1887, 33 — 35). Показательно, что, когда в 1299 г. Крым подвергся набегу хана Ногая, татары-христиане были репрессированы наравне с их единоверцами-европейцами.[127]
Контакты с греками и итальянцами. Так сложились отношения местного населения с пришельцами, и именно это, вероятнее всего, было причиной довольно легкого приспособления греческих и итальянских жителей Восточного Крыма к институту наместничества. Местные жители примирились с верховенством татарских чиновников, исправно платили татарам торговые пошлины и другие дани, взамен получая почти полную свободу деятельности. Образец чисто купеческого равнодушия к формальной стороне дела — в качестве герба Кафы местные жители приняли ханскую тамгу и даже чеканили ее на своих монетах, взамен ханская администрация почти полностью ограничивала свою активность делами татар (Браун Ф.К., 1872, 150 — 153). Бразды правления экономикой края оставались в местных руках.
В результате именно с конца XIII в. Кафа становится "одним из крупнейших мировых центров тогдашнего экспорта и импорта, обильно снабжавшим восточную и западную торговлю жизненными продуктами" (Колли Л.П., 1913, 106); растет ее значение и как ремесленного центра Крыма.
Больше того, генуэзцы экономически поощряли походы татар на север за ясырем, задешево скупая у своих "хозяев" невольников и продавая их с прибылью за Босфором (ДТ, 1966, 159). Экономическая ситуация края на первых порах складывается не вопреки, не благодаря, а во многом независимо от административной власти татар.
Религиозная проблема эпохи. Однако такая независимость вряд ли могла удержаться долго хотя бы потому, что одним из важнейших резервов развивающейся торговли в средневековом обществе является политическая поддержка государства. Этот косвенный источник доходов должен был быть использован рано или поздно. Понятно, что в развитом средневековом государстве — и Крым в этом отношении не исключение — устанавливается духовно-административное управление. Принятие государственной религии становится важнейшим условием экономической поддержки государства и, следовательно, экономического процветания отдельного члена общества.[128]
Пришедшие в Крым золотоордынцы были язычниками-шаманистами. Они поклонялись небесным светилам, земле, воде, огню, идолам — небольшим по размеру войлочным божкам. Ислам проник в Крым во второй половине XIII в., но распространился вначале лишь среди высших слоев населения: знать первой распознала выгоды новой религии, обожествляющей духовно-политическую власть над массой.
Широкая исламизация населения началась при хане Узбеке (1312 — 1342), вступившем на престол еще язычником; как гласит старая пословица, "Дин Узбектен колды" ("Религия досталась (нам) от Узбека"). Экономическую основу этого знаменательного процесса следует искать и в развитии торговли Крыма в XIV в., в усилении купечества, бурном росте городов и общем стремлении горожан — торговцев и ремесленников — получить политическую опору в мусульманском строе. Наконец, ислам был привлекателен и как учение большей духовной мощи, красоты обряда и философской глубины.
Естественно, новая религия не победила сразу и решительно во всех прослойках населения — и в XV в. рудименты язычества были явны. Кстати, крымский реликтовый шаманизм не был чисто монгольской разновидностью этой системы, но более сложным, синкретическим верованием, включавшим в себя элементы многих местных конфессий (Усманов М.А., 1985, 180).
К этому периоду в Крыму устанавливается смешанное духовно-административное управление. Так, муфтий, глава духовных правления и законодательства, шел по государственному рангу сразу за ханом. Затем следовали кадии (казы) — духовные судьи, разбиравшие, впрочем, и гражданские дела. Мудерисы, духовные наставники, ведали и образованием народа. Настоятели дервишских текий — шейхи — обладали исключительным авторитетом в разборе несудебных тяжб.
Придя из Турции, ислам сохранил в Крыму свою суннитскую окраску — так, в частности, из крымского традиционного искусства надолго исчезли изображения живых существ, зато пышно расцвели растительный и геометрический орнаменты[52], мавританская архитектура. Вскоре появились и первые крымс[129]кие богословы, ученые, философы. В многочисленных медресе изучался не только Коран, но и арабский язык, риторика, логика, философия, арифметика, астрономия, законоведение — по сути это была высшая школа, тогда не уступавшая европейской, а в некоторых отношениях и превосходящая последнюю.
Татарские города. Кафа (Кефе) оставалась крупнейшим городом Крыма и в три последовавших столетия — ее еще долго именовали Кючук-Истанбул (малый Стамбул) или Ярым-Истанбул (Пол-Стамбула). В XV — XVII вв. здесь насчитывалось 6 тыс. домов и городских усадеб, число горожан колебалось от 75 до 100 тыс. Состав населения был весьма пестрым, татар здесь жило немного. И в XVII в., много столетий спустя после изгнания генуэзцев, в городе было столько христиан, что они могли содержать 12 греческих церквей, 32 армянские и одну католическую (Хартахай Ф., 1867, 173). Согласно документальным свидетельствам, здесь в XIII в. и позже кроме татар проживали валахи (румыны), поляки, грузины, мингрельцы, черкесы. Наконец, в Кафе находилась резиденция султанского наместника в Крыму, окруженного многочисленным турецким чиновничьим аппаратом и войском.
Татарским административным и культурным центром Крыма был Солхат, но лишь в догиреевский период. Позднее город носил названия Крым, Эски-Крым, Старый Крым; правда, впервые этот древний топоним мы встречаем в применении ко всему полуострову — его использует арабский писатель конца XIII — начала XIV в. Абу-л-Феда[53]. В дальнейшем этот цветущий город (подробнее о его значении для крымской культуры см. в главе об искусстве) пришел в упадок, хотя и сохранил свое значение крупного торгового и ремесленного центра.
Собственно, столицей некоего государственного образования город не являлся и в пору своего расцвета, ведь государства как такового не было. Однако здесь находился ханский дворец, здание которого еще в конце XVIII в. видел Паллас; Солхат был средоточием религиозных институтов татар — за крепостными стенами высились минареты мечетей, текие дервишей, медресе. Здесь постоянно проживали судьи-кадии, к которым для разрешения споров съезжались[130] татары со всего полуострова; высшим авторитетом в вопросах духовной жизни обладали солхатские ученые-философы, муллы, шейхи. Собственно, город был главным рассадником учения Магомета, распространившегося в Крыму далеко не сразу.
Солхат был окружен не только высокой каменной стеной, но и глубоким рвом; он был способен выдержать длительную осаду — за стенами, в купеческих складах, хранилось большое количество провизии, а под улицами тянулась сеть кяризов[54], бесперебойно дававшая чистую воду. И здесь, как в Кафе, владельцами караван-сараев, лабазов, мастерских были не только мусульмане — часть их принадлежала и христианам. Были здесь и православные храмы; стены одного из них сохранились до сих пор (Домбровский О.И., Сидоренко В.А., 1978, 14 — 15). Сохранились стены с перекрытиями первого выдающегося произведения крымской мусульманской архитектуры — так называемой мечети Узбека, как и пристроенного к ней медресе (о ней см. ниже).
Бахчисарай стал административным и экономическим центром Крыма лишь при Гиреях. Однако новая столица возникла отнюдь не на пустом месте. Еще в XIII в. в долине Ашлама-Дере имелись селения с весьма почтенной историей. И когда в 1299 г. полчища хана Ногая прошлись с огнем и мечом по всему юго-западному Крыму, то в числе захваченных городов наряду с Херсонесом упоминался и Кырк-Ер (Тизенгаузен В.Г., 1884, 112), т. е. нынешний Чуфут-Кале. Эта труднодоступная цитадель[55], возведенная на столообразной скале, кажется, асами, задолго до заселения Крыма татарами, была окружена еще более древними селениями, впоследствии угасшими.
При татарах же центром заселения долины стала ее западная часть (район железнодорожного вокзала Бахчисарая), место это называлось еще не столь давно Эски-Юрт (Старое сельбище), очевидно, в отличие от более нового Бахчисарая. Здесь были найдены эпиграфические материалы еще джагатайского периода Орды (Смирнов В.Д., 1887, 116). Именно здесь было принято хоронить всех крымских ханов; как сообщает, правда в сравнительно поздний период, священник Иаков, "Искиюрт от Бакчисараев с версту, церковь зело велика и украшена велми была, понеже сделана мечетью, а кладутся в ней Крымстии Цари и[131] Царевичи, а простые мурзы и татарове отнюдь не кладутся" (Иаков, 1850, 691).
Эта информация подтверждается косвенно и тем, что на знаменитом ханском кладбище бахчисарайского дворца, этой родовой усыпальнице Гиреев, нет ни одного надгробия старше XVII в. Границы эеки-юртского кладбища ныне трудно обозначимы, но часть надгробий и даже мавзолеев сохранилась. Самый замечательный памятник такого рода — раннетатарское дюрбе Мухаммед-шах-бея в виде куба (символ смерти) со срезанными углами. Древность некоторых надгробий явна даже непосвященному — их венчает не чалма, а еще доисламский войлочный колпак кочевника.
Что же касается города на месте нынешнего Бахчисарая, то на сельбище, находившемся здесь ранее, ханы стали возводить свои дворцы, очевидно, лишь в конце XV в., во всяком случае в 1503 г. здесь уже высился дворец. Окончательное наименование города также установилось не сразу — он назывался вначале Веселым городом, Счастливым городом, Виноградным городом. При наследниках Менгли-Гирея новая резиденция достигла настоящего расцвета, хотя еще в XV в. это был крупный город с 2 тыс. домов и усадеб и населением в 25 тыс. человек. После упадка Эски-Крыма он стал всекрымским культурным центром.
Гёзлёв был основан на месте древней Каркинитиды; возможно, при его возведении были использованы камни из руин ее. Новое название города по происхождению неясно и доныне вызывает споры[56]. Уже в XV — XVI вв. он был равновелик Бахчисараю, насчитывая 2 тыс. домов и свыше 20 тыс. жителей, не считая турецкого гарнизона (Хартахай Ф., 1867, 173). Это был город-крепость, многоугольная в плане, границы которой проходили по нынешним улицам Караева, Революции, Пионерской, Д. Ульянова и Интернациональной. Стены самой мощной крепости ханства при высоте до 8 м достигали толщины 5 м и были снабжены башнями.
В город вело пять ворот, самые большие из которых (Одун-Базар-капусу) сохранились до наших дней — этот выдающийся памятник средневековой архитектуры и фортификационного искусства был варварски уничтожен в 1950-х гг. Внутри внешнего[132] шел внутренний пояс стен цитадели Кыз-Кале (Девичья крепость), четыре мощные башни которого были видны подъезжающим к городу.
Безводная ныне Евпатория (вода поступает сюда из Альмы) славилась когда-то своими фонтанами и колодцами, которые искусные татарские мастера доводили до глубины 30 саженей (Кондараки В.Х., 1875, 14, 27), банями, две из которых сохранились до наших дней (одна — действующая). Единственный татарский торговый порт (остальные были в руках турок), Гёзлёв, достиг в XVI в. такого расцвета, что хан Гази-Гирей II планировал перевести сюда свою столицу. В городе кроме татар и 3 тыс. янычар жили караимы, армяне и греки. Каждая из этих этнических групп имела свои храмы — кафедральная караимская кенасса также сохранилась доныне.
Еще более укрепился город в начале XVII в. Крепостные стены достигли высоты 40 м! Система башен была дополнена 24 выступающими наружу бастионами. Возросло и его торговое могущество — оборудованная гавань могла вместить до 200 судов; это был порт международного класса — здесь средиземноморские капитаны встречались с коллегами из далеких Данцига и Риги.
Карасубазар (ныне Белогорск) был четвертым по величине городом средневекового Крыма. Лишь вдвое уступая по числу жителей столице, он длительное время сохранял свое значение как крупнейший ремесленный центр. Пользовался он известностью и как торговый центр — она перешла к нему от угасшего Эски-Крыма (Хартахай Ф., 1867, 173).
Перекоп был прежде всего военно-административным форпостом Крыма на границе с христианским миром. Здесь находилась резиденция op-бека (см. ниже), стоял значительный гарнизон. Имелись купеческие перевалочные склады, немало караван-сараев, хотя общее число домов не превышало полутысячи.[133]
Поистине, те, кто уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и в последний день и творили благое, — им их награда у Господа, нет над ними страха, и не будут они печальны.
Коран, 2, 59 (62)
Национальная ситуация. Города ханства, как новые, так и древние, никогда не были однонациональными. Даже в Эски-Юрте, одном из очагов крымского исламизма, население уже в конце XIII в. было интернациональным; кроме уже упоминавшихся народов и племен в крымских городах проживало большое количество евреев, черкесов, пятигорцев, цыган (Броневский М., 1867, 357). Лишь о христианах славянского происхождения мы почти не встречаем упоминаний; очевидно, если они и встречались среди оседлого населения полуострова, то крайне редко.
Сосуществование такого удивительного и для наших времен конгломерата из разноплеменных инаковерующих было бы немыслимым без известной веротерпимости татарского населения — впрочем, также полиэтнического, хотя и единоверческого. И черта эта резко выделяет крымских татар из всего исламского мира. Это была, по словам советских ученых, удивительная даже для суннитов "широчайшая веротерпимость" (ДТ, 1966, 180). Имея глубокие внутренние корни, она поражала современников и чисто внешне. Известно, что Успенский монастырь близ Бахчисарая пользовался не только материальной поддержкой ханов, но и "авторитетом у татар" (Фадеева Т.М., 1987, 82), оставаясь на протяжении веков центром и оплотом крымской православной церкви. Другой монастырь, Георгиевский (мыс Фиолент), беспрепятственно функционировал, правда с небольшим перерывом, более тысячи лет (890 — 1920-е гг.). В Кафе в дотурецкий период рядом с мечетями и медресе высились купола 17 католических храмов и двух монастырей с латинскими школами при них, греческие храмы и монастыри, армянские, русские церкви, еврейские и караимские синагоги и т. д. (Якобсон А.Л., 1973, 119, 124). Причем здесь были далеко не безобидные убежища гонимых за веру монахов, как в первые века крымского (херсонесского)[134] христианства, но оплоты церкви воинствующей. Католические монастыри играли роль центров христианской миссии; здесь посланцы Европы изучали языки, обычаи, культуру Востока для того, чтобы отправиться в качестве миссионеров в ближние и дальние страны Азиатского континента.
С другой стороны, в отличие от соседних мусульманских стран в Крыму никогда не могли сложиться военнорелигиозные группы и целые ордена типа муттавиев ("мусульман-добровольцев"), газы ("борцов за веру") и т. п., образовывавшие обычно целые прослойки населения, наиболее фанатично и неприязненно относившиеся к чужакам. Никогда не было в Крыму и сторонников столь распространенной на Востоке идеи священной войны ("джихада"), составлявшей главную опору мусульманских властителей в их походах. В схожих ситуациях крымские ханы выступали в роли чисто военных предводителей, но не идеологических вождей[57].
Традиционный здравый смысл ханов позволял им видеть явные выгоды, связанные с пребыванием в Крыму иноверцев — купцов, ремесленников, даже дипломатов, верно служивших престолу; однако без крепких традиций веротерпимости здравый смысл вряд ли восторжествовал бы.
Подобная картина наблюдалась не только в Крыму, хотя и весьма редко. Правительница огромной империи (включавшей в себя Сирию, Египет и всю Малую Азию) Зенобия "была еще язычницей, однако позволяла исключительную терпимость к своим христианским подданным" (Аверинцев С.С., 1985, 5).
Тем не менее мы можем привести факты еще более "исключительной" толерантности — на крымском материале. По нашему мнению, она была уже в непреследовании татар, переходивших в христианство, что случалось нередко.
Так, в неопубликованной книге кадиев за 1686 — 1710 гг. мы находим не единицы — десятки христиан татарского происхождения, смешанные мусульманско-христианские семьи, более того — в семье часть детей, бывало, крестили, часть — обрезали по шариатскому обряду и т. д. И это не в одном месте; лишь в сравнительно небольшом округе такие явления были правилом, а не исключением: в деревнях Бо[135]гатырь, Керменчик, Енисала, Аи-Георгий, Искут, Ламбат, Варнутка (Маркевич А.К., 1910, 530, 541).
Особенно контрастно это выглядело в сравнении с жесточайшими карами, которым всегда подвергались вероотступники как в соседней Турции, так и в христианских державах, в том числе славянских.
Самуил Величко сообщает в своей летописи об одном из случаев подобных репрессий. Когда кошевой атаман Серко освободил 7 тыс. пленных христиан, то отпустил тех, кто хотел исповедовать ислам, назад, в Крым. Ушли как взрослые, так и дети, короче, все, уже пустившие корни на полуострове, впитавшие в себя крымскую культуру. Но, выявив "отступников", Серко дал приказ безжалостно изрубить их. Впрочем, после окончания экзекуции кошевой поклонился трупам взрослых и детей, прося прощения и извиняя свой поступок тем, что не хотел отпускать их на "вечную погибель без крещения" (Кондараки В.Х., 1875, ч. XII, 8).
И подобная религиозно-идеологическая нетерпимость сохранялась к северу от Перекопа веками. Куда дальше, если и советский автор целиком солидаризуется с Серко и даже одобряет его дикий поступок, утверждая, что именно в нем "как нельзя более ярко отразилась внутренняя духовная сила запорожского казачества" (Надинский П.Н., I, 1951, 82)!
Сами ханы отнюдь не чурались тесных контактов с православными духовными владыками. Христианские князья церкви служили как бы передаточным звеном между Гиреями и их подданными-иноверцами. У ханов не было ни возможности, ни необходимости "разделять и властвовать" в конфессиональном плане. Оппозиция, с которой им приходилось считаться (бейская), состояла исключительно из мусульман, а иноверцы, составлявшие абсолютное меньшинство в исламском мире Крыма, никогда и не помышляли об антиханской политике.
Более того, крымские властители и сами испытывали какое-то влияние со стороны своих православных земляков. Известно, что уже Хаджи-Девлет-Гирей жертвовал немалые суммы на христианские монастыри, ставил пудовые свечи образу Успенской Божьей матери перед походами на кочевников Большой орды (Кулаковский Ю., 1914, 124). Неудивительно поэтому участие, которое ханы принимали в[136] деле храмостроительства, а оно шло на протяжении веков. Восстанавливались древние христианские храмы — например, в 1427 г. в Партените, а в 1587 г. в Биасале на Каче новая церковь была воздвигнута целиком на мусульманские деньги: как гласит закладная надпись, "стараниями, помощью и иждивением господина Бината, сына Темирке, в память его и родителей его" (там же, 131).
Что же касается конкретных христиан, то ханы и беи оценивали их не столько за преданность заветам Пророка, сколько за деловые и человеческие качества, отнюдь не понуждая к принятию ислама. Вера не сказывалась не только на условиях экономической деятельности иноверцев[58], но и на служебной карьере некоторых из них. Так, в весьма отрывочных сведениях о лицах, приближенных к ханам, мы находим множество немусульман: нескольких казначеев (евреи Ша-Ислам и Мусафей, итальянец Августин, поляк Янушко), дипломатов в ранге посла (итальянцы Августин Гарибальди, Ян Баптист, Винцент Зугульфи, еврей Кокоса) и т. д. (Сыроечковский В.Е., 1940, 19, 26; Смирнов В.Д., 1895, 255).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что вероисповедальные разногласия, конечно имевшие место в средневековом Крыму, оказывались совершенно несравнимыми с факторами, сближавшими все народы полуострова для защиты общих интересов. Наиболее стабильным из таких факторов был, естественно, экономический. Однако время от времени начинал действовать не менее мощный политический. И в минуты опасности, когда возникала необходимость совместной защиты своей Родины, крымчане выступали в едином строю воинов и дипломатов без различия веры.
Попробуем отыскать причину подобной аномалии среди стран Европы и Востока. Первое, что приходит на ум, — это географическое положение Крыма, его глубокая вдвинутость в область православных народов, что должно было, возможно, смягчать мусульманский ригоризм. Но с другой стороны, если мы представим себе христианско-мусульманский фронт периода средневековья, то на левом фланге его окажется весьма схожий по географическому положению, только христианский аванпост, такой же кулак европейского мира, выдвинутый по направлению[137] к мусульманскому, — Испания. Но картина сосуществования вер здесь будет полярно противоположной. Ни в одной христианской стране не уничтожалось столько мавров и евреев, как в Испании, не было на континенте более нетерпимого государя, чем Филипп II, испанскую же церковь вкупе с инквизицией впору именовать не воинствующей, а воюющей — столько крови иноверцев и еретиков пролилось по ее благословению, причем уже после того, как угроза реставрации мусульманства миновала...
Но, может быть, причина в самой мусульманской вере? Ведь в Коране буквально рассыпаны призывы к уважению христиан ("обладателей Писания"), если это истинно верующие[59]. "Гяуры" — это те, кто не верит в единого Бога, но отнюдь не праведники, пусть даже христианские[60]. И здесь мы не встретим бранных слов ("поганые"), которыми церковь щедро наделяла всех, даже самых благочестивых и даже святых мусульман[61].
Противостояние двух вер в проблеме сосуществования усугублялось и тем, что встречающиеся в Евангелии бесспорно гуманные призывы часто не доходили до слуха христиан Востока и Запада, вообще в массе своей редко предпочитающих слово Писания зову жизни суетной. Это признавали с горечью многие богословы, а крупнейший авторитет конца XIX в. в этой области В.С. Соловьев, между прочим решительно выступавший за веротерпимость и свободу совести, подчеркивал, что "мусульмане имеют перед нами то преимущество, что вся их жизнь согласуется с их верой, что они живут по закону своей религии... жизнь их не лжива; ибо закон ее один и согласен сам с собою, у них нет другого правила в жизни, кроме того, которое дается их религией. Тогда как мы, признавая по вере закон христианский, устраиваем свою действительную жизнь совсем по другому закону, унаследованному нами от времен дохристианских" (т. IV, 47). Засим возможно вполне естественное предположение: не в этом ли различном усвоении уроков языческого зверства коренится и различный подход к веротерпимости и христиан и мусульман?
Сомнений здесь немало. И основное из них то, что в иных, мусульманских же странах ненависть к инакомыслящим была вполне христианского накала. Таким образом, у нас остается единственный ответ на[138] этот вопрос, он — в природе крымского этногенеза. Только здесь, в краю, где поколение за поколением, еще с домусульманских времен, воспитывалось в духе мирного сосуществования, где "язычество", его рудименты не оказали ожесточающего влияния ни на мусульман, ни на христиан, где испокон веку свобода совести гармонично дополнялась демократией, стал возможным этот удивительный, возможно уникальный, феномен крымской веротерпимости.
Зарождение крымскотатарской культуры. Важнейшее в истории крымской культуры значение имела кардинальная перемена во внешнеполитическом положении Крыма, происшедшая в первой трети XIV в. Литовские князья, заняв причерноморские степи от Буга до Дона, вытеснили оттуда ордынцев. Тем самым было ослаблено унизительное и обременительное для крымчан культурное и экономическое давление на них кыпчаков.
Второй удар по отношениям зависимости Крыма от Золотой Орды был связан с событиями конца XIV в. в Средней Азии — образовавшаяся там держава Тимура разгромила Астрахань и Сарай, что привело, в частности, к переносу магистральных путей всей восточной сухопутной торговли. Отныне Крым на долгие годы экономически отрывается от Средней Азии, а политически — от Орды, причем окончательно.
Отныне быт и культура в целом крымского народа могли развиваться свободно. Начинается широкое оседание вчерашних кочевников, развитие земледелия, разложение племенного строя. Порвав с утратившими актуальность, но насильственно навязываемыми ордынским чиновничеством кочевыми традициями, народ стал развивать собственную, отличную и от золотоордынской, и от христианской культуру. Внешне она более всего походила вначале на ближневосточную, отличаясь, впрочем, от нее большими разнообразием, синкретичностью и содержательностью (Лашков Ф.Ф., 1881, 29).
Заслуга в этом обогащении сложившихся было культурных традиций принадлежала отнюдь не генуэзцам или венецианцам, как иногда полагают (Хартахай Ф., 1866, 199), а скорее духовному потенциалу молодой нации, складывавшейся в чрезвычайно пестрой и переменчивой социально-экономи[139]ческой и политической ситуации. Вчерашние степняки, отвергшие и культ, и кочевые обычаи, и связанные с ними культурные традиции предков, жадно впитывали доступное им достояние народов и племен, с которыми они вступили в контакт в Крыму.
Мы не можем, да и вряд ли когда-нибудь сможем сказать, в каком количественном соотношении находились пришельцы к местному населению. Науке известно лишь, что полуостров к моменту прихода ордынцев был плотно заселен и аборигены при этом почти не пострадали — вооруженное сопротивление, да и то едва ли не символическое, оказали лишь генуэзцы. Впрочем, для культурного обмена количественное соотношение носителей двух культур далеко не всегда является решающим фактором; часто гораздо более важен их уровень. Можно спросить о том, чья культура была более "продвинутой" — аборигенов или пришельцев (абсолютное большинство ученых склоняются к первому утверждению), но совершенно бесспорен тот факт, что культура местных жителей была лучше приспособлена к экологической обстановке Крыма, и уже поэтому ее победа в процессе аккультурации была гарантирована.
Поэтому уже к концу XIII в. культурная ассимиляция ордынцев местным населением становится заметной, причем, чем ближе к горам, тем сильнее. Степняки пытаются сеять ячмень, площади посевов растут; впервые бывшие кочевники, ранее снимавшиеся с места при оскудении "угодий", начинают ценить землю.
Более того, у этих вечных странников начинает развиваться чувство привязанности к "малой родине", появляется вкус к плодам многолетнего хозяйственного ее улучшения. Это был колоссальный переворот в сознании массы, несравнимый даже со сменой религии, а когда он завершился, освоение технологических и иных методов ведения традиционного крымского хозяйства пошло вполне успешно — впервые взяв в руки кельму и топор, степняки, не имевшие или давно забывшие собственные строительные традиции, стали копировать местные архитектурные приемы — скифо-таврские и византийские, широко распространив, в частности, последние с ограниченной территории греческих колоний по всему Крыму, в том числе и Степному.[140]
Итак, переходу к оседлому животноводчески-земледельческому хозяйству было три причины: недостаточность размеров крымских степей для кочевого скотоводства; естественный прирост населения, делавший необходимым интенсивный путь развития экономики; наконец, упомянутое уже соприкосновение с многочисленными идеально приспособившимися к крымским условиям носителями древних земледельчески-садоводческих традиций.
В связи с вышесказанным мы можем сделать важнейший в культурологическом анализе истории Крыма вывод: культура татар с момента ее зарождения на полуострове носила открытый характер. Этот вывод, как мы увидим, сохраняет свою справедливость на протяжении всех эпох крымскотатарской истории, приобретая, таким образом, основополагающее значение для складывания и развития этой культуры из глубины веков до самого последнего времени.[141]
IV. КРЫМСКОЕ ХАНСТВО ДООСМАНСКОГО ПЕРИОДА
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Отношения новопоселенцев с генуэзцами. В XIV в. крымские ордынцы были еще настолько немногочисленны, что в 1365 г. генуэзцам удалось отбить у них Солдайю, которую они тут же превратили в военно-стратегический и экономический форпост Кафы. Итальянцы овладели и 40 км береговой полосы с 18 селениями (Бертъе-Делагард А.Л., 1920, 22 — 23). Затем, использовав ослабление Орды в результате битвы на Куликовом поле, генуэзцы заключили с ней договор 1381 г., по которому расширили сферу своей власти на территорию всей Приморской Готии, т. е. от Солдайи до Чембало. Договор этот лишь подтвердил права генуэзцев на весь Южный и Восточный берег Крыма, так как Боспором (Керчью) они владели и до его заключения, а старый греческий рыбацкий поселок в бухте Символов принадлежал им еще до 1345 г. Но после договора в Чембало начинается строительство цитадели, завершенное в 1433 г.
Установившиеся мирные татаро-итальянские отношения сохранялись в течение довольно длительного периода, что объясняется среди прочего и чисто военным равновесием. Итак, татары владели большей частью Крыма, заселив ее весьма жидко, но на территории Приморской Готии (итальянцы называли ее короче: la Campagna) царили законы Генуи, поддерживаемые всей военной и экономической мощью республики.
Впрочем, специфичность отношений между ордынцами и генуэзцами определялась не только силой. Вчерашние кочевники и их дети, в жилах многих из которых уже текла кровь, смешанная с итальянской, столкнувшись с наследниками одной из величайших культур мира, проявили любознательность и восприимчивость, им, как говорилось выше, присущие. Во[142]прос о том, насколько сильным было генуэзское "нравственное влияние на окружных обывателей" (Лашков Ф.Ф., 1881, 28), пока остается открытым, но наличие его, по крайней мере в сферах религии и просвещения, несомненно. Бесспорно полезным оказалось для татар и экономическое сотрудничество с итальянцами, привезшими в Крым передовую сельскохозяйственную технологию, а также соответствующие эпохе методы обработки сельхозпродукции. Перенимая их, татары повышали свои доходы; возможно, именно поэтому они "сочувственно относились к (генуэзским) торговцам и не нарушали без вызова мирной их жизни" (там же, 29).
Юрт становится ханством. Внутриполитическая жизнь крымских ордынцев в эту эпоху была гораздо сложнее внешнеполитической. Фактически их государство Крымский юрт еще в 1261 г. разделилось надвое: за Перекопом раскинула свои шатры Ногайская орда, на полуострове же утвердился собственно Крымский юрт, хотя окончательно границы юрта Гиреев узаконились лишь в XVI в. Управлялся юрт местным ханом ордынского же происхождения. Впрочем, многие историки избегают именовать это образование ханством, имея на то веские причины.
С одной стороны, во второй половине XIV в. оно достигло заметного могущества — крымские ханы назначали своих сыновей вождями Ногайской орды, а территориально власть Крыма уже распространялась до Подолии и Киева включительно (Хартахай Ф., 1866, 197). Но с другой — престол ханов являл собой весьма не устоявшийся пока институт власти, был неустойчивым. Не существовало ни законодательных, ни традиционных положений, определявших компетенцию власти ханов или порядок смены властителей ни по династическому, ни по выборному принципу. Они сменяли друг друга, захватывая престол силой; нередки были случаи братоубийств или отцеубийств. Неизвестный автор "Истории крымских ханов" (ЗООИД, 1) перечисляет такие случаи десятками — и это за относительно краткий период.
Первые Гиреи. Упрочение ханского престола до степени, позволявшей осуществлять твердую власть[143] и стабильную, единую по целям внутреннюю и внешнюю политику, короче, позволявшей говорить об установлении реальной, а не номинальной власти ханов, о ханстве де-факто, произошло при первом из новой династии Чингизидов-Гиреев на крымском престоле — Хаджи-Девлет-Гирее (или Девлет-Гирее), правившем необычно долгий срок — 39 лет (ум. в 1467 г.), представителе двух могущественных родов — Ширинов и Барынов.
Новый хан провел юные годы при дворе литовского князя Витовта (Литва, кстати, и помогла ему утвердиться на престоле). Ведя масштабную внешнюю политику, несравнимую с типично региональной политикой своих предшественников, Девлет-Гирей укрепил международное положение Крыма союзом с Польшей и установлением дружественных связей с русским князем. Этот хан разбил в борьбе за престол одного за другим своих ордынских соперников (1420-е гг.), чем завоевал авторитет среди соплеменников. Затем он приступил к консолидации ханства, путь к чему видел в вытеснении из Крыма генуэзцев. Заключив союз с магупским князем Алексеем, он неожиданным броском завладел Чембало. Тогда Генуя в 1433 г. послала для восстановления статус-кво эскадру с 6 тыс. солдат и матросов на борту, которые выгнали татар из Балаклавы и Каламиты (Инкерман); хотя позже хан нанес поражение генуэзцам при Карагозе (близ Солхата) (Колли Л.П., 1913, 121), дела это не изменило.
С этого момента татарско-генуэзские отношения меняются в лучшую сторону. Консулы стараются не раздражать своих опасных соседей и даже задабривают их подарками. Хан же, теперь нуждавшийся в итальянском торговом посредничестве, услугах купеческого флота и ссудах у кафинского частного и казенного торгового капитала, в таком развитии отношений был только заинтересован.
Однако через 20 лет положение изменилось. За эти годы генуэзские города-крепости сильно ослабели; захват турками обоих берегов Босфора почти пресек контакты крымских итальянцев с метрополией. С другой стороны, ханство за десятилетия окрепло, нужда его в генуэзской поддержке уменьшилась. Поэтому, когда в 1454 г. под стенами Кафы появилась турецкая эскадра, Девлет заключил с ее командую[144]щим договор о совместном нападении на город. Впрочем, статьи договора до смерти хана осуществлены не были.
Отдельные авторы утверждают, что Девлет-Гирей по натуре был мирным правителем и войны его были вынужденными (Хартахай Ф., 1866, 201). Действительно, ряд реформ, проведенных им внутри государства, требовали мирного развития — они касались внутреннего административного, экономического и культурного строительства. Хан воздвиг значительное количество мечетей и школ, активно культивировал новую, мусульманскую веру. До нас от эпохи первого Гирея дошла мечеть в Чуфут-Кале и дюрбе дочери Тохтамыша Ненекеджан-ханым (1437 г.) у Восточных ворот крепости. Религиозная культура хана проявилась и в том, что он совершил хадж, а для совершенствования духовного просвещения заимствовал опыт генуэзцев и готов, взамен оказывая христианским монастырям материальную помощь (Сестренцевич-Богуш С., 1806, II, 251 — 252).
Содействуя чисто экономическими мерами распространению среди татар оседлости, земледелия, ремесел и торговли по образцу южнобережных и готских соседей, Девлет-Гирей добился немалых успехов. Наиболее показательным из такого рода примеров является возникновение вблизи его новой столицы (он перенес ее из Эски-Крыма в Эски-Юрт, близ Бахчисарая) бейлика рода Яшлав (Сулешевых) — это было землевладение нового типа — вотчинное, основанное на феодальном оседлом землепользовании. При нем формировались и другие, аналогичные по способу производства и социальному типу административно-феодальные единицы — бейлики Ширин, Барын, Аргын (Якобсон А.Л., 1973, 133).
Наиболее же важным результатом внутренней и внешней политики Девлет-Гирея было достижение им экономической и культурной самостоятельности и полной политической независимости ханства от Золотой Орды.
Менгли-Гирей, его братья и беи. Почти сорокалетний период сравнительно мирного и довольно успешного развития ханства закончился со смертью основателя династии Гиреев. После него осталось восемь сыновей, старший из которых должен был[145] унаследовать престол. Однако к власти пришел с помощью поляков второй сын хана, Нур-Девлет, удержавшийся во дворце целый год. Затем его сверг шестой сын покойного хана, Менгли, опиравшийся в своей политике на генуэзцев (правил в 1466 — 1515 гг.).
Менгли-Гирей был человек способный и по-своему прогрессивный; возможно, этому способствовало его европейское воспитание — отец отослал его еще мальчиком в резиденцию консула Генуи в Крыму. Продолжая просветительскую деятельность своего отца, он мало успел на этом поприще, так как вновь вверг народ в бурную стремнину военных походов. Войны ослабили не только экономику, но и былое внутреннее единство ханства. Это было чревато утратой политической независимости его ввиду явно возросшего могущества турок, покончивших в 1453 г. с Византией. С другой стороны, Менгли-Гирей довел вооруженной рукой до конца великую задачу отца. Ханы Золотой Орды пока не признавали самостоятельности Крыма, по-прежнему считая его своим уделом. И лишь военные победы Менгли заставили их смириться с фактически сложившейся новой политической комбинацией, но произошло это лишь на рубеже 1470-х гг.
Борьба с турецкой угрозой оказалась более сложной политической задачей. Турки имели сильный козырь против стремившегося отстоять независимость ханства Менгли — в Стамбуле при дворе султана содержались два его брата, Саадет и Мубарак, прямые по старшинству наследники престола их отца. Политика Турции, сохранявшей за собой право на поддержку военной силой законных претендентов на крымский престол, почти в точности, хоть и вряд ли сознательно, копировалась Литвой, придерживавшей у себя до поры до времени еще двух братьев хана, Айдара (Хэйдара) и Нур-Довлета (потом их переманила к себе Москва с той же целью).
Подобные угрозы пустыми отнюдь не были: еще один брат хана, Издемир, попав к польскому королю, вскоре возглавил поход поляков на Крым, не задумываясь, разорил в 1493 г. построенные было ханом оборонительные укрепления и городок на Днепре (Сыроечковский В.Е., 1960, 18). Кроме того, эти пятеро братьев-соперников имели единомышленников и среди подданных хана в лице беев, недовольных[146] энергичным Менгли-Гиреем, его политикой всемерного укрепления мощи государства, требовавшей немало людей и поглощавшей немалую толику бейских доходов.
Менгли не мог не знать о существовании в ханстве этой мощной "пятой колонны", готовой выступить в поход, едва на горизонте появится вымпел турецкого кэпудан-паши или в заднепровских степях блеснут шлемы польских рыцарей. Поэтому он нанес превентивный удар по самому могущественному из бейских родов — Ширинскому. Не надеясь устоять в борьбе против хана в одиночку, один из ширинских беев, Эминек, связался с турками-османами, предложив им в уплату за поддержку помощь и сотрудничество, когда Турция объявит войну Крыму (см. ниже). Подобные инициативы были отмечены и у других противников Менгли в Крыму. Поэтому мы можем утверждать, что внутриполитическая борьба этого Гирея, которого иногда не без оснований называют "главным создателем могущества Крыма" (Россия, 145), переросла во внешнеполитическую проблему — как ныне доказано, турки решились на вторжение в Крым не без надежд на прямо призывавших их сюда беев, ожесточенных ханом (Суперанская А.В., 1985, 45).
Не только современники этого незаурядного государственного деятеля, но и историки нашего времени расходились в оценках плодотворности и целесообразности его политики, приведшей в конечном итоге к утрате Крымом на много веков своей независимости. Очевидно, для более глубокого анализа смысла и результативности действий Менгли-Гирея не обойтись без экскурса в область государственного устройства и системы сложившихся в Крыму политических сил в конце XV — начале XVI в.
ЗАХВАТ КРЫМА ТУРКАМИ
Внутреннее положение Крыма накануне нашествия, В первой половине XIV в. власть ханов в Крыму была далеко не абсолютной. Экономическая мощь Гиреев в те годы мало зависела от походов с целью захвата пленных на продажу. В основном она[147] строилась на внутренних доходах — со скотоводческого и земледельческого населения, успешно осваивавшего угодья Крыма, ханы взимали подымную подать, ясак и калан (подать с возделанных земель, вообще с сельского хозяйства). Сбиралась и десятина с урожая и приплода. Таким образом, экономически хан был от своей аристократии независим.
Сложнее вопрос о независимости политической. Менгли-Гирей, а еще более — его сын и преемник Мухаммед-Гирей должен был считаться как с мнением отдельных беев, так и с решениями собственного совета (дивана). Здесь основную роль играли карачи — четверо глав крупнейших бейских родов — Ширинов, Барынов, Аргинов и Кипчаков. Первые два рода были наделены и особыми привилегиями; так, Ширины имели право на сбор пошлины с прибывающих в Крым или следующих транзитом купцов, а также на "жалованье", которое им выплачивал кафинский казначей хана (РИО, ХСУ, 670).
Влиятельные беи доосманского периода избирались по старшинству, по тому же принципу замещались звания Карачи. Однако утверждал подобные избрания хан. Собственно, это было обычным правом, как и у сеньоров в Западной Европе, и, так же как последние, хан мог извлекать из этого права определенную выгоду. Естественно, стремясь к званиям беев или Карачи, претенденты заранее связывали себя какими-то обязательствами перед поддерживавшим их взамен ханом. С другой стороны, войдя в силу и окружив себя личной гвардией, вассалы нередко о былых обещаниях забывали, выступая в оппозиции сюзерену.
И все же именно Гирей оставались единодержавными властителями Крыма. Богатство беев было относительным и менялось в связи с походами, войнами, результатами межфеодальной усобицы и отношений с ханом. Последний же, имея стабильный доход, экономически был свободнее. И даже чисто внешне резиденции карачи конечно же не могли сравниться с дворцом, который Менгли-Гирей воздвиг в Салачике, — роскошным Ашлама-Сараем, до нас, к несчастью, не дошедшим. Здесь, на полпути от Эски-Юрта до Чуфут-Кале, высился он, окруженный мечетями, медресе, банями, множеством усадеб знати, жилищами ремесленников и купцов. Неподалеку[148] раскинулось и новое кладбище с плитами над могилами бедняков и мавзолеями знати, из которых сохранились лишь дюрбе Хаджи-Девлет-Гирея да медресе.
Внешнеполитическое положение Крыма во второй половине XV в. Крымское ханство находилось с момента своего становления как бы между двух огней — между его мощными соседями, турками и генуэзцами. Особенно зыбким стало положение государства после того, как крымские итальянцы выступили против османов в поддержку истекавшей кровью единоверной Византии. Султан затаил на генуэзцев зло и уже через год после падения Константинополя, т. е. в 1454 г., послал к крымским берегам флот из полусотни галер. Воспользовавшись этим, Хаджи-Гирей подступил к Кафе с суши, но консул откупился от татар договором о ежегодной дани в 20 тыс. лир (Смирнов В.Д., 1887, 260).
Этот эпизод показал генуэзцам, чью сторону возьмет хан в случае нового конфликта с Турцией, и они поспешили обещать султану также дань — уже в 30 тыс. венецианских дукатов (Волков М., 1872, 136) за лояльность по отношению к ним. Все, казалось бы, угрозы были нейтрализованы, но генуэзские консулы не учли, что зерна, просеявшиеся во время недавней бури, зрели в лоне самой Кафы. Татарский чиновник — тудун Эминек (о нем уже шла речь выше), постоянно находившийся в этом городе, вступил с генуэзцами в конфликт, обратившись при этом за поддержкой не к хану, с которым он не ладил, а в Стамбул, к султану. Негромкий поначалу конфликт стал в таких условиях разгораться, ведь для турок это был желанный предлог напасть на богатые колонии как с целью добычи, так и для прекращения антитурецкой агитации кафинцев, звавших Европу к новому крестовому походу (там же, 136).
Но у Стамбула имелись и опасения: в случае такого похода крымчанам мог помочь царь Иван Васильевич, дружески относившийся к Менгли-Гирею[62], и сюзерен ханства Большая орда с ее несчетным конным воинством. Впрочем, султан сделал политически верный шаг — он решил заинтересовать в дружбе Стамбула самого Менгли, поставив хана в безвыходное положение. А случай вскоре представился.[149] Эминек призвал турок себе на помощь, и они тут же послали к этому противнику хана свой флот. Менгли-Гирей принял в начавшемся столкновении сторону генуэзцев, на что турки и рассчитывали. Они разбили татарско-генуэзское войско, хан с 1,5 тыс. всадников укрылся в Кафе, после чего его воевода Басса заключил от имени татарского народа мир с турецким адмиралом и даже снабдил его припасами и всем необходимым для осады Кафы.
Начались осадные работы, рушились стены, горели кварталы, и через несколько суток возмутились горожане — греки и армяне. Они кричали консулу, что город необходимо сдать туркам, иначе они перебьют итальянцев и сами откроют ворота (Колли Л.П., 1913, 16). В такой обстановке защита становилась бессмысленной, и город пал. Турки захватили хана в плен, но у султана хватило ума превратить этот плен в почетный — с 1475 г. экс-хан жил в его дворце. До Гирея доходили сведения о том, что его опустевший престол занимает один претендент за другим — дольше всех там смог продержаться некий Джаны-бек. А когда султан убедился, что хан достаточно вкусил горечь хлеба изгнания, то он доставил его в 1479 г. обратно и посадил на крымский престол.
И снова чистая случайность помогла возвратившемуся в бурлящий Бахчисарай Гирею утвердить свое положение. Дело в том, что большеордынский властитель давно уже скрепя сердце наблюдал, как турки шаг за шагом упрочивают свои позиции в Крыму. Теперь же они обратили вассала Орды Гирея из врага в фактического союзника — это было последней каплей, и ордынцы хлынули через Перекоп. Они нанесли крымчанам несколько поражений и уже дошли до Солхата, но здесь их встретили турки. Ордынцы остановились, метнулись к морю — и впервые увидели мощную османскую эскадру, впервые услышали грохот крупнокалиберных корабельных орудий и береговых батарей — для полудиких лучников это было слишком. Психологического шока оказалось достаточно для того, чтобы они утратили боевую инициативу, а затем и военное превосходство. Орда покатилась из Крыма, Менгли-Гирей гнал ее до самого Тахт-Лиа, где и зарезал своего бывшего сюзерена, великого хана.
Вернувшись домой увенчанный славой, победи[150]тель вернул себе авторитет, которому поначалу нисколько не вредил тот простой факт, что хан стал отныне клевретом султана Махмуда II, заморского властителя, для которого Крым был лишь одной из многих завоеванных земель, подлежащих замирению и затем беспрекословному служению "Великой Порте".
История Менгли-Гирея — история нравственного и духовного падения независимого, талантливого, гордого человека. Он, безусловно, понимал, что сулит ему возвращение на крымский престол — бесславное "правление" по указке из Стамбула, узаконенное ограбление Родины ненасытными чиновниками Блистательной Порты, полное отсутствие самостоятельности в выборе путей внешней да и внутренней политики Крыма. Вероятно, чисто психологически его подготовили к такому решению четыре года почетного плена. Он предпочел в конечном счете ограниченную, но все же свободу, открыв собой длинный перечень подвластных туркам ханов. Мы можем лишь догадываться о мотивах, довлевших этому Гирею в пору его рокового выбора. Не исключено, конечно, что он рассчитывал, укрепившись в Крыму, сбросить рано или поздно иго османов. В пользу такого предположения говорят дошедшие до нас отдельные факты его долгого правления, но планам освобождения не суждено было сбыться ни при Менгли, ни при многочисленных преемниках тернового венца крымских ханов.[151]
V. КРЫМСКИЙ НАРОД ПРИ ОСМАНАХ
ТАТАРСКАЯ ЭКОНОМИКА XV — XVII вв.
В прошлом авторы, не только русские, но и татарские и турецкие, обращавшиеся к истории Крыма, уделяли основное внимание войнам, походам, иногда дипломатии ханства. При этом жизнь народа, его будни и праздники, духовный мир и ежедневный быт оставались как бы в тени. И тому есть свои причины. Во-первых, это сравнительная бедность архивных и даже археологических материалов, необходимых для разработки такой большой темы. Вторая, более веская причина — в экономической, социальной и культурной жизни татар с приходом османов настал период некоего застоя. Нормальное развитие общества, ранее шедшее в ногу, а кое в чем и обгонявшее аналогичный процесс у соседних народов, остановилось по причинам, которые будут рассмотрены ниже. И вот этот-то застой, неизменяемость экономической и общественной жизни под османами отталкивали и продолжают отталкивать интерес ученых, обращающихся к теме более динамичной и, с их точки зрения, представляющей куда большие возможности для исследований и открытий — теме все той же внешней политики Крыма.
Автор полагает, что для исследователя, занятого историей именно народа в целом, а не его правящей надстройки (которая только и была инициатором и организатором войн и набегов), основной интерес представляет именно социальная, культурная и хозяйственная деятельность населения. Обратимся же к основе основ бытия любого народа — его экономике.
Скотоводство. Придя в Крым, степные кочевники поначалу сохраняли старый образ жизни в полном его объеме, инстинктивно стремясь следовать заветам предков даже в частностях. И конечно, ими была сохранена основная и древнейшая отрасль их экономики — коневодство.[152]
Лошадь была для татар не только транспортным средством. Они умели делать из кобыльего молока острые и вкусные сыры, сбраживая его с ячменем, приготавливали кумыс, на молоке варили просяную похлебку (Люк Д., 1625, 478 — 479). А мясо, особенно жеребят, почиталось лучшим из всех иных сортов; длительные походы татар были бы невозможны, не пользуйся они конским мясом — часть лошадей брали в набеги именно с этой целью, в качестве "живых консервов", которые к тому же не требовали транспорта.
Крымские лошади вели свою породу от тех невысоких, но удивительно сильных, быстрых и выносливых коней, которыми славилась Золотая Орда. Утверждают, что в них текла кровь и легендарных скифских коней (Лызлов А.И., 1776, IV, 15). Крымская конница могла за день пройти до 150 верст (Боплан Г., 1896, 44). Кони были прекрасно обучены: "Несясь во весь опор на коне во время преследования врагом и чувствуя изнеможение одного коня, татары на всем скаку перепрыгивали с одного на другого и мчались безостановочно в дальнейший путь; кони же, освободившись от всадников, тотчас брали правую сторону и неслись рядом с хозяевами, чтобы в случае усталости второй лошади вновь принять их на свою спину" (Эварницкий Д.И., 1892, I, 397). Зимой в походе эти кони питались мерзлой травой, разгребая копытами снег. Они не знали подков, лишь иногда к их копытам привязывались куски рога. В целом крымские лошади настолько превосходили породы, известные у соседних народов, что ханы запрещали продажу их на вывод (Хартахай Ф., 1866, 169), справедливо полагая, что залог военных успехов Крыма — в монополии татар на это скифское наследие.
Общее количество коней в Крыму определить нелегко, но различные авторы указывают, что лишь в походы татары брали с собой до 300 тыс. лошадей (Эварницкий Д.И., 1892, I, 395).
В Крыму всегда было множество овец, ценимых за мясо, молоко и в особенности за шкуру — зимняя одежда шилась обыкновенно из овчины. Была выведена и знаменитая крымская курдючная порода — курдючный жир считался весьма здоровой пищей и[153] даже целебным средством (Тунманн И.Э., 1936, 25). Отары паслись в основном в степной части, число голов в одной из них могло достигать нескольких тысяч. Приморские же и горные татары летом отгоняли своих овец на Яйлу; там же заготавливалось сено на зиму.
Охотно использовали крымцы и коровье молоко (хотя коров было относительно немного). Его добавляли в кумыс, из него делали острые сыры. Одним из основных продуктов питания был катык — кислый напиток из коровьего или овечьего молока; позднее он продавался в городах в готовом виде. О распространенности катыка говорит название одного из центральных районов старой Евпатории — Катык-базар, хотя торговля на этом месте после 1944 г. не возобновлялась.
Из другого скота разводили коз, верблюдов, волов; свиней не было вовсе. Ослы стали излюбленным видом верхового и вьючного животного в более позднее время, когда коневодство пришло в упадок; после войны не стало и ослов, верблюды же пропали еще раньше.
Из домашней птицы более всего разводили кур, их было несметное количество, и они поражали путешественников своей дешевизной (Люк Д., 1625, 477).
Земледелие. Несмотря на преобладающе кочевую скотоводческую экономику, татары всегда имели известные земледельческие традиции, часть которых была занесена в Крым еще золотоордынцами. Однако несравненно более сильное влияние на пути развития земледелия оказал живой пример местного, крымского населения, прежде всего греков и генуэзцев.
На азиатских пришельцев не могли не подействовать наглядные выгоды, извлекаемые крымчанами из товарного производства хлеба и других культур. Это сказалось на том, что татары уже в первые десятилетия своего пребывания в Крыму не ограничиваются традиционным просом, а сеют все новые виды зерна: так, в первой половине XV в. они производят пшеницы и других злаковых даже больше потребности, т. е. готовят хлеб на продажу (Лашков Ф.Ф., 1895, 42)[63] — феномен совершенно немыслимый для кочевников. Более того, они уже делят свои угодья, согласно[154] особенностям почвы, на участки "пахотные, луговые и пастбищные", а это говорит о достаточно высоком земледельческом профессионализме и оседлости. Столь же рано татары заимствуют у греков и итальянцев Крыма высокое искусство виноградарства и садоводства (Броневский М., 1863, 348).
Не стоит полагать, что распространение земледельческих навыков, вся перестройка кочевой экономики в оседлую шли спонтанно. Этому процессу активно содействовали ханы. Известно, что первые Гирей, заинтересованные, естественно, в умножении числа подданных, заботились как о переселении в Крым кочевников (в основном с Волги), так и о закреплении их на новом месте — а что может лучше привязать к земле вчерашнего вольного сына степей, чем зерновое хозяйство!
И вот в степной части Крыма, в пустых ковыльных просторах, начинают появляться новые селения; число их умножалось и при Хаджи-Девлете, и при Менгли, и при Сахибе (1537 — 1551); все переселенцы сохраняли, естественно, скотоводческие традиции, но развивали, повторяем, и новые, земледельческие. Этому процессу содействовала доступность земли — по крымско-мусульманскому праву бывшие пустоши, на которые "садились" новые хозяева, переходили в их собственность.
Это относилось и к тем, кто селился на домене хана, калги или нуреддина: запахивая любую пустую землю, будь это степь, горная пашня (кора) или лесной покос (чаир), пахарь становился ее собственником, не превращаясь в крепостного верховного владельца земли, — чрезвычайно важный факт для понимания дальнейшего развития крымского общества. Причем это мусульманское в основе право распространялось и на христиан — так, например, вблизи дер. Аян (домен калги) таких участков было более тридцати (Лашков Ф.Ф., 1895, 79). И нам не известен ни один случай отсуживания владельцем феода крестьянских земель. Очевидно, было просто бесполезно обращаться с такого рода тяжбой в самый авторитетный, духовный суд кадиев, незыблемо руководившийся в своих решениях четким определением ислама: "Обработавший землю ею и владеет".
Уже в XVI в. крымская пашня раскинулась на огромных просторах степи — это была "та часть полу[155]острова, в которой живет хан со своими татарами, от Перекопа к озеру до Крыма; обработанная, ровная, плодородная..." (Броневский М., 1687, 345). До наших дней дошло большое число так называемых кадиаскерских записей начала XVII в., касающихся земледельческих участков по долинам рек Альмы, Качи, Салгира, в окрестностях Бахчисарая, Ак-Мечети и далее, на всем протяжении степной части, вплоть до Гёзлёва. Конечно, повсюду на этих землях уже стояли многочисленные деревни и хутора (Сыроечковский В.Е., 1960, 13).
Итак, уже в середине XVI — начале XVII в. татары сеяли не только излюбленный кочевниками (по причине быстрого созревания) ячмень, но и пшеницу, причем в немалых количествах, судя по цене: "воз пшеницы, нагруженный так, что его может везти только пара быков, стоит не более 2 экю" (Люк Д., 1625, 477). Ячмень, в отличие от пшеницы, не вывозили. Ячменную или просяную поджаренную муку, а также толокно брали с собой в походы; из проса же изготавливался популярный слабоалкогольный напиток буза, дошедший до наших дней — госпредприятия выпускали его и после 1944 г., исчез он, этот древний крымский напиток, где-то в начале 1950-х гг.
Менее значительны были посевы риса, овса, тари и чечевицы. Зерновые запасы татары хранили не в амбарах, а по древнему способу — в ямах-орузах, обложенных сухой соломой или обмазанных глиной. Часто глину эту обжигали.
Не везде в Крыму так цвели персики, как в Бахчисарае и окрестностях, но груши, яблоки, сливы, вишни и, конечно, орех росли повсюду, а к XVIII в. здесь уже были выведены местные сорта плодовых — 37 грушевых, 17 яблоневых, 18 сливовых и 10 — черешни (Хартахай Ф., 1866, 168).
Виноград различных сортов был как местный (греческие и римские лозы), так и завезенный из других земель татарами, у которых любовь к этой культуре, заверяет Хартахай, "доходила до страсти" (168); к концу XVIII в. тут уже насчитывалось 56 сортов его. На Южном берегу Крыма в это время давили до 300 тыс. ведер вина в год, но на Каче и Бельбеке еще больше. Уже тогда по всему Средиземноморью и Востоку славились уникальные вина Судакской[156] долины; татарские поэты воспевали их в своих поэмах (там не, 169).
Овощей крымцы не выращивали вовсе, считая, что Аллах создал зелень лишь на потребу лошадям. Зато табак правоверным отнюдь не запрещался; согласно крымской пословице, "кто после еды не закурит, у того или табаку нет, или ума нет". Поэтому каждую осень крымские табачные папуши можно было видеть не только на бахчисарайских или старокрымских, но и на украинских и даже московских рынках.
Из собственного льна и шелковых нитей татары ткали полотно и многоцветные воздушные шелковые ткани, хотя, конечно, по качеству крымский шелк несколько уступал французскому или дальневосточному.
Зато поистине несравненный мед давали крымские серые пчелы. Начиная с апреля на горных лугах и чаирах появлялись ульи не только жителей предгорий или гор, но и степняков. А затем по крутым дорогам к портовым городам тянулись скрипучие арбы, на которых, укутанные соломой, покоились глиняные запечатанные кувшины с драгоценной янтарной жидкостью. Главным потребителем крымского меда были турки, а султанский двор вообще не потреблял иного меда, кроме того, что ему поставляли пчеловоды дер. Османчик (Хартахай Ф., 1866, 169). Воска же хватало для четырех крупных свечных заводов, в душистой продукции которых в равной мере нуждались мечети и церкви Крыма и соседних стран.
Набеги. Походы за живым товаром — третий после животноводства и земледелия источник средств к существованию. Источник не чисто экономический, но с экономикой Крыма ряд веков тесно связанный. Феномен татарской истории, навлекший неисчислимые бедствия не только на жертвы набегов, но и на самих "хищников", на их мирных потомков, доныне расплачивающихся за громкую славу своих средневековых пращуров.
И эта сомнительная слава затмевает тот малоизвестный факт, что татары, придя в Крым, лишь переняли древнюю местную традицию, что они были лишь поначалу скромными учениками то ли крымских аборигенов, то ли своих славянских соседей.[157]
Дело в том, что, как удалось доказать на материалах итальянских архивов, начало работорговле в Крыму было положено за много веков до образования ханства.
Русские в X — XI вв. стали крупнейшими на юге Восточной Европы "рабовладельцами и работорговцами: захватывать рабов и торговать ими было промыслом первых властителей Русской земли... Отсюда их сношения с Константинополем, где был главный тогда ближайший к России невольничий рынок... рабы были самым важным товаром, о них больше всего говорили в договорах первые русские князья с греческими императорами" (Покровский М.Н., 1965, III, 28).
Позднее слава работорговцев Причерноморья перешла от русских к генуэзцам. По крайней мере уже при генуэзцах западноевропейские колонисты Кафы имели налаженную систему добычи и сбыта пленных. И предметом торговли генуэзцев были пленные, которых они захватывали, отправляясь в набеги на пограничные племена Орды. Другими словами, ордынцы вначале сами испытывали участь тех жертв, которых они через несколько веков, уже обосновавшись в Крыму, стали отправлять за море" (Гейд В., 1915, 84).
Мы не знаем, отчего пример русских и генуэзцев столь долго не соблазнял татар. Возможно, дело было в отсутствии у кочевников рабства или договоров о работорговле с европейскими монархами, которыми располагали генуэзцы и русские. Может быть, дело в недоступности для степняков заморской торговли, и вообще у них не было ни портов, ни кораблей. С другой стороны, уже придя в Крым, татары длительное время развивали исключительно мирную экономику, а первый набег совершили уже при втором хане "турецкого периода" истории Крыма. И есть весьма веские основания утверждать, что именно турки стали не только первыми покупателями рабов Черноморья, но и инициаторами всех первых набегов из Крыма (см. ниже). Потом постепенно татары втянулись в новый вид побочного промысла, история которого насчитывает чуть ли не три века (для России этот срок был короче — более полутора столетий, с начала XVI до второй половины XVII в.).
Автор понимает, что здесь не избежать какой-то[158] моральной оценки подобного "народного промысла". Но научная объективность да и чисто человеческая справедливость требуют, чтобы оценка эта была сделана не с высоты достижений философского гуманизма XX в., а в соответствии со взглядами современников рассматриваемых событий. И здесь мы видим, что ни в XVI в., ни позже походы с целью воинской добычи не считались чем-то постыдным не только в Крыму, но и в соседних и не совсем соседних странах. "Он сделал опасность своим ремеслом, и его не следует презирать за это" — в подобном оправдании Заратустры не нуждались, например, казаки Богдана, когда совместно с татарами Ислам-Гирея разоряли мирных жителей Польши, жгли города и уводили с собой тысячный полон на продажу (Эварницкий Д.И., 1892, II, 243). Причем набеги казаков не прекратились и в XVIII в., когда их литовская добыча достигала десятков тысяч человек, чем они немало гордились.
Аналогичное отношение к походам за ясырем было и по эту сторону Перекопа, у татар. Советский исследователь замечал: "Едва ли будет парадоксом сказать, что это занятие было для них вполне закономерным средством для получения путем обмена необходимых им товаров и денег". "Это было действительно ремесло, почти профессия" (Бахрушин С., 1936, 30). Беи и мурзы были такими же рыцарями-разбойниками в степях Восточной Европы, как их украшенные благородными гербами "коллеги" на больших дорогах Запада, с одинаковой легкостью приносившие в жертву материальной выгоде человеческие жизни — свои и чужие.
Но в отличие от Запада, где рыцари не испытывали затруднений с вербовкой в свои шайки новых головорезов взамен убывших, в Крыму эта проблема была сложнее. На полуострове с его подавляюще сельскохозяйственным населением и малым числом городов не всегда было просто найти охотников для набега, особенно в летнее время и особенно в земледельческих районах. Это прежде всего касается горной части и Южного берега Крыма, где концентрировалось основное, коренное население, еще слабо смешавшееся с пришлыми кочевниками и ведшее "совершенно противоположный образ жизни" (Хартахай Ф., 1866, 207).[159]
Поэтому ханы, когда у них появлялось в очередной раз желание садиться на коня, "главным образом брали с собой ногайских татар", т. е. жителей крымской степи и Северного Причерноморья. Что же касалось "жителей полуострова, в особенности южной его части", то ханы "довольствовались только обложением данью за право не выезжать" (там же). Опираясь на приведенные данные весьма авторитетного историка, писавшего, что называется, "по горячим следам", мы приходим к внешне парадоксальному, но вполне логичному выводу: основную массу "крымских татар" во время набегов составляли вовсе не крымчане, а степняки Причерноморья. Хотя мы и затруднились бы уточнить это соотношение.
Впрочем, гораздо важнее не количественные, а качественные, т. е. производственные и идеологические, различия между группами населения гор, предгорий и берега, с одной, и степи по обе стороны Перекопа, с другой стороны. Первая группа издавна считалась "ядром Крымского юрта" не только потому, что "в нем находилось главное управление татарского государства", но и потому, что именно здесь сохранились древние устои, абсолютно чуждые кочевникам-пришельцам, с готовностью откликавшимся на призыв к набегу. Этой мирной идеологии садоводов, пастухов и пахарей суждено было стать в Крыму главенствующей, и первые ростки грядущей ее победы были заметны еще в XVII в. Недолгий опыт набегов с его соблазнами быстрого обогащения стал тогда уступать вновь по достоинству оцененным древним крымским традициям уже потому, что мирный путь развития экономики "совершенно совпадал с нравами и образом жителей полуострова" (Хартахай Ф., 1866, 208).
Как замечает тот же старый историк, такой путь был совсем "не по вкусу ногайским ордам", но на их мнение в Крыму XVII — XVIII вв. никто не обращал внимания, подавляющее большинство населения полуострова избрало себе иную судьбу. И, по словам Мухаммед-Гирея, еще более старинного автора, наблюдавшего этот процесс собственными глазами, когда хан собирался в набег, то в самом Крыму он уже, лишь "кое-как выпрашивая у беков, отряжал скольких-нибудь, вроде птичников, то есть поденщиков и рабочих" немногочисленных наймитов, а не массу крестьян, добавим мы и продолжим цитату: "Да и[160] большинство тех-то были не татары, а кто домашки, то есть от рабов родившиеся рабы, кто разбойники, которые бежали... и переоделись татарами, кто черкесы, кто русские и молдаване. Среди подобного разновидного сброда много ли татар, которые видели сражение? Не наберется и одного из тысячи" (цит. по: Смирнов В.Д., 1887, 319). Поистине драгоценное свидетельство; запомним его.
Спрашивается, мог ли хан, стоя во главе этого многоязычного сброда, люмпенов по сути, отваживаться на дальние походы против опасного врага? Ответ здесь предельно однозначен: такие походы осуществлялись лишь при одном условии — что абсолютное большинство "крымской" конницы составят некрымские кочевые орды буджаков, ногаев, кубанцев и т. п. Как указывается ниже, именно таким образом дело и обстояло.
Причем не по какой-то особо высокой моральности коренных крымчан, нет; в противоречие с охотой на людей приходил весь их жизненный уклад, а конкретно — способ производства, при котором на счету были каждые мужские руки в течение всего сельскохозяйственного года и которого практически не наблюдалось у кочевников Северного Причерноморья. И если мы допустим, что у горцев сложилась под влиянием их мирных занятий какая-то особая этика, не позволявшая им с ордынской легкостью проливать человеческую кровь, то такая этика (вполне, впрочем, возможная) должна была в ту эпоху выглядеть скорее исключением, чем правилом.
Ибо, повторяем, охота на людей повсеместно рассматривалась в ту эпоху как занятие, ничем не хуже любого другого. Разве что несколько более опасное, чем, скажем, ремесло рыбака. Как и в рыбацких селениях, состоятельные татары ссужали бедняков средствами производства, т. е. боевыми конями, расчет за которые производился с добычи. Как писал свидетель последнего татарского набега (на Подолье, в середине XVIII в.) барон де Тотт, должник давал обязательство "по контракту своим кредиторам в положенный срок заплатить за одежду, оружие и живых коней — живыми же, но не конями, а людьми. И эти обязательства исполнялись в точности, как будто бы у них всегда на задворках имеются в запасе литовские пленники" (Бахрушин С., 1936, 30).[161]
По числу участников набеги делились на три вида: большой (сефери) совершался под водительством хана, в нем участвовало до 100 тыс. человек, и приносил он, как правило, около 5 тыс. пленников. В среднемасштабном походе (чапуле) 50 тыс. всадников возглавлялись одним из беев; ясырей при этом бывало около 3 тыс. Небольшие же набеги (бешбаш, т. е. "пять голов") во главе с мурзой приносили скромную четверть тысячи рабов (Хензель В., 1979, 155).
Большие походы (например, на Москву, Литву) были редки; крымчане большей частью удовлетворялись краткими набегами на южнорусские и украинские земли. Мобилизация участников занимала около полумесяца; каждый из них брал с собой трех коней, доспехи и корм; каждые пять человек — одну телегу.
В ордах, поставлявших основной контингент участников набега, в него шли все мужчины старше 15 лет. И если в Крыму отказы идти в поход были массовыми и от участия в них можно было откупиться, то в ордах с "дезертирами" поступали куда строже — закон повелевал "ограбить и казнить их" (Сыроечковский В.Е., 1960, 42).
Интересно, что в поход татары оружия почти не брали, ограничиваясь саблей и не более чем двумя десятками стрел, но непременно запасались ремнями для пленных. С отрядами хорошо вооруженных украинцев или русских они в стычки стремились не вступать, продвигаясь в глубь чужой территории крайне осторожно, по-звериному путая следы. Захватив там, где удавалось, полон, конники тут же оттягивались в родные степи.
Вопреки распространенному убеждению сила татар была не в их многочисленности (различные авторы указывают, что крымцы вообще избегали боя, пока число их не превосходило противника минимум вдесятеро, а это бывало нечасто). Сила татар была в отработанной до совершенства тактике, в безукоризненном знании местности и навыках передвижения, маскировки и ведения боя в непростых условиях степи. Чаще ходили за ясырем зимой: летом нужно было заниматься другими отраслями экономики. Да и по снегу некованые татарские кони ходили легче. Конечно, зимой менялась тактика, прежней оставалась лишь жесткая дисциплина — залог минимального риска для участников набега.[162]
А когда добыча была взята, татары проявляли о ней своеобразную заботу, что естественно. Как сообщает де Тотт, "пять или шесть рабов разного возраста, штук 60 баранов и с 20 волов — обычная добыча одного человека — его мало стесняет. Головки детей выглядывают из мешка, подвешенного к луке седла; молодая девушка сидит впереди, поддерживаемая левой рукой всадника, мать — на крупе лошади, отец — на одной из запасных лошадей, сын — на другой; овцы и коровы — впереди, и все это движется и не разбегается под бдительным взором пастыря. Ему ничего не стоит собрать свое стадо, направлять его, заботиться о его продовольствии, самому идти пешком, чтобы облегчить своих рабов..." (цит. по: Бахрушин С., 1936, 30).
Конечно же советские авторы, говорящие о жестокости такого промысла, совершенно правы; да и упомянутая выше "забота" имела вполне понятную экономическую основу. Но уже поэтому она была постоянной и действенной. Пока пленный не сдан с рук на руки купцу, о товаре должен беспокоиться владелец. И можно представить себе, с каким осуждением смотрели татары, участвовавшие в совместных походах с украинцами в Польшу, на бессмысленную порчу "товара", когда казаки "вырезали груди у женщин, били до смерти младенцев" (Соловьев С.М., VI, 179). Вот уж в чем татар нельзя обвинить, так это в бесцельной жестокости!
Чем же была вызвана к жизни подобная необычная отрасль народной экономики Крыма, задают себе вопрос исследователи уже не первое десятилетие. Весьма серьезные авторы объясняют феномен набегов слабостью крымской экономической системы[64], касаясь, таким образом, следствия, а не причины этого примечательного явления. Правильно указывая на невысокую в целом товарность и зависимость довольно примитивного сельского хозяйства татар от капризов природы как на основную причину набегов, сторонники такого рода объяснений как бы абстрагируются от предмета исследования, ведь речь идет о благодатном Крыме, чьи знаменитые степные черноземы, горные пастбища и речные террасы предгорий в соединении с умеренным климатом способны прокормить в десятки раз большее, чем в средние века, да и позже (200 — 300 тыс. человек в XVIII в.), на[163]селение. Суть проблемы в ином: почему крымская экономика веками, вплоть до XIX в. и даже до исхода его, находилась на примитивном уровне XIII практически столетия?
И здесь объяснение следует искать отнюдь не в истории агрикультуры, но в политических (в первую очередь внешнеполитических) условиях, которые единственно объясняют факт совершенно уникальной (если не в мировом масштабе, то по крайней мере для Европы) стагнации всей экономики Крыма XIII — XVIII вв. И мы к анализу этих условий ниже вернемся. Природа же Крыма, на которую сетуют некоторые авторы, — основной фактор, способствовавший тому, что многоплеменное население его вообще выжило в столетия турецкого безвременья, сохранив за собой историческую родину. И не разбрелось, как иные племена, по более свободным от заморского ига краям, а консолидировалось в единую нацию. Нацию, первоначальные истоки которой не всегда можно найти на территории Крыма, но которая формировалась вокруг мощного стержня автохтонного населения.
Ремесло и торговля. Ремесло и торговля были, естественно, известны татарам и в эпоху кочевого уклада в их историй. Ремесленники сопровождали как племена во время их сезонных миграций, так и кочевую ставку хана; торговцев было также достаточно и близ рядовых кочевий, и в особенности рядом с ханской ставкой. Однако обе отрасли экономики с оседанием татар на землю в Крыму достигли куда большего развития.
Выше уже говорилось, что ремесленники заимствовали свою цеховую организацию у местного населения — греков, в свою очередь принесших ее со старой родины — из Византии. Однако не следует полагать, как это иногда принято, что бывшим кочевникам пришлось абсолютно все, что касается ремесла и обмена товаров, заимствовать у более культурно развитого крымского населения. При этом упускается из виду существование в Золотой Орде до того, как ее захлестнула кочевая стихия, не только устойчивого земледельческого уклада, но и городского ремесла, и торговли, призванных обслуживать село и город, гораздо более товароемкие, чем кочевые[164] орды (экономика которых была почти полностью самообеспечивающей).
В Крыму же наблюдается наряду с заимствованием местных традиций некоторое возрождение докочевнической золотоордынской полуфеодальной-полупатриархальной культуры (Федоров-Давыдов Г.А., 1973, 167 — 168). Это касается как роста городов (здесь сказался пришедший временно в упадок урбанистический централизм Золотой Орды), так и доли ремесленно-торгового населения в них. Во всяком случае уже к XV — началу XVI в. можно говорить о значительном развитии крымского ремесла (Сыроечковский В.Е., 1960, 17).
Как указывалось, сложные социальные условия феодального засилья, в которых приходилось жить и работать крымским ремесленникам и торговцам, сказались как на организации их труда, так и на возникновении проблем социального плана. Феодалы стремились уничтожить права цехов и привилегии торговцев, но успеха в этом не достигли до конца XVII в., когда был отмечен не прекращавшийся уже в дальнейшем процесс социального и политического подъема ремесленной и торговой прослоек городского населения Крыма. Однако и в XV — XVII вв. никакие нападки феодальной администрации не могли препятствовать развитию творческих, духовных сил народа, выражавшемуся, в частности, в высоком мастерстве ремесленников. Не имея возможности достичь количественных показателей европейских мануфактур, крымские ремесленники достигали высшего совершенства в качестве изделий из металла и кожи, шерсти и дерева, так что многие из них почитались настоящими произведениями искусства (подробнее см. в главе "Искусство Крыма"). Впрочем, немалой была и масса товара. Так, крымские ножи — "пичаки", славившиеся по всему Востоку, закупались и Москвой; партии этого товара достигали 400 тыс. штук (Бахрушин С., 1936, 41).
Ножи и кинжалы Крыма ценились прежде всего за отличную закалку и элегантную форму клинков. Но не менее привлекала любителей и отделка — рукоятки украшались инкрустацией из моржовой кости и рога, клинки — золотой и серебряной насечкой. Такие изделия находили сбыт и в Европе, более всего во Франции, отчего в Стамбуле было даже налажено[165] производство подделок, на которые ставились бахчисарайские и карасубазарские клейма, после чего цена их резко поднималась.
В Бахчисарае изготавливались и различные виды огнестрельного оружия. Особенно славились карабины; один бахчисарайский карабин стоил от 15 до 200 пиастров — для сравнения скажем, что хороший конь стоил 30 пиастров (Хартахай Ф., 1866, 170). Этого вида оружия только на вывоз производилось до 2 тыс. стволов в год; естественно, большой спрос на них был и внутри ханства. Крымские ремесленники полностью удовлетворяли и потребности в боеприпасах — в XVIII в. только в Кафе работало 10 пороховых заводов ("барут хане"), шел порох и за рубеж. Селитрой многочисленные эти заводы обеспечивались также своей — ее делали в Карасубазаре.
Был велик вывоз ковров, дубленых шкур, кожи, тканей. Более всего кож выделывалось в Гёзлёве и Карасубазаре, хотя ввиду дешевизны сырья и его изобилия кожевенные мастерские имелись не только во всех городах, но и во многих селах. Здесь выделывался товар разных сортов — сафьяны, юфти и шагрени, притом в богатом выборе оттенков. Множество кож шло в дальнейшую обработку — тут же из них шили отличные башмаки, "восточные" туфли, подушки и т. п. Но самыми известными из кожевенных товаров были, конечно, крымские седла. Они отличались легкостью, удобством и красотой отделки; их вывозили в огромном количестве, даже с Кавказа приезжали за ними купцы, так как черкесы платили за настоящее крымское седло буквально любые деньги (Хартахай Ф., 1866, 170).
Весьма многочисленным был и цех мастеров-строителей различных специальностей. В техническом и творческом плане их искусство имело два основных источника. При весьма интенсивном обмене зодчими, строившими здания духовной и гражданской архитектуры в различных странах Востока, естественно, крымские мастера постоянно были в курсе последних достижений строительной техники. С другой стороны, питаясь животворными соками общемусульманской архитектурной идеи, активно усваивая высшие ее достижения (в Крыму работал великий Синан!), крымское зодчество не утрачивало местных черт и приемов, пришедших в него из глубокой древности[166], из дотатарского прошлого. В частности, это было заметно в стилевом решении такого известного памятника, как дюрбе XIV в. на могильнике Кырк-Азизлер в Эски-Юрте.
Здесь упомянуты лишь некоторые из многочисленных крымских цехов. Эти средневековые производственносоциальные организации со временем менялись мало.
Постоянное давление местных феодалов на права и свободы городского населения тормозило иногда развитие производственных и рыночных отношений, но не производительных сил. Оно порождало и усиливало те консервативные в основе тенденции средневековой замкнутости горожан, что поддерживали корпоративный дух ремесленного населения, — это была защитная реакция города. Внешне находясь в состоянии длительного застоя, упомянутые производственные силы неуклонно росли, накапливались, с тем чтобы в обновившихся условиях социальной и экономической свободы Нового времени стать двигателем всестороннего развития нации. Залогом этой потенции были с давних пор плоды творческой деятельности ремесленников Крыма.
Причина вышеупомянутого замедления развития крымского феодализма и консервации социальноэкономических отношений коренилась в почти полном отсутствии основных факторов прогрессивных процессов — развития торговли и разделения труда, роста и накопления капитала. Крымские феодалы были в абсолютном большинстве небогаты; с другой стороны, почти не было нищих и голодающих — это отмечали еще современники первых ханов (Михаил Литвин, 1890, 14 — 15). Подобная стертость, ослабленность дифференциации между различными слоями населения, замедлявшая социальный прогресс, объяснялась главным образом внешнеполитической и связанной с ней внешнеторговой ситуацией.
Образование Турецкой империи нанесло удар европейской торговле с Востоком в целом. В Крыму же оно резко уменьшило, почти сведя на нет, внешнеэкономическое значение таких торговых центров, как Кафа или Старый Крым. И то, что позднее усилился новый торговый город Карасубазар, ставший складочным пунктом для вывозных товаров, положения изменить не могло. Ослабление торговли[167] послегенуэзского периода характеризовал сам объект ее — ввоз состоял почти целиком из предназначенных для феодальной прослойки предметов роскоши и искусства, а не новых, прогрессивных средств производства, способных интенсифицировать его. Да и торговые выгоды, в других странах нередко составлявшие основу складывавшегося капитала, шли мимо владельцев средств производства, в том числе феодалов. Они оседали в руках иностранных купцов или же крымских, но не татарских торговцев — представителей греческой, армянской, еврейской диаспоры. Цепь товаропроизводительного оборота разрывалась, средства выплескивались вовне. К тому же широчайшие слои крымского коренного населения были вообще почти за пределами национальной экономики, ведя замкнутое натуральное хозяйство (часть крестьянства, в основном горцы) или удовлетворяясь пассивной ролью покупателей, в лучшем случае — поставщиков сырья (феодалы, чье хозяйство также функционировало по почти замкнутому циклу самопотребления).
С ограниченным развитием торговли был связан слабый прогресс и второго фактора разложения феодализма — промышленности. В силу специфики сложившихся отношений, когда военно-административная власть концентрировалась в городах, а налоговая политика нередко принимала весьма жесткие, внезаконные формы, произвол феодалов мог усиливаться по отношению к городским ремесленникам. Наконец, это препятствовало развитию автономии городов, их самоуправления, большей самостоятельности городского патрициата. Так, лишь к концу XVII в. городское судопроизводство стало освобождаться от диктата местных феодалов, возникли институты городских судей и административного управления города (Никольский П.А., 1919, 11 — 12). Эти и некоторые иные условия ставили деятельность самоуправляющихся в идеале ремесленных корпораций, всю самодеятельную жизнь города под жесткий экономический контроль и внеэкономическое угнетение со стороны разветвленного и многочисленного паразитирующего административно-фискального, феодального в основе аппарата. При этом не наблюдалось почти никаких попыток изменить сложившееся застойное положение — феодалов и их чинов[168]ный аппарат оно полностью удовлетворяло, а массы трудящихся были, в отличие от населения других европейских стран, полностью и добровольно подчинены шариату — закону, не лишенному гуманных черт, но освящавшему феодальное устройство общества.
Охота, рыбная ловля. В крымской экономике немаловажную роль играли промыслы, в которых могло участвовать практически все население. Причем на биофонде полуострова это в целом не отражалось. В степи всегда водилась масса дичи — еще в 1940-х гг. здесь выгуливалось множество дроф ("крымских страусов"), зайцев, лис и т. д. Более разнообразен был животный мир гор и предгорий. Показательно, что феодалы, почитавшие охоту одним из изысканнейших развлечений, никогда не предъявляли претензий на исключительное право охоты в четко ограниченных угодьях, как это бывало в Европе. Причина этому феномену двойственная — это объясняется как шариатом, дающим всем правоверным равное право на пользование тварями и злаками, сотворенными Аллахом, так и исключительным богатством крымской природы — дичи хватало всем.
То, что составляло для мурз предмет развлечения, являлось весьма важным подспорьем для малозажиточных слоев населения. Почти все крестьяне в перерывах между страдами пополняли свои запасы охотой. Сравнительная дороговизна огнестрельного оружия и припаса, а также изобилие дичи определяли и вид охоты — татары ловили косуль и оленей арканами (Хартахай Ф., 1867, 171).
Рыбные ловли издавна отмечались в ряде приморских городов и сел, но сами татары мало потребляли продукты моря. В основном рыба, как и в древности, шла на вывоз в соленом и сушеном виде, хотя и в меньшем количестве. Наиболее выгодным продуктом считалась икра ("кавьяр"), которую большими партиями закупали северные соседи, в основном украинские казаки. Все средства производства, включая лодки и сети, татары изготавливали сами. Соль, естественно, также была местной, озерной.[169]
СОЦИАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА
Род, семья. Проблема древнего родового общества и его остатков, рудиментов, перешедших в средневековье, достаточно разработана лишь на материалах по степной части Крыма, т. е. в отношении сравнительно недавно перебравшейся в Крым части его населения. Здесь удалось даже, используя эпиграфические и иные материалы, установить имена родов, осевших в Крыму, — это Ас, Аргин, Найман, Кипчак, Конрат, Тама, Ширин, Барын, Табын, Мангыт, Китай, Ногай, Мансур, Яшлав, а также еще несколько более мелких родов (Филоненко В.И., 1928, 21).
Подобными данными о горной и предгорной части наука пока не располагает[65].
Родовое общество переселившихся в Крым ордынцев столкнулось с абсолютно иными, нежели на старой родине, природно-географическими и климатическими условиями. И если ранее экономика кочевников была экстенсивной (это было вызвано прежде всего сравнительно обширными, но скудными и безводными почвами прежних мест обитания), то теперь положение менялось по двум причинам. Во-первых, площадь годной для кочевий степи здесь была ограниченной, а во-вторых, крымская демографическая и общеэкономическая ситуация делала оптимальными совсем иные отрасли — земледельческую и пастушескую скотоводческую, что предполагало оседлый образ жизни.
И татары, как было указано выше, подчинились этим объективным закономерностям. Правда, в группах семей, осевших на землю, пока (как и в кочевом обществе) хозяйство велось сообща, и даже денежное обращение не привело поначалу в Крыму к экономической индивидуализации семей. Возможно, это объясняется немалой консервативностью уклада пастушеского общества, опиравшегося как на общность производства и его средств, так и на устойчивые кровнородственные связи. Как бы то ни было, но век всего комплекса традиционной патриархальной культуры был надолго продлен.
Крымскотатарская семья этого периода была полигамной. Мужчины имели столько жен, сколько[170] были в состоянии прокормить. Другими словами, состав и размер семьи зависели от материального достатка. Иногда в семьях встречались захваченные в набегах несвободные наложницы — сита. Дети, рождавшиеся от них, оставались в числе домочадцев. Впрочем, иногда небогатые татары, не имевшие средств для содержания детей-сита, были вынуждены продавать их, но бывало это нечасто (Люк Д., 1625, 479). При заключении брака жених уже в ту эпоху платил калым.
Подобные родовые черты уклада сохранились и позднее, когда полностью исчезли его экономическая основа и сам патриархальный, дофеодальный строй. По-прежнему сохранялось членение татарского населения на племена (аймаки) и колена, которые в свою очередь состояли из родов во главе со старейшинами. Последние избирались, получая при этом титул мурзы (искаженное "эмир-заде"). В более позднее время это звание-должность становилось наследственным аналогично западноевропейскому институту майората. Мурзы являлись и советниками хана; им вместе с беями доставалось до 30% военной добычи (Якобсон А.Л., 1973, 141). Этим, очевидно, и объясняется, кстати, большая по сравнению с основной массой татар воинственность мурз — в мирной жизни им никто и ничем не был обязан и они были вынуждены кормиться трудами рук своих.
Постепенно роды распадались, но принадлежность к ним сохранялась в памяти. Она учитывалась при различных социальных конфликтах и экономических тяжбах о привилегиях. Подобная реальная значимость традиции вела к тому, что, по словам путешественника XVII в., "нет самого невежественного татарина, который бы не знал совершенно точно, из какого рода он происходит" (цит. по: Бахрушин С., 1936, 31). Каждое колено имело свою тамгу древнего, часто еще тотемного, происхождения, но с прибавлением современного племенного имени. Тамги имела и орда — основную и используемую во время похода. Весьма знаменательно то, что тамги сохранялись (или имелись вообще?) лишь в степной части Крыма, заселенной в основном бывшими ордынцами. В горах тамг не отмечено вовсе (Филоненко В.И., 1928, 4 — 5), что лишний раз подтверждает тезис о преобладании там автохтонного населения.[171]
Живучесть родовых обычаев объяснялась и подчинением татарской массы законам древней терэ (см. ниже) в отличие, скажем, от турок, приверженных единственно шариату (отчего, в частности, дробление земель на частнособственнические, их приватизация шли гораздо активнее). В Крыму же власть терэ, этого древнего, домусульманского права, распространялась и на экономические, и на личностные отношения, была заметна повсюду. Так, от наказания за убийство можно было откупиться, но сохранялся и такой родовой пережиток, как кровная месть (родственники убитого обязаны были зарезать убийцу на могиле жертвы). Сохранялся и известный обряд фиктивного похищения невесты. И даже когда общинное владение имуществом сменило родовое, память о последнем сохранилась в обычае бесплатного кормления малоимущих и странников.
Монах Иоанн Лука пишет, что среди крымчан "нет бедняков, и, если у кого-нибудь из них нечего есть, он идет в дом, где обедают, не говоря ни слова садится за стол, затем встает и удаляется без всяких церемоний" (цит. по: Бахрушин С., 1936, 32). Пришлых было принято кормить досыта, но не в домах, как гостей, а в мечети; вообще все старые авторы единодушно хвалят большое гостеприимство и открытость татар средневековья (Люк Д., 1625, 479; Тунманн И.Э., 1936, 25).
Община. Остатки родо-племенных отношений не могли, конечно, остановить ни складывания феодальных отношений, ни распада их. Но оба этих процесса шли именно благодаря родо-племенным рудиментам в крайне заторможенном, замедленном темпе и деформированном виде. Такие старинные институты, как община, при этом сохраняли свою форму, лишь отчасти меняя содержание, т. е. беря на себя новые, продиктованные общим прогрессом функции. И вообще в складывавшейся обстановке компромиссного варианта социальноэкономического прогресса все новое неизбежно должно было принимать форму старого, традиционного. Никаких изменений в эту практику не могло внести и господство османов, стремившихся, впрочем, сохранять местные земельнорентные отношения на всех завоеванных ими территориях (Орешкова С.Ф., 1987, 191).[172]
Наиболее заметные, да и то количественные, а не качественные, перемены в этой области — дробление наделов в результате раздачи ханом земель служилому дворянству (мурзам), а также духовенству и мечетям (вакуфные наделы). Таким образом, и рост дворянского и вакуфного землевладения никак не сказывался на форме общинного землевладения. И крестьяне — частные владельцы, составлявшие общину, — по-прежнему представляли основную массу крымского населения (Никольский П.А., 1929, 7).
Крепостного права не существовало до аннексии Крыма, но и после нее были лишь попытки экономического принуждения, весьма, впрочем, скромные по сравнению с тем, что творилось в XVIII в. на соседней Украине. Нельзя же назвать крепостным правом обязанность отработать неделю в году на мурзу, бея или хана, чью землю крестьянин распахал и тем означил свою собственность на нее (Лашков Ф.Ф., 1895, 96; Сыроечковский В.Е., 1960, 15). Показательно, что сами крестьяне именовали эту повинность не "барщиной" (соответствующего понятия на татарском нет вообще), но "толокой", т. е. коллективной помощью, считая, и не без оснований, ее добровольной и основанной на многовековой традиции.
Была и еще одна повинность — десятина (ашур, ушур), но она касалась всех, и ее можно рассматривать скорее государственной, чем феодальной, — она заменяла налоги и шла на общегосударственные нужды.
Столь же традиционной была привилегия крестьян бесплатно пользоваться общинным, но формально принадлежащим феодалу (если можно так назвать крымского дворянина) выгоном и лесом. Особенно поразительно последнее право — феодалы всей Европы ревниво берегли свои леса от порубок, не говоря уже об охоте (браконьерам-крестьянам в Англии полагалась смертная казнь). Но в Крыму такое исключение вполне объяснимо — это право, как и многие другие, основывалось не на феодальном законодательстве, а на шариате или терэ. Поэтому в Крыму считалось, что все существующее на земле соизволением Аллаха, т. е. без помощи человека, в том числе и луга и лес, не может быть чьей-то исключительной собственностью, но принадлежит обществу, являясь общечеловеческим достоянием ("мюльк муштерек").[173]
Имелись и иные причины, по которым в Крыму никогда не было крепостного права. Это объясняется среди прочего отсутствием здесь единого сообщества феодалов, класса как такового, который лишь и может совместными усилиями выработать универсальные хозяйственно-правовые нормы крепостного права. Феодальная же прослойка Крыма была "рваной", дворяне здесь были разобщены политически, географически, даже социально (см. ниже).
Рассматриваемому феномену имеются и чисто экономические причины. Уже говорилось о том, что экономика сельского хозяйства Крыма шла в средние века, как и на других европейских территориях, по пути к приватизации земельной собственности, усилению частных прав на нее. Однако процесс этот по ряду причин тормозился и так и не дошел до завершения даже в эпоху накануне победы капиталистических отношений. Именно крымская община с кровнородственной спаянностью ее членов, их взаимной поддержкой и традициями взаимовыручки представляла собой крайне неудобный объект для эксплуатации при помощи крепостного права.
Наконец, сохранению общины и некрепостнических отношений активно содействовали сами ханы. Им было невыгодно усиление феодалов, и они препятствовали укреплению экономической и социальной самостоятельности дворянских родов, стремились к положению, когда бы максимальное число мурз и беев кормилось из ханских рук и было, следовательно, послушно их воле. Дворяне, кстати, тоже осознавали, что для них значило бы чрезмерное усиление ханской власти, и препятствовали по мере сил развитию абсолютизма и централизации государства в целом.
Не следует недооценивать и такой надстроечный фактор, каким была религия и политика духовенства, проводившего положения шариата в жизнь. Это также работало против крепостничества, но наиболее полно действие религиозного фактора можно продемонстрировать на истории не крестьян, а рабов Крыма.
Рабство. Заметим сразу, что эта крайняя форма личной зависимости, сознательно уничтоженная крымчанами в первых веках н. э., возродившись здесь на рубеже первого и второго тысячелетий, никогда не[174] смогла занять в Крыму прежнего положения, иметь прежнее значение в социально-экономической жизни полуострова.
Причем дело здесь было не в недостатке возможностей к возрождению рабовладельческого строя — через крымские базары проходили огромные массы "полона", и не было ни одной семьи, которая когда-либо не владела бы не единицами — десятками пленных. Но живой товар исправно уходил за рубеж, в Крыму почти не задерживаясь.
Причины неразвитости института рабства здесь были иные. Для в большинстве случаев натурального, слаботоваризованного крымского крестьянского хутора и сельского двора, этого основного первичного звена экономики, появление лишнего работника с весьма проблематичными способностями и желанием трудиться означало в первую очередь лишний рот за небогатым крестьянским столом. Рабов могло позволить себе содержать, конечно, дворянство. Но и там слуги-рабы, если они и были, использовались в основном в непроизводственной сфере (евнухи, музыканты, охрана и т. п.) — ясно, что число их значительным быть не могло.
Итак, рабов здесь было мало, и роль их в экономике была ничтожна. Это видно и из старинного крымского обычая отпускать рабов на волю через 5 — 6 лет — имеется масса записей в русских и украинских документах о возвращенцах из-за Перекопа, которые "отработались" (Сыроечковский В.Е., 1960, 16). Тех же, кто, попав в рабство, менял веру, отпускали немедленно (шариат запрещал держать в неволе мусульманина) — таких случаев также было немало, и о них есть многие письменные свидетельства (Кулаковский Ю., 1914, 132). Судя по массе источников, рабство в Крыму почти полностью исчезло уже в XVI — XVII вв.
Феодалы. Структура привилегированных прослоек ханского Крыма, основы ее были заложены еще в бытность предков части крымчан в Азии. И дальнейшее развитие институтов феодализма связано с процессом превращения личных привилегий в родовые — имеется в виду распространение прерогатив родовой власти старейшин или беев, основанной на терэ, уже не только на служилое дворянство, но и на их наследников.[175]
И второе отхождение от традиций — в Крыму Гирей впервые стали награждать своих помощников и военачальников за службу недвижимостью — землей, ценность которой со временем только возрастала. При этом хан сохранял за собой право верховного обладания территорией, а его вассалы — землями, на которых расселялись семьи их рода. Но это было владельческое право вторичного, внутреннего плана, хотя последнее постепенно становилось все более реальным, практически собственническим. Заметим, что до своего логического конца этот крайне заторможенный процесс дойти так и не успел, хотя к закату истории ханства территории беев стали принадлежать им согласно обоим элементам улусного (т. е. вотчинного) права — частному и государственному. От бывших патриархальных оно отличалось весьма перспективной новацией — территориальностью.
Практика раздачи ханом земли была освящена шариатом, наделяющим имамов правом иктаа, т. е. пожалования землей. И самое любопытное здесь то, что активнее всего раздавали недвижимость как раз самые деятельные и больше иных стремившиеся к абсолютизации и независимости своей власти над Крымом ханы: Менгли-Гирей, Сахиб-Гирей, Девлет-Гирей I, Крым-Гирей.
Постепенно все более значительным становится особого рода поземельное владение, имеющее не только социально-экономическую, но и политическую основу — бейлик. Это землевладение носило (как, впрочем, и ханское) смешанный характер, включая в свой статут как собственно бейское (у хана — государственное), так и частное, фамильное поземельное право; причем область первого была значительно обширнее второго. Уже говорилось, что на территории бейликов находились и частные владения распахавших пустошь и размежевавшихся мурз — членов бейского рода — и простых крестьян.
Будучи по сути феодальным владением, истоки которого следует искать в дружинном начале эпохи завоеваний, но под сильным воздействием патриархально-родового уклада, бейлик так и остался до конца ханства патриархально-родовым владением. Родовой стержень права здесь ощущался, например, в системе наследования: если феод переходил от отца к сыну, то бейлик — к старшему в роде. Но политические[176] права, которые давало владение бейликом, были аналогичны тем, что составляли статус владельца феода в Западной Европе. Именно это выделяло бейлик из ряда других форм крымского вотчинного права.
Чем отличалось феодальное право Крыма от соответствующих положений в других европейских государственных образованиях, так это отношениями, складывавшимися между налогоплательщиком (если можно применять этот термин в Крыму)[66] и государственным чиновником или лицом, которому было предоставлено право сбора налога в свою пользу.
Этим отношениям не свойственны такие черты западноевропейского феодализма, как наследственность и личная зависимость. Другое дело, что взимание земельного налога с подданных постепенно становится в Крыму основной формой распределения (или перераспределения) прибавочного продукта. Но происходит это лишь на заключительной фазе истории ханства, параллельно с утратой набегами и угонами своего былого значения. Взаимообусловленность этих двух процессов, впрочем, предельно ясна. И шли они на земельных владениях всех трех типов — ханском (ерз мирие), поместном бейском и мурзинском (ерз мемлекет) и — после прихода османов — султанском (ерз мирие султание).
Земельные наделы были, конечно, не единственным видом награды за службу хану. Он раздавал и наместничества в городах и целых областях ханства, жаловал торговой пошлиной с городов, уделяя своим вассалам часть московских и литовских поминков, отправляя их в качестве гонцов в ту же Москву или Литву — за добрую весть им полагался богатый подарок — сююнч.
Беи, стоявшие во главе четырех значительных родов, занимали и высшие ступени аристократической иерархии, образуя совет Карачи (караджи). Выше говорилось, что титул этот, переходя по наследству, утверждался ханом; это было обычным для всей Европы правом сеньора утверждать наследника умершего вассала в его правах и владениях. Именно в этом заключалась юридическая и экономическая зависимость родовой знати от хана.
По иному признаку выдвигались из общей массы служилые, а не родовые беи и мурзы. Главную роль[177] здесь играла близость ко двору, служение хану, а не обладание крупным улусом, являвшимся основой экономической свободы (насколько она была возможна) для родового дворянства. Хан ведь мог пожаловать за верную службу и дворянское достоинство и земли. Так, в фирмане 1548 г. Девлет-Гирея село Вор-Чакрак-Кишлав (у Яшлава) жаловалось Сулейману Ак-бею "как слуге самому примерному" (Сто дней, 79 — 80). "Верность" таких слуг гарантировалась и характером служебного землевладения — новые дворяне не могли менять сюзерена в отличие от родовых вассалов, которые нередко находили иных покровителей и оставаясь в Крыму, и эмигрируя за рубеж, и хан не мог этому воспрепятствовать.
Поэтому именно служебное, новое дворянство было основной силой, которую хан мог противопоставить, как правило, оппозиционно настроенному бейству. Это были сидевшие на его земле, по сути евшие его хлеб сельские мурзы и чиновники (хапу-калки) всех рангов — от низшего (челеби) до высшего (ага).
Вот почему феодальная прослойка была политически разобщена: у различных родов, у родового и личного дворянства были неравные шансы на возможность участвовать в управлении обществом, государством. Отсюда и упоминавшаяся выше постоянная рознь между ними. Далее, различными были их интересы и в зависимости от характера их владений; чиновники-горожане, горцы или степные скотоводы — каждый тянул "одеяло" внутренней политики на себя. Также не было единства между ними и в сфере социальных отношений. Ведь и крестьяне по-разному относились к верховному владельцу их земель в зависимости от того, получил ли он их в личное владение, или род феодала владел ими испокон веку.
Короче, многоплановая и тотальная разобщенность феодалов была причиной тому, что эта значительная прослойка не могла выработать единой политической модели ни по отношению к ханам, ни по отношению к крестьянству, о чем выше и говорилось. И если обычно как на Востоке, так и в Европе в условиях спонтанно развивавшихся феодальных отношений шел процесс перемещения различных привилегированных слоев в класс феодалов, то в Крыму процесс феодализации шел особым, деформиро[178]ванным сверху и снизу путем: ибо сверху прослойку давила разъединяющая политика ханов, а снизу разъедала антифеодальная активность сильной своими традициями крымской общины. И никакой социально-экономический прогресс ничего здесь изменить не мог — его попросту не было.
Государственный строй. Вокруг Османской империи в XV — XVII вв. сложилось немало государственных образований-данников, приносивших казне основной доход, но сохранявших в большей или меньшей мере самостоятельность во внутренней политике и управлении (Орешкова С.Ф., 1987, 198). Крым стал одним из таких буферных государств на границе с христианским миром. "Несовершенство" феодальных поземельных отношений в сочетании с развитой, хотя и разобщенной прослойкой феодалов, не слившихся в единый класс, характеризует социальную структуру Крыма как сочетание "вторичной формации" (базисом которой были крайне неразвитые, ограниченные, докрепостнические отношения) и несравненно более мощной, хорошо сохранившейся "первичной формации". Феодалы по большей части пользовались доходами не со своих земель, а крестьяне не были зависимы от них экономически, и это заставляло дворян прибегать для поддержания своего положения к весьма архаичным внеэкономическим институтам господства вроде личной гвардии.
Находившиеся в стадии формирования классовые отношения долгое время сочетались с бесклассовыми — явление нередкое на Востоке (Ким Г.Ф., 1987, 9), но не в Европе. "Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного "деспотизма" ", — писал Ф. Энгельс в "Анти-Дюринге". Конечно, в восточных государствах, основанных на завоеваниях чужой земли, осуществленных народами, не изжившими в собственной среде первобытнообщинный элемент, рудименты родового строя, иного способа господства, кроме деспотии, не практиковалось (МЭ, XXI, 301). Но в Крыму это общее правило было нарушено.
Внешне черты деспотического режима, конечно, присутствовали — к хану сходились все нити управления страной и подданными; ему подчинялась выс[179]шая духовная власть, вся мусульманская община; он не нес ответственности перед соплеменниками за свои деяния. И все же это не была деспотия, так как ханская власть ограничивалась сословными учреждениями, основным из которых был диван. Сословия могли оказывать влияние на хана и помимо дивана, и даже вопреки решениям совета. Как сообщал в 1670 г. пленный боярин В.Б. Шереметев, порядок этот в чем-то сближался с казацким (т. е. республиканским): "А дума басурманская была похожа на раду казацкую: на что хан и ближние люди приговорят, а черные юртовые люди не захотят, и то дело никакими мерами сделано не будет" (Соловьев С.М., VI, 412).
Более того, крымские феодалы могли, невзирая на волю Турции, сменять и назначать ханов. Бывали случаи, когда хана избирали, не дожидаясь султанского утверждения кандидата, а поднимая его, по ордынскому еще обычаю, на войлочной кошме. И наоборот, беи свергали и даже убивали ханов — только в XVI в. это случалось в 1523, 1524 и 1584 гг. Таким образом, нередко и утвержденный турками хан являлся на деле ставленником крымской аристократии, во всем ей послушным.
Хан мог, конечно, карать своих подданных, как истый деспот, жестоко и не делая различий между сословиями, но в отличие от того же султана лишь тогда, когда чувствовал свою безнаказанность, когда не опасался мести со стороны рода казненного. Поэтому мы не решились бы назвать его самовластие основанным, как это сказано о восточных государствах, на "демократически-деспотических началах" (Архив М. и Э., VI, 177). Поэтому-то здесь и не наблюдалось даже добуржуазной государственной централизации, что внеэкономическое принуждение не было тотальным, не доминировали и отношения личной зависимости.
Крым являл собой как бы переходную государственную форму, нечто среднее между деспотией типа турецкой (или российским самодержавием XV — XVII вв.), с одной стороны, и развитой абсолютной, но уже ограниченной монархией Западной Европы — с другой.
Государственная администрация. Хан. Структура административного аппарата ханства несла на себе отчетливый отпечаток все той же ордынской[180] терэ. И это не общее впечатление — более конкретные свидетельства такой живучести домусульманских традиций можно встретить и в обычаях, и даже в документах. Вот, например, как хан обращался к своим подданным: "Великого улуса правого и левого крыла тьмой, тысячью, сотнею, десятком начальствующим уланам, беям, внутренних городов даругам и бекам, духовным законоведцам, настоятелям, духовным судьям, ведателям метрик, секретарям, хаджи, отшельникам, сокольничим, барсникам, амбарщикам, таможенникам, весовщикам, караульным, заставщикам, ладейщикам" и т. д. (цит. по: Хартахай Ф., 1866, 205). Это почти точное повторение аналогичных документов ордынских Тохтамыша или Тимур-Кутлука. Еще в XVII в. в Крыму сохранялся ордынский термин "сююргал" (т. е. лен, коллективный суверенитет городу, дар хана чиновнику или целой административной единице). Жили и такие термины, как "юрт" (в смысле: совет Карачи, или старейшин), "улуч" (до XV в.) (Федоров-Давыдов ГЛ., 1973, 115, 116).
Конечно, отличий было гораздо больше, чем сходных с Ордой черт. Они были вызваны прежде всего двойственным характером новой, ханской власти. Чингизидский принцип преемственности с годами все больше уступает освященному мусульманской религией учению об имамате, согласно которому во главе ханства должен стоять государь или имам-халиф (преемник) Пророка и наместник Аллаха на земле, обязанный исходить в своей деятельности только из шариата и его богодухновенных положений.
Иных ограничений для власти ханов не предполагалось. Взамен хан пользовался в качестве преемника Магомета правом верховного обладания крымской землей и другими из этого права исходящими и его дополняющими привилегиями. А самой двусмысленной из последних было получение ханом ежегодного жалованья от турок, равнявшегося 10 вьюкам акчэ[67].
Экономической опорой ханского дома был его домен (ерз мирие). Он располагался при большинстве ханов в долинах Альмы, Качи и Салгира. Кроме того, хану принадлежали все соляные озера, а также необработанные земли — "меват" (пустоши). При этом лишь часть этого достояния была родовой, наследст[181]венной, которую он мог завещать, продавать, увеличивать, прирезывая купленные земли. Остальную территорию он имел право лишь раздавать своим вассалам.
Доходы ханов складывались нередко отнюдь не из поступлений от эксплуатации домена, а из общекрымской торговли трофеями набегов —2/3 вырученной суммы получал хан. Остальные деньги и натуральные продукты шли по статьям ханской подымной подати, ясака и калана (подать с оседлого населения, взимавшаяся за возделанные земли), ханской десятины с урожая хлеба и приплода скота. Христиане сверх того платили особый налог "карадж".
В качестве светского властителя хан претендовал на титул "Улуг хани" (т. е. падишах, император), подписывая документы как "Великий хан Великой Орды и Престола Крыма и Степей Кыпчака" ("Улуг Йортнинг, ве Техти Кырымнинг, ве Дешты Кыпчакнинг, Улуг хани"). Но этот пышный титул совершенно нейтрализовался аналогичными определениями, входившими в титул и султана, хотя не всегда было ясно, какой из них имеет под собой более реальную почву. Некоторые ханы смирялись с подобной двойственностью светской власти над крымскими землями, другие пытались протестовать, стремясь к свободе в своей политике.
Так, Ислам-Гирей, едва его избрали и утвердили ханом, тут же предложил великому визирю султана: "... подставляйте ухо к тому, что я буду писать. Не осаждайте меня предупредительными письмами, что с таким-то гяуром не хмуриться, такому-то показывать вид расположения, с таким-то не ладить, такого-то не огорчать, с таким-то так-то поступать, заглазно давая отсюда распоряжения по тамошним делам; не путайте меня, чтобы я знал, как мне надо действовать" (Смирнов В.Д., 1887, 321). Ниже мы увидим, что отдельные ханы могли добиваться довольно значительной самостоятельности, но происходило это отнюдь не благодаря подобным призывам.
Калга. Вторым по значению сановником был официально объявленный наследник хана — калга-султан. Постоянная резиденция калги находилась в Ак-Мечети, здесь же была его администрация. Этот принц крови получал, вступая в должность, весьма[182] значительный удел (калгалык), который включал в себя коронные земли, расположенные в верховьях Альмы, вплоть до Чатырдага, а также северный склон горы. В калгалык входили деревни Биюк-Янкой, Кючук-Янкой, Тавель и Аян. Кроме того, калга владел всей округой деревни Камтун-Кара, Зуйским кадалыком, а также половиной обширного имения Мамай-Яры в Дил-Керченском кадалыке Кефинского каймаканства.
Однако основной свой доход калга получал не с указанных земель, а от турецкого султана; это жалованье равнялось в среднем 10 вьюкам акчэ (Смирнов В.Д., 1887, 322 — 323). Кроме того, ему полагалась десятая часть воинской добычи (савча), а также доля в "дачах" Москвы и Польши.
Калгалык являлся государственной собственностью и в качестве такового не мог передаваться по наследству. И если калга жаловал какой-то участок калгалыка своему приближенному, то лишь во временное пользование ("иктаа-истиглоль"), а в случае длительного пользования этим участком временный его хозяин должен был даже продлевать поземельный ярлык у всех новых калг.
Крестьяне же калгалыка жили на правах ханских крестьян, т. е. были обязаны вносить натуральную десятину и все остальные подати.
Нуреддин. За калгой в крымской иерархии следовал нуреддин-султан; обычно это был брат хана. Он также имел свою постоянную официальную резиденцию во дворце Качи-Сарай близ села Улаклы в долине Альмы. Как и калга, нуреддин имел своего визиря, казначея — дефтердара, судью — кадия. Вообще, формально единственным отличием администрации обоих наследников от ханского двора был запрет чеканить собственную монету. Во всем остальном, даже в праве на десятину с воинской добычи, праве на суд и исполнение приговора, наследники были в своих владениях полными господами. Естественно, несколько меньше было получаемое нуреддином из Турции жалованье — всего 5 вьюков акчэ, т. е. вдвое меньшая сумма, чем у хана или калги. Правда, и расходы у нуреддина были меньше, ведь хан оплачивал из своего жалованья содержание всех чиновников ханства.[183]
Великий бей. Титул великого бея (каймакана, хана-агасы) отвечал его старому, ордынскому содержанию. В первые века ханства этот вельможа даже сохранял звание "первого князя Орды", занимая в иерархии бахчисарайской администрации третье место — после калги и нуреддина.
В задачи великого бея входило быть "оком и ухом хана", т. е. исполнять обязанности его деятельного визиря-помощника. Занимая должность, бей получал и треть годовых поминков — это была старинная его привилегия, как и обязанность командовать личной гвардией хана. Бей следил также за общественным порядком в столице и ее округе, утверждая все судебные дела, т. е. соединяя дополнительно полицейскую и юридическую верховные функции. Поэтому иногда власть каймакана даже превышала на практике компетенцию нуреддина. Так, например, он оставался в отсутствие хана его заместителем; при этом бей занимал бахчисарайский дворец и брал в свои руки всю полноту ханской власти.
Обычно же великий бей жил в одной из резиденций близ столицы, получая на ее содержание и иные траты султанское жалованье в размере около 3 тыс. золотых (Тунманн И.Э., 1936, 29).
Муфтий. Весьма своеобразный религиозно-административный пост занимал муфтий Крыма. Это был глава духовенства, верховный толкователь законов шариата. В его руках находилось назначение и смещение судей (кади), что давало ему исключительное влияние на всю общественную и экономическую жизнь населения. И если в Крым приходили ценные подарки от зарубежных правителей, то муфтий получал их наравне с ханом. Самостоятельно мог он вести и зарубежную переписку.
Муфтию, его ближайшим помощникам (сеитам) и менее значительным духовным лицам принадлежали по их сану территории в различных частях полуострова, входившие в духовный домен (ходжалык). Число деревень ходжалыка достигало двадцати. Другой формой духовного недвижимого имущества являлись вакуфные земли. Доход с каждого такого участка полностью шел на содержание какой-то определенной мечети, медресе, мектебе, приюта для одиноких стариков, иногда даже совершенно светского[184] сооружения — дороги, моста, фонтана-чешмэ и т. д.
Муфтий осуществлял верховный надзор за использованием вакуфных средств строго по назначению и следил за тем, чтобы пожертвования ханов, мурз, купцов шли на расширение вакуфа — этой экономической основы всех культурно-религиозных, а также части общественных институтов государства. Благодаря этой стороне деятельности муфтиев размер земель вакуфа (в вакуф входили не только земледельческие производственные единицы) достиг 90 тыс. десятин (Лашков Ф.Ф., 1896, 36).
Op-бек. В обязанность op-бека входило поддержание внешней безопасности государства, контроль за сохранностью его границ. Он же осуществлял постоянный надзор за всеми ордами ханства, обитавшими вне Крымского полуострова. Очевидно, именно поэтому резиденция его находилась на северной периферии, близ Перекопа, этих ворот в Крым. Задачи op-бека были многотрудны, и лишь чрезвычайная важность и ответственность их объясняет, отчего на этот пост назначались исключительно принцы крови.
Сераскиры. Сераскирами назывались князья трех ханских орд, кочевавших вне полуострова. Формально подчиняясь хану, эти вожди нередко выходили из-под его контроля, отправляясь в самочинные набеги, входя в сепаратные сношения с соседями, особенно с северокавказскими властителями. Нередко дело доходило до прямой вооруженной борьбы с ханами.
Несмотря на подобную политику сераскиров, крымские властители слишком ценили воинскую силу причерноморских орд, чтобы отказаться от попыток интригами, лестью, угрозами и подкупом держать их в русле политики, общей для всего государства. Ведь сераскиры могли вывести в поле едва ли не большее количество всадников, чем сам хан.
Ширин-беи и другие Карачи. Глава рода Ширинов уже в силу этого своего статуса официально занимал административную должность, имевшую аналогичное наименование. Ширин-бей являлся по должности старшим из четырех Карачи, был их пред[185]ставителем. Впрочем, это не значит, что он всегда защищал интересы этой высшей аристократии ханства. Нередко он придерживался перед престолом местнической, родовой политики, тем более что бейские роды почти постоянно соперничали друг с другом, а за каждым из них стояла весьма многочисленная клиентелла.
Любой мурза или ага был готов поддерживать "своего" бея, рассчитывая на земельные и иные пожалования. У аристократической олигархии, опиравшейся на мелкофеодальную вольницу, хватало сил выступать и против хана, если он нарушал дворянские интересы, причем дело было не только в чисто количественном соотношении сторонников той или иной стороны. Стамбул, заинтересованный в существовании постоянной сильной оппозиции ханам, гальванизировал старинное, восходящее к терэ равноправие Карачи и хана в вопросе престолонаследия — ведь все они были в равной мере чингизидами. Естественно, это не могло не влиять и на религиозно-политическую активность экономически зависимых от карачи и их мурз-клиентов народных масс. Да и чисто объективно беи и другие карачи могли время от времени выражать волю крупных социальных групп, в том числе и крестьян, стремясь завоевать их поддержку в своей антиханской политике.
Ширин-бей обладал и узаконенными политическими привилегиями. Он мог вести личную переписку с зарубежными политическими лидерами. Единственный из беев, он имел не только разветвленный административный аппарат, но и собственных калгу и нуреддина. Другие беи также располагали традиционными политическими привилегиями — отдельный род ведал всеми дипломатическими отношениями на одном каком-нибудь направлении. Так, род Яшлав курировал московские дела. Наконец, являясь членами дивана, карачи оказывали существенное влияние на непосредственную выработку решений во внешней и внутренней политике хана. И стоило дворянской оппозиции склонить их на свою сторону, как она без труда оказывалась в покоях бахчисарайского дворца.
Что же касается своих бейликов, то здесь, естественно, в руках беев были и суды, и финансы, и все административные институты. На своей земле они[186] были полными хозяевами. Такое исключительное положение не нужно было даже поддерживать военной силой, хотя у беев и было собственное войско (бейсерак). Сам хан писал в своих ярлыках: "... вручая сие высочайшее ханское повеление, повелеваем управлять имениями, оставляя себе бейлик до самой смерти... распоряжаться всеми фамилиями его рода и прочим населением, ограждать право, а равно собирать с бейлика разного рода доходы. Все мурзы (подчиненные бею) и прочие подданные, признавая его эмиром, должны обращаться к нему и исполнять его требования, следовать за ним, едет ли он верхом, идет ли пешком" (т. е. в дни войны или мира) (Никольский П.А., 1929, 9).
Валиде. Каким странным это ни может показаться, но в административный аппарат мусульманского ханства входили и женщины, что было весьма необычным для ряда христианских государств эпохи. Так, например, имелась должность валиде, официально уступавшая иерархически лишь калге. И влиянием своим на хана валиде могла соперничать е каймаканом, так как на должность эту обычно назначалась мать правящего Гирея.
В случае смерти валиде должность ее могла быть передана ее сестре или иной близкой родственнице хана. Валиде имела скромный, но целиком от нее зависимый круг придворных, а ханская казна ежегодно отчисляла ей весьма солидную сумму в звонкой монете и натуральных припасах.
Диван. В Крыму диваном назывался своего рода государственный совет, в ведении которого были важные политические проблемы, а также внутренние вопросы, не подлежавшие юрисдикции сословных судов или кадиев. Французский путешественник Пайсонель, присутствовавший на заседании дивана, перечислил его членов по убывающей их иерархических достоинств в следующем порядке: калга, нуреддин, Ширин-бей, муфтий, четверо беев-карачи, кадиаскер, op-бек, сераскиры трех орд, казнадар-баши, дефтердар-баши, актачи-баши, хан-агасы (визирь), килларджи-баши и т. д. (Пайсонель, III, II, 289). Подобный порядок мог со временем меняться, но в целом он приблизительно верен.[187]
Лучшее свидетельство реального значения дивана в жизни ханства — это его право определять размер содержания, выделяемого на ханский двор и дворец. Далее, диван, и никто иной, решал вопрос о необходимости очередного похода и количестве потребного войска. Кстати, само войско выставлялось в большей своей части теми же беями — членами дивана, да и на знаменах отдельных отрядов красовалась не ханская, а бейская родовая тамга.
Решения дивана были обязательны для всех татар независимо от кворума собиравшихся на совет. Но бывали случаи, когда хан вообще не мог собрать диван: его члены не являлись, чтобы парализовать проведение в жизнь той или иной инициативы Гирея.
Зависимость ханства от Турции. Придя в Крым, османы завладели его юго-восточной береговой и предгорной частью — от Инкермана до Кафы, составлявшей едва1/10 территории полуострова, даже учитывая занятые турецкими гарнизонами крепости Перекоп, Гёзлёв, Арабат и Еникале. Получив, таким образом, в свое владение важнейшие прибрежные стратегические опорные пункты, султан не мог силой даже небольших янычарских гарнизонов контролировать всю военно-политическую обстановку в ханстве.
Менгли-Гирей подчинился султану добровольно, на условиях, которые, очевидно, были обговорены им с Мухаммедом П. Хотя вряд ли правы некоторые авторы (напр., Хартахай Ф., 1866, 201), считавшие, что здесь был заключен формальный договор о вассалитете Крыма. Скорее вассальные эти отношения устанавливались более или менее спонтанно в зависимости от конкретного положения обоих государств на данный момент. Так, при первых Гиреях — вассалах Турции — они выражались в постоянном безнаказанном нарушении турками чингизидской терэ, конкретно — в праве наследования престола.
В своей крымской форме этот ордынский кодекс предполагал, как указывалось выше, избрание нового хана строго по старшинству. Следовательно, чаще таким кандидатом становился не сын, а брат прежнего хана. Турки же, придерживавшиеся шариата в его чистом виде, нередко выдвигали на этот пост какого-нибудь из ханских сыновей. Они постоянно держали[188] у себя в Стамбуле одного или даже нескольких из них под предлогом получения образования и вообще воспитания при дворе наместника Аллаха. На деле же они разжигали в юных принцах крови жажду власти, соблазняя их вполне реальной возможностью рано или поздно отведать "халвы властительства".
Вообще об этой проблеме будет сказано подробнее в другом месте; здесь же заметим, что если терэ не оставляла места сомнениям в выборе нового хана, то турецкое вмешательство делало споры о престолонаследии по сути перманентными. Причем если в других местах обычно в тронных интригах имел место конфликт между отцом и сыном, то в Крыму — между племянником и его дядей.
Нельзя сказать, чтобы крымчане воспринимали внедрение законов шариата безропотно. И если турки, понимая опасность национального единения татар в заморской провинции, всячески ему препятствовали, избрав орудием шариат, то татары с не меньшим упорством этому сопротивлялись. И даже если на бахчисарайском троне оказывался послушный Порте хан, безропотно обещавший ей любую поддержку, то взамен он просил, как правило, прежде всего разрешения сохранить освященный временем и традицией закон терэ, в частности порядок выбора хана, калги и нуреддина.
Там же, где терэ не противоречила шариату, ханы, конечно, оставались правоверными мусульманами. Более того, ценя эту религию как опору своей власти, обоснование ее законности и необходимости, они уделяли немало внимания тому, что сейчас называют "религиозной пропагандой". Казалось бы, мелочь, но каждый новый хан, прибывая от султана с атрибутами власти, ступал на крымскую землю в строго определенном месте. Причем не в наиболее близком к Бахчисараю порту Ахтиаре (быв. Херсонес), а в Гёзлёве, где уже в середине XV в. высилась соборная мечеть, занимавшая особое место среди мусульманских святынь (см. ниже).
Так, например, Менгли-Гирей остановился в 1478 г. здесь в своем дворце и лишь после того, как была отслужена при стечении массы правоверных торжественная служба, отправился в Бахчисарай в сопровождении местного дворянства и духовенства.
Кстати, с той же целью, т. е. укрепления трона, этот[189] хан учредил сан и должность калги — нововведение, ничего общего с исламской идеологией не имеющее. Оно сохранилось после смерти этого хана, и, казалось бы, теперь путь к вмешательству Стамбула в дела крымского престолонаследия был закрыт — ведь хан сам мог назначить себе преемника. Однако при наследниках великого хана, как правило уступавших ему в уме и дальновидности, институт преемничества стал использоваться с диаметрально противоположной целью (впрочем, возможно, не вполне по их вине). Султаны неоднократно назначали и калгу, и даже нуреддина по своей воле, отчего признавший этот выбор хан расписывался в отказе от собственной линии как во внешней, так и во внутренней политике — в противном случае его смещение Стамбулом становилось делом чистой техники.
Ну а что касается первого крымского калги, затем хана Мухаммед-Гирея, то он как бы в насмешку над стремлением Менгли укрепить таким образом престол Гиреев был в 1523 г. зарезан вместе с очередным калгой. Причем свершили это двойное убийство сами крымские аристократы, создавшие с этой целью комплот из беев-оппозиционеров. Не исключено, конечно, что они были связаны со Стамбулом, тут же приславшим воспитывавшегося до того при султанском дворе нового хана Сеадет-Гирея. То, что он был сыном погибшего в Крыму Мухаммеда, никакой роли, конечно, не играло: его постфактум "избрали" на трон те же беи, что убили отца. О тех чувствах, которые испытывал при этом, да и впоследствии к своему дивану Сеадет-Гирей, можно только догадываться...
Как видно, "избрание" хана беями стало отныне простой формальностью. Но и она была отменена чуть позже, в 1584 г., при утверждении на троне Ислам-Гирея, кстати первого, при ком на торжественных службах в мечетях имя султана стало упоминаться до имени властителя Крыма. Отныне султану было достаточно прислать из-за моря одному из беев ханские аксессуары (почетную соболью шубу, саблю и шапку), а также хаттишериф (указ), как правящий хан безропотно уступал место избраннику Порты и готовился в дальний путь. Чаще всего — на о. Родос, обычное место ссылки опальных вассалов султана.
Чем же руководствовались турки, устраивая подобную бесконечную чехарду? Прежде всего тем, что[190]бы у власти не оказался хан, пользующийся единодушной поддержкой татар, популярный среди крымчан. Так, например, Мюрад-Гирей (1678 — 1683), который был весьма авторитетен как среди дворян, так и среди простого народа благодаря своей удачной независимой политике, а также из-за приверженности к древним традициям (он поддерживал чингизидекие обычаи, причем открыто), был снят Стамбулом именно за это. Однако, когда выяснилось, что место столь популярного в народе государя не осмеливается добровольно занять ни один бей, турки решили назначить преемника силой. Избрали они при этом Хаджи-Гирея I, руководясь единственно важным для них аргументом в пользу последнего — крайней неприязнью к нему крымчан, которые, между прочим, и свергли его через полгода.
И это далеко не единственный пример нарушения населением Крыма установленного Стамбулом порядка. Таких случаев было много, хотя действующие лица менялись (ими могли быть и аристократы, и массы простого народа), как менялся и сценарий переворотов. Вообще тема ханского правления в Крыму очень сложная, и выводить какие-то закономерности без специального исследования мы не решились бы. Как и безапелляционно заявлять, что "крымские ханы являлись простыми чиновниками турецкого султана, которых он менял как перчатки (Надинский П.Н., 1957, 67).
Значение турецкого верховенства для крымской государственности. Столь же сложен вопрос, почему Крым ханского периода так и не стал правильно организованным государством, отвечавшим требованиям современности. Самый общий, лежащий на поверхности ответ ("тому виной турецкое господство" и т. д.) страдает недостатком именно своей поверхностности, предельной универсальности. Его вполне можно применить к любой турецкой провинции этой эпохи, но ведь положение каждой из них глубоко отличалось от ситуации, в которой оказался с турецким нашествием Крым. Попытаемся поэтому выявить хотя бы основные особенности этой ситуации, основные факторы, деформировавшие Крым как государство в течение "турецкого" периода его истории.
Прежде всего нужно учитывать, что Крым в от[191]личие от большинства вассалов Турции был мусульманским государством и управляли им, во-первых. мусульмане, а во-вторых, природные крымчане. На первый взгляд это должно было укреплять государственные начала страны, но на деле в этом обстоятельстве немалая доля их слабости. Для большинства средневекового населения Крыма в отличие от других, христианских провинций Турции ислам и шариат являлись непререкаемым руководством в жизни, определявшим модель их социальноэкономической и, что здесь важнее, политической активности. Поэтому они должны были признавать верховенство султана по отношению к хану-земляку не только из-за сложившихся в результате завоевания Крыма реальных отношений вассалитета, но и исходя из религиозно-правовых положений, согласно которым султан являлся верховным халифом. И именно в честь султана, а не хана по пятницам в крымских мечетях совершалась торжественная хутба. Да и сами ханы признавали верховенство султанов, давая им при вступлении на престол вполне земную клятву сражаться в любой войне на стороне Турции. Дополнительным, но весьма реальным аргументом в пользу весомости светского, т. е. военно-политического, превосходства султанской власти были упоминавшиеся выше турецкие крепости, весь турецкий домен в Крыму.
Верное в целом суждение о том, что султаны своевольно избирали на крымский престол послушных им ханов и с помощью этих марионеток успешно сдерживали государственное развитие Крыма[68], нуждается в весьма важном дополнении, также свидетельствующем о своеобразии — на сей раз внутриполитическом — средневековой крымской действительности.
Во многом османам помогали и даже активизировали их антикрымскую политику сами крымские татары. Вернее, те из них, кто оказывались способными принести общенациональные интересы единства и мощи государства в жертву собственным эгоистическим интересам. Неважно, какого плана были эти интересы — чисто экономического или династического, личного или родового, но объективно они шли во вред Крыму, и в этом аспекте мы их рассматриваем.[192]
Упоминание о неблаговидной роли в ослаблении Крыма, которую играла часть самих татар, может выглядеть в устах некрымских историков предвзятым, как одна из, увы, нередких голословных попыток обвинить в бедах татарского народа самих татар или представить хоть немного в более выгодном свете врагов крымского народа. Поэтому обратимся к наследию историка, которого трудно обвинить в антикрымских настроениях, поскольку он сам — коренной крымчанин. Мы имеем в виду труды Мухаммед-Гирея, племянника уже известного читателю хана Сеадет-Гирея.
Вот как описывает этот татарский историк некоторые важные стороны государственной жизни, которой он был непосредственным свидетелем: "Возьмут (турки), привезут одного султана (т. е. наследника. — В.В.) из ханских царевичей и с почетом и уважением делают ханом в Крыму. Становящийся ханом... с великим визирем заключает договор, по которому они обязываются употреблять всевозможно старания, чтобы помогать друг другу в войне. Дав это слово, становящийся ханом счастливец отправляется в свои крымские владения... Но когда буйные или безрассудные из обитателей Крымского государства захотят двинуться, а хан не изъявит на это своего согласия, то, как только он попытается которых-нибудь из них взять в руки и подчинить своей власти, остальные дураки соберутся на сходку и составят представление, которое и отправят с одним или двумя негодяями к Двери Счастья (т. е. в Порту. — В.В.). Конечный смысл этого представления очень скверный: "Мы, мол, не желаем этого хана". Напишут также одну-две кляузы... в Высокой Порте эти представления принимают без разбора, не исследуя ни главного, ни частного, а потом сейчас же шлют какого-нибудь кападжи-баши с фирманом и отрешают хана в отставку. А того не знают, что ханы тоже из древнего царского рода; что они также Тень Божья... что по священному закону Мухаммедову царям отставку давать не так легко: надо чтоб они были нечестивцы... отрешение же хана по словам каких-нибудь мятежников татарских есть чистое бесславие... А тут из Порты между тем привезут какого-нибудь несчастного и с почетом и помпой делают в Крыму ханом... а становящиеся ханами по необходимости за[193]бывают свой долг... предаются изысканию средств против собственной немочи. Из боязни за собственное благополучие они не решаются поступать вопреки нраву беков и мурз, даже и виду в этом не показывают. Снискиваемые ими деньги и благосостояние отдают им, живя под сенью их охраны и мороча пустые головы татарских народцев, тоже носят ханское звание, да и как иначе возможно быть самостоятельным падишахом?" (цит. по: Смирнов В.Д., 1887, 316).
Столь обширная цитата имеет одно обоснование — она абсолютно точно отражает крымско-турецкие отношения рассматриваемого периода. Сюда следует лишь добавить, что в отличие от беев лично хан был едва ли не совершенно беззащитен — его охранял в мирное время лишь отряд янычар, пользовавшихся правами экстерриториальности и поэтому нередко "грубивших" (там же, 324). Бейская же оппозиция имела, как указывалось выше, постоянную гвардию, что делало любой антиханский комплот неуязвимым. У беев было даже традиционное место сбора для выступлений против ханов — Ак-Кая, близ Карасубазара.
Подобное положение ханов, несмотря на всю его сложность, прекрасно понимали их подданные, и это дополнительно подрывало ханские авторитет и власть. Более того, подобная ситуация эхом откликалась во всех без исключения сферах жизни крымчан, лишала их надежды на стабильность не только политическую, но и социально-экономическую. В результате естественный для любого народа путь к социально-экономическому прогрессу деформировался. Государственное развитие было по сути парализовано в течение всего "турецкого" периода еще по одной причине — психологической. Крымчане, в массе своей буквально "задерганные" постоянными турецкими вмешательствами, не могли даже наметить каких-либо конструктивных программ развития, не говоря уже о возможности выполнения самых скромных планов, как правило не соответствующих турецкой политике всяческого подавления личной инициативы и государственной самостоятельности своих крымских вассалов.
Османы и проблема татарских набегов. Некоторые исследователи, касаясь проблемы крымских[194] набегов, утверждают, что мирные, торговые отношения между татарами и их северными соседями, славянами, с самого начала складывались как нельзя более перспективно и взаимовыгодно: "... истощив свои силы во внутренней борьбе, они (татары) жаждали только покоя и другого идеала, кроме мирной пастушеской жизни, не видели", но с приходом в Крым турок мирная "политика крымцев переменилась в отношении христиан и приняла противоположный прежней политике характер", причиной чему был "тот фанатизм, который привили татарам покорители Крымского юрта турки" (Эварницкий Д.И., 1892, I, 393). Да и первый поход на русские земли был совершен не в дотурецкое время, а лишь в правление сына Менгли-Гирея, Мухаммеда, преступившего заветы отца, поддерживавшего всю жизнь самые добрые отношения с царем (Ерофеев И., 1907, 85).
Вспомнив же вышеприведенные данные о том, что ханы весьма долго не воспринимали богатый опыт в работорговле вначале русских, а затем крымских генуэзцев, мы неизбежно придем к выводу, что и в этом промысле их стимулировали все те же турки, гаремам которых "понадобилась масса невольников обоего пола, особенно молодых девушек и мальчиков" (Эварницкий Д.И., там же).
Проблема крымской работорговли. Что же касается системы сбыта рабов, то она представляла собой длинную цепь, в которой крымский хан был лишь первым звеном, а последние терялись в других странах, часто весьма отдаленных, — рабов везли "в Константинополь, в Азию, в Европу, на Восток и на Запад" (РИО, 1844, 167).
Самыми крупными покупателями на кафинском и гёзлёвском базарах были кроме турок итальянцы, берберы и испанцы (Кулаковский Ю., 1914, 131). То есть в эту цепь входили куда более цивилизованные по сравнению с "хищным, варварским" Крымом державы, давно уже поднявшие свою экономику до высшего мирового уровня. Вспомним: "Между Фрисляндией и Шельдой лежит пиратская страна" — это строки о Голландии, самой передовой буржуазной державе Европы на протяжении ряда веков, стране с высокоразвитой техникой и сельским хозяйством, казалось бы не нуждавшейся,[195] как полу- (чуть ли не до-) феодальный Крым, в этом допотопном промысле, но не гнушавшейся работорговлей и в Новое время. Разница здесь была лишь в том, что голландские и североамериканские торговцы "черным деревом" промышляли в безвестных землях и перевозили в трюмах негров. Татары же продавали всем желающим уроженцев Восточной Европы — вот откуда их репутация "разбойников". Казаки, которые в XVIII в. участвовали в кровавых походах по Лифляндии карателей фельдмаршала Б.П. Шереметева, торговали мирными жителями этой провинции. Но, поставляя лифляндцев на те же рынки Кафы и Гёзлёва, они, естественно, такой репутации у наших авторов не заслуживали. Очевидно, не в последнюю очередь оттого, что умыкали каких-то "чухонцев". Татары же захватывали не только поляков и литву, но и украинцев, и русских, а это вещи разные. И негодование отечественных ученых на "разбойничьи набеги татарской орды, особенно (?!) на Московское государство" (Якобсон А.Л., 1973, 141) вполне понятно...
Работорговля как феномен всемирного распространения ныне прочно забыта, и вспоминают о ней лишь тогда, когда требуется оправдать праведный гнев "большого брата" на современных татар, выражающийся в очередных акциях, идущих вразрез с декларативным интернационализмом. Сейчас актуальны, повторяем, совсем иные виды торговли, являющиеся преступлением против человечества, — например, наркотиками. Но никому не приходит в голову обратить публицистический гнев на начальное звено цепи наркобизнеса. То, что основная вина лежит не на темных, забитых крестьянах "золотого треугольника", выращивающих мак, а на дельцах более цивилизованного мира, ясно любому школьнику. Аналогичная же ситуация, сложившаяся несколько веков назад в Причерноморье, настолько, очевидно, "запутанна", что разобраться в ней до сих пор не могут и самые компетентные специалисты-историки...
Войны Крыма. Войны, которые вели ханы в XV — XVIII вв. со своими соседями, обычно называют агрессивными — утверждение, с которым без серьезных оговорок согласиться невозможно. Во-первых, можно[196] ли называть агрессорами наемников, которым платили и которых направляли на своих врагов соперничавшие Турция,
Москва, Литва, Польша, Запорожье? Случаев же этих множество; были примеры и использования татар во внутринациональных конфликтах[69] — это что, тоже агрессия?
Во-вторых, до сих пор не проведено глубокое объективное научное исследование действительных причин всех войн, что вели в указанный период Крым и его соседи. Сделанные же доныне общие выводы по этому поводу грешат предвзятостью и непоследовательностью.
Весьма показательно в этом отношении исследование А.Б. Кузнецова (1979). Работа, основанная на старых трудах русских и советских ученых, которые, по признанию автора, касаются лишь "отдельных сторон" большой крымской темы, претендует на "обобщающее" значение, на выявление "основных аспектов политики Крымского ханства в Восточной Европе вообще и в отношении России в частности" (с. 62) и уже поэтому заслуживает внимательного изучения.
Выводы, к которым приходит А.Б. Кузнецов, весьма знаменательны. Один из них — о том, что в Бахчисарае уже в XV в. были выработаны по отношению к России некие конкретные "захватнические планы", апробированные Турцией (с. 63), что позднее возникли агрессивные коалиция Вильно — Крым, "ось" Казань — Бахчисарай и т. п. (с. 64 — 65), имевшие ту же перманентную программу. Есть вывод и о "широком плане турецко-крымской экспансии" за счет России (с. 66), и о том, что даже поход Мухаммед-Гирея в 1521 г. имел целью "создать плацдарм (?!) для нового удара по России с юго-запада" (с. 69). При этом автора не смущает полное отсутствие документальных подтверждений существования этих планов. Но это, как говорится, мелочь.
Очевидно, историк имеет право и на умозрительные выводы, точнее — гипотезы. Не будучи даже поддержаны источниками, они обычно основываются на анализе реальных действий исторических лиц и народов. Но политика Гиреев также не "соответствует" выкладкам нашего автора. Ханы неоднократно брали русские города (в том числе не только Киев, но и Москву), однако после этого неукоснительно остав[197]ляли эти территории, причем совершенно добровольно. И когда однажды хан обещал калмыкам "расплатиться" с ними русскими городами, то московский дьяк разочаровал азиатов: "Это дело нестаточное, потому что крымцы не только города, и малой деревни никогда у нас не брали" (т. е. не отбирали навсегда. — В.В.) (Соловьев С.М., VI, 579). И старый дьяк был прав, сумев, в отличие от современных ученых, отделить кратковременный набег от похода с целью захвата и аннексии чужой земли. Да, крымские набеги были удивительной "экспансией", она не имеет аналогов ни в догиреевской (вспомним 300-летнее монгольское иго), ни особенно в послегиреевской истории попыток завоевать Россию. Интересно, как бы владели несколько десятков тысяч кочевников огромной страной, если они и Крым-то не смогли уберечь от турецкой агрессии?
Наиболее, на наш взгляд, прав исследователь внешней политики ханства в XVII в. А.А. Новосельский, изучивший, в отличие от А.Б. Кузнецова, огромные документальные комплексы. Он пришел к недвусмысленному выводу: "Крымцы действовали совершенно самостоятельно и даже иногда вразрез с планами турецкого правительства" (1948, 422), т. е. не было общей программы агрессии. Об отсутствии какого-то постоянного собственного стратегического плана борьбы с Москвой говорит и их тактика — татарские набеги "были довольно слабыми, совершались небольшими силами и не проникали глубоко внутрь страны", "были делом частной инициативы отдельных вожаков", "отсюда полная распыленность и бессвязность действий татарских отрядов", чьи действия "не были рассчитаны на совершение крупных операций" (там же, 158)[70].
В целом же если сравнить различные подходы к этой теме, то, начиная с В.Д. Смирнова, творчество историков можно разделить на два направления. Первое основано на убеждении, что Крым с 1470-х гг. был послушным вассалом Турции. Сторонники второго утверждают, что политика ханов имела две тенденции: связанную с вассальными отношениями и — наоборот — вытекавшую из стремления крымчан к самостоятельности, т. е. антитурецкую (подробнее см.: Греков И.Б., 1979, 302).
Автор этих строк склоняется ко второй точке зре[198]ния, считая, что ее необходимо лишь дополнить следующим замечанием. Определение политики Крыма по отношению к Турции на протяжении сколько-нибудь значительного периода вообще невозможно, если мы хотим достичь при этом достаточной степени обобщения. Относительно же войн и дипломатии каждого отдельно взятого хана нужно привлекать к исследованию не только эти внешние проявления его политики, но и социально-экономическое и международное положение ханства в этот период и, более того, такие данные, как личные качества хана, султана, царя и т. д., направление их личной политики, степень поддержки правителей широкими массами и феодалами. Мог играть важную роль в крымской политике и такой малозаметный фактор, как малолетство султана (1640-е гг.) и т. п.
Таким образом, истина, как это часто бывает, лежит посредине двух упомянутых историографических направлений. Крым нельзя считать ни послушным исполнителем воли султана, ни постоянным врагом стамбульского сюзерена, стремящимся к свободе. Он выступал в роли то первого, то второго — целиком в зависимости от конкретных условий. Подобный, не вполне обычный вывод можно сделать, лишь принимая во внимание уникальное географическое, демографическое, социально-экономическое и политическое положение ханства.
Это не означает, что следует игнорировать общие положения науки, например, о сложном, двойственном характере политики вообще всех восточных стран, от Крыма до Японии. Ведь политика эта вела как к войнам агрессивным, диктовавшимся интересами феодалов, так и к чисто оборонительным, "порожденным начавшимся колониальным натиском Запада" (Ким Г.Ф., 1987, 12). Бесспорно, что при всей своей "стопроцентной агрессивности" Крым не приобрел в рассматриваемый период ни пяди земли, несмотря на слабую защищенность и даже незаселенность ряда территорий Северного Причерноморья. Напротив, именно в эти века все более усиливается натиск на крымчан их соседей, особенно христианских, где уже тогда всячески "раздувались антимусульманские страсти" (Усманов М.А., 1985, 182). Готовились не простые набеги, а та тотальная ликвидация ханства, что получила выражение в конце[199] XVII в., когда Москва откровенно выдвинула ультиматум о полном выселении крымского населения в Анатолию и передаче безлюдного (!) полуострова русским (см. ниже).
До этого было еще далеко, но и за много десятков лет татары смогли провидеть такой исход русской политики. И абсолютно прав советский ученый, который пришел к выводу, что войны Крымского ханства были лишь следствием "острого конфликта, который продолжал углубляться по мере продвижения русских границ на юг" (Флоря Б.Н., 1979, 71), т. е. в целом порождались безудержной московской агрессивной экспансией.
Вполне точен вывод и другого ученого (которого также тяжело заподозрить в стремлении "оправдать" внешнюю политику мусульман), согласно которому для татар и турок войны с целью ослабления русских были "отнюдь не самоцель, а лишь способ выравнивания сил между Москвой и Варшавой, средство поддержания равновесия между ними" (Греков И.Б., 1979, 311). Другими словами, Крым в своей политике придерживался общеевропейской теории "баланса", столь характерной именно для XVII — XVIII вв.
"Поминки". Если войн с татарами, многочисленными, умелыми, дисциплинированными воинами, соседи по возможности старались избежать, то и союз с ними ценился весьма высоко как в Европе, так и в Азии Лучшим же средством гарантировать себе мир с Крымом и даже его поддержку с давних времен считались ежегодные подарки ("поминки" — по русской терминологии).
Тема "поминков" вообще сложна и научно также мало разработана. Довольно часто сам термин этот трактуется как "дань", хотя точнее было бы характеризовать его как "откуп", отчисляемый татарам их соседями, предпочитающими экономическое разрешение проблем военному или просто не имеющими возможности противостоять военной угрозе силой. Но была у "поминков" и еще одна немаловажная функция. Хан получал их на том условии, что выступит против врагов плательщика в качестве его союзника. Так, русские платили хану за поход на Литву, и татары честно исполняли свой долг. "И ныне за тебя день и ночь сечемся и помогаем", — доносил крымский[200] бей Халил Василию III (Сыроечковский В.Е., 1940, 49). Но бывала такая помощь и чисто демонстративной — с целью выклянчить "поминки" за мнимые услуги — так, бей Аппак писал ханскому сыну Алпаку, обиженному отсутствием "поминков": "И ты бы хотя один месяц короля повоевал, посмотрел бы еси, что бы тебе великий князь прислал" (там же).
"Поминки" использовались и как средство наказания татар даже за мелкие промахи (скажем, Байраша-бея лишили их за то, что он поленился проводить московских послов до Перекопа). Более серьезная сфера применения их — на переговорах, когда русские послы получали инструкцию отказывать в "поминках" тем членам дивана, которые будут противиться московским предложениям.
Существовали и дани, правда незначительные, которые можно рассматривать как прямое наследие владычества Золотой Орды над Русью, — городовые и посошные налоги, впрочем, и их можно причислить к "поминкам".
Размер "поминков" менялся слабо, проявляя некоторую тенденцию к росту. Так, в 1614 г. Москва должна была уплатить 7,3 тыс. руб., а в 1640-х — уже 12 тыс. Тем не менее московские князья и не помышляли отказаться платить этот откуп: слишком велика была опасность неминуемого татарского вторжения, которого внутренне опасалась и Турция (см. ниже). Ведь общее число ханского воинства вместе с ордами могло в случае необходимости достичь и 100, и более тысяч. И 10 в среднем тысяч было недорого за такую силу.
Приведем в качестве примера диалог между будущим султаном Селимом I и его визирем. На вопрос первого, кто самый опасный из врагов Турции, вельможа ответил, что это могучая Персия. "Нет, — возразил Селим, — врешь, ты ошибаешься: я больше всего опасаюсь татар, потому что если они пустятся, то в один день сделают пятишестидневную дорогу; а если побегут, то таким же образом мчатся. Особенно важно то, что их лошадям не нужно ни подков, ни гвоздей, ни фуража; когда они встречают глубокие реки, то не дожидаются, как наши войска, лодок. Пища их, как и самое тело, невелика; а что они не хлопочут о комфорте, это только доказывает их силу" (Смирнов В.Д., 1887, 381 — 382).[201]
VI. КРЫМ В XVI — СЕРЕДИНЕ XVII в.
Этот период, малопримечательный внешне, характерен глубокими внутренними катаклизмами в истории Крыма и крымских татар. Растет население полуострова, развиваются его связи с внешним миром, кочевое скотоводство все шире замещается земледелием и пастушеским животноводством. Татарские и иностранные зодчие создают прекрасные образцы гражданской и церковной архитектуры, растут и укрепляются города, появляются новые селения и крепости.
Между тем от этой эпохи сохранилось сравнительно немного главных источников — документов о повседневной жизни, духовном мире и экономической деятельности основной части населения — татар, занятых непосредственно в производственной сфере, трудящихся масс. Именно поэтому автор вынужден в данной главе освещать историю народа в основном через историю его правителей. Прием не новый (вспомним хотя бы "Жизнь двенадцати цезарей" Светония или "Мартовские иды" Т. Уайлдера) и, за некоторыми издержками, в целом оправданный. Ведь и хан, и его приближенные, не говоря уже о его войске, тоже часть народа, к тому же довольно активная.
Автор не ставит себе задачей представить здесь дела и дни всех без исключения владык XVI — XVII вв., но лишь ярчайших из них, причем в деяниях, имевших значение не только и не столько для дома Гиреев, но и для всего народа.
Вглядимся же в проступающую из тумана крымской старины чреду лиц, вереницу ханов, которых судьба вознесла высоко над массой их современников, вслушаемся в еще доносящиеся до нас их немногословные откровения, постараемся понять их поступки и, если удастся, проникнуть в мир убеждений и устремлений человека средневековья, услышать не только скрип сохи и щелканье пастушеского бича, но[202] и гул военных пожаров эпохи, принесших неисчислимые беды и страдания как татарам, так и их соседям.
МУХАММЕД-ГИРЕЙ (1515 — 1523)
В предыдущем разделе нами была довольно подробно рассмотрена история прихода к власти Менгли-Гирея, отмечено и какую цену пришлось за это заплатить не только хану, но и его крымским соплеменникам и множеству их потомков, попавших в вассальную зависимость от турок на два с лишним века.
Подобной дилеммы — отказ от трона или трон, но под эгидой турок — перед сыном Менгли не стояло. У Мухаммед-Гирея внимание было устремлено в противоположную от Стамбула сторону — к Астрахани. Именно отсюда в начале правления нового хана все чаще отправляются летучие отряды кочевников, нарушающие границы ханства, угоняющие отары овец, а нередко и табуны лошадей в заволжские степи. Возможными союзниками татар в борьбе с астраханскими ордами могли быть Москва или Литва (но не обе — по причине их взаимной вражды). Однако Мухаммед не только пытается лавировать между ними, не желая упустить ни одну, но и стремится усилиться за счет казанских татар, выдвигая на престол своего человека — Абдул-Латыфа.
Этот взрыв политической активности Крыма ни к чему не привел, возможно, именно из-за разбросанности, нечеткости программы Мухаммеда. Против проведения ее выступил Стамбул. Почувствовав, что трон пошатнулся, в Крыму с 1519 г. открыто выступает новый претендент — бей ширинский, поддерживаемый казанскими и касимовскими Ширинами.
Тем не менее Мухаммеду удалось достичь значительных успехов. В 1521 г. престол в Казани занял его брат, Сагиб-Гирей, а весной 1523 г. под ударами крымских войск пала Астрахань. Мухаммед был, как никогда, близок к великой цели — объединению трех государств под бунчуком Гиреев и покровительством Турецкой империи, где к тому времени на трон взошел благосклонно относившийся к Крыму Сулейман I. Однако по нелепой случайности победа обер[203]нулась поражением крымчан. Хан был выманен из Астрахани ногайцами и зарезан вместе с калгой, нуреддином и другими приближенными. Потом ногайцы ворвались в Крым и в течение месяца опустошали его города и села.
Это было великое разорение, в пламени которого погибло почти все татарское население степи и предгорий. Именно они приняли основной удар завоевателя — в горы кочевники не поднялись. Русский посол Колычев сообщал, что татар вообще осталось не более 15 тыс. (Сыроечковский В.Е., 1940, 58). Возможно, это преувеличение, но оно отразило важнейшее в истории крымских татар событие. Произошла первая селекция этноса, в результате которой погибло большинство степняков, появившихся в Крыму в XIII в., т. е. монголоидов в массе, а аборигенное население почти не пострадало.
Престол занял Кази-Гирей, но общим ослаблением Крыма воспользовалась бейская оппозиция. Один из них, Ширин, отправился в Стамбул, где униженно просил султана дать им нового хана. Тот послал своего приверженца, сына покойного Мухаммеда, Сеадет-Гирея в сопровождении янычар, общее число которых в Крыму достигло 20 тыс. — как могли им сопротивляться остатки татар степи и аполитичное население гор?
СЕАДЕТ-ГИРЕЙ И НОВОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ КРЫМА
Начало правления этого хана было омрачено распрей с беями, с теми же Ширинами, что ранее звали его на ханство. Но это был последний всплеск активности некогда могучего рода — Ширины явно сходили со сцены, хотя еще долго претендовали на первенство среди беев.
Вторая перемена, связанная с правлением Сеадета, — это резкое усиление турецких войск в Крыму. Изменился благодаря этому и статус Крыма — теперь даже формально хана не избирали татары, он должен был назначаться султаном. Значение терэ стало минимальным, почти исчезло. И Сеадет, и другие преемники Менгли-Гирея не обладали, как правило, ни дипломатическим искусством великого хана, ни его[204] тактом, которые позволяли ему в течение всего своего долгого правления поддерживать нормальные отношения с Турцией и фактически почти независимый статус Крыма. Единственное, на что мог Сеадет опираться в своей "турецкой" политике, — это личные довольно теплые отношения с султаном и стамбульским двором в целом. Возможно, этому содействовала и ученость хана: "получивший образование в Стамбуле и привыкший к оседлому образу жизни", он хотел видеть то же самое у татар, но, "как человек кроткого нрава", хотевший достичь этого "собственным примером утонченности и вежливости", ничего сделать со своими беями, людьми довольно дикого нрава, он не смог. Отчаявшись в своем стремлении преобразовать татар, Сеадет добровольно оставил престол, а затем под нажимом беев, презиравших его как "либерала", уехал в Турцию (Хартахай Ф., 1886, 206).
Теперь ханство впервые попало в столь жесткую зависимость, смягчать которую в дальнейшем удавалось не раз, но это было скорее исключение из общего положения и в первую очередь зависело от личностей, занимавших ханский престол. В целом же ситуация не менялась вплоть до XVIII в. Подводя предварительные итоги, мы можем сделать вывод, что в начале XVI в. в Крыму произошли четыре важные перемены в его внешне- и внутриполитическом положении.
Во-первых, усиление позиции Турции в 1520 г. положило начало проникновению в обыденную жизнь, в быт крымчан турецких обычаев. Особенно сильно сказалось это на дворцовых традициях. Вместе с Сеадетом в Бахчисарай прибыли новые чиновники, возросли дворцовый штат и бюрократический аппарат, как и расходы на их содержание. Крымский историк называет только крупные новые должности — их масса (Хартахай Ф., 1866, 208 — 214). Позже Сагиб-Гирей завел большой штат телохранителей (капы-кулу) — совершенное подобие турецких янычар, вплоть до того что они набирались не из местного населения, а из пленных. Постепенно капы-кулу, презираемые родовым дворянством, возвысились настолько, что стали успешно конкурировать с мурзами и в управлении государством, и во влиянии на ханов.
Во-вторых, ослабление старых бейских и мурзинских родов, особенно заметное на примере Ши[205]ринов, открыло дорогу новым родам, в числе которых были и такие крупные, как Мангиты-Мансуры. До того они оставались в тени, но в 1551 г. Девлет-Гирей уже мог поставить в фирмане этот род перед Барынами, занимавшими ранее второе место в иерархии. С одной стороны, несколько уменьшается официальное влияние и остальных старых родов (в XVI в. уже лишь трое Карачи могут слать своих агентов за рубеж), но с другой — увеличивается их реальное значение во внутренней политике. Фактически и это было связано с Турцией — проникшее оттуда огнестрельное оружие явно усилило бейскую гвардию.
Далее, ослабление Крыма в 1520-х гг. открыло заперекопские степи, в междуречье Днепра и Дона, для ногайских орд. Их и ранее вытесняли со старых кочевий, от Волги, но усиление там русских, еще до установления Иваном Грозным в 1554 г. протектората над Астраханью, ускорило этот процесс. В Крым ногаи почти не проникли, но они сделали невозможным расселение крымчан за Перекопом — Крым "закрылся".
Другое дело, что часть степных татар, по-прежнему кочевая, достигала иногда Волги, Урала, Кубани и Дона, но при Сеадете и его преемнике Сагиб-Гирее происходит решительный переход к оседлости даже наиболее консервативной части уцелевших степняков Крыма, причем не без нажима сверху, со стороны ханов. Это и была четвертая из упомянутых метаморфоз начала XVI в., хотя были и еще некоторые, менее значительные.
Так с этих лет открывается эпоха "военной службы" ханов султанам. Началось с приглашений татар в военный лагерь турок, когда они выступили в северном направлении. Очевидно, с целью убедить хана в могуществе султана — так, например, случилось в 1532 г., когда Сулейман I пошел на Молдавию. В пользу этого предположения говорит и то, что султан не настаивал на военной поддержке татар. Но позже такое требование становится почти постоянным, а его выполнение — весьма отягощающим крымскую экономику. Причем в отличие от набегов, в которых горцы, как правило, участия не принимали (а в XVI в. — и земледельческое население побережий и степи), участие в походе с турецким войском стало обязательным). Это вызвало крупные вспышки недо[206]вольства коренного населения, не желавшего бросать свои сады и нивы ради абсолютно чуждых им турецких интересов (Смирнов В.Д., 1887, 406 — 407, 410 — 412).
ПОЛИТИКА ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ I И ЕГО ПРЕЕМНИКОВ
Выше говорилось, что в Стамбуле постоянно находилось несколько младших членов рода Гиреев на случай, если нужно будет сменить хана. Так был сменен и Сагиб-Гирей. Султан прислал ему фирман на поход для усмирения черкесов, и когда хан ушел с войском из Крыма, то пленник султана, Девлет-Гирей, был высажен в Гёзлёве, прискакал в Бахчисарай, где и обнародовал турецкую грамоту о своем назначении. Вернувшегося домой бывшего хана схватили беи и задушили вместе с его ближайшими родственниками[71].
Девлет-Гирей I (1551 — 1577) удержался столь долго на престоле, судя по всему, благодаря своим почти постоянным походам на соседей. Это содействовало высокой боеготовности его войска, хорошему его обеспечению, повышало авторитет хана не только среди народа, но и среди дворян. Короче, Девлет был полной противоположностью образованному и мирному Сеадет-Гирею, что весьма укрепляло престол.
С именем этого хана связана и крупная дипломатическая операция, перечеркнувшая план Москвы полностью ликвидировать самостоятельность Крыма, захватив его военной силой и посадив в Бахчисарае своего воеводу (Кушева Е.Н., 1963, II, 197 — 198). Хану стало известно об этой смертельной опасности для его родины, а в том, что Москва была способна осуществить подобный план, он, очевидно, не сомневался. В самом деле, Россия уже занимала огромную территорию в 2,8 млн км2, т. е. это была крупнейшая (после Священной Римской империи германской нации) держава Европы. Она располагала и выходом на Балтику, и другими необходимыми для успешного развития условиями. Тем не менее, венчаясь на царство, Иван Грозный получил от своих духовных отцов настоящую программу внешней политики: он должен был стремиться к расширению государственных границ за счет соседей (ПСРЛ, 1904, XIII, 150).[207]
И все же царь поостерегся идти на хана в одиночку; он обратился за помощью к Литве. Переговоры уже успешно шли к концу, и участь Крыма, казалось, была предрешена, когда Девлет направил в Литву великое посольство. Опытные крымские дипломаты так повели дело, что литовцы отказались продолжать переговоры с посланцами Грозного, и те несолоно хлебавши вернулись в Москву. Не поддавались литовцы и поляки на уговоры русских и позже. Короче, усилиями хана план захвата Крыма был отложен надолго. Хотя и не навсегда. Это хан понимал и постоянно царя опасался.
Но не оставлял он и старой мечты ханов и стремился привести под крымскую руку Казань и Астрахань, несмотря на то что там уже хозяйничали русские. Была кровопролитная битва 1555 г., где пало немало стрельцов, горела в 1571 г. Москва, подожженная крымскими джигитами, татары опустошали подмосковные слободы и города, но крупными результатами своих бесконечных войн Девлет похвастаться не мог. И единственное, чего он добился, — это увеличение Иваном Грозным "поминков" и упорядочение их отправления в Крым, за что царь и заслужил от Карамзина обвинение в измене "нашей государственной чести и пользе"! (Ист. государства Российского, IX, 109).
Девлет-Гирей умел не только воевать, но и с толком использовать нечастые мирные передышки. Так, когда в 1569 г. новый турецкий султан Селим II решил направить экспедицию для прокладки канала Волга — Дон, то Девлет, во-первых, "дружески" предупредил об этом царя, а во-вторых, так запугал турок, уже приступивших к землеройным работам, страшным русским морозом, что те в беспорядке бежали, едва успев закопать лопаты и иное снаряжение. В результате хан улучшил этой двойной акцией отношения с обоими своими друзьями-противниками, одновременно укрепив безопасность Крыма.
В целом политику Девлета продолжал его сын Мухаммед-Гирей II Жирный (1577 — 1584). Новый хан дополнил систему крымского престолонаследия должностью нуреддина; он же не упустил возможности воспользоваться внутренними беспорядками в Турции, общим упадком ее в годы правления Мюрада III (1574 — 1595) и сделал решительный шаг к неза[208]висимости Крыма. Он стал "автором" прецедента, отказавшись идти по воле Стамбула в поход на Кавказ, гордо заявив султану: "Что ж, разве мы османские беи, что ли?" Султан пытался сместить его, отправив для этого в Крым трехтысячный отряд янычар. Но не успели турки выйти из Кафы, как город был осажден татарами в количестве 40 тыс., а в Стамбул было передано гневное заявление Мухаммеда: "Я — падишах, господин хутбы и монеты — кто может смещать и назначать меня!" И неизвестно, чем закончился бы этот конфликт, если бы хана не задушил его родной брат, Али-Гирей.
Однако турки поступили политически вполне грамотно, посадив на трон не братоубийцу, но третьего Гирея, Ислама, точно рассчитав, что этот хан, всем обязанный султану, будет более послушным. Может быть, Ислам и принял бы самое драгоценное наследство Девлета и Мухаммеда — начала крымской независимости, и развил бы их дальше; но вот вспыхнула бейская междоусобица, и о серьезном, общенациональном сопротивлении туркам пришлось забыть. Были восстановлены все турецкие прерогативы власти, но появились и новшества. Как говорилось выше, имя султана отныне оглашалось на хутбе перед именем Гирея — и так до самого конца ханства.
Попытки реставрировать древние традиции и законы встречались и позже. Так, Гази-Гирей (1588 — 1608) стремился вновь ввести в практику избрание хана по старшинству (опираясь на согласие, полученное его дедом от Мюрада III), а также должность капы-агасы (великого визиря), который мог бы поддерживать избравшего его хана, не рассчитывая занять трон, как калга или нуреддин. Попытки эти удались, но дела они не поправили. Дворцовые перевороты, спонтанно вспыхивавшие в Крыму или инспирированные Стамбулом, встречались и позже. Приведем наиболее яркий пример такого события — историю двукратного правления Джаныбек-Гирея (1610, 1623, 1627 — 1635).
Внук Девлет-Гирея I, он вырос на чужбине, в Черкесии, куда его отец бежал от резни, которую устроил для своих потенциальных соперников Гази-Гирей. Мать Джаныбека вернулась затем в Крым и даже стала женой хана Селямет-Гирея (1606 —[209] 1610), вследствие чего и сын ее был назначен калгой, а затем стал ханом.
Тем временем братья покойного Селямета, Мухаммед и Шагин, жившие в Турции, замешанные в тамошних мятежах, уже отсидевшие по нескольку лет в тюрьмах и прощенные султаном, вознамерились попытать счастья на родине. Они обосновались у Аккермана и, совершая время от времени набеги на русских, дожидались там своего часа. Удачливость в набегах собрала вокруг них огромное число буджакских и иных ордынских джигитов, и даже ханские войска, покоренные лихостью братьев, стали к ним склоняться.
Это не могло не озаботить Джаныбека, и он добился от турок разрешения искоренить это разбойничье гнездо. В битве хан победил, султан снова посадил Мухаммеда в тюрьму, но Шагину удалось бежать к персидскому шаху. Султан потребовал, чтобы 30-тысячное крымское войско вторглось в Персию, но татар разбили персы, которыми командовал Шагин. Тем временем в Турции сменилась власть — султаном стал Осман II, а великим визирем — Хусейн-паша, приятель Мухаммеда, когда-то вместе с ним сидевший в тюрьме. Он освободил опального Гирея и содействовал его назначению ханом. Джаныбек, естественно, отправился на Родос.
Новый хан выписал из Персии Шагина и сделал его калгой. Оказавшись у власти, братья устроили показательную резню в Крыму, уничтожив всех возможных соперников, а также бывших недругов. Но, усаживаясь поудобнее на трон, хан допустил непростительную оплошность, не обратив должного внимания на турецкие фирманы, призывавшие к походу на казаков, в последнее время безнаказанно опустошавших и грабивших прибрежные владения султана. В 1628 г. у турок лопнуло терпение, и они вновь назначили ханом Джаныбека.
Тот сошел на берег в Кафе, но братья, решив отстаивать свои права до конца, закрыли путь в столицу как ему, так и сопровождавшим его янычарам. Войско Мухаммеда насчитывало несколько тысяч ордынцев и более тысячи казаков, благодарных за попустительство во время недавних погромов. Турецкие янычары не осмелились выступить против этих испытанных головорезов и попросили помощи из[210] Стамбула. Подкрепление пришло, но за это время братья увеличили свое войско чуть ли не до 100 тыс. Эта огромная сила навалилась на Кафу и буквально раздавила турок вместе с их мощной артиллерией и флотом.
В Бахчисарай потянулись обозы с трофеями. Здесь были турецкие пушки, которых так не хватало татарам, имущество, захваченное в турецких кварталах и присутственных местах Кафы, мешки с войсковой казной экспедиционного отряда турок, а также ханские регалии, предназначенные султаном Джаныбеку. Утрата регалий была не только символичной. Джаныбек оставался ханом лишь в глазах султана, вынужденный скитаться то в окрестностях ханства, то на чужбине еще два года. Фактически ханская власть в Крыму принадлежала по-прежнему братьям, которые вели полностью самостоятельную политику. Шагин-Гирей даже разорял турецкие городки — Аккерман, Измаил, Журжево и др.; до такой дерзости ранее не доходил ни один Гирей.
А затем произошли события еще более удивительные. Казаки воспользовались затянувшимся крымско-турецким конфликтом и, не удовлетворяясь уже грабежом румелийских берегов, высадились в 1624 г. на Босфоре и стали громить пригороды Стамбула, подбираясь к столице. И юный Мюрад IV (1623 — 1640) ничего не мог с ними поделать: на востоке у него начиналась война с персами. Положение Стамбула было столь же угрожающим, сколь и унизительным. Столица уже готовилась пасть в руки запорожских шаек, как вдруг пришло послание от Мухаммед-Гирея, который как ни в чем не бывало предлагал помочь султану постройкой нескольких крепостей на Днепре для защиты от казаков. Султану пришлось согласиться; он приказал отпустить в Бахчисарай инструменты и рабочих, а братьям выслал почетные сабли и халаты.
Пришло в Стамбул и еще одно послание — от бея Буджакской орды Кан-Темира, просившего переселить его с подданными куда-нибудь подальше от казаков. Не желая принимать воинственных ногаев в свои владения, Мюрад отправил их в Крым, хотя знал, что не было у Кан-Темира более злобного врага, чем калга Шагин (они не раз встречались с оружием в руках на степных просторах Приднепровья, кроме[211] того, Шагин вырезал всю семью Кан-Темира, напав на его крымскую усадьбу). Поэтому, миновав Перекоп, буджакский бей повернул налево, соединился с кафинскими янычарами и лишь потом двинулся на Бахчисарай, где наслаждались покоем ничего не подозревавшие братья. В молниеносной схватке Кан-Темир разбил их охрану, а сами они едва успели спастись — в Запорожье на сей раз. На престол взошел наконец Джаныбек.
Но долго еще бывшие хан и калга пытались пробиться к Бахчисараю во главе казацких отрядов, хотя дальше Карасубазара им углубиться в Крым не удавалось. Наконец в одном из таких набегов пал Мухаммед и был похоронен с честью в фамильном дюрбе Гиреев в Эски-Юрте. Шагина же вновь простил султан и, снабдив престарелого удальца обычной пенсией, отправил на Родос. Туда же прибыл вскоре доживать свой век в очередной раз лишенный турками престола его враг Джаныбек.
В удивительной фабуле этой крымской одиссеи примечателен внешне малозначительный сюжет, связанный с первым открытым выступлением против Гиреев дома Кан-Темиров, возглавившего наиболее воинственный и могучий ногайский род Мансуров. Фамильная эта вражда, тлевшая и до Джаныбека, отныне становится явной, почти не затухая. Забегая несколько вперед, скажем, что Мансуры причинили много вреда самостоятельности Крыма в XVII — XVIII вв. Верные клевреты султанов, они с готовностью шли на Крым по первому кивку Стамбула: походы обогащали ногаев и покровительствовавших им турок. С этого времени ногайская опасность становится для ханов почти постоянной.
ДУХОВНЫЙ МИР ЭПОХИ
Такова история первых Гиреев. Автор отдает себе отчет в том, что у читателей вполне может сложиться мнение о всех без исключения ханах — слабых и сильных, умных и не умевших видеть дальше завтрашнего дня, энергичных политиках и любителях безмятежного кайфа — как о людях, чьи мысли и деяния были устремлены к одной, главной цели — сохранению своей власти. К задаче, перед которой мерк[212]ли и любовь к родине и своему народу, и чисто человеческие достоинства и чувства. Конечно же дело обстояло далеко не так.
Крымские и турецкие хронисты, русские послы и западноевропейские путешественники оставили нам немало сведений о ханах, о их походах, войнах и кровавых пиршествах в Крыму и далеко за его пределами, об их участии в дворцовых интригах Стамбула и политике соседних стран, о борьбе с непокорными беями и соперниками из собственного дома. Но в этом многоязычном наследии мы почти не находим чисто личностных характеристик хозяев бахчисарайского дворца, описаний черт, которые отличали бы их друг от друга в сугубо человеческом плане с той же четкостью, как на ниве войн, походов и бесконечных переворотов.
Такого рода сведения современному историку приходится собирать буквально по крупицам из самых различных по происхождению источников, а еще чаще — пользоваться слабыми намеками, в них содержащимися. Или же строить свои выводы на духе, а не на букве немногочисленных дошедших до наших дней документов, составленных лично ханами. Трудности подобного исследования безусловны, как и неожиданность выводов, к которым приходишь в результате его. Обнаруживается, что среди ханов встречаются личности, совершенно не совпадающие с общераспространенным мнением о них.
Так, например, Гази-Гирей Бора (1588 — 1608) был не только прекрасным музыкантом, но и талантливым поэтом лирического склада. Поэтами были и Бегадыр-Гирей (1640 — 1641), и Селим-Гирей (ум. в 1704 г.), и Сафа-Гирей, и некоторые другие члены ханского рода. Далее, большинство ханов высоко ценили весьма развитый в Крыму вид искусства — диалог; даже в походах их всегда сопровождали признанные мастера-острословы, которых некоторые старинные историки именовали шутами (Хартахай Ф., 1867, 160, 232). Ханы и крымская интеллигенция буквально преклонялись перед Аристотелем и его мусульманскими последователями, а о высоком вкусе крымских татар средневековья и Нового времени и ныне свидетельствуют немногие сохранившиеся образцы некогда роскошного каменного убранства городов, кладбищ и загородных дворцов.[213]
Наверняка и ханам, и беям, и простым дворянам, по крайней мере некоторым из них, были присущи рыцарские достоинства, врожденные представления о чести, столь высоко ценившиеся в феодальной среде Западной Европы. Так, Инайет-Гирей (1635 — 1637), став ханом, направил в Стамбул весьма примечательное послание советнику султана Яхье-эфенди, очевидно своему единомышленнику. Здесь он признается, что ханский титул не ослепил его настолько, чтобы он не мог оценить смещение его предшественников, Джаныбека и Мухаммеда, как несправедливое. Прекрасно зная об интимных политических связях Кан-Темира с султаном, Инайет тем не менее гневно обличает этого чистокровного татарина, прямого потомка Улугбека, знаменитого внука Тимура, в измене своему народу, клеймит его низменное прислужничество туркам и интриги против своих собратьев, крымских Гиреев (Смирнов В.Д., 1887, 517). Понятно, каким гражданским мужеством нужно было обладать для того, чтобы отправить такое письмо в Стамбул, где оно могло сыграть поистине трагическую роль в судьбе вассального хана. При этом Гирей не остался храбрецом на словах и после своего смещения, прибыв в Турцию, в лицо высказал Мюраду IV доводы о правоте своих деяний, очевидно надеясь на то, что и султану не чужд аристократический дух справедливости. Отчасти он не ошибся: турецкий деспот приказал задушить Инайета прямо во дворце, но похоронить с великими почестями.
Одаренность, даже талант и гуманистический склад ума некоторых ханов, о которых упоминалось выше, находили отражение в стиле их правления. Ислам-Гирей (1644 — 1654) провел в молодости семь лет в польском плену, где имел возможность ознакомиться с государственным устройством Речи Посполитой — он был приближен к королевскому двору. По возвращении хана домой его немалая энергия, распорядительность и природный ум расположили к нему и самую беспокойную часть его земляков — беев. Самостоятельная и последовательная внешняя политика Ислам-Гирея, безусловно, подняла и международный авторитет Крыма, ослабила пристальный надзор Турции (там, кстати, происходили очередные внутренние беспорядки). Хан помирил две враждовавшие могущественные группировки (мурзинское[214] сословие и корпорацию капы-кулу), хотя для этого ему пришлось выдержать несколько столкновений, вылившихся в настоящие битвы (Новосельский А.А., 1948, 388). Далее, наладив внешнеэкономические поступления ("поминки" из Польши и России) и проведя несколько реформ внутрикрымской экономики, хан настолько повысил благосостояние всего населения Крыма, что это бросалось современникам в глаза даже чисто внешне. Эти и иные крупные перемены в политическом и особенно внутриэкономическом положении ханства имели единый исток — Ислам-Гирей оказался достаточно свободомыслящим правителем для того, чтобы ввести в ханстве порядки, которые он изучил в своих зарубежных странствиях. И то, что он смог при этом преодолеть сопротивление местных консерваторов, в том числе и мулл, относит его к числу немногих европейских владык, нашедших в себе духовные силы для объективной, беспристрастной оценки положения своей страны и проведения в жизнь необходимых реформ, невзирая на традиции. Впрочем, следует признаться, что многие имеют весьма несовершенное представление о крымских традициях той эпохи. В области внешней политики, например, самое расхожее мнение — о том, что татары и казаки были смертельными врагами и при этом славянский мир должен быть благодарен последним за спасение от гибели и полного искоренения от рук первых. На самом деле и здесь проблема гораздо сложнее, а выводы в результате ее анализа далеко не столь однозначны.[215]
VII. КРЫМ И ЗАПОРОЖЬЕ В XVII в.
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Вышеприведенное утверждение об ошибочной концепции в области крымско-запорожских отношений не голословно. Оно типично не только для научной, но и для научно-популярной и художественной и публицистической литературы. Образ казака как беззаветного стража, стоящего на охране российских рубежей от мусульманской агрессии, стал вполне расхожим (см., напр.: Кочубинский А., 1878, 15 — 16; Надинский П.Н., 1951, 81 — 82; Апанович О.М., 1961; Алекберли М., 1961, и многие другие). Сложная проблема многоплановых отношений татар Крыма с соседними казаками может быть разрешена лишь в результате исторического подхода к ней, в котором нет места субъективным решениям, как это неоднократно бывало раньше. Только беспристрастный анализ диалектики этих отношений, их качественной эволюции в XVI — XVII вв. и позже может привести нас к поставленной цели.
Заселившие заброшенные после разгрома южнорусских княжеств монголами земли Северного Причерноморья, на которые не претендовали ни московские князья, ни крымские ханы, пользуясь всемерной поддержкой Польши, казаки, в первую очередь запорожские, уже самим своим пребыванием, оседанием на этой территории стали препятствием для набегов кочевников на Московское государство и Польшу. И позже оба эти государства (а спорадически — и Литва) по мере сил поддерживали казачество, в том числе и складывавшееся военное устройство этого странного государственного образования. Так, львовский каноник Я. Юзефович прямо говорил о гибельности для Польши жестких санкций против Сечи; по его мнению, набеги татар на поляков были прямо вызваны попытками Речи "ликвидировать вольность воинства казацкого" (Сборник, 1888, 120).
Запорожская Сечь постепенно стала играть роль[216] буферного государства, но вполне объективно, поскольку вовне государством вообще не признавалась, а внутри не выработала такого рода политики — ни буферной, ни любой иной, направленной на активную оборону чуждых, а порой и враждебных ей соседей — Польши, России или Литвы.
Обе части страны казаков — и Запорожье, и в меньшей степени Гетманщину — иногда именовали в специальной литературе "военной республикой" или даже "военно-религиозным орденом". Оба определения по ряду причин научными назвать нельзя. Критика их не входит в наши задачи, мы заметим здесь лишь, что хотя казаки отдавали много энергии набегам с вполне "татарскими" целями, но обойтись ни без мирной экономики, ни без мирных экономических и политических связей с соседями они также не могли.
Определить генеральную линию внешней политики Запорожья весьма трудно, но не невозможно. В целом она клонилась, во-первых, к защите политической, экономической и религиозной свободы, причем не только для казаков, но и для всего украинского населения. Во-вторых, казаки, находясь в окружении сильных держав, стремились по мере сил уравновешивать политическое влияние и военную мощь соседей. Средством для этого была политика военных союзов, пользуясь которой казаки в силу своих боевых качеств и геополитического положения Сечи всегда могли внести нужные им коррективы в складывавшуюся ситуацию. И в этой структуре менявшихся на глазах межгосударственных связей Крым играл для Сечи весьма важную роль противовеса слишком уж могучим "братским" христианским державам.
Далее, казаки не могли не осознавать, что соседи эти давно могли ликвидировать Сечь и аннексировать ее земли, но терпели Запорожье лишь из-за татарской угрозы. Другими словами, залогом всего существования Сечи и независимой Украины были, как это ни парадоксально, крымские татары. И, лишь помня о приведенных факторах, историк может дать верную оценку весьма пестрым и противоречивым акциям политиков Сечи по отношению к Крыму, Москве и Польше.
Кроме политической казацко-крымские связи наблюдались и в экономической сфере. Запорожцы не[217] желали целиком посвятить себя собственному хозяйству по вполне понятным объективным причинам — чрезвычайно "динамичные" по натуре, они если не оборонялись, то нападали сами. В несколько лучшем положении была Гетманщина, но и там пахота, сев и уборка были зачастую невозможны из-за военных конфликтов. Поэтому зерно и другие припасы приходилось покупать (а деньги у казаков водились) за рубежом, прежде всего в Москве и Польше. Соль же им задешево поставляли татары, причем в количествах, достаточных и для реэкспорта в ту же Россию или Польшу; здесь казаки были монополистами, наследниками древнего транзита "из варяг в греки".
Имелись и иные экономические связи — издавна в мирные периоды казаки пользовались добрососедским разрешением ханов облавливать черноморские лиманы и даже прибрежные воды Азова. Взамен казаки предоставляли татарам права кочевий и выпасов на украинских землях (Львов Л., 1895, 8).
Наиболее благоприятно и перспективно складывались мирные отношения между казаками и татарами в дотурецкий период. Но и после, вплоть до начала XVII в., мирные связи прерывались лишь эпизодически, а в XVI в. отмечены даже случаи боевого сотрудничества татар и казаков. Так, в 1521 г. Мухаммед-Гирей ходил на Москву и Рязань с гетманом Е. Дашкевичем; через четыре года казаки по просьбе Сеадет-Гирея подавляли внутрикрымский мятеж (Сборник, 1888, 113). В XVII же веке татары ходили на север под руководством казацких атаманов. А в 1661 г. кошевой Ханенко выступил после гетмана П. Дорошенко во главе 60-тысячного татарского войска — впрочем, и в гетманских рядах были татары и турки (Апанович О.М., 1961, 236).
Татары и казаки неоднократно оказывали друг другу помощь в случае какой-либо беды, например при стихийных бедствиях, причем спонтанно, без какой-либо предварительной договоренности.
В среднем же, вероятно, периоды татарско-казацких конфронтации превосходили по продолжительности мирные передышки. В XVII в. ханы разоряли Украину, на ее южных границах стычки не прекращались, казаки громили и жгли прибрежные города и села Крыма и т. д. Однако для правильной оценки[218] таких отношений необходимо и здесь учитывать общую обстановку на юге, да и не только на юге, Европы.
Это была эпоха, когда не было безопасных дорог, когда простое путешествие было рискованным предприятием и, готовясь к нему, люди вооружались, как на войну. Не только в XVI, но и в XVII и XVIII вв. феодалы нередко разоряли и жгли друг друга, совершали грабительские набеги на соседние края и страны — вспомним хотя бы о многочисленных бандах неуправляемой польской шляхты в эти века или о шайках профессиональных военных в "Симплициссимусе" Гриммельсгаузена! Ни Украина, ни Польша не были исключением из общеевропейского правила, а торговые караваны мало чем отличались здесь от вооруженных отрядов — разве что отсутствием знамен и пушек. Так что украинско-татарские столкновения не стоит воспринимать как извечную и постоянную вражду — современников-то они нисколько не поражали, это была норма.
Конечно же татарские набеги превосходили казацкие и польские масштабом (да и то не всегда), но не жестокостью. Тут с запорожцами да и с поляками сравниться было трудно, особенно татарам, берегшим пленных как зеницу ока. Но главное даже не это. Не было в набегах тех и других качественных, в частности моральных, различий. Собиралось ли подобное воинство во Львове, Сечи или Карасубазаре, цель его была чаще всего удручающе однообразной: грабеж, разбой, уничтожение городов и сел соседа и, главное, нажива. Послушаем современника, московского дьяка Е. Украинцева, заметившего в 1684 г.: "... теперь многие люди... без войны жить не привыкли (!), а прокормиться им нечем... беспрестанно казаки думают о войне... если не послать их на войну, то надо платить большое жалованье" (Соловьев С.М., VII, 381). Аналогичные заботы были и у хана при мысли если не о горцах-земледельцах Крыма, то о его заперекопских подданных — ногаях, которым для их кочевого коневодства уже не хватало степи, а лакомые украинские и польские хутора и села были так доступны.
Возможно, подобные весьма общие для казаков и татар черты, которые, как известно, сближают народы, были причиной ускорения именно в XVII —[219] XVIII вв. процесса татарско-казацкой аккультурации. Показателем ее может быть не только бросающееся в глаза сходство в таких привычках, как бритье головы и бороды, в платье, вооружении и других объектах материальной культуры, в пище и даже тактике степного конного боя, но и участившиеся случаи переселения казаков в Крым, а татар в Сечь (о том, что среди казаков было много татар, указывают их имена, сохранившиеся в источниках). Запорожье вообще резко отличалось от России, жило по своим законам и морали, в которых было гораздо больше точек соприкосновения и даже сходства с соседним крымскотатарским миром, чем принято считать.
Не менее примечательно и то, что религиозные различия редко становились непреодолимой стеной во взаимном сближении двух соседних народов, активизировавшемся позже, в XVIII в. Если раньше обоюдное переселение носило характер единичных случаев, то теперь массы казаков навсегда оставались в принимавшем их мусульманском мире. Особенно значительными эти исходы были в послеполтавский период и в 1770-х гг., после окончательного разгрома казацкой республики "русскими братьями".
Упомянутые и иные особенности татаро-казацких отношений проявились уже в годы правления Ислам-Гирея III (1644 — 1654).
ИСЛАМ-ГИРЕЙ И БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Оживление контактов татар с казаками в середине XVII в. было в значительной степени вызвано очередным ослаблением султанской власти. Собственно, Порта осталась без владыки — Ибрагим был задушен, а его преемнику в 1649 г. едва исполнилось семь лет. В Стамбуле царил полный хаос, который не были в состоянии ликвидировать старуха бабка малолетнего султана и другие женщины, неожиданно оказавшиеся практически во главе империи.
Энергичный крымский хан Ислам-Гирей, воспользовавшись моментом ослабления контроля со стороны Турции, решил выскользнуть из-под ее опеки вообще, обезопасив себя предварительно союзом с запорожцами. Сопутствующим фактором для такого рода сближения стало восстание украинцев[220] против поляков, в ходе которого все более заметную роль стал играть Б. Хмельницкий. За спиной 55-летнего гетмана осталась весьма бурная молодость: длительная служба польским королям, кровопролитные походы на русских и турок, двухлетний плен в Турции, затем осада Смоленска, за которую Владислав IV наградил его драгоценной саблей, а затем и дворянским достоинством.
Гетман был типичным представителем казачества — вольного и малонадежного воинства, на которое не мог рассчитывать ни один из его союзников — альянсы с соседями то и дело распадались для того, чтобы через некоторое время гетмана снова звали на помощь. Политика Сечи была образцом двойственности и непостоянства, запорожцы могли одновременно и помогать двум-трем враждующим между собой державам, и воевать с ними же: "В то время как одни казаки то терзали Московское государство, то почитали его, другие дрались с татарами и ходили на море грабить турок" (Костомаров Н.И., 1904, 42).
То, что запорожцы нередко враждовали с Москвой, не могло не импонировать татарам, ощущавшим постоянную угрозу с севера, однако казацкая служба Польше, второму врагу Крыма, принуждала хана к осторожности. Но ситуация переменилась весной 1648 г., когда Б. Хмельницкий, рассорившись с поляками, явился с сыном Тимофеем и свитой в Крым. Гетман (кстати, прекрасно владевший крымскотатарским языком) произнес в диване речь, в которой просил у хана помощи против поляков и общего покровительства Сечи, изъявляя готовность сражаться вместе с мусульманами.
Хан не мог соединить в этот момент татарскую конницу с казацким войском: Стамбул требовал ее для собственной войны с Венецией. Однако речь гетмана оказалась, по-видимому, настолько убедительной, что Ислам в конечном счете отказал султану, дерзко заявив, что он "сам по себе живет", и пригрозив повесить любого нового гонца из Турции (Новосельский А.Н., 1948, 396).
Повторяем, союз с казаками не был для татар чем-то немыслимым, несмотря на то что он влек за собой фактический разрыв с Портой, — в 1620-х гг. такие союзы успешно заключали Мухаммед-Гирей и Шагин-Гирей. Однако в отличие от этих ханов Ислам-[221]Гирей опирался в своей политике альянсов на собственное дворянство, что означало качественное усиление политики, в котором столь нуждался Крым.
Столь же насущной была необходимость союза с татарами для Б. Хмельницкого. Не имея безопасного тыла на юге, более того, не пользуясь военной поддержкой татар, гетман не мог бы проводить те важные политические решения, к которым его понуждала международная обстановка. В первую очередь сказанное относится к войнам.
Шесть лет длился союз Ислам-Гирея с Хмельницким, шесть лет татары и украинцы вместе и порознь ходили на Польшу и громили шляхетские владения на Украине. Уже в мае 1648 г. казацко-татарское войско одержало знаменитую победу под Желтыми Водами. Верный договору, гетман отдал после битвы огромный полон татарам, а хану — обоих гетманов королевского войска — Потоцкого и Калиновского. Еще большая добыча ушла в Крым по Зборовскому мирному договору, затем гетман направил татар в поход на Молдавию и т. д. Добыча от этих походов показала пользу не вражды, а сотрудничества с казаками — она была в сравнении с прошлыми набегами просто фантастической.
Для Хмельницкого в эти годы поддержка с юга была важна еще и потому, что Москва еще не соглашалась оказать ему столь же действенную помощь. Другое дело, что хан тонко чувствовал пределы такого сотрудничества, и, когда в результате его усиление казаков стало, по его мнению, чрезмерным, он мог оказывать поддержку и Польше. Отсюда сделан правильный вывод о "собственном татарском расчете", основанном на "политическом равновесии" (Смирнов В.Д., 1887, 555).
В годы правления Ислам-Гирея во внешней политике ханства развились две тенденции, которым в будущем было суждено стать решающими в судьбе Крыма. Ислам-Гирей первым на протяжении длительного (около 10 лет) срока не только уклонялся от указов Стамбула, но и делал это демонстративно, доходя до угроз Порте, и даже нападал на ее пашалыки, Молдавию например. В отличие от отдельных случаев неповиновения ханов Турции здесь речь идет о начале действительно постоянной тенденции. Малозаметная при ближайших преемниках хана, она не[222] исчезла, а уподобилась тлеющей искре, хотя пламя от нее вспыхивало еще не в XVII, а в XVIII в., и тем ярче, чем слабее становилась клонившаяся к закату империя османов.
С татарско-казацким союзом связано и второе примечательное явление. В годы правления Ислама, да и позже, наукой не выявлено сколько-нибудь значительных набегов на русские пределы ни татар, ни казаков (Новосельский А.А., 1948, 396). Причина, очевидно, в изобильной добыче совместных набегов на Польшу, Молдавию и т. п., а не в каких-то особых политических соображениях. Напротив, именно то, что и казаки и татары буквально ослепли от богатой добычи тех лет, объясняет их политическое благодушие по отношению к северному соседу, за что и тем и другим предстояла в грядущем страшная расплата.
За несколько десятилетий XVII в., когда Русское государство чувствовало себя в безопасности на Юге, оно сосредоточило почти всю военную силу на иных границах и заметно поправило свои дела на западном направлении, а также впервые радикально укрепило свою южную границу, что имело первоочередную цель — защиту от татарских набегов. И это была не единственная мера, принятая с целью обеспечения новой массированной экспансии в южном направлении: к северу от новой мощной Белогородской черты проводилось интенсивное заселение пустошей, закладывались многочисленные села и городки. Москва дошла до того, что запрещала возвращать осевших там беглых крепостных! Когда же новые местности осваивались экономически, то правительство военизировало их; масса крестьян обращалась в драгуны, которые служили по месту жительства, имея при себе не только личное оружие, но и артиллерию, и т. д.
Против кого конкретно были обращены новые войсковые приграничные скопления, явствовало даже при взгляде на карту: если до 1654 г. русские границы были настолько удалены от Перекопа, что непосредственной угрозы русской агрессии почти не было, то в результате Переяславской рады рубежи централизованной, экспансивной, значительно превосходящей Крым военной мощью, враждебной ему державы придвинулись к северным землям ханства вплотную, так что и Велогородская черта оказалась за спиной у русских, занявших своими гарнизонами не[223] только Киев и Белую Церковь, но и Умань, Врацлав, Корсунь.
Затем была возведена следующая оборонительная линия, Изюмская, уже на юге Украины, с ее цепью чисто русских крепостей. Собственно, оборонительной эту линию называют как дань традиции; на самом же деле это было одно из средств, с помощью которых в середине XVII в. активизируется наступательный характер борьбы с татарами. Казалось, Москва занимала для татар место Варшавы, но это лишь на первый взгляд. Польские отряды, охранявшие шляхетские местности и города на Украине, несли чисто заградительную, оборонную функцию. Теперь же, повторяем, на южном направлении начинается экспансия широкого, невиданного ранее ни по массовости, ни по материальному обеспечению, ни по упорству и длительности, поистине великодержавного масштаба.
Крыму готовилась участь Казани и Астрахани. Это было начало неприкрытой агрессии, активное наступление на никогда не принадлежавшие России крымские земли, начавшееся в 80 — 90-х гг. и завершившееся ликвидацией "Крыма как государства в XVIII в. " (Санин ГЛ., 1987, 233). Начинали сбываться пророческие слова турецкого историка и дипломата Эвлии Челеби о том, что, если русские "на 5 — 10 лет избавятся от набегов татар, если они, пользуясь благополучием, задумают заняться делами по устройству государства, ни одна держава не сможет противостоять им и они займут земли всех казаков и поляков".
В дальнейшем у казачества, да и украинцев в целом, было время одуматься и горько пожалеть о шаге Хмельницкого, положившего начало тотальному лишению населения Украины старых политических и экономических свобод, окончившемуся воцарением невиданного здесь крепостного права. На смену кровавым, но редким, а главное, и без постороннего вмешательства подходившим к своему историческому концу набегам татар пришла неволя, когда внешняя и внутренняя политика края стала определяться Москвой, а те, кто не мог забыть старых вольностей, зашагали в кандалах: кто в Преображенский приказ, а кто и сразу на плаху.
Зададим себе вопрос: в чем же была вина или упущение украинских лидеров, почти добровольно[224] поставивших свою страну на этот путь? Когда-то историки верно учитывали сложное положение Хмельницкого, вынужденного вступить в союз и с ханом, и с царем. Союзы эти не мешали друг другу потому, что находились "в разных плоскостях", утверждал М.Н. Покровский, и он был прав, так как альянс гетмана с Москвой был политическим, а с Крымом — военным.
Но именно в этом, в неверной оценке политической опасности Москвы, многократно превосходившей чисто военную угрозу, источником которой был Крым, и заключается, по нашему мнению, историческая ошибка Б. Хмельницкого, не имевшего дара перспективного политического видения в отличие от Э. Челеби и современников гетмана в Бахчисарае.
Тревогу крымские политики забили сразу, как только до них дошла весть о смысле Переяславских соглашений. Диван 1654 г. пришел к выводу, что Крым вряд ли сможет помешать в дальнейшем северной угрозе. Конкретно же "усиление России в связи с воссоединением, нарушая выгодное для Крыма равновесие сил в Восточной Европе, толкало его к сближению с Речью Посполитой" (Заборовский Л.В., 1979, 268). Переговоры в Чигирине татар с поляками, также опасавшимися явного усиления России, закончились пактом о дружбе, ненападении и взаимопомощи Крыма и Польши. В связи со смертью Ислама договор подписал его преемник, Мухаммед-Гирей (1654 — 1666).
Договор 1654 г. был выгоден татарам, получившим союзника, но еще более — ослабевшей по ряду причин Польше. Русским, опасавшимся нового альянса, пришлось отменить планы массированного вторжения в Малую Польшу и Литву в этом и следующих годах (Мальцев А.Н., 1974, 45 — 48, 56). Когда же в 1657 г. русско-польские военные действия начались, то на помощь Речи выступили татары. Помощь полякам они оказывали и на протяжении последовавших 12 лет.
Однако в дальнейшем произошли некоторые события[72], по причине которых между союзниками наступило охлаждение. Одновременно русским и украинским дипломатам удалось, используя новое ослабление Польши (из-за войны со шведами), заключить в 1667 г. договор, известный под именем Андрусовс[225]кого. В той части трактата, что касалась "южной" политики союзников, смысл его сводился к кампании широкой агрессии: Польша должна была напасть на задунайские турецкие владения, а Россия — на Крым.
Договору сопутствовала впервые развернувшаяся в международном масштабе антимусульманская пропаганда России. В известном памятнике "Синопсис", издававшемся в 1670-х гг. в нескольких местах одновременно, развивалась идея "Мосох-Москва". Содержание ее вкратце таково: Мосох (точнее, Мешех, см.: Библия, Быт., 10, 2), шестой сын библейского Иафета, объявился "патриархом всех славян", а Москва — его прародиной. Авторов этой ранней панславистской теории нимало не смущал тот факт, что в Библии об этом нет никаких данных, а о Мосохе сообщается лишь, что он был работорговцем ("обменивал товары на души человеческие" — Иез., 27, 13) и убийцей ("распространял ужас на земле живых" — Иез., 32, 26). Странный "праотец" для всех русских, но сама древность этого "москвича" оправдывала продвижение России в направлении библейских областей, т. е. агрессию в южном направлении[73].
Почти одновременно с "Синопсисом" выступает со своей "Скифской историей" Лызлов, прямо призывающий русских возглавить многонациональный поход на неверных, предварительно "собрав многочисленные полки христианского воинства и имеющи согласие со окрестными христианскими государствы" (там же, 296). С аналогичной программой, изложенной в "Политике", обращается к России, Польше и другим христианским державам Юрий Крижанич (Бережков М., 1891, 483).
Итак, о возросшей опасности с севера говорили практические шаги русских и украинцев; о том, что в дальнейшем угроза эта не уменьшится, а лишь обострится, — политические теории антимусульманского толка и московского происхождения, все шире расходящиеся в славянском мире. Причем их нельзя уже было считать лишь публицистическим "сотрясением воздуха" — о том, что они приняты на вооружение государственными деятелями Севера, имелось немало свидетельств. Приведем лишь один пример — известный политик, начальник Посольского приказа А.Л. Ордин-Нащокин считал, что крестовый поход "против бусурман не только тем великим[226] государствам (т. е. России и Польше. — В.В. иметь достойно, но и всем великим государям христианским то дело потребно" (цит. по: Галактионов И.В., 1979, 385),
КРЫМ И МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО НА ИСХОДЕ XVII в.
В последней четверти XVII в. обостряются отношения между Турцией и Крымом, с одной стороны, и Москвой — с другой. Обострение это имело причины как местного, восточноевропейского масштаба, так и более общего характера. В Европе назревала по меньшей мере одна большая по тем временам глобальная война. Французский король Людовик XIV намеревался присоединить к своей короне Испанию и ее грандиозные американские владения, что сделало бы Францию бесспорно гегемоном на континенте. Но на наследство бездетного испанского короля претендовала и Австрия — испанец был из рода Габсбургов. Австрийского цесаря поддерживали Англия, Нидерланды и Пруссия, более всего опасавшиеся резкого усиления Франции.
Людовик XIV стремился в преддверии неизбежной войны за испанское наследство наладить мирные отношения между Польшей и Турцией, с тем чтобы опираться на них в политической борьбе с Австрией и Пруссией. Но были у "короля-солнца" и более далекие планы: в случае победы над антифранцузской коалицией он будто бы рассчитывал соблазнить шведов обещанием северорусских земель, совместно с ними ударить на Москву, а затем двинуться на Турцию и, освободив страдавших под ее владычеством православных, обратить их в католичество и тем привести под свою руку (Соловьев СМ., VII, 218 — 219).
План, как мы видим, совершенно фантастический, но Москва в реальность его верила. Поэтому здесь уже в 1670х гг. зрели проекты превентивного выступления на Турцию и Крым в расчете распространить свое влияние на южных христиан, а может быть, и включить их в число подданных царя. При этом считалось, что украинцы, сербы, молдаване и волохи с радостью поддержат как военные, так и послевоенные политические акции России. Целью первого удара в грядущем походе был избран Крым, так как "все факции[227] неприятельские этим помрачены будут и погаснут, а если не пойдут царские ратные люди... на Крым, великое бесславие, поношение и оскорбление государству Московскому причинится" (Соловьев С.М., VII, 219). Русским вторил король Польши Ян Собеский: "... ничем царское величество так не устрашит турчина, как если пошлет казаков в Крым и на Черное море" (там же, 222).
Упоминание о казаках было не случайным. Москва все еще не могла в одиночку "Крым воевать" — даже поход к Перекопу был крупной проблемой, ведь на пути лежало огромное Дикое поле, безводное и незаселенное, а для перехода через него требовалась не одна неделя. Казаки же были привычны и к степи, и к схваткам со степняками. Впрочем, и к сотрудничеству с ними, что делало помощь Сечи русским весьма проблематичной.
Был тогда среди казаков один предводитель, пользовавшийся большим авторитетом на кругах как крупный полководец и опытный политик, последовательно отстаивавший казацкие вольности. Это был гетман Правобережья Петр Дорошенко, тот самый, о котором до сих пор на Украине поют песни. Давно уже предвидя, чем должно окончиться продвижение на юг московских границ, зная о русских аппетитах на новые земли не понаслышке, а также будучи достаточно хорошо знаком с политикой и планами Польши, чтобы не рассчитывать на ее поддержку, он не нашел иного решения грядущих проблем, кроме ухода под покровительство Турции.
Турция и Крым казались гетману менее агрессивными и деспотичными, более терпимыми, чем соседние христианские державы, и, как мы видели, не без оснований. Поэтому еще в 1666 г. П. Дорошенко добился договоренности с ханом, по которой казаки могли переходить в Крым. Затем, заручившись покровительством султана, собрав воедино многие тысячи казаков, а также татар, которыми командовал нуреддин Девлет-Гирея, гетман нанес мощный удар одному из своих врагов — Польше. Союзные войска взяли Нежин, Люблин, Львов и Каменец, число полона достигло 100 тыс. В 1674 г. поход повторился, уже с участием турок. Были взяты Ладыжин и Умань, были бои и с русскими отрядами, уже рыскавшими по Украине. Некоторые историки считают, что именно[228] эти незапланированные бои стали одной из причин русско-турецкой войны, начавшейся через три года (Смирнов В.Д., 1887, 589).
Большинство казаков было против этой войны двух чуждых им держав, от которой страдала прежде всего Украина, ставшая театром военных действий. Поэтому гетман И. Самойлович, сохранивший в общем лояльность к царю, начал в 1679 г. сепаратные переговоры с турками, избрав в посредники хана Мюрад-Гирея I (1678 — 1683). Выбор этот случайным не был: на крымском троне опять оказался властитель, ведший собственную политику, нацеленную на достижение нормальных, даже дружественных отношений с соседями. Уже поэтому хан отмежевался от более агрессивной внешнеполитической линии Турции, да и во всех иных отношениях у него ни в чем не проглядывало "ни малейшего стремления служить интересам Верховной Порты или стесняться вассальной зависимости от нее в своих международных отношениях к соседям" (Смирнов В.Д., 1887, 596).
Эти переговоры, уже шедшие к благополучному исходу, заставили поторопиться и русскую, и турецкую стороны, равно не заинтересованные в самостоятельном сближении своих вассалов, и в 1681 г. мир в Бахчисарае был подписан.
Согласно Бахчисарайскому договору, перемирие устанавливалось на 20 лет; рубежи соседей определялись по Днепру, но казаки имели право выхода к традиционным морским и рыбным ловлям у берегов ханства. Русские настояли и на том, чтобы татары "не переманивали" к себе казаков — очевидно, это вредило престижу "покровителя" Сечи — царя. Московские "поминки" сохранялись, как и обязанность выплаты накопившихся недоимок по ним.
В. Д. Смирнов высоко оценивал значение этого договора, называя его "полюбовным" (там же, 295), т. е. обоюдовыгодным Москве и Крыму. Его приветствовали крымское население ("множество христиан и бусурман, заслышав о заключении мира, толпились у шатра и провожали посланников радостными восклицаниями") и жители Украины — на обратном пути во всех городах послам устраивались "торжественные встречи", в которых участвовали "духовенство со свечами и св. водою, полковники, сотники и есаулы с конным войском, с знаменами, трубами и литавра[229]ми" (там же). Всеобщее удовлетворение было вполне понятным: от войн устали и крымчане и украинцы. Вряд ли будет ошибкой оценить этот договор 1681 г. как первый устраивавший обе стороны, причем до такой степени, что каждая считала его выгодным прежде всего для нее самой[74]. К сожалению, этому миру был сужден недолгий век — и не по вине Крыма.
В 1683 г. образовался австро-польский антитурецкий союз, куда была приглашена и Москва. В ходе переговоров уточнилась и ее задача — идти на Крым. В 1686 г. Россия обязалась разорвать Бахчисарайский договор и "немедленно вступить на крымские переправы для защиты Польши от татарских нападений", а на будущий год "послать войска свои на Крым" (Соловьев СМ., VII, 371 — 373). От имени правительства договор подписал В.В. Голицын.
Бахчисарая, где уже правил новый хан Селим-Гирей I (1686 — 1691), известие о новой угрозе достигло довольно быстро и сразу стало причиной общей тревоги. Селим был человеком весьма осторожным, он постоянно стремился к миру и поэтому, с одной стороны, сдерживал понятный гнев своих мурз, чтобы не давать русским никакого повода для нарушения мира, а с другой — укреплял оборону ханства. При этом он даже не останавливался перед ссорой с султаном, которому прямо отказал помочь войском в походе на венгров (Смирнов В.Д., 1887, 613).
Взрыв недовольства нарушителями мира эхом отозвался по ту сторону Перекопа, на Украине. С.М. Соловьев приводит любопытный диалог между И. Самойловичем и думным дьяком Е. Украинцевым. Гетман указывал, что войну начинать "не из-за чего", договор с татарами выгоден, от нарушения мира "прибыли и государствам расширения никакого не будет, до Дуная владеть нечем — все пусто, а за Дунай далеко", Крыма же "никакими мерами не завоюешь и не удержишь". Московский дьяк в ответ мог повторять лишь одно, что "турки и татары — вечные христианам неприятели, теперь все государи против них вооружаются, а если мы в этом союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех христиан, и все будут думать, что мы ближе к бусурманам, чем к христианам". Самойлович полагал, что добрый мир с Крымом полезнее войны уже потому, что если поляки "встанут на нас, то можно против них татар приговорить... я[230] непременно сделаю, что татары всегда будут при нас". В ответ Украинцев, прекрасно помнивший о татарско-украинских походах на Польшу, заявил, что православные "не пожелают... бусурман нанимать и наговаривать их на разлитие крови христианской", на что гетман возразил вполне реалистично и политически куда грамотнее: "Татары подобны мечу острому или городу крепкому; христиане носят же при себе меч для победы над неприятелем или для обороны. Кто ни есть, только б мне друг и в нужде помощник".
Логика гетмана сделала бы, как видим, честь и политикам XX в., поэтому дьяк, не удержавшись на таком уровне дискуссии, выложил последнюю карту — стал соблазнять казака возможностью пограбить крымчан, но тщетно. Самойлович отказался "менять золотой мир на железную войну" (Соловьев СМ., VII, 379 — 382). К тому же выводу пришел в переговорах с Москвой и политик, казалось бы всецело заинтересованный в русском продвижении на юг, — константинопольский патриарх Дионисий. Находясь на стыке восточной и европейской дипломатий, он полагал, что нападение на Крым принесет больше вреда, чем пользы, так как даст козырь в руки антирусской "партии" в Стамбуле, прежде всего французам.
Другими словами, сторонники войны, широковещательно заявившие, что думают о благе всех православных, явно действовали в чисто эгоистических интересах. Их не остановило и то, что христиане, "томившиеся" под крымским или турецким игом, вовсе не желали менять его на московское. Весной 1687 г. В.В. Голицын выступил со стотысячным войском на Крым: "правительнице" Софье нужна была громкая победа для укрепления странного статуса ее любовника.
Поход окончился бесславно — войско еле добрело сожженной степью до Перекопа и, обессиленное, повернуло назад. Причем, как утверждали современники, степь подожгли сами казаки, призванные в московское войско, — так велико было их неприятие войны с соседями. Именно за это Москва сместила И. Самойловича и назначила на его место И. Мазепу (Gordon P., 1851, 177, 184-188).
Возникает естественный вопрос: а были ли испробованы русскими иные, мирные средства к изменению переставших удовлетворять Софью условий[231] мира? Оказывается, были. Перед началом войны московское правительство потребовало от Турции "ни много ни мало, как уступить России Крым и обе крепости, запиравшие выходы в Азовское и Черное моря... далее — всех татар из Крыма выселить... и уплатить контрибуцию в 2 млн червоных".
Естествен и второй вопрос: а могла ли Москва рассчитывать на положительный ответ султана? Ответ дает крупнейший советский историк эпохи академик М.М. Богословский, которому и принадлежит приведенная выше цитата: Турции предъявили "требования, совершенно неприемлемые для последней" (1940, 207).
Другими словами, это был, очевидно, чисто дипломатический демарш, заранее рассчитанный на отказ, что давало некое оправдание разрыву Бахчисарайского мира. Но акция России представляет научный интерес и в ином плане. Это программа южной ее политики, впервые заявленная открыто. Программа, первую часть которой удалось, по словам М.М. Богословского, осуществить "ровно сто лет позже императрице Екатерине II" (там же). Академик не дожил 15 лет до осуществления и второй ее части, которую осуществил "отец народов" Сталин.
При всей неприкрытой враждебности Крыму ультиматум имел практическую ценность и для татар. Отныне они знали, на что могут рассчитывать в случае победы России на Юге. Вернее, что им будет не на что рассчитывать. Было положено начало затянувшейся на столетия, но неуклонно осуществлявшейся Россией акции, редчайшей в истории Европы. Аналогов не сыщешь, во всяком случае в применении к самой России, в планах ни одного ее неприятеля ни до XVII в., ни после. Самые далеко идущие прожекты такого рода предполагали смену правительств или государственного строя, порабощение народа и т. п. Но никто и никогда не ставил себе целью, захватив Россию, полностью, до последнего человека, "очистить" ее от русских.
У читателя могут возникнуть сомнения в правомерности сравнения судеб великой державы с историей мелкого, к тому же полувассального, ханства. Но ведь речь здесь идет о конце XVII в., когда Россия еще не сделала тех шагов (в основном в плане экспансии), что ввели ее в сонм великих держав. Пока же у нее не[232] хватило сил даже на то, чтобы избавиться от обязанности платить Крыму унизительные "поминки". Другими словами, речь идет о двух соседних государствах, обладавших сравнимыми военными и экономическими потенциалами. Несравнимым было иное — потенциал агрессивности, идеология экспансии были у России уже тогда на уровне, Крыму совершенно несвойственном. Поэтому именно Россия — держава, во главе которой стояли "христианнейшие" государи, — еще в XVII в. заявила без малейшего смущения о своей готовности захватить соседнюю страну и стереть даже память о народе, некогда ее населявшем, без каких-либо полумер.
Вот та жестокая реальность, с которой должны были отныне считаться все правители Крыма, разрабатывая свою внешнеполитическую концепцию.[233]
VIII. КРЫМ В ЭПОХУ ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ II
КРЫМСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1690-х гг.
Крымские походы В.В. Голицына окончились без славы и принесли ущерб более Москве, чем Крыму. Когда наступила мирная передышка, то новый гетман первым делом попытался возобновить с татарами нормальные отношения. Хан с готовностью откликнулся на эту инициативу, но когда его гонец прибыл с предложением восстановить мирные связи на обоюдовыгодных условиях Бахчисарайского трактата, то русские, все грубее вмешивавшиеся в украинскую внешнюю политику, откровенно выступили против такого решения "южного вопроса" (Соловьев С.М., VII, 494). Затем на Украине разгорелась очередная смута, и переговоры прекратились.
Инициатором массовых этих волнений был Петрик, племянник генерального писаря В. Кочубея, а характер их был отчетливо социальным. Восставшие стремились "искоренить арендаторов, панов и всех богачей", которые в последнее время совершенно экономически подавили украинских крестьян и даже казаков. Впрочем, к смуте примыкали и зажиточные запорожцы, еще не забывшие былую волю. Кошевой Гусак точно обозначил причину мятежей — распространение на Украине русских крепостнических порядков ("бедным людям хуже, чем при ляхах" — новые господа принуждают украинцев, чтобы они "сено или дрова возили, печи топили или конюшни чистили").
Отдавая себе отчет в могуществе части руководства Сечи, поддерживаемого Москвой, Петрик обратился к татарам с просьбой о помощи и заключил с ними договор. Хан обязался помогать восставшим в борьбе с русскими правительственными войсками и частью казачества, оставшейся верной московскому правительству и ставленнику его Мазепе. И уже летом[234] 1692 г. Петрик во главе нескольких тысяч казаков, стремя в стремя с прискакавшим из Крыма калгой Девлетом пытался овладеть Каменным Затоном. К нему присоединялись все новые казацкие сотни, подтягивалась и крымская конница, так что когда Мазепа попытался с ходу опрокинуть союзников, то у него ничего не вышло; пришлось слать гонцов за московской помощью. Волновались казаки и на следующий год, и московские каратели ничего не могли с ними поделать, так как хан прислал Петрику 40-тысячное войско. Впрочем, значительных успехов не добились и восставшие. Смуты и кровопролитные бои между русскими и украинцами вспыхивали с тех пор почти ежегодно с наступлением лета.
Неясная эта ситуация начинает меняться с приходом к единовластию Петра I. Перед молодым царем, стремившимся пробиться к морю, стоял выбор — Балтику добывать или Черное море. В пользу первого варианта его склонял Ф. Лефорт, в пользу второго — Мазепа, заинтересованный в воинском присутствии русских на слишком уж вольной Украине. Царь, как известно весьма привязанный к гетману, склонился к его мнению и выступил в 1695 г. на Азов. Поход больших результатов не имел, но, когда он через год повторился, турецкий гарнизон крепости сдался, и Россия получила выход в море.
Крымские татары не могли выступить против русских потому, что их не поддерживали ногаи, как раз в эти годы все более склонявшиеся к мятежу против хана, а также оттого, что часть собственно крымского войска была занята по причине тех же ногайских волнений. Ничем не мог помочь ни турецким гарнизонам, ни восставшим казакам и калга Девлет, ставший к тому времени ханом (1699 — 1703, 1708 — 1713). Но и занятый внутриполитическими проблемами, он пытался по мере сил воспрепятствовать продвижению на юг русских.
Собственно, эта забота о безопасности Крыма и свела его в первый раз с бахчисарайского престола. Обеспокоенные тревожными письмами хана о том, что крепости московитов уже в 15 часах пути от татарских, турки, собиравшиеся было засыпать для безопасности Керченский пролив, послали для проверки положения в Крыму своего чиновника. Тот прибыл в Керчь, ездил к новой крепости русских, где[235] те сумели подкупить его через неизвестных нам посредников. Короче, когда турок явился к султану, то уверял его, что укрепление неверных совершенно крошечное, площадью "не более одной или двух собачьих шкур" (Смирнов В.Д., 1887, 689). У султана отлегло от сердца, но, пристыженный своими недавними страхами и раздраженный, он снял Девлет-Гирея II с ханства.
Была и вторая причина этой неудачи — накануне Великой Северной войны (1700 — 1721) Россия заключила с турками мирный договор, согласно которому Азов возвращался Крыму, а турки обещали не позволять татарам совершать набеги на новые русские владения (ПСЗ, IV, №1804). Девлет же был присяжным врагом русских, что не раз ставило по его вине договор под угрозу разрыва.
Особенно большой соблазн вмешаться в украинские дела возникал у хана с каждым новым казацким мятежом, а их в эти годы было немало. Цепь русских военных городков и крепостей, все дальше спускавшаяся к югу, беспокоила запорожцев не меньше, чем татар. Особенно их раздражал Каменный Затон, воздвигнутый у самой Сечи. Гетман Мазепа, бывший тогда ярым врагом Запорожья и послушным проводником украинской политики Петра I, писал в 1703 г. в Москву: "Не так страшны они, запорожцы... и пересылки с ними хана крымского, как то дело рассудити надобно, что чуть не вся Украина запорожским духом дышит" (Львов Л., 1985, 21).
И в самом деле, отношение украинского народа ко всему, что несла с собой московская власть, весьма сложное в год Переяславской рады, со времен Хмельницкого стало вполне определенным. И такие признанные лидеры народного восстания, как К. Гордиенко и П. Сорочинский, опирались в основном на голытьбу, по которой больнее всего ударили новые порядки, на массы.
В антифеодальной и национальной этой борьбе четко прослеживаются две традиционные черты. Это ее общенародность — как в свое время П. Дорошенко был связан с С. Разиным, так и теперь от запорожцев протянулись нити ко всему населению Право- и Левобережной Украины, а также к булавинцам на Дон (Возгрин В.Е., 1986, 223). И во-вторых, видное место по-прежнему отводилось Крымскому ханству.[236] Особенно усилилась последняя тенденция после того, как стало известно, что царь, будучи не в силах самостоятельно подавить украинское восстание, зовет помощь из-за рубежа; с запорожцами теперь должны были воевать их старинные недруги — поляки. За это Петр обязался отдать Польше все Правобережье вместе с Белой Церковью (там же, 222). После чего состоялась рада, на которой казаки решили войти в союз с ханом, а К. Гордиенко сообщил в Бахчисарай, что Сечь согласна вместе с татарами "Москву воевать". Для конкретных же переговоров в Крым отправился П. Сорочинский. Заметим, что все эти события произошли до "измены" И. Мазепы и вопреки его пока промосковской до низкопоклонства политике, а также собственным монархическим устремлениям гетмана.
Наиболее глубокие из старых исследователей делали вывод о том, что на рубеже XVII и XVIII вв. Украина и Крым, эти сравнительно скромные по размерам государственные образования, разработали в противовес России, Польше и Турции, стремившимся их подавить, общие линии в политике, схожие интересы усиливали их взаимопритяжение (Львов Л., 1895, 13 — 14). Этот процесс шел вопреки грозным приказам Москвы, все более привыкавшей смотреть на Украину как на свою вотчину, а во многом — благодаря им. Появляется плеяда талантливых лидеров казачества, предвидевших скорую гибель Сечи, если отношения с царями и далее будут развиваться в прежнем направлении. Эти кошевые атаманы (выше были названы лишь немногие из них) использовали каждый год мирной передышки перед близившейся войной, временное уменьшение числа царских войск на Украине (много солдат потребовал шведский фронт) для установления все новых связей с соседями — "басурманами". Их поддерживало все население — утихшие от звона сабель степи покрылись сотнями чумацких возов с солью, телегами с хлебом, гуртами скота, тянувшимися в Крым и из Крыма.
Нельзя сказать, что Москва, Варшава и Стамбул пассивно наблюдали за этой эволюцией в украинско-казацких отношениях. Турки и поляки пытались расстроить крепнувшие мирные связи исподволь: первые — через своих людей при ханском дворе, членов дивана, подбивавших Гирея на новые походы против украинцев, вторые — используя прямые кон[237]такты с царем и Мазепой. Впрочем, гетман и сам осознавал гибельность для своей власти на Украине, для ее абсолютизации политического, экономического и культурного сближения украинцев с татарами, достигшего своего апогея на закате истории Войска Запорожского. Ради этого гетман был готов жертвовать не только военным и политическим, но и экономическим укреплением Украины, которое нес с собой мир; так, он откровенно указывал: "А миру запорожцам с Крымом никогда не иметь, и остерегать того накрепко, чтоб из малороссийских городов в Крым с торгами, запасами и всякой живностью не ездили и лошадей в Крым не продавали" (Величко В., 1851, III, 38). Столь же неприкрыто пресекали указанные контакты и царские указы.
Может возникнуть предположение, что подобная политика царя, Мазепы и поляков, одинаково враждебная татарам и вольному казачеству, была вызвана исключительно опасением крымских набегов. Но в конце XVII в. они уже стали по сути достоянием истории. Дело здесь было в другом: Москва боялась объединения двух неподконтрольных ей сил. Поэтому и царь и Мазепа предлагали казакам жесткую альтернативу: борьба Сечи с Крымом или железный занавес между ними, третьего дано не было. Ниже мы увидим, с какой последовательностью эта линия проводилась в жизнь; особенно четко она проявляется в свете крымско-шведских отношений.
КРЫМ И ШВЕЦИЯ
Первое упоминание о связях двух столь далеких друг от друга народов, как крымские татары и шведы, мы находим под годом 1556. Тогда речь шла о совместном выступлении против усилившегося русского соседа, проявившего невиданную ранее агрессивность и страсть к экспансии, равно опасную для Швеции и Крыма. С аналогичной целью посещало Стокгольм посольство Мухаммеда-Гирея Жирного и в 1579 г., но обе эти дипломатические акции оказались безрезультатными. Пытались заключить военно-политический союз с Крымом и шведские короли Юхан III, Сигизмунд III и Густав II Адольф. Характерно уже для раннего этапа истории шведско-крымских отно[238]шений стремление ханов вести эту политику изолированно от турецкой и даже в ущерб последней. Так, Джаныбек-Гирей II (1610 — 1623, 1627 — 1633), собрав по требованию султана 30-тысячную армию для персидского похода, решил отправить ее на помощь шведам. Напротив, Ислам-Гирей III (1644 — 1654) призывал королеву Кристину присоединиться к Крыму, Украине и Польше для совместной борьбы с Москвой (Возгрин В.Е., 1978, 320 — 323).
В эпоху Северной войны инициатором крымско-шведских связей выступил Девлет-Гирей П. Момент первого контакта его с королем нам неизвестен, но уже в 1702 г. хан мог предъявить султану свою дипломатическую переписку со шведами и запорожцами относительно антирусского союза с ними (Возгрин В.Е., 1985, 70). Но турок, уже имевший выгодный ему мирный договор с Петром, ответил на план хана сражаться против русских на Украине совместно со шведами категорическим запретом.
Тогда Гирей решился на отчаянный шаг. Считая, что враждебное Крыму кольцо далее может лишь сужаться, он выступил против силы, мешавшей ему это кольцо разорвать, — против Турции. Хан собрал огромную рать из собственно крымских и ногайских татар, ему обещала помочь и Сечь, но туркам удалось опередить выступление союзного войска — в 1703 г. Гирей был низложен, а собравшиеся разошлись по домам.
Преемник свергнутого хана, его отец Хаджи-Селим-Гирей, севший на трон в четвертый раз, продолжал политику сына. Убедив султана в растущей опасности со стороны русских, он содействовал закладке турками крепости Ени-Кале, с тем чтобы преградить петровскому флоту выход из Азовского в Черное море. Далее, он направил, уже без ведома турок, предложение Карлу XII о союзе и помощи. Однако король шведов, всецело занятый в то время своими польскими походами, инициативу Крыма игнорировал, а вскоре старый хан умер, так и не дождавшись ответа из королевской ставки.
Союз с Бахчисараем приобрел в глазах шведов актуальность лишь весной 1708 г., когда стала готовиться их русская кампания. К этому времени ханом вновь стал Девлет-Гирей II, тепло принявший шведского гонца и немедленно начавший готовиться к по[239]ходу. Более того, он через своих стамбульских друзей склонял к совместному выступлению султана, укреплял связи с польским королем Станиславом и Сечью. А к началу 1709 г, Крым мог уверенно обещать Швеции помощь уже собственным войском, в которое входили нашедшие в Крыму приют после разгрома Булавина 8 тыс. казаков под руководством И. Некрасова (Смирнов В.Д., 1889, 12).
Опираясь на поддержку казаков, хан, таким образом, вновь декларировал открытое неповиновение Турции и далее противодействие политике Стамбула — к тому времени султан Ахмед III занял целиком нейтральную к русско-шведской войне позицию. И если шведы выбрали в Восточном походе путь не на Москву, а на Украину, то это лишь в расчете укрепиться за счет татар и казаков, а никак не турок.
Весной 1709 г. шведы сообщают хану, что Сечь с ними заодно, а вскоре и султан соглашается смотреть на выступление татар сквозь пальцы и даже отправляет к границам Украины боеприпасы и пушки (Возгрин В.Е., 1986, 224). Казалось, ничто не могло помешать осуществлению плана двойного удара по войску Петра I, задуманного шведским королем и крымским ханом заодно с казаками Сечи и Дона. А ведь угроза была нешуточная: если под Полтаву Карл XII привел 17 тыс., а Петр — 40 тыс. солдат, то татарское войско превышало 40 тыс., не считая казаков, и могло резко склонить чашу весов в пользу шведов. Тем не менее план этот был сорван.
Той же весной царь встретился в Азове с турецким кападжи-пашой, человеком, представлявшим при бахчисарайском дворе султана. В ходе этих встреч Петр не только сжег на глазах у турка свой Азовский флот, но и передал ему крупную сумму золотом и отпустил с ним большую группу пленных мусульман (Возгрин В.Е., 1986, 226).
В чем был смысл этого поступка царя? Петр не мог обезвредить силой ни Девлет-Гирея, ни Карла XII, ни султана. Поэтому он решил подкупить одного из противников, чтобы разорвать враждебное кольцо. Он пытался передать деньги хану, но недооценил целеустремленность и патриотизм Девлет-Гирея — тот с презрением отклонил такое предложение. Но если татарин отказался торговать интересами своей родины, то в совершенно ином качестве проявили[240] себя турки. Был куплен кападжи-паша в Азове; с такой же легкостью П.А. Толстой купил великого визиря Чорлулу-Али-пашу и других придворных в Стамбуле[75], и султан тут же направил в Бахчисарай категорический запрет выступления крымцев против России. Второй важный пункт султанской грамоты касался запорожцев. Дело в том, что в 1709 г. Сечь вторично просила хана принять ее в крымское подданство (ЦГАДА, 89, 1709, №2, л. 26 об.). Об этом узнали русские, чей посол в Стамбуле П.А. Толстой просил султана категорически запретить подобное беспримерное крымско-украинское сближение (там же, л. 138). Однако само это ходатайство запорожцев стало последней каплей, переполнившей чашу терпения грозного царя. Вскоре из-за предательства одного из сечевых полковников, Гилагана, войско казаков несколько ослабело, и, главное, в нем наметился внутренний раскол. Царь воспользовался этим и нанес решающий удар; казаки потерпели поражение. Торжествующие победители сожгли ряд городов, в том числе Чигирин и Сечь. Были взорваны или сожжены даже небольшие казацкие крепости и селения, ограблены не только частные дома, но и церкви (Эварницкий Д.И., 1892, III, 442 — 443).
О знаменитой кровавой вакханалии, устроенной петровскими солдатами в области Войска Запорожского и в других украинских землях, написано немало. Поэтому мы не будем здесь приводить данные о числе зверски убитых женщин и детей, о количестве казаков, с которых заживо содрали кожу или посадили на кол. Приведем лишь одно свидетельство современника, человека XVII в., которого жестокостью было трудно удивить; он признал, что того, что устроили на Украине русские, "и в поганстве (т. е. в языческие времена. — В.В.) за древних мучителей не водилось" (там же).
Узнав об украинской резне, султан, очевидно, утратил веру в возможность победы над московским войском и снова запретил хану вмешиваться в северные дела. Иным было настроение у Девлета — он пускает в ход интригу, прося помочь ему сераскира Бендер, одного из турок, бывшего его политическим единомышленником, а главное, обладавшего большим весом при султанском дворе. Сераскир вошел в контакт со Стамбулом, и вскоре великий визирь со[241]общил ему, что султан одобрит выступление Крыма, но лишь в том случае, если Турции будет гарантирована выгода от будущей победы над русскими шведско-татарского войска, т. е. если Карл XII и Девлет предварительно заключат с Турцией договор, согласно которому мир с царем они не подпишут, пока в трактат не войдет пункт об ограничении дальнейшего продвижения русских на юг. Весть об ответе Турции пришла к хану, когда он вопреки приказу султана уже вывел конницу к Днепру. Татары остановились, ожидая решения вопроса о новом договоре. Шведы передали свое согласие на предложение султана, хан — тоже, но, пока турки вели эту мелочную торговлю, грянула Полтавская битва и разом все переменила.
Примечательно, что бежавший после разгрома в Очаков Карл XII уже через полмесяца шлет своего постоянного представителя О. Клинковстрёма в Бахчисарай, не без оснований полагая, что хан его не оставит: ведь Девлет-Гирей был единственным в Европе правителем, интересы которого полностью совпадали со шведскими и который никогда не торговался с королем, а предлагал свою помощь на любых условиях. Карл не ошибся: хан остался на тех же позициях и после Полтавы (в противоположность Стамбулу, сразу прервавшему переговоры с королем без армии). В августе 1709 г. Девлет-Гирей предлагал (снова в обход Турции!) все свое войско, чтобы помочь Карлу пробиться в Померанию, где стояла крупная группа шведских войск.
Прежним остается отношение хана и к России, перед которой после Полтавы начинают заискивать иные державы. Он отказался от любых переговоров с петровскими дипломатами, когда те в августе 1709 г. прибыли в Бахчисарай для укрепления мира; им, по выражению Клинковстрёма, "тут же заткнули рот и отослали назад" (Возгрин В.Е., 1986, 225).
В 1710 г. в Крыму ведет переговоры новый посол Швеции С. Лагерберг — снова о заключении союза и снова с участием уцелевших от побоища казаков, которых осталось немало и на Украине, и в Крыму. Одновременно обсуждалась и проблема возвращения Карла XII из Турции в свою армию, стоявшую в Померании. Хан предлагал свое войско для "эскорта" королю, который должен был пробиться сквозь не[242]спокойные или прямо враждебные ему европейские земли.
Узнав о плане татар, встревожился Петр. Не возражая против турецкого эскорта, он послал в Стамбул протест против крымского сопровождения, понимая, чем грозит ему появление нескольких десятков тысяч татар в Польше или Северной Германии. Султан, согласившийся было на план Гирея, протест царя отклонил, но тот выставил ультиматум: если король не будет выставлен из Турции, то русские войска тут же пойдут с Украины к турецким границам, вдоль которых возведут свои крепости. Султан счел себя оскорбленным подобным вмешательством в его внутренние дела, а хан, раздувая этот гнев, склонял его к объявлению России войны. И вскоре она действительно началась по инициативе Гирея, в чем были уверены все современники (Возгрин В.Е., 1985, 74). Он же и начал военные действия, вступив на Украину вместе с находившимися в Крыму шведами, украинцами, донскими и кубанскими казаками.
Недолгая и бесславная для России, эта война окончилась известным событием. Царская армия была окружена у р. Прут вчетверо превосходящим турецко-татарским войском, которое получило таким образом возможность ее уничтожить. Собственно, здесь можно было не рисковать исходом сражения, надо было лишь ждать: у русских, оторванных от баз снабжения, уже заканчивалось и продовольствие и боеприпасы, начинался голод, который быстро завершил бы дело. По собственному признанию царя, ему грозил позорный плен, но снова все спасла огромная взятка, врученная окруженцами великому визирю Мехмед-паше Балтаджи (Новичев А.Д., 1963, 195).
Гирей яростно протестовал против переговоров с русскими, утверждая, что трофеи и так никуда не денутся, но все победила несравненная турецкая жадность — визирь и его чиновники, получив взятку, стали хлопотать о подписании мира, и вскоре Прутскии договор 1714 г. был заключен безвольным и слабым Ахметом III.
Для Крыма этот трактат был выгодным (возвращались азовские крепости и т. д.), но только на первый взгляд. Хан понимал, что содержащееся в договоре запрещение дальнейшего продвижения русских на юг лишь временная отсрочка наступлению России. Оно[243] могло бы быть остановлено единственно договором, в котором гарантом выступила бы какая-нибудь из сильных европейских держав, связанная союзами с еще более сильными государствами, Швеция например. И поэтому Гирей неоднократно пытался разжечь огонь войны Турции и Крыма с Россией, пока не кончилась русско-шведская война, с целью заключить более надежный турецко-русско-шведский мир, гарантированный желательно великими европейскими державами.
Однако влияние хана постепенно слабело. В Крыму обострялась внутренняя обстановка, вновь против Гирея выступают его ногайские мурзы. В Керчь и другие города были переброшены крупные янычарские отряды, что также не способствовало увеличению свободы действий хана.
ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ И КАНТЕМИР
В начале XVIII в. новое, возросшее значение для политики ханов получили дунайские владения Турции — Валахия и Молдавия. В советской историографии тема эта мало разработана, и даже в самых серьезных трудах встречаются неясности и лакуны. Так, например, когда речь идет о Молдавии, то рассматривается некая идеальная единая политика этого пашалыка[76]. И остается неясным, какая именно часть населения внешнюю политику определяла — угнетенные христиане, не столь многочисленное, но экономически мощное смешанное среднее сословие или же преобладающе мусульманского исповедания политические лидеры?
Наиболее актуальна эта научная проблема в применении к 1710-м гг. Девлет-Гирей, высоко ценя политический вес ставленника султана в Молдавии, граничившей с крымскими и украинскими (русскими) землями, настаивал на передаче этого важного поста верному ему человеку. За взятку ему удалось склонить турок в пользу Кючук-Хан-Темир-оглу (в русской традиции — Дмитрия Кантемира), отпрыска старинного крымскотатарского рода, шедшего по прямой линии от "железного старца" — Тамерлана. Кантемир давно уже жил в Турции, имея в Стамбуле свой дворец и занимая крупные посты при султанском дворе. Но[244] он был и личным другом хана, разделяя политическую концепцию Крыма (Возгрин В.Е., 1985, 75).
Тем не менее настало время, и втайне от султана и своего бахчисарайского друга Кантемир вступил в переговоры с русскими. Целью этой вполне личной политики было отколоть Молдавию от Турции и превратить административную власть над молдаванами в наследственную монархическую. Естественно, у этой политики были противники — бояре, например, склонялись к переходу под опеку Польши с одновременной республиканской реформой (Советов П.В., 1979, 316 — 319). Но Кантемир надеялся подавить оппозицию с помощью "московских методов", ставших на Украине общеизвестными. Впрочем, договора с Петром этот турецкий вельможа не заключал, пока царь не обязался обеспечить его и в случае провала его интриги (усадьба в Москве, солидное денежное содержание для семьи и свиты и т. п.).
Об авантюре Кантемира никто, кроме узкого круга доверенных лиц Петра, не подозревал: господарь по-прежнему участвовал в военных походах Девлет-Гирея, но когда он перешел на сторону царя открыто, то отвечать за своего протеже пришлось хану. Гирей, и без того давно уже вызывавший раздражение Порты своей независимостью, был обречен. Но турки опасались, что Девлет в отличие от большинства ханов добровольно в изгнание не удалится и окажет вооруженное сопротивление. Поэтому Стамбул терпеливо ждал случая, который мог бы окончательно скомпрометировать Гирея, а пока широко оповестил крымских мусульман об измене Кантемира и о роли, которую сыграл в этой истории их хан.
Такой случай вскоре представился. Как известно, Карл XII, не желавший добровольно покинуть свое турецкое убежище, не подчинился прямому указу султана и даже оказал янычарам, пытавшимся выдворить его силой, вооруженное сопротивление, сопровождавшееся человеческими жертвами (знаменитый "калабалык").
Тогда султан приказал заняться королем и его свитой хану. Тот с весьма щепетильной этой задачей не справился и тут же был смещен с престола — теперь уже навсегда. С этим смещением наступил конец славной плеяды Гиреев — сторонников независимого Крыма. Отныне ханы могли лишь ждать, кто из могучих[245] соседей первым протянет руку к этому созревшему плоду — Турция, Россия или Польша. Но если в самом начале XVIII в. подобный вопрос мог быть решен в нескольких вариантах, то каждое последующее десятилетие этого рокового для судьбы крымских татар века приносило все более шансов крепнувшей России.[246]
IX. ПОХОДЫ МИНИХА, ЛАССИ, ДОЛГОРУКОГО
КРЫМ НАКАНУНЕ ВТОРЖЕНИЯ
Еще в 1711 — 1712 гг., когда после катастрофы на Пруте шли переговоры о новом русско-турецком мирном пакте (действие Прутского договора было недолгим, он был аннулирован турками), хан всячески этот диалог тормозил. Тем не менее в 1712 г. был подписан трактат, согласно которому в течение 25 лет (срок его действия) Азов по-прежнему оставался во владении татар и турок; Каменный Затон и другие крепости у татарских границ восстанавливать после разрушения запрещалось. Вопрос о возобновлении "поминков" поднимался, но, очевидно, их анахронизм был настолько явен, что проблема этого средневекового рудимента безвозвратно утонула среди других, более актуальных, и никогда больше не поднималась.
В 1712 — 1714 гг. Турцией были заключены иные договоры, отразившие совершенно изменившуюся ее ориентацию — теперь направленную на мирное сосуществование с Россией и Польшей. Но с другой стороны, начались ее войны с Венецией и Австрией; это было новое, более актуальное направление внешней политики дряхлевшей империи, чем старый и бесплодный конфликт с Москвой. Сказалась эта перемена и на внешней политике Крыма.
В 1710 — 1720 гг. не отмечено ни одного большого похода татар на север. И дело здесь было не только в запретах султана. По самой своей сути набеги типологически всецело принадлежали средним векам. Теперь же и феодалы и ханы все более становились продуктом Нового времени, хотя и с некоторым опозданием. В ханский дворец и бейские резиденции вошла новая идеология, ранее не свойственная феодалам ни одной из европейских стран. Появились, хоть и робко вначале, новые модели социального поведения, структур экономического развития, культур[247]ных феноменов. За полвека, прошедшие с эпохи больших набегов совместно с Б. Хмельницким и другими казацкими лидерами, в Крыму многое изменилось. Полностью исчезли остатки кочевого скотоводства, среди татар преобладающим стал удельный вес земледельцев, ремесленников, рыбаков — слоев, и ранее не помышлявших о неверной и опасной прибыли от продажи угнанного "полона". Уже были безвозвратно утрачены сложные навыки многодневных конных походов. Абсолютное большинство крымцев свыклось с мирным трудом, а заперекопские орды, главная опора ханов в набеге, вышли из подчинения Бахчисараю.
Социально-экономическая по своей сути, эта эволюция неуклонно меняла и внешнюю политику ханства. Ни один из Гиреев, сменивших Девлета II, не помышлял более о том, чтобы диктовать, как ранее, свою волю Москве — цель эта не оправдывала средств. Да и опасными были новые конфликты до того, что ни разу более хан не идет в поход даже на Украину, не заручившись поддержкой Польши или иного врага России или казаков. И в Москве 1720-х гг. Крым рассматривают уже не как постоянную угрозу, но как обычное соседнее государство, представляющее не субъект, но объект агрессии. И чем более грозной становилась мощь Москвы для ее северных и западных соседей, чем обеспеченнее — ее граница с Польшей, Литвой и Скандинавией, тем чаще взоры Петербурга останавливались на бескрайних просторах цветущего Юга.
Удобный для экспансии момент наступил в начале 1720-х гг. Турки потерпели ряд поражений в войне с Австрией и Венгрией, и Петр воспользовался этим, чтобы усилить свое влияние в соседних с Турцией кавказских землях. В результате краткой войны с Персией к России в 1723 г. отошли Баку и Дербент с прилегающими территориями. В ответ Турция вторглась в Грузию, захватив Тбилиси. А еще через год в Стамбуле был подписан договор о разделе кавказских земель; России достались прикаспийские, области: Грузия, Ширван, Ереван, Карабах, часть Азербайджана.
В Крыму этих лет царил полный хаос, источником которого были обострения отношений между бейскими и ханскими родами. Дошло до смещения не[248]скольких Гиреев, прокатилась волна свирепых казней (Смирнов В.Д., 1889, 28 — 39). Именно поэтому ханы не могли (или не захотели) воспользоваться ослаблением турок в собственных, крымских целях. И когда к власти пришел Менгли-Гирей II (1724 — 1730), он вновь присягнул на верность султану, обязавшись слать крымцев в Трапезунд и далее, на Персидский театр военных действий Турции. Год за годом тянулись эти чуждые интересам Крыма, губительные для его народа войны за морем, а хан боялся ослушаться султана: то тут, то там вспыхивали искры едва погасших бейских мятежей, в которые всегда могли вмешаться турки. И даже когда в 1724 г. в Бахчисарай прибыли казацкие "командиры", чтобы в очередной раз просить о переходе в крымское подданство, хан отказался их принять.
Очередная вспышка антитурецкой активности России снова совпала с ухудшением положения Порты. Когда в 1730 г. там вспыхнуло восстание янычар, в Петербурге ощутилось явное "стремление освободиться от пут, наложенных Адрианопольским и Константинопольским договорами, вызванными неудачей Прутского похода, и получить выход к Черному морю" (Новицкий А.Д., 1963). На сей раз Россия решила привлечь к войне Персию, вернув ей Дербент, Баку и другие завоевания. Но не успели страны подписать договор, как турки бросились на едва освобожденные русскими земли Персии. Точнее, заняли их не турки, а посланные ими войска хана.
Новый крымский властитель Каплан-Гирей (1730 — 1736) обладал, очевидно, известной степенью самостоятельности от Порты, так как, получив указ о походе, он собрал диван, где поставил вопрос о необходимости такого выступления: ведь надо было "иметь в виду союз московов с персами: война против одних необходимо вызовет войну с другими, надо быть готовыми иметь дело с обеими сторонами" (Смирнов В.Д., 1889, 53).
Было решено все же войско готовить: реальная угроза турецких репрессий страшила хана и его совет больше, чем проблематичная со стороны России. Положение осложнялось тем, что конница под началом сыновей хана должна была проследовать через Кубань, т. е. территории, которые к тому времени русские считали своими. В 1735 г. к Дербенту дви[249]нулся и сам Каплан-Гирей с 80-тысячной армией. И вот, когда он удалился в кавказские предгорья, на Крым напали русские.
Зная о беззащитности полуострова, проводившего своих сыновей в далекий поход, на срочном возвращении хана теперь настаивал и сам султан, тем более что война с персами утихала. Вообще война эта была явлением достаточно сложным в русско-турецких отношениях и потому, что на протяжении нескольких лет и те и другие ревниво следили, чтобы не был заключен отдельный мир: война уравнивала силы Петербурга и Стамбула, а мир мог резко усилить любую из воевавших сторон. Столь же опасной была бы и решительная победа над персами, если плоды ее достанутся лишь одной из сторон. Именно поэтому, очевидно, Россия не решалась пока объявлять Турции или Крыму войну — для победы над персами или мира у нее было меньше шансов, чем у турок. И первый поход на Крым был как бы набегом: хотя в нем участвовало 40 тыс. солдат, он не удался.
РУССКИЕ В КРЫМУ
На следующий год Россия все же объявила войну туркам, но войско, во главе которого назначили фельдмаршала Миниха, двинулось опять на Крым. Вернувшееся к тому времени домой татарское ополчение числом около 60 тыс. значительно уступало русским в вооружении: как писал один из адъютантов Миниха, оно было вооружено луками! Конечно, никакой речи о серьезном сопротивлении европейски обученным, вооруженным личным огнестрельным оружием и полевой артиллерией солдатам и быть не могло. После вступления русских на полуостров татары терпели поражения, мирные жители бежали — им быстро стала известна жестокость, с которой солдаты расправлялись с населением взятых городов. Даже в таком крупном торговом центре, как Гёзлёв, русские ступили на совершенно пустые улицы — город был брошен.
А затем был взят Бахчисарай и варварски сожжен уже после вступления. Русские не пощадили и ханского дворца, этой жемчужины Востока, более в прежнем величии не восстанавливавшегося. Как писали[250] современники, "какие ни обретались в домах пожитки или приборы, отданы солдатам в добычу, и все строения выжжены. Дворец хана равномерно в целости не оставлен... Все сие толь великолепное здание в несколько часов разграблено и в пепел обращено. Ах-мечеть... подобной участи был подвержен" (Миних Э., 1891, 54). И, добавим, Гёзлёв и множество деревень; о человеческих жертвах вообще страшно говорить: Крым обезлюдел, "уцелела лишь та часть населения, что успела бежать в горы" (Вольфсон Б., 1941, 61). Груды трупов на улицах и дорогах было некому погребать, они разлагались, появилось множество очагов заболеваний. В результате зверства русской армии обратились против нее же самой — если в боях пало ничтожное количество солдат, то эпидемия унесла 27,5 тыс. из 30 тыс. вступивших в Крым (Куропаткин А.Н., 1910, 439). Татар же спас чистый горный воздух — в войске их пало не более 2 тыс.
Прошла зима, татары вернулись на свои пепелища, вновь засеяли поля с надеждой на милость Аллаха, избавившего их так радикально от нашествия. Но вновь за Перекопом показались русские полки, на этот раз их вел другой фельдмаршал — Ласси. Перейдя Сиваш вброд, его 35-тысячный корпус тут же принялся жечь поднявшиеся было из руин бедные жилища степняков. Затем планомерно были выжжены городки и села в долинах Салгира и других рек. А потом иррегулярная часть российского воинства "рассеялась во все стороны разорять и жечь; в этом деле особенно отличались калмыки, которые в один день привели в лагерь 1 тыс. пленных и много другой добычи" (Соловьев С.М., X, 429). Всего было сожжено около тысячи деревень, т. е. основная их часть (Вольфсон Б., 1941, 61).
Ласси "занялся опустошением степей и разрушением городов" "с той же немецкой отчетливостью", что и его предшественник, предав огню тысячу деревень, уцелевших от рук Миниха по той только причине, что они были в стороне от его пути. Удачная охота разлакомила фельдмаршала, и на следующий год он опять отправился в поход на Крым. Но поход оказался невозможным по той простой причине, что в Крыму (т. е. в степной и предгорной частях. — В.В.) никого не осталось после походов 1737 и 1738 гг. и войско не находило себе средств к прокормлению[251] (Марков Е.Л., 1902, 300). К этому бесхитростному, объективному повествованию русского историка трудно что-либо добавить и в наши дни.
Не исключено, что именно эта тупиковая ситуация ускорила русско-турецкие мирные переговоры, которые велись в Немирове с 1737 г. Русские требовали отдать им не только земли между Дунаем и Доном, Кубань, Молдавию и Валахию, но и Крым. Последнее требование мотивировалось достаточно оригинально: разоренный полуостров нужен был России "не ради какой-либо для нее выгоды, а только для спокойствия государства, тем более что Порта не имеет от этих диких народов никакой пользы" (Мочанов А.Е., 1929, 44). Окончательно договор о мире был оформлен в 1739 г. в Белграде; во владении Крымом и даже Кабардой русским было отказано.
Твердая позиция Турции была поддержана Европой, снова ощутившей "русскую опасность". Шведские послы Хепкен и Карлсон работают над союзом с турками, их всячески поддерживает французский дипломат Вильнев.
Но когда шведско-турецкий союз был готов, против его ратификации активно выступило русское правительство (Цинкайзен И., 1857, 814). Из-за персидской угрозы турки не решались противиться нотам Петербурга, ратификация затянулась, и в этой неясной обстановке начинаются шведско-крымские переговоры. Именно согласие хана выступить против русских могло, по мнению шведов, нарушить неустойчивое равновесие, в котором оказалась политика Порты из-за борьбы двух партий в султанском диване (Возгрин В.Е., 1978, 330).
Переговоры со шведами шли в 1741 — 1742 гг. в Бахчисарае. Сюда, ко двору Селамет-Гирея II (1740 — 1743), прибыл из Стамбула консул Вентуре де Парадиз, представлявший одновременно королей Франции и Швеции. В инструкции консулу мало что говорится о Турции, выполнение изложенных в ней задач целиком основывалось на традициях "дружбы Швеции и Крыма" и общих интересах по отношению к России. Исходя из этого, хану следовало бы немедленно, без апробации этого решения Турцией, но полагаясь на шведскую поддержку, объявить наконец войну русским. Иначе, гласил IV пункт инструкции, рано или поздно Крым будет захвачен Россией.
Но даже начавшиеся уже военные действия на[252] шведской границе России не могли придать Селамету решимость — на этот раз он опасался не столько турок, сколько персов. И, заверив Парадиза в добрых чувствах к своему "шведскому брату" Фредрику I, хан начинает длительные консультации со Стамбулом. Турки, естественно, никакого положительного ответа не давали, а вскоре появилось еще два фактора, окончательно похоронившие надежду на шведско-татарский альянс: персы сконцентрировали огромное войско на Кавказе, а в России взошла на престол Елизавета Петровна, дружественно настроенная к Швеции, тут же прекратившей военный конфликт.
История последних шведско-татарских переговоров стала прелюдией к наступившей в 1740 — 1750-х гг. полосе турецкой политики, направленной на поддержание мирных отношений с Россией и Польшей. Не первое десятилетие терявшая позицию за позицией в своей внешней политике, неумолимо слабевшая, империя османов все последовательнее переходит от былой агрессии к концепции самозащиты. И если султаны ранее смещали ханов за недостаточную военную активность в пользу мусульманского мира, то теперь их стали поощрять за искусство хранить мир со славянами. И в этом отношении весьма показательна история правления Арслан-Гирея (1748 — 1756).
Хан этот отличался завидной энергией — прежде всего во внутренних делах Крыма. Он сумел в краткий срок сделать то, чего не удалось его предшественникам, — уничтожить все следы пребывания русских на крымской земле. Строители пришли на брошенные десяток лет до того руины городов и сел. Были реставрированы и отстроены заново мечети, медресе, дворец ханов, загородные поместья, разрушенные крепости Ор, Арабат, Уч-Оба, Джеваш, Джунгар. Перекопские рвы были очищены и углублены, поднялось множество новых общественных зданий и т. д. Но благодарность от султана хан получил прежде всего не за свою беспримерную восстановительную деятельность, длившуюся много лет, но единственно за соблюдение "условий дружбы и приязни с Российскою державою и Польскою республикою" (Смирнов В.Д., 1889, 77).[253]
ДИПЛОМАТИЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА КРЫМ-ГИРЕЯ
Однако ослабление Турции подействовало столь миротворно не на всех ханов. Совершенно иные выводы из этого непреложного факта сделал для себя Крым-Гирей (1758 — 1764). Еще будучи сераскиром Буджакской орды, он повел собственную политику, на которую не решались и иные ханы. Он смело устанавливал личные дипломатические связи, почитая свой статус не ниже монаршего. Так, уже в 1750 г. им было отправлено посольство к Фридриху II Великому, а король Пруссии в свою очередь через 5 лет прислал своего представителя к нему (Мундт Т., 1909, 3 — 4).
Не рассчитывая на получение престола предков из рук султана, будущий хан не только сумел увлечь в русло своей политики огромные Буджакскую и Ногайскую орды, но и завоевать авторитет и даже, по утверждению некоторых, любовь населения собственно Крыма (Смирнов В.Д., 1889, 83 — 88). И лишь после этого он вошел через Перекоп с оружием в руках, которое, впрочем, ему не понадобилось — его встретили татары, видевшие в нем, по словам французского историка, "idole de toute la nation" (Peyssonel Ch., 366 — 367). Султану ничего не оставалось, как признать Крым-Гирея ханом де-юре.
В Крыму было немало ханов, которые более походили на других европейских властителей, чем на восточных деспотов, но этот Гирей выделялся и среди них. При нем бахчисарайский дворец стал обителью муз и науки, хан окружил себя образованными людьми — как крымчанами, так и приглашенными из-за рубежа. Дворец наполнился книгами и рукописными трактатами, в том числе западноевропейскими. Крым-Гирей весьма интересовался западными системами государственного правления, был большим поклонником Монтескье. Естественно, он не мог читать все зарубежные труды в подлиннике, поэтому при дворе появились переводчики — даже личный его брадобрей знал несколько европейских языков, вообще был образованным человеком, не чуждым искусству дипломатии и политики. Из драматического жанра хан более всего любил французскую комедию, в частности Мольера[77], а музыку обожал настолько, что не мог отказать в ней себе и на смерт[254]ном одре — за несколько часов до смерти, чувствуя ее приближение, он приказал начать концерт, составленный им заблаговременно.
Некоторые историки называли его просвещенным абсолютным монархом (хотя и сочетавшим "с западноевропейским образованием чисто турецкую свирепость" — Маркевич А., 1897, 28), и не без оснований. Как и его коронованные современники в абсолютных монархиях Западной Европы, Крым-Гирей прилагал немало усилий для приведения внутренней экономики своей страны в более органичную структурную форму. Он всячески поощрял производство товарного хлеба, вел геологические изыскания, стремясь избавить Крым от импорта полезных ископаемых и другого сырья; при нем невиданного расцвета достигли садоводство, пашенное земледелие в целом и животноводство. Не удовлетворенный периферийным положением Гёзлёва, он планировал строительство современного торгового порта на новом месте — в Казикермене.
Укрепление экономики ханства должно было стать фундаментом политической его мощи. Внешнеполитически хан продолжал и развивал вышеупомянутые отношения с Фридрихом II, привлеченный антагонизмом прусского короля и Елизаветы Петровны. Он даже предложил немцам прислать им воинскую помощь в 16 тыс. сабель, после чего король отправил в Крым посла с полномочиями на заключение наступательного договора. Но в декабре того же 1761 г. в Петербурге пришел к власти Петр Федорович, питавший, как известно, к Фридриху слабость. Царь тут же отозвал воевавший с немцами корпус Чернышева и установил с ними дружеские отношения, заключив мир.
Соответствующий поворот произошел и в Бахчисарае. Прусский дипломат вместо задуманного совместного удара на Россию предлагает хану теперь нечто иное: пройдя через Польшу и избегая при этом "всяких неприязненных действий против русских", вторгнуться вместе с королевским войском в Венгрию. Хан от подобного плана, чуждого интересам Крыма, отказался и прервал переговоры, заявив пруссакам, что именно "русским никогда не следует доверять, хотя бы они высказали самые приятные и надежные обещания, а ваш народ и ваша страна еще пожалеют,[255] что теперь", когда он "собирался ударить на своего исконного врага, его останавливают" (Мунд Т., 1909, 45), Не помогла и огромная сумма, предложенная Фридрихом хану (350 тыс. пиастров), начавшийся было поход свыше 60 тыс. татар окончили неподалеку от Бендер.
Хан направил свою активность в другом направлении. Он решил привлечь на свою сторону Польшу и с этой целью стал подбирать соответствующего претендента на ее престол. Он склонял к себе и Стамбул, причем так энергично, что русские послы в Турции все чаще получают инструкции добиваться согласия на свои предложения прежде всего у крымского хана (Смирнов В.Д., 1889, 90). И когда в Петербурге была осознана необходимость иметь консула в Бахчисарае, то хан рекомендовал слать об этом грамоту прямо ему, минуя султана, — такой шаг подчеркнул новый статус ханства де-факто. Конечно, самостоятельность хана, как бы воскрешавшая золотой период Менгли-Гирея, импонировала татарам и усиливала его популярность.
Но у Порты он вызывал совсем иные чувства. Здесь не забыли, что Крым-Гирей фактически самостоятельно пришел к власти, и когда из-за слишком уж активной политики своего вассала в Польше и Австрии Турция оказалась на грани войны с Россией, то хана внезапно свергли и отправили на о. Хиос, хотя мира это не спасло, причем все из-за той же Польши, которой Крым-Гирей не напрасно уделял столько внимания.
Дело в том, что после смерти Августа III и избрания на престол послушного фаворита Екатерины II Понятовского началось возмущение польских диссидентов, понимавших всю унизительность такого положения. В Польшу вошли русские оккупационные войска, причем царицу поддержали заинтересованные в ослаблении Речи Пруссия, а также Англия и Дания, что не оставило восставшим никакой надежды на успех. Лишь одно средство могло им помочь — и они обратились за поддержкой к султану. В своем послании вождь польских повстанцев Браницкий резонно замечал, что, подмяв под себя Польшу, Россия усилится настолько, что следующей жертвой изберет Турцию с Крымом. Султан все выжидал, но вышло так, как пророчили поляки, — вскоре русские нару[256]шили южные границы, войдя в турецкие владения и спалив татарский городок Балту. Лишь тогда в октябре 1768 г. султан осмелел настолько, что объявил войну России.
Война предстояла серьезная, и здесь было не до личных счетов. Поэтому султан отправил на Хиос предложение опальному хану возглавить имперское войско, а Крым-Гирей его принял. Хана вновь восстановили, к радости крымчан, на престоле, и вскоре он во главе 200-тысячной армии, куда вошли и татары, выступил на Новую Сербию. Оттуда предполагалось идти на Польшу, чтобы лишить там Петербург опоры. Подавляя сопротивление русских, почти не останавливаясь, войско дошло до Вроцлава. И здесь хан внезапно умер; по наблюдениям сопровождавшего его барона де Тотта, он был отравлен (Мундт Т., 1909, 86).
Этот поход стал завершающим в истории крымского народа, так же как Крым-Гирей был последним значительным политиком и талантливым военачальником страны. После него никто не прилагал столь много энергии и усилий, как правило удававшихся, для усиления Крыма и его независимости. Некоторые авторы утверждают, и не без оснований, что со смертью последнего великого хана наступила и политическая смерть Крыма (Смирнов В.Д., 1889, 114).
Преемники Крым-Гирея вели настолько несамостоятельную, целиком ориентированную на Порту политику, были настолько бездарны во внутреннем управлении ханством, что их попросту не воспринимали всерьез не только в Турции, но и в других соседних государствах. И когда Петербург стал готовить аннексию Крыма, что, кстати, вызвало бешеное сопротивление европейской политики, то западные дипломаты, предпринявшие множество соответствующих акций сложного, многопланового характера, не сделали и малого шага для вовлечения в общее сопротивление российской экспансии крымских ханов — наследников Крым-Гирея.[257]
X. АННЕКСИЯ
Мы — рабы, потому что наши праотцы продали свое достоинство за нечеловеческие права...
А. И. ГерценЗАВОЕВАНИЕ КРЫМА
В предшествовавшее завоеванию Крыма столетие на троне России сидели весьма непохожие монархи — от "тишайшего" Алексея Михайловича до весьма "громкой" Екатерины Второй. И политика державы по отношению к ряду европейских стран менялась, и зачастую на 180°, едва на престол восходил новый император. Удивительное постоянство характерно, пожалуй, лишь для двух направлений — польского и крымского. И Польша и Крым подлежали, по мысли еще политиков XVII в., полному подчинению России.
Шли десятилетия, но пресловутый план Крижанича претерпевал в умах "белых царей" весьма слабые изменения, что говорит отнюдь не в пользу их интеллекта. В этом смысле показателен так называемый "Доклад", подготовленный после восшествия на престол Екатерины II и по ее указу. Безымянный автор этого документа, упомянув для приличия старинные "обиды", которые Россия претерпела — в одностороннем, разумеется, порядке — от крымцев, переходит к актуальности захвата Крыма. Не озаботившись хоть каким-то прикрытием купечески-разбойничьего характера планируемого похода, плана аннексии целого государства, автор откровенничает: "Полуостров Крым настолько важен, что действительно может почитаться ключом Российских и Турецких владений", завладев которым Россия могла бы держать "под страхом ближния восточныя и южныя страны, из которых неминуемо имела бы она между[258] прочим привлечь к себе всю коммерцию" (Доклад, 1916, 191),
Об обоснованности такого захвата с точки зрения международного права, просто о жертвах, неминуемых при его осуществлении, для татарского, да и для русского народа, о том, что за "коммерцию" предполагается платить кровью современников и порабощением их потомков, — обо всем этом в "Докладе", разумеется, ни слова.
"Доклад" несомненно импонировал царице, особенно после побед 1770 — 1771 гг. в продолжавшейся турецкой войне. Теперь Россия, видимо, не нуждалась в военном захвате Крыма, явно предполагая, что достаточно просто отказа турок от ханства — оно настолько мало, несоизмеримо по сравнению с царской империей, что само впадет в полную зависимость от новых хозяев (Новичев А.Д., 1961, I, 230). Поэтому царские дипломаты первым делом предложили туркам предоставить ханству независимость. Стамбул это предложение отклонил. И когда граф Панин завел речь о "святой вольности" с Каплан-Гиреем II, обещав ему помощь в достижении полной самостоятельности Крыма, от такого дара данайцев отказался и хан, причем в весьма резкой форме (Рус. арх., 1978, XII, 458).
Таким образом, русские переоценили крымско-турецкие разногласия. Конечно, они были традиционными, ибо зародились еще в первые годы турецкого владычества. Но теперь, ввиду несомненно более угрожающей опасности, крымчане явно забыли о старом антагонизме. Русские этого не ожидали, это меняло дело.
И Екатерина II начинает новую политику. Она стремится расколоть единство крымчан, предлагая тому же Панину соблазнять татар "свободой" от турецкой опеки, рассылая копии с российских предложений помощи в Крыму "по разным местам, чем по малой мере разврат в татарах от размыслил произойти может" (Соловьев С.М., т. 28, 30).
Первыми поддались ногайские орды хана — едисанцы и буджаки. Лишенные после взятия русскими Ларги, Кабула и Бендер доступа в родные степи, они вступили в союз с Россией, отказавшись от турецкого верховенства. Им последовали едичкулы и джамбулуки, после чего Крым остался в одиночестве.[259] Но постепенно появлялась надежда на раскол и здесь, хоть на крымчан подействовали не столько подметные письма царицы, сколько русские деньги.
Князь В.М. Долгорукий, командовавший армией на Крымском направлении, подкупил группу влиятельных татар, среди которых были и члены ханского рода. Один из них, печально известный в истории татар Шагин-Гирей, питал надежду занять престол с помощью русских штыков. Однако до поры до времени он свои намерения скрывал.
В то время Крымом правил Селим-Гирей III (1770 — 1771), хан, оставшийся верным Турции и даже лично воевавший на ее стороне против русской армии на Дунае. В отсутствие хана во дворце оставался его калга, склонявшийся вместе с диваном к полному отказу от переговоров, которые пытался наладить Долгорукий. Однако на одном из заседаний совета против этого решительно выступил Шагин. Опираясь на поддержку муфтия, он предостерегал беев и калгу от полной утраты "милости" России, заняв, таким образом, пораженческую позицию еще до начала военных действий (Лашков Ф., 1886, 5). Уже весной 1771 г. об этом узнали в Петербурге, и, конечно, кредит Шагина там увеличился.
Но Селим-Гирей вернулся в Крым, это заставило Шагина затаиться, как и его сторонников — мурз, Тогда в середине июля 1771 г. армия Долгорукого в 30 тыс. солдат, поддерживаемая 60 тыс. недавних подданных хана — ногайцев, вторглась на полуостров. За две недели отборное это войско овладело всеми опорными пунктами Крыма; хан бежал из Ялты в Стамбул. Победитель повторил подвиги Миниха и Ласси, "разорив много городов до самой Кафы", и вскоре "стал хозяином в Крыму, опираясь на партии Шагин-Гирея и иных изменников, а тем более на жившую в Крыму райю (т. е. немусульман. — В.В.) (Маркевич А.П., 1897, 29). О том, что склонило к русским Шагина, говорилось выше; райя же получала из рук захватчиков сельские угодья, ремесленные мастерские, жилища перебитых или бежавших из Крыма мусульман (Смирнов В.Д., 1889. 138 — 139). Таким образом, рецепт раскола былого единства населения полуострова был прост: нужно было лишь одаривать одних имуществом других — и решались все проблемы[78].[260]
Долгорукий утвердил на престоле Сагиб-Гирея, брата Шагина, занявшего пост калги. Новый хан собирал диван, вел переговоры и т. д. Все шло, как раньше. Но Крым был в руках русских; турецкие гарнизоны вскоре были изгнаны. И братья Гирей почти немедленно стали протестовать против занятия крепостей победителями. Это был поразительный акт, очевидно, они вообразили, что русские, изгнав османов, предоставят татарам возможность самим определять судьбы своего края!
"НЕЗАВИСИМЫЙ" КРЫМ
После оккупации полуострова российский поверенный в делах при ханском престоле Веселицкий предложил послать к царице письмо с просьбой "перенять под русскую руку" города Кафу, Керчь и Еникале. Хан отказался. Тогда прибывший в Бахчисарай генерал Щербинин предложил "охрану" крымской вольности, но и на это Сагиб гордо ответил: "На что вольного человека охранять?" (Смирнов В.Д., 1889, 141). Жест красивый, но лишенный политической основы, по крайней мере теперь, когда землю хана заполонили русские и ногаи.
Тем временем Шагин отправился в Петербург, имея при себе присяжный лист и грамоту об избрании нового хана. Калге назначили богатое содержание на время пребывания в столице и вообще окружили вниманием. Отсюда он пишет письма брату, советуя соглашаться на все русские предложения, отдавать города и т. д. В это время Сагиб неожиданно получил поддержку турок, которые даже прервали переговоры с русскими в Фокшанах, пока не прекратится оккупация Крыма; к туркам снова стали склоняться ногайские орды. Но ногайцам дали подарков на 10 тыс. руб., в Крым ввели дополнительно корпус генерала Прохоровского, а Долгорукому указали заключить с ханом формальный союзный трактат, что доказало бы независимость Крыма. Князь приступил к переговорам сразу же после того, как 19 сентября 1772 г. устроил новую резню татар, выразивших враждебность захватчикам (Лашков Ф., 1886, 11).
Наконец, 1 ноября 1772 г. собравшиеся в Кара[261]субазаре беи, мурзы и ногайские сераскиры подписали трактат, провозгласивший независимость ханства, единство всех его народов, а также "союз, дружбу и доверенность" между Крымом и Россией, в знак чего уступили "во всегдашнее содержание" ей Еникале и Керчь (ПСЗ, XIX, №13934).
Итак, Крыму была предоставлена автономия, хотя и в весьма сложной форме. Зададим себе вопрос: почему русские, имея полную к тому возможность, не аннексировали полуостров тут же и бесповоротно? Ответ следует искать в документах еще 1770 г., когда состоялся Государственный совет в преддверии военного нападения на Крым. Царская администрация пришла здесь к выводу, что татары "по их свойству и положению никогда не будут полезными подданными России, никакие с них порядочные подати собираемы быть не могут и для защиты русских границ они служить не будут", а также, что не менее важно, "принятием их в свое подданство Россия возбудит против себя всеобщую зависть и подозрение в стремлении бесконечно увеличивать свои владения" (Уляницкий В., 1883, 145). Таким образом, по мнению Совета, присоединение Крыма было нецелесообразно лишь по явной его невыгодности России, прежде всего политической.
Однако позже положение меняется и на первое место выступают выгоды чистой экономики. Так, Екатерина II указывает своим советникам на доходы, которые принесет с собой овладение Керченским проливом; речь идет и об узаконенной официально "свободной и беспрепятственной навсегда" морской и сухопутной русско-турецкой торговле через Крым и о русском торговом порте на полуострове (там же, 146). Заключив такой договор с независимым Крымом, Россия получила бы доступ к Черному морю, которого она тщетно добивалась у Стамбула. Что же касается политической гарантии этих торговых привилегий, то и здесь крымская независимость вполне надежно ее могла представить: если ранее ханы назначались султаном, то теперь исход традиционной борьбы за власть между многочисленными Гиреями вполне мог решаться Петербургом. И конечно же для поддержки "законной власти" любого из своих ставленников Россия могла сколь угодно додго держать здесь свои войска, причем на столь же безукоризненно законном[262] основании — ханской просьбе о российском воинском присутствии.
Турция на автономию Крыма пока не соглашалась, не желая, естественно, навечно утратить одного из ценнейших своих вассалов. Была и веская формальная причина такого противодействия русской дипломатии — ведь этого требовала Россия, а не сами татары. Понимая всю обоснованность турецкого довода в глазах европейского общественного мнения, царские политики приложили немало усилий, чтобы добиться подобной просьбы от крымчан, но тщетно. Прошло совсем немного времени, и даже те беи и мурзы, что в своей междоусобице делали ставку на русскую помощь, теперь свою позицию изменили. Как замечает один из интереснейших авторов, писавший буквально "по горячим следам" этих событий, русские войска, которые "вошли в Крым, содействуя к утверждению ханской власти, остались в нем и скоро надоели всем жителям" (Мертваго Д.Б., 1867, 174). Поэтому и русские дипломаты уже в 1772 г. с трогательной обидой сообщают на родину, что "татары не познают и не чувствуют ни нашего им благодеяния (!), ни цены даруемой вольности и независимости, но, паче привыкнув к власти и игу порты Оттоманской, желают внутренне под оные возвратиться" (Уляницкий В., 1883, 406).
И даже единственное свое дипломатическое средство, годившееся для решения проблемы, — договор с Крымом 1772 г. — Россия упустила из рук. Когда русская администрация начала отбирать у татар их территории и имущество в гораздо большем объеме, чем было указано в договоре, т. е. первой нарушила его, то за отказ от соблюдения трактата высказался и ханский диван, указав именно на эту причину — действия "России, отнимающей у нас земли и обращающейся с нами лживо". И беи твердо стояли на своем, несмотря на угрозы все более походившего на марионетку царицы Шагина: калга считал новую позицию дивана "вероломством", за которое России "ничего не стоит обратить Крым в пустыню" (Соловьев СМ., т. 29, 29).
Таким образом, царская дипломатия зашла в крымском вопросе по своей вине в тупик. Более удачно складывались у России дела чисто военные. Неудача Дунайской экспедиции 1773 г. эхом отклик[263]нулась на Кубани — издавна жившие здесь крымские выходцы заволновались, и мятеж грозил переброситься в Крым. Начались военные действия, которые продлились до 1774 г., когда восстание было подавлено. Однако последовавшие карательные меры полковника Бухвостова были недостаточны — татары на Кубани явно готовили новый мятеж. И тогда на эту окраину ханства царским правительством был направлен Шагин. К этому времени он, слишком далеко разойдясь с земляками, сложил с себя титул калги и откровенно перешел на русское содержание. Генерал Щербинин снабдил бывшего калгу 35 тыс. руб., что помогло лучше, чем русские штыки, — при помощи подкупов вожаков восставших татар уже в мае 1774 г. Шагин стал кубанским сераскиром (Лашков Ф., 1886, 15).
Ряд поражений на фронте, а также провал кубанского восстания татар лишил Турцию надежд на успешное окончание войны, и 10 июля 1774 г. она заключила с Россией Кючук-Кайнарджийский мир. Согласно этому трактату, признавалась независимость Крыма как от Турции, так и от России, ханы отныне должны были свободно избираться крымским народом, не отдавая отчета в своем правлении ни одной зарубежной державе. И лишь в духовных обрядах крымские мусульмане по-прежнему подчинялись султану в качестве верховного халифа, причем в функциях халифа оставалось и его благословение новых ханов на управление Крымом.
ШАГИН-ГИРЕЙ
Против последнего условия выступила уже не царица, а ее клеврет Шагин. Давно предавший интересы Крыма, он с 1772 г. не стеснялся всячески третировать земляков, открыто объединяя свои интересы с царскими, отказываясь от нормальных отношений "с такими неблагодарными людьми, враждебными мне и русским", за что получал похвалы из Петербурга (Архив, 1869, I, 243). Позже Шагин заявлял, что без твердой хозяйской руки царей в Крыму начнутся беспорядки, неизбежные уже по "непостоянству и скотским нравам" его народа (Соловьев СМ., т. 29, 28).[264]
Поскольку линию на дальнейшее сближение е Россией с некоторых пор откровенно проводил и единомышленник Шагина, его брат, хан Сагиб-Гирей, то едва русские войска покинули Крым (это предусматривалось мирным договором), как начались народные волнения. Прежде всего татары отказывались подчиняться хану, которого возвели на престол русские и который, что важнее, вел страну прямиком в российскую кабалу; абсолютному большинству гораздо предпочтительнее казалась турецкая опека и защита (Архив, 1869, I, 289). Когда же султан заявил о том, что он никогда не благословит Сагиб-Гирея на ханство, а татары послали депутацию в Стамбул, прося о прежнем покровительстве, настроение всего крымского народа стало настолько очевидным, что царское правительство уже допускало малодушную мысль о том, что полуостров удержать не удастся (Лашков Ф., 1886, 16). Причем не без оснований.
Татарам надоел русофил Сагиб, и весной 1775 г. они его свергли в пользу энергичного и умного члена ханского рода Девлет-Гирея III (1775 — 1777). Тот первым делом решил покончить с Шагином и послал на Кубань сераскиром Тохтамыш-Гирея, который разбил охрану бывшего калги, вынужденного скрыться в русском уже порту Еникале. Эти и некоторые другие действия Девлета против русского влияния (МаркевичА., 1897, 31) настолько пришлись по душе султану, что он прислал ему не халифское благословение, а, как в былые времена, султанскую инвестицию.
Очевидно, именно этот акт привел Петербург к решению сделать ханом Шагина. Однако провести его в жизнь было непросто. Во-первых, в Крыму были весьма прочны позиции Девлет-Гирея, хана, законно избранного. Во-вторых, ненавидимого в Крыму Шагина пришлось бы постоянно поддерживать, т. е. держать войск больше, чем это было бы необходимо при популярном в народе хане. Наконец, вряд ли Шагина, известного своим ренегатством, утвердил бы султан.
И тогда Россия пустила в ход многократно проверенное средство — подкуп. Только деньги пошли уже не в Стамбул (теперь можно было без этого обойтись — турки вновь бросили войска на Персию), а в Бахчисарай. Причем тем деятелям, что за подарки готовы были поддерживать любого из российских[265] ставленников, — Ширин-бею, Абдул-вели-аге и некоторым другим (Дубровин Н.Ф., 1990, 424, 427). Вслед за этим командующий Румянцев послал в Крым войско во главе с генералом Прозоровским, при котором находился Шагин. Девлет вышел навстречу с 40 тыс. войска, но был разбит и навсегда покинул Родину, отправившись в Турцию.
Шагин, знавший, что большинство старейшин настроено против него (они заявили, что повесят не только Шагина, но и любого из его гонцов, лишь они ступят на крымскую землю), долго не осмеливался занять опустевший дворец. Но через месяц ему присягнули все беи и мурзы. Присягу с их подписями Гирей подобострастно передал Румянцеву. Впрочем, текст ее командующему был уже известен: это был перевод на татарский с русского оригинала, который Шагин получил заблаговременно от своих северных покровителей! (Смирнов В.Д., 1889, 179 — 180).
Когда Шагина объявили ханом, он заявил претензию не только на обычный ханский, но и на султанский домен и получил его из рук русских. К нему отошли Кадинское, Мангупское и Судакское каймаканства, где он тут же увеличил налоги. И тут же стал раздавать земли турецкого домена в пользование на правах иктаа-истирфак (бенефиций) — в обмен на угодья он обрел немало приверженцев, готовых на все (Лашков Ф.Ф., 1897, 121). К хану отошли и земли депортированных Суворовым греков и готов-христиан (см. ниже), а это было немало: 272 сада и виноградника в долине Качи, 73 — Альмы, 116 — Бельбека, 78 — Отузской, 85 — Коккозской, 35 — Судакской, 17 — Кутлакской. Еще более значительными стали его владения вокруг южнобережных деревень, где христианское население также было выслано русской военной администрацией.
При всем желании придать блеск своему захудалому двору, собранному им из случайных людей, авантюристов низкого пошиба и иных отщепенцев еще в бытность кубанским сераскиром, Шагину не удавалось. Вначале он опасался еще более обострить отношения с чуждым ему крымским народом. Но бахчисарайская камарилья, в которой было немало христиан (русские, какой-то англичанин Робертсон и т. д.), жадно требовала от своего главаря денег — и хан свершил на редкость бездарный поступок. Он увели[266]чил налоги, многие века остававшиеся стабильными, чем не только снизил уровень жизни основной массы населения, но и оскорбил его религиозные чувства — ведь налоги определялись мусульманским законом. И, как бы сознательно провоцируя взрыв народного гнева, новый хан выписывает из России массу строителей-неверных, которые начинают возводить на горе у Бахчисарая новый дворец, да еще и окруженный мощной крепостной стеной (Дубровин Н.Ф., I, 654). Хан явно опасался подданных!
Далее, хан отдал сборы ряда доходов государства (с соляных озер, таможен, пчел, питейный и т. д.) на откуп немусульманам греческого, русского, еврейского и тому подобное происхождения (Лашков Ф.Ф., 1886, 23), а также уравнял в податях и привилегиях райю с мусульманами. Он провел всеобщую перепись, что привело правоверных в ужас. Он создал огромный бюрократический административный аппарат по европейскому образцу, который обходился налогоплательщику в 140 тыс. руб., а двор — в 80 тыс. Доступ к хану, ранее весьма простой, стал теперь почти невозможным, он даже ездить стал исключительно в карете, а не верхом. Все поведение Шагина должно было дать понять окружавшим, что его власть неземного происхождения. Короче, он усвоил худшие стороны абсолютистского режима правления, не сумев воспользоваться лучшими. Апогеем реформ была попытка ввести в татарское войско муштру по прусскому образцу и даже с телесными наказаниями (Маркевич А., 1897, 31 — 32). Вольные сыны степей и гор, вместо того чтобы маршировать под флейту, стали попросту разбегаться!
Поэтому, когда в октябре 1777 г. давно копившееся недовольство наконец вспыхнуло пламенем мятежа, хан не мог опереться даже на лейб-гвардейцев — многие из них уже были оскорблены шпицрутенами. Мятеж подавили русские. Не без труда, неоднократно терпя поражения, несмотря на превосходство в вооружении и выучке. Причина неудач карателей была в другом — по признанию генерала Прозоровского, татары предпочитали "до последнего человека пропасть, нежели покориться хану" (Дубровин Н.Ф., I, 739), так велика была ненависть к Шагину.
Вскоре во главе восстания встал высадившийся в Гёзлёве бывший хан Селим-Гирей, потребовавший[267] от русских освободить Крым согласно Кючук-Кайнарджийскому миру. После этого поднялось и обычно мирное население гор. Но дни восстания были сочтены — русские полки поднялись и на яйлу, солдаты заполонили все долины. Пощады не было никому. Погибла масса мирных жителей — 12 тыс. только по официальным данным, а также "множество стариков, женщин и детей от стужи и холода", лишившись кормильцев; в горах же татары вообще были приведены в "полунебытие" (Лашков Ф.Ф., 1886, 27). Потом начались казни пленных; люди Шагина зарезали и Селим-Гирея.
Лишь после этого Турция утвердила Шагина, де-факто уже ставшего ханом. Русские могли торжествовать полную победу. Но в крымские дела вмешались европейские державы, и через три месяца в соответствии с Кючук-Кайнарджийским миром полуостров были вынуждены покинуть и русские, и остатки турецких войск. Теперь Шагин мог на свободе отдаться европеизации татар. Он собирается отдавать своих племянников учиться в Петербург, сам просит зачислить его в Петербургский полк, заводит два иностранных полка в Крыму и первым из правоверных бреет бороду. Снова в Крым едут строители, врачи, лесоводы, ирригаторы, музыканты. Открываются откупные кабаки, где торгуют вином, — Крым все больше напоминает Россию, в том числе и жестокими преследованиями политических противников властителя. И если какое-то различие все-таки оставалось, то не по недостатку желания, но средств. Как писал А. Суворов, "светлейший хан, как ни гневен и ни [не] постоянен, более жалок по бедности его!" (цит. по: Смирнов В.Д., 1889, 219).
Недовольство крымцев своим государем снова возрастает; опять в 1781 г. вспыхивает восстание, к которому примыкает и посланное Шагином для усмирения войско. Хан со своим русским советником Веселицким вынужден спасаться в русском гарнизоне в Еникале. На его место народ избирает нового хана Богадыра, после чего из Бахчисарая уходят две известительные грамоты — в Петербург и Стамбул. Навести "порядок" в Крыму теперь поручается князю Г.А. Потемкину. Но речь идет уже не просто о возвращении престола беглому хану, но о включении полуострова в Российскую империю.[268]
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Решение об аннексии Крыма было принято Петербургом, естественно, не сразу. Для этого должны были произойти некоторые перестановки в столичном кабинете. В начале 1780-х гг. Россия намного улучшила свое международное положение, и Екатерина II позволила себе сменить на посту ближайшего советника П.И. Панина, человека весьма осторожного, более энергичным и беспринципным сторонником широкой колонизации Юга Г.А. Потемкиным. И если Панин основывал восточную политику России на союзе с Пруссией, то Потемкин сблизился с политиками Австрии, находившейся гораздо ближе к турецким владениям и более способной помочь союзнику в случае нужды. А задобрить Иосифа II царица полагала содействием ему в округлении австрийских владений в Германии; в ответ на это и было получено одобрение и обещание поддержки императора в действиях по присоединению Крыма.
Официальный предлог, под которым предполагалось провести беспримерную в конце XVIII в. акцию по поглощению одного государства другим, изложен среди прочего в трактовке его Екатериной II: "Преобразование Крыма в вольную и независимую область не принесло спокойствия России и обратилось лишь в новые для нее заботы со значительными издержками. Опыт времени с 1774 г. показал, что независимость мало свойственна татарским народам и, чтоб охранять ее, нам нужно всегда быть вооруженными и при существовании мира изнурять войска трудными движениями, делая большие затраты как бы во время войны... Такая канитель с крымской независимостью принесла уже более семи миллионов чрезвычайных расходов... Принимая во внимание все эти обстоятельства, мы приняли решение дать другой оборот крымским делам... и сделать на будущее время Крымский полуостров не гнездом разбойников и мятежников, а территорией Русского государства. Ввиду этих соображений мы с полной доверенностью объявляем всем нашу волю на присвоение Крымского полуострова и на присоединение его к России" (цит. по: Соловьев СМ., 1862, 37 — 38).
Более всего в этой удивительной декларации поражает даже не лицемерие — этой чертой Екатерина[269] II славилась все годы своего царствования. Современного историка, давно привыкшего к самым странным искривлениям морали у лиц давнего и не столь давнего прошлого, все же ставит в тупик редкая лживость этого документа, а также откровенное нежелание Екатерины II, как-никак главы великой державы, хоть как-то эту публичную свою ложь скрыть. В самом деле, никто, а менее всего крымчане просили царицу "заботиться" о них. Охрану независимости Россия также взяла на себя вопреки воле и татар, и их хана. Никто, кроме российского же ставленника Шагина, не звал в Крым русские войска (да и последний, укрепившись на троне, просил убрать гарнизонных солдат). Кого можно было с большим правом именовать "разбойниками" — татар, давно уже не помышлявших о набегах на Россию, или заливших страну кровью карателях и мародерах Миниха, Ласси, Долгорукого, Румянцева, Суворова?
И еще одна ложь — об "опыте времени с 1774 г. ", якобы заставившем прибегнуть к аннексии. Еще в рескрипте-инструкции А.Г. Орлову от 22 февраля 1771 г. отразился секретный политический план, согласно которому вскоре "весь Крымский полуостров последует" примеру ногайцев, отошедших к России, а Турция крымских татар "навсегда оставит... в наших руках". В противном случае Россия готова "ныне же без всякого отлагательства и в самое течение войны тем же нашим победоносным оружием их совсем в самом бытии истребить и земли их вконец опустошить, как такой народ, от которого никакой пользы, ни выгоды... быть не может"[79]. Запомним последнюю фразу — сколь часто звучала она впоследствии!
Через 9 лет план этот можно было рассекретить — и осенью 1780 г. в числе российских предложений Австрии мы встречаем "приобретение Крымского полуострова" (Лашков Ф.Ф., 1886, 31). А еще через два года, во время вышеупомянутого бунта крымцев против Шагина, Потемкин, которому поручается ввести войска на полуостров, получает "Наставление" Екатерины II, в котором снова предлагается "помышлять о присвоении сего полуострова" (там же).
Во исполнение "воли на присвоение" уже зимой 1782/83 г. был заготовлен соответствующий манифест. Но с обнародованием его царица не спешила, ожидая подходящего случая.[270]
Вскоре он представился. Едва российские войска двинулись в Крым, как ободренный Шагин ворвался в Бахчисарай, снова занял престол и отметил это событие кровавой расправой над местной оппозицией. Казни сменялись казнями, их волна катилась из города в город, размах этой оргии поразил даже врагов залитого кровью Крыма — протест выразил сам Потемкин! Русские потребовали даже немедленной выдачи братьев Шагина, которых хан успел посадить в каземат, а также других близких родственников хана, не без основания полагая, что казнь их лишь вопрос времени.
Еще до окончательного усмирения крымского народа к Шагину был послан со специальной миссией генерал Самойлов. Он передал хану предложение оставить престол Крыма ради более высокого — персидского. И этот властитель, жестокий и слабый настолько, что не смог править собственным народом, всерьез соглашается занять древний трон падишахов! И даже сообщает об этом русскому командованию письменно, после чего князь уверенно обещает своей высокой покровительнице: "Вам он Крым поднесет в нынешнюю зиму".
Трудно сказать, что более подвигло Шагина на отречение от престола — надежда на Персию или сознание невозможности сойтись с татарами, до предела ожесточенными последними казнями. Как бы то ни было, но на исходе 1782 г. хан торжественно объявил старейшинам, что "не хочет быть ханом такого коварного народа", не забыв в этом последнем своем обращении к землякам призвать на них кару Аллаха. Тут же русские войска полностью заняли полуостров, а флот — крымские порты. И в январе 1783 г. царица милостиво объявила хану, что из-за его жестокостей к подданным, которые как-никак пользуются покровительством России, сохранение Шагина на престоле "не составляет для государства интереса" (Лашков Ф.Ф., 1886, 31 — 33).
Наконец 8 февраля 1783 г. был опубликован документ, заключивший эту затянувшуюся на 10 лет эпопею, — манифест "О принятии полуострова Крыма, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу" (ПСЗ, XXI, 897 — 8).
В преамбуле этого любопытного памятника "полное право оставить в пользу" России независимое[271] ханство обосновывалось не какими-либо законными основаниями, традициями и т. п., но вполне откровенно тем, что право это дали царице "силы и победы оружия Нашего". И то, что русские не воспользовались правом завоевателей ранее, привело лишь к последним событиям, когда "татара... стали действовать вопреки собственному благу (!), от Нас им дарованному". Губительные походы своих солдат на независимый Крым разговорчивая царица также объясняет заботой о благе татар — оказывается, без карательных акций "не могли бы существовать мир, тишина и устройство посреди Татар". Да и само "преобразование в вольную область при неспособности их ко внушению плодов таковой свободы", оказывается, также крайне беспокоило Екатерину II...
Сумма денег, истраченная на благо татар (имеются в виду расходы на репрессии), вырастает в манифесте с 7 до 12 млн руб. Далее, оказывается, не русские, а турки нарушали "взаимные обязательства о вольности и независимости татарских народов", отчего решено отплатить османам той же монетой, т. е. окончательно лишить крымцев "вольности" силой русского оружия — логика безупречная.
В заключение царица от имени своего и всех преемников обещала татарам "свято и непоколебимо... содержать их наравне с природными Нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру...", взамен чего "благодарности новых подданных требуем и ожидаем Мы" (там же). И тут же, 22 февраля 1793 г., последовал закон о позволении князьям и мурзам татарским на получение всех преимуществ русского дворянства (ПСЗ, XXIII, 52) — ход, рассчитанный на углубление раскола нации.
Шагин сразу же после этого выехал в Тамань, откуда Екатерина предполагала перевести его в Воронеж для постоянного пребывания с содержанием в 200 тыс. руб. в год. Но затем в Петербурге передумали и приказали бывшему хану, уже обосновавшемуся в Воронеже, убираться в Турцию. Едва Шагин согласился, как царица снова изменила решение. Видимо, не желая иметь за рубежом претендента на обладание Крымом, она соизволила перевести его в Калугу. Шагин послушно перебрался в третий раз и жил там до весны 1786 г. практически один, так как вся его[272] свита и многочисленная семья оставались на Кубани и в иных местах. Их, а также сохранивших верность личной присяге Шагину мурз усиленно склоняли к переходу в подданство царице. Некоторые, насильственно лишенные контакта с ханом (письма перехватывались) и под угрозой оружия (кое-где примененного), стали уступать.
Тогда Шагин, не ожидая для себя ничего хорошего, стал проситься в Турцию. Очевидно, теперь это входило в планы русской администрации, и бывший хан был тут же отпущен, приказано было даже поторопиться с отъездом. В январе 1787 г. он пересек границу, а через несколько недель последний крымский хан был по повелению султана казнен на о. Родос.
Тем временем власть в бывшем ханстве совершенно переменилась. Было учреждено так называемое "Крымское земское правительство" во главе с "наместником", ширинским беем Мегмет-пашой, имевшим резиденцию в Карасубазаре. Ему подчинялось б каймаканов, обладавших судебной и земской властью на местах. Однако за бутафорской этой "властью" стоял "командующий войсками, в Крыму расположенными" (сначала им был граф де Бамнен, а с 1783 г. — барон Игельстром), исполнявший волю истинного властелина Крыма — князя Г.А. Потемкина[80]. Российская администрация в их лице "контролировала" земство, по сути руководя им; все сборы и доходы полуострова уходили через обер-директора таможен Мавроени на север. Практически полуостров стал, несмотря на несколько своеобразное управление, обычной областью Российской империи.
Историки давно пытались дать общую оценку такому значительному в истории России и Крыма событию, как аннексия этой древней и богатой территории. В целом выработалось две основных точки зрения на проблему. Одна из них заключается в том, что ханство не могло сохранить свою независимость уже потому, что соседствовало "с владениями таких мощных империй, как Россия и Турция" (Надинский П.Н., 1957, 91). Заключение это совершенно верно, хотя и не в абсолютном смысле, а субъективно, в данном конкретном случае. Объективно же никакая мощь не является сама по себе предпосылкой непременных захватов. Но такой предпосылкой была мно[273]говековая политика экспансии, характерная вначале для султанов, затем для царей.
И еще одно замечание по поводу этой точки зрения — вызывают недоумение мнения ее сторонников о том, что царицей Крым "был возвращен подлинному хозяину — русскому народу", что аннексия имела "исторически прогрессивное значение" (там же, 92 — 93). То же, что русские — "подлинные хозяева" Крыма, доказывается с гениальной простотой: оказывается, "с середины X по конец XI в. Боспор принадлежал русским" (Медведева П., 1946, 20). Подобные утверждения научными доказательствами не подкрепляются, отчего и "русские" периоды истории древнего Крыма варьируются в весьма широком диапазоне. Так, П. Надинский щедро добавляет сюда еще пару столетий и говорит уже не только о Боспоре — по его мнению, в IX — XII вв. "русские владели Крымом и первенствовали на Черном море" (1749, 21). Остается удивиться, как этого не замечали те же турки!
Антинаучные эти выводы были сделаны в 1940 — 1950-х гг., когда некоторые советские ученые делали свой вклад в сталинскую теоретическую и практическую трактовку национального вопроса, получив и исполнив заказ на оправдание кровавых преступлений режима против коренного населения Крымской АССР и населения других областей. Сравнение конъюнктурных этих писаний с научным наследием других эпох говорит не в пользу первых.
Так, даже работы дореволюционных авторов гораздо объективнее и точнее упомянутых "марксистских разработок" (Марков Е.Л., 1902; Чеглок А., 1910, 47 — 48). И конечно же наиболее удовлетворяют современным требованиям научного подхода работы довоенного периода. Например, А.Е. Мочанов указывает, что после включения Украины в состав России дальнейшее продвижение русских на юг и захват Крыма имели прежде всего экономические цели вывоза "русского хлеба и ввоза иностранных товаров через порты Черного моря". Другое дело, что "эти интересы Россия должна была всячески скрывать и объяснять свою агрессивную политику в отношении Крымского ханства необходимостью защитить себя от татар" (1929, 38).
Саму акцию, которую Надинский именует "воссоединением", довоенный историк С. Бахрушин точ[274]но характеризует как "аннексию" (1936, 40, 55), объективно оценивая и результаты ее — беспощадное разорение "царизмом той красивой и яркой туземной цивилизации, которая выросла на крымской почве в результате разнообразных культурных влияний, скрещивающихся здесь" (там же, 57). В тот же период было выработано и обосновано научное определение последовавшей политики России в Крыму как "колониальной" (позже Надинский будет яростно бороться с этим термином): "Дикий, беззастенчивый грабеж, захват лучших земель, уничтожение целых селений, взятки, подкупы, угрозы и насилия — весь этот произвол ярко выражал колониальную политику царизма" (Щербаков М., Рагацкий С., 1939, 12).
Имеется и третья, компромиссная точка зрения на проблему, которой придерживаются современные ученые, хотя высказана она была впервые полвека назад. Сторонники ее, с одной стороны, согласны с тем, что татары попали благодаря аннексии под "жестокий колониальный гнет", с другой — что для крымчан это было все же меньшим злом, чем пребывание под покровительством Турции (Вольфсон В., 1941, 67).
С тех пор теория "меньшего зла" приобрела немало адептов, наиболее именитые из которых выступали с развернутой защитой ее и на страницах центральных научных журналов. Тем не менее эта теория не заслуживает, по моему мнению, специальной критики, во-первых, из-за своей явной бесчеловечности и антинародности (не занимаемся же мы сейчас серьезной критикой теорий расизма или "сверхчеловека" — на то было свое время, как и на разбор бесплодности поисков вечного двигателя или, скажем, философского камня). Во-вторых, ангажированность, субъективность сторонников ее, не имеющая ничего общего с наукой, видна уже из того, что все они — не из тех стран и областей, что вкусили от колониального "меньшего зла", которым их облагодетельствовала Россия. Цель этих теоретиков, были ли это представители дореволюционной "государственной" школы исторической науки или советские авторы, остается все той же: оправдать царскую экспансию на восток, запад и юг от первоначального расселения русского этноса.[275]
ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЛИ
После установления в Крыму новой власти последняя, естественно, тут же приступила к созданию для себя экономического базиса, важнейшей частью которого была собственность на средства производства, основным из которых в Крыму издавна была земля. Столь же естественным для царской администрации было стремление перекроить местные земельные отношения в соответствии с законодательством, действовавшим в других европейских областях империи.
Очевидно, администрация не отдавала себе поначалу отчета в трудности подобной задачи. Дело в том, что ей было известно в основном два вида поземельной собственности: государственной и частной (главным образом дворянской). В Крыму же она встретилась с первых дней работы по кодификации земель по меньшей мере с 10 формами местного землевладения и землепользования: бывшие ханский и султанский домены, калгалык, ходжалык, бейлик, мурзинский и поселянский клинья, вакуфы духовный (вакф-шер) и обычный (вакф-адет), пустоши (меват).
И вот, в эту сложнейшую систему, где одни формы собственности на землю перекрывались другими, должны были вторгнуться новые модели землепользования, возникшие при иных политических и социальноэкономических условиях. Причем проводники новых форм с трудом разбирались в старых, да они и не желали их изучать. Уже поэтому началась реакция отторжения новых порядков, борьба с ними — естественно, безнадежная и ничего, кроме бедствий, татарам не принесшая.
Первым объектом реформ стала мелкая собственность трудового населения, затем ханские и турецкие земли, бывшие государственные и принадлежавшие эмигрантам (последних покинуло Крым немало). Все эти территории были объявлены "пустопорожними". При этом интересы живших на них крестьян во внимание не принимались, так как в большинстве случаев документов на землю не имелось. Приведем один такой пример: в 1787 г. по предложению Потемкина так называемая Саблынская дача (3 тыс. десятин удобной и 470 — неудобной земли в 15 км к юго-востоку от Симферополя) была отдана жене адмирала[276] Мордвинова и капитану Плещееву. То, что на территории дачи находилось три деревни (Ашага-Собла и Юхары-Собла) с 310 человек населения, испокон века жившего с этой земли, никого не смутило, туземцев вообще в расчет не принимали.
Началось великое ограбление крымского народа, в ходе которого почти все досталось царским чиновникам и их приближенным. Уже в первые после аннексии годы пришлым, а также местным дворянам было роздано 380 тыс. га лучшей земли. Потемкин отрезал себе 13 тыс. десятин в Байдарской долине. Метмет-шах Ширинский получил Коккозскую округу (27, 3 тыс. десятин), Батыры-ага — Салгирскую (14, 6 тыс. десятин). Секретарь Потемкина Попов — 27, 9 тыс. десятин и дачу в Тевеле (4, 3 тыс. десятин). У графа Безбородко оказалось земли 18 тыс. десятин; у полковника Куликовского — 2, 9 тыс. десятин у деревни Кокташ; у вице-адмирала Мордвинова — "всего" 5, 5 тыс. десятин, но зато на Южном берегу; у майора Каховского — 7, 5 тыс. десятин; у контр-адмирала Ушакова — 8, 5 тыс. десятин и т. д. (Щербаков М., Рагацкий С., 1939, 13). Крупные участки получали царские фрейлины, фаворитки и т. п. Лишь самые неплодородные земли уцелели во время этого вселенского грабежа. То есть в лучшем положении остались те татары, что, "жительствуя на местах невыгодных, не попали под иго милостей" новых хозяев Крыма, в остальном же "почти все досталось шутам и угодникам" императрицы (Мертваго Д.Б., 1867, 179).
Огромный ущерб был нанесен непосредственно крымской природе. Уже в первые месяцы после вторжения "надобный для землянок лес стали рубить без разбору. Тут погибли высокие раины и развесистые тополя, крымские сады украшающие. Не пощажены огромные дерева ореховые, грушевые, яблонные и прочие... Как осину и березу, рубили они все, что находилось поближе. Офицеры, разлакомившись иметь походные мебели из орехового дерева, много их истребили" (там же, 178).
Татары слали жалобы на этот разбой в Петербург, т. е. туда, где были его истоки. Новые "крымчане" — дворяне успешно оправдывались. Один из памятников такого рода — "Мнение" Мордвинова. Граф был, оказывается, вообще против татарского землевла[277]дения по следующим причинам: долговременная непресекаемость выездов татарских за границу, ненадеянность правительства на верность остальных, по новости их усыновления... и вечно враждебной, напротив того, их к христианам ненависти... напоследок же и то обстоятельство, по которому с действительным наступлением войны отобраны были у них повсеместно всякие орудия и лошади, а жители приморских мест были удалены во внутренние крымские селения..." (Мордвинов Н.С., 1872, 201). Комментарии к этому перечню "провинностей" татар перед русскими излишни. Добавим лишь, что графу не уступали его потомки — тяжба из-за татарских земель Байдарской долины, начатая им в XVIII в., длилась дольше века — последний процесс состоялся при Врангеле в 1920 г.!
Упомянутая эмиграция татар действительно началась сразу же по захвате Крыма. Выезжая в Турцию, они бросали и землю, и остальное имущество, так как покупателей не было, ведь все можно было получить из рук власти бесплатно. Но если сады и виноградники еще подлежали отчуждению, то пашни и пастбища переходили в разряд выморочных и как таковые поступали в казну. Впрочем, и эти земли нередко захватывались с последующим оформлением как мурзами, так и хлынувшими в погоне за наживой из России легионами различных проходимцев, умевших подкупать местных чиновников (Лашков Ф.Ф., 1897, 126).
Названные властители Крыма, слабо знавшие особенности южного сельского хозяйства, за несколько лет развалили экономику края до крайней степени, чем и вызвали эмиграцию такого масштаба, что тревогу забили сами русские власти. Военный генерал-губернатор Новороссии И.И. Михельсон доносил в 1800 г. Обольянинову о росте выезда татар и опасности волнений среди них, считая причиной тому их обезземеливание и ужесточение эксплуатации крестьянства. Он пишет, что ранее татары, "искони быв свободны, никому никогда не принадлежали", а "дань состояла в виде добровольной сделки на землю и не заключала подчиненности или подданства и не делала татар работниками помещиков". Вряд ли, продолжает губернатор, казна, "не жаловав из них в крестьяне ни души никому, намерена была нарочито оста[278]вить их без земли на тот конец, чтобы они без земли вместо крестьян помещикам служили; но сие произошло через раздачу в числе казенных пустопорожных земель таких, на коих татары живут..." (Лашков Ф.Ф., 1897, 135). Мнение это особенно поражает в устах усмирителя Пугачева — очевидно, гонения на татар были чрезмерными даже для него. И позднее он предлагает отнять у всех христиан-помещиков земли и "раздать оные татарам" (Мордвинов Н.С., 1872, 201).
Впрочем, правительство оставило мнение Михельсона без внимания; судя по дальнейшему, гораздо более привлекательными были для Петербурга мнения того же Мордвинова: "Когда Крым принадлежит России, то, по-моему, не должно из земли российской делать землю татарскую..." (Никольский П.В., 1926, 21).
Как видно, все мнения высказаны вполне четко, с полной искренностью. Кстати, этим качеством не могут похвалиться отдельные современные историки, утверждающие, например, что "в Крыму было спокойно", так как "особым указом Екатерина сохранила за татарами прежние земельные законы (!), по которым татарские крестьяне были свободны, помещикам не принадлежали и барщину отбывать были не обязаны" (Медведева И.Н., 1956, 185). Более того, оказывается, русская армия освободила в Крыму неких "рабов", чьим трудом выполнялись "все основные работы в хозяйстве беев и мурз" (Надинский П.Н., 1951, 97). Тогда как ни один серьезный специалист ни словом не упоминает даже об отдельных случаях рабской зависимости в Крыму в последние века истории ханства, не говоря уже о системе рабского труда, игравшей "основную" роль в экономике крупных и мелких хозяйств.
И еще одна любопытная оценка, тоже советского историка: он считает, что после освобождения от "тяжелого турецко-татарского господства" (над кем? — В.В.) "на почве русской цивилизации начала развиваться экономика и культура Таврической губернии...", а происходило это так: "На Южном берегу Крыма разбивались красивые парки, вырастали дворцы, увеличивались площади под садами..." и т. д. (Максименко М.М., 1957, 5). Увы, приходится признать, историка-марксиста восхищают такие плоды[279] цивилизации, как прежде всего памятники колонизаторской субкультуры, воздвигнутые на исконной земле ограбленных трудящихся. Для нашего автора как-то уходит в тень цена этих действительно великолепных дворцов — обнищание и физическая гибель десятков тысяч коренных жителей, согнанных со своих клочков земли и обреченных на батрачество или же эмиграцию на чужбину.
НОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Конечно же на деле ситуация сложилась не столь безоблачно, как, бывает, это подается в наших книгах, в том числе учебниках. Конечно, татары с приходом русских оказались в весьма сложном положении, разобраться в котором весьма непросто. В Крыму в отличие от соседних славянских территорий сохранили поразительную живучесть патриархальные отношения и мораль старинной пастушеской родовой общины. Это позволяет некоторым авторам делать вывод об "отсутствии остроты классовых противоречий" в этом обществе (Никольский П.В., 1925, 20). Если это и преувеличение, то оно весьма симптоматично.
Теперь же на полуострове стал укрепляться новый тип землевладения, которому были свойственны юридические нормы и практика эксплуатации, принесенные из крепостнической России. Крепостное право стало внедряться русскими помещиками с помощью привычных приемов. Несколько иными были методы татарских мурз, получивших дворянство и не желавших уступать пришлым братьям по классу. Теперь они понуждали свободных, но живших на их земле крестьян показывать, что издавна принадлежавшие селянам угодья на деле мурзинские. Предлог к этому был простым: иначе эти земли якобы должны объявляться пустопорожними и как таковые переходить в казну или к русским землевладельцам. А такой переход в самом деле означал утрату прав собственности и увеличение нормы эксплуатации в несколько раз — как на обычных арендованных крестьянами землях. Но эту же нехитрую операцию понемногу стали проделывать и отдельные мурзы, обзаведшиеся соответствующими документами о земельной собственности[280]. И сдерживал их в этом лишь шариат, запрещавший повышать весьма необременительную крестьянскую повинность.
Что же касается новых, русских законов, то они закрепили настоящую барщину: 15 дней работы в году. А неограниченный труд во время страды, который ввели у себя новые помещики, узаконили они сами на основе обычного права. Более того, помещики выступали за полный свой произвол в определении барщины вообще. Так, граф Мордвинов писал в Петербург, что "узаконение малой повинности поселян на землю, которую они у помещиков внайме содержат (т. е. на бывшую собственную, татарскую. — В.В.), может послужить к возбуждению лености, всегда вредной" (Никольский П.В., 1925, 23).
Вскоре помещики, в основном русские, не считавшиеся с местными, шариатскими традициями, обязали татар-крестьян полностью обрабатывать барскую землю в расчете 2, 5 десятины на плуг, засеивать ее, собирать урожай и доставлять своими средствами в город. Десятина увеличилась до2/10 всего собранного сена, по 30 коп. с головы крупного скота (за право выпаса на бывшем общинном лугу), по 6 коп. с овцы. Установилась неограниченная подворная повинность и обязанность делать помещику натуральные подношения, а также работать у него по дому, как только это потребуется, — бесплатно, конечно.
Крестьяне были вынуждены безропотно со всем соглашаться, так как их положение было хуже, чем даже у российских крепостных. Татары не обладали абсолютно никакими правами на землю и жили в постоянном страхе, что разгневанный чем-то помещик может их согнать с нее. И если в России у крепостного был один хозяин, то лично независимые татары не принадлежали никому — и всем соседним помещикам, которые нередко совместно эксплуатировали одну деревню, лежащую на стыке их владений. И наоборот, владелец одной деревни и ее угодий мог обирать и жителей соседних деревень, пользуясь несовершенством владельческой документации в Крыму. Так, получивший в собственность дер. Саблы губернатор А.М. Бороздин заставлял работать на себя жителей соседних Бешуя, Карачага, Кучук-Ламбата. Он скупал отдельные участки, становясь таким образом членом общин соседних деревень, и, опираясь на[281] это качество, через суд добивался права распоряжения общинным выпасом, лесом и даже вакуфными землями этих общин (там же, 26).
Подобные перемены были столь разительны, что не могли остаться незамеченными уже современниками Екатерины II: "Судите же, каково переносить народу в новом направлении такие тяжести, особливо таковому, который никогда в прямом повиновении ханам своим не был" (Дубровин Н.Ф., I, 847). И даже гражданский губернатор Новороссии генерал Хорват был поражен тем, что помещики, считая татар "в виде своих крестьян или подданных, а поэтому и недвижимые их имения себе принадлежащими", облагают их невиданными поборами, уклоняющихся же понуждают выходить из селений и земель своих, куда хотят, присваивая их землю себе" (Лашков Ф.Ф., 1897, 136).
Но если новым уровнем эксплуатации были возмущены даже царские чиновники, то можно себе представить, какой поток жалоб на несправедливость и притеснения устремился в Петербург от самих крестьян. Однако действенность их была равна нулю — полуграмотные листки татарских бедняков весили для царицы, конечно, куда меньше, чем многочисленные просьбы ее новых крымских помещиков типа Мордвинова. Среди этих планов неоднократно встречается программа полного выселения татар из Крыма (опять!). И если ей все еще не давалось ходу, то единственно из зрелого опасения обезлюдения края. Время еще не приспело: для обработки помещичьих земель нужны были рабочие руки, а заселять Крым пришлым элементом было невозможно без значительных денег, которые у крымских помещиков водились не всегда. Да и времени на это потребовалось бы немало, и помощи на первых порах — тоже[81]. Короче, план избавления от неудобного населения был явно скороспелым и недодуманным, и ему пока не дали ходу. Но перечеркнут он не был — его лишь отложили. На время...
Те русские дворяне, что были лучше обеспечены деньгами или властью, захватывали южнобережные земли. Первые из них, как правило, не выдерживали огромных трат на придание дикой природе "европейского вида", и их земли скупали более могущественные магнаты. Граф Воронцов, бесспорно, был здесь вне конкуренции. Он и некоторые другие[282] представители виднейших родов скупали мелкие участки мурз и новых помещиков, объединяли их и на полученной таким образом территории возводили усадьбы и дворцы, до сих пор поражающие своим великолепием. Естественно, той же участи подвергались и "вклинившиеся" в их латифундии татарские деревни. Для ликвидации последних были хороши все средства: от сел отводили воду, перекрывали древние дороги, лишали общины права на пользование лесом, выпасом и т. д.; если же крестьянам и дозволялось оставаться на месте, то лишь в качестве бесправных арендаторов.
НАЧАЛО КОЛОНИЗАЦИИ
Среди некоторых ученых существует мнение, что в ходе "воссоединения" с Россией Крым никакой колонизации не испытал. Ее не могло быть уже потому, что в отличие, скажем, от Кавказа здесь "не было захвата чужой земли", а была... "борьба русского народа за возвращение своих исконных земель" (Надинский П.Н., 1949, 20, 60) — очевидно, речь идет о Тмутаракани, возможно, и о скифах, которых данный автор считал предками русских, — неизвестно, тезис этот никак не разъяснен.
Думается все же, что при исследовании периода конца XVIII — XIX в. большую роль, чем выяснение, кем были предки коренного крымского населения (кстати, задача, решенная наукой задолго до П.Н. Надинского), играет суть проводимой российским правительством "крымской" политики — экономической и национальной, чем мы и займемся.
Первая акция такого рода, заметно изменившая этнический облик края и проведенная правительством типично колонизаторскими, насильственными методами, свершилась еще до того, как утихли военные действия в годы захвата Крыма.
Выселение и заселение. В начале 1779 г. правительством России было принято решение выселить основную часть крымских греков-христиан, а также часть армян за пределы Крыма. Этим достигались три цели. Поскольку в качестве причины этой акции выдвигались якобы имевшие место притеснения греков[283] и армян татарами, то мусульмане выставлялись в негативном свете перед христианским миром, конкретно — перед европейской дипломатией; этим отчасти оправдывалась борьба с ними "христианнейшей царицы". Во-вторых, переселением крупного отряда рабочей силы (свыше 30 тыс. человек) достигалась цель начальной колонизации новозавоеванного, но пока не заселенного Северного Приазовья. Наконец, в-третьих, освобождались ценнейшие территории, в основном вдоль Южного берега и в самых плодородных речных долинах, которые должны были отойти в царскую казну.
В этом исходе потомков древних греков и византийцев есть много неясного. Старые историки сообщают, что митрополит объявил греческой пастве о некоем "соглашении, состоявшемся с русским правительством" по поводу переселения. При этом греки особого энтузиазма не проявили, и даже начались некие "затруднения", о смысле которых мы можем только догадываться и которые "преодолел своей энергией и распорядительностью Суворов", после чего "переселение совершилось, невзирая на протесты как татар, так и самих христиан" (Кулаковский Ю., 1914, 134 — 135).
Советский историк так раскрывает смысл этих неясных фраз: "Трагедия разгрома векового уклада жизни исконного крымского греческого населения, ужас разорения, слезы и вопли женщин и детей... порывы протеста, превратившиеся в "разного рода затруднения", преодоленные методами царского сатрапа Суворова, в комментариях не нуждаются" (Шнейдер Д.С., 1930, 41). Впрочем, эту акцию критиковали и наиболее гуманные из современников ее: "Неудобопонятная политика, разоряя их корень, служащий пользой и украшением Крыма, водворила их в окрестностях Азова... Перемена климата и образа жизни много в числе их уменьшила" (Мертваго Д.Б., 1867, 177). Далее, как уже упоминалось, в Крыму были весьма распространены мусульманско-христианские родственные связи. Теперь они безжалостно разрывались. Многие мусульманские родичи выселяемых умоляли переселить и их, не останавливаясь для этого и перед принятием христианства. Но им было отказано:
"Множество таковых приходит к начальникам войск разноместно, объявляя свое желание, но на[284] то им соответствуется молчанием" цит. по: Маркевич А.К., 1910, 534).
Обратимся к еще одному старому автору — Ф. Хартахаю. Он рассказывает о евпаторийских греках — они также сопротивлялись депортации. "Хоть саблями нас рубить будут, мы все-таки никуда не уйдем!" — кричали они. Соседи-армяне "ради Бога, пророков и предков просили хана избавить их от такой напасти". И Хартахай свидетельствует о том, что татары слезно просили хана дать отпор царским домогательствам. А когда Гирей, запуганный кровавыми событиями последних месяцев, отказался перечить русским, то старейшины татарских родов гневно заявили ему: "Мы не знаем, чтобы кто-нибудь из наших предков в угодность другим мог уступить своих подданных" (1867, 108).
В литературе есть и другие свидетельства об этой трагедии крымских христиан, но все они не указ современным апологетам царской политики в Крыму, которые упрямо приводят одну-единственную причину депортации — "страх христианского населения Крымского ханства перед возможными со стороны татарских властей репрессиями за открытую симпатию к русским войскам... (Крым многонациональный, №1, 24). Приведенная цитата интересна тем, что она целиком лжива — и в том, что касается каких-то татарских (а не русских, как было на деле) репрессий, и в части "симпатий" крымчан к русским, трижды за полвека разрушивших и сжегших их древние города.
Закончим этот сюжет еще одной цитатой из Ф. Хартахая: "В овраге Салачикском, в Успенском скиту, в последний раз сошлись изнуренные, одетые в рубище сыны Пантикапеи, Феодосии и знаменитого Херсонеса... Христианам было жалко и больно оставлять страну, где они жили так долго; им жалко было оставлять свои храмы, опустевшие дома, прах предков и небо, под которым родились... После молебна все христиане с пением молитв нестройной толпой потянулись через горы и равнины, покинув навсегда берега Крыма" (Хартахай Ф., 1867, 112). Добавим лишь, что в этом пути погибла половина переселенцев...
За первой депортацией последовали многие другие. Выше говорилось уже о частном, помещичьем переселении крепостных на крымские земли. Но го[285]раздо большее демографическое значение имела государственная колониальная политика. Цель этой политики не являлась секретом — о ней писали в газетах: "Для упрочения русского владычества во вновь присоединенном крае необходимо было заселение его чисто русскими людьми...
" (СЛ, 1887, №3). Правительство стало наделять землей отставных солдат, а также принудительно переселять в Крым женщин, предназначенных им в жены. Оседали такие полуискусственные семьи в специальных поселках — в Симферопольском уезде это Подгородняя Петровская, Мазанки, Курцы, Мангуш, Зуя, Вия-Сала, Верхние Саблы и Владимировка; в Феодосийском — Изюмская, Елизаветовка; в Евпаторийском — Трех-Абламы, Степановка.
Вторую волну переселенцев составили государственные крестьяне и инородцы — на р. Конской, близ Знаменки, осело 3 тыс. старообрядцев из Новгорода-Северского; около Топлы, Орталан и Старого Крыма селятся армяне; близ Аутки — часть вернувшихся из-за Азова греков.
Третью волну составили иностранцы — меннониты из Эльбинга и Данцига (их заехало более полутысячи человек), затем немцы из Петербурга, Нассау, Вюртембурга и Баварии. Наконец, в 1810 г. из Турции были приглашены на жительство плотники и каменщики (Заселение, 1900, №27).
Наиболее последовательные из колонизаторов настаивали на продолжении депортации коренных крымчан — на сей раз мусульман, утверждая уже в 1804 г., что для русификации края "потребен миллион народа ремесленного и торгового не мусульманского вероисповедания, вечно враждебного просвещению" (Никольский А.В., 1925, 23). Некоторые помещики претворяли эту программу в жизнь, не дожидаясь указов из столицы. Так, губернатор Тавриды А.М. Бороздин переселил в "свое" село Салбы тысячу русских крепостных, а татарам отказал в аренде, после чего те были вынуждены покинуть свою землю и жилища. Зато новые крепостные работали на помещика не узаконенные 5 — 8, а 150 дней в году и больше (там же, 23, 25).
На Керченском полуострове появились селения архипелагских греков, участвовавших в борьбе с турками на стороне России и в подавлении сопротивле[286]вия татар русским войскам в годы завоевания Крыма, В отличие от коренного населения им были даны особые привилегии: бесплатная земля, свобода от податей, постройка жилища за казенный счет и т. д. (ПСЗ, №14284), им предоставили право беспошлинной торговли с заграницей (ПСЗ, №14473), материальная поддержка им равнялась 136 тыс. руб. в год (Загоровский Е.Л., 1913, 31). Позднее эти греки расселились в Балаклаве, Кадыковке, Комарах и Алсу, заняв 9 тыс. десятин земли (Шнейдер Д.С., 1930, 4).
Подобные привилегии, превосходящие помощь для колонистов других наций, были не случайны. Здесь воплощалась идея "создать из греческих батальонов противовес крымским татарам", выражалось "стремление противопоставить торжествующее христианство потерпевшему поражение магометанству", а это вылилось в "жуткие методы обращения новых поселенцев-греков с татарами, в неподражаемые по жестокости насилия, совершаемые ими над татарскими женами и детьми. Еще и сейчас сохранились старые татарские песни, отражающие эту полосу русификации края и горькую долю татар в эти трудные годы, вызвавшие массовую эмиграцию татар в Турцию" (Корсаков..., 1883, 5).
Ненамного уступали грекам и русские переселенцы, в немалой своей части состоявшие, как указывает современник, из не имевших корня "бродяг, промотавших данное им снабжение", которые, "не желая ничего, истребили лучшие деревья, продавая все, что можно". Столь же хищническим было отношение новопоселенцев к "древним обитателям" Крыма: "Будучи водворяемы в селениях, где оставались татары, на земле, помещику пожалованной, они способствовали к скорейшему первобытных жителей удалению" (Мертваго Д.Б., 1867, 179). Далее, в преддверии второй Турецкой войны русские власти "умыслили и исходатайствовали приказание отобрать у татар оружие и скот их перегнать на степь за Перекопом, простирающуюся до берегов Днепра. Сие дало возможность, отбирая оружие, отобрать и все, что можно было взять. Татары, коих скот угоняем был... полагая его погибшим, старались его наперерыв продавать. Дворяне и судьи, за порядком смотреть и сосчитывать определенные, много даром отсчитывая себе, поку[287]пали гуртом по рублю лошадь и рогатый скот" (там же, 180 — 181).
Наконец, в Крым мощной волной хлынул не поддающийся учету поток пособников колонизаторов — спекулянтов землей и недвижимостью. Земли в первые десятилетия после аннексии зачастую шли в их руки даром, а если за них и назначалась цена, то около 1 руб. за 6 десятин (Мочанов А.Е., 1929, 61)! Продавая землю с живущим на ней татарским населением, спекулянты баснословно наживались, объективно же они облегчали колонизацию края — новые помещики могли с большим удобством приобретать себе угодья, не выезжая для этого в Крым.
С 1780-х гг. берет свое начало и эксплуатация колониального типа. Известно, что, оккупировав колонии, метрополии укрепляют свою власть не только "политикой канонерок" (в Крыму такую роль играл Черноморский флот), но, как правило, и при помощи самого аборигенного населения. Все это повторилось и в Крыму, где "стратегические задачи, поставленные царизмом", мягко говоря, "отвлекали силы населения на военную службу, создание укреплений" и т. д. (Дружинина Е.И., 1959, 262). Объем работ по военному укреплению Крыма был гигантским — по сути возникали новые города-крепости: Севастополь, Евпатория, Симферополь. Добыча на местах строительных материалов и само строительство производились руками местного населения, лишь отчасти привлекались военнослужащие. Для перевозок использовались татарские лошади, волы, верблюды, что приносило огромный урон крестьянской экономике.
Учитывая перечисленные особенности эксплуатации и экономического неравноправия татарского населения по сравнению с новопоселенцами, многократно большие тяготы, обрушившиеся на татар (во время войны за чуждые им интересы), по сравнению с теми, что испытывало российское крестьянство (в относительных размерах), особенности земельной политики в Крыму, методов управления местным населением и способов подавления национального движения, мы приходим к выводу о том, что политика России в Крыму конца XVIII — первой половины XIX в. была типично колонизаторской, нанесшей колоссальный вред как экономике, так и национальному самосознанию и культуре этноса.[288]
Итоги аннексии Крыма. Итак, "ослабленное в процессе экономического развития, упиравшегося в задерживающую его общественно-экономическую систему, истерзанное длительной борьбой с Россией, оплетенное сложной системой шпионажа, подкупов и интриг и запуганное русскими штыками, татарское ханство перестало существовать" (Шнейдер Д.С., 1930, 41). Ханство полностью утратило остатки политической независимости, которыми пользовалось и при самых деспотичных султанах. Внутренней жизнью его теперь также управляли "неверные", малознакомые с местными традициями, особенностями татарской духовной жизни, национальной психологии, устоявшихся экономических порядков, местного хозяйства, пришедшего за многие века к высшей степени экологичности.
Более того, русские чиновники и не желали знакомиться со всем многообразием жизни, которую они застали в Крыму, или вникать в ее особенности — они ничем не отличались от функционеров иных колониальных держав, особенно на начальных этапах колонизации. И конечно, их менее всего беспокоили негативные перемены в быту и культуре татар, то, что "эксплуатация обезземеленной массы народа... даже в последние времена ханства, никогда не достигала" таких масштабов (Никольский П.А., 1929, 7). Распространение же фактического крепостничества не только не играло, как утверждает П.Н. Надинский, "прогрессивной роли" (1951, I, 95), но и отбросило татар далеко назад и в социально-экономическом, и в национально-политическом развитии[82].
Заметен был регресс и в культурном, духовном отношении. Подробнее об этом будет сказано в главе об истории татарской культуры, здесь же мы ограничимся цитатой из воспоминаний одного авторитетного свидетеля первых лет российского господства в Крыму. Победители "опустошили страну, вырубили деревья, разломали дома, разрушили святилища и общественные здания туземцев, уничтожили водопроводы, ограбили жителей, надругались над татарским богослужением, выкинули из могил и побросали в навоз тела их предков и обратили их гробницы в корыта для свиней, истребили памятники старины" и, наконец, "установили свое отвратительное крепостное право" (цит. по: Бахрушин С., 1963, 58).[289]
В этой связи приведем еще один удивительный вывод Надинского: "Воссоединение с Россией сразу же коренным образом изменило лицо Крыма. Он словно воспрянул из болота трехвекового прозябания. Общественно-экономическая жизнь в освобожденном от турецкого господства крае забила ключом" (1951, I, 98) — что верно, то верно.
Одним из ближайших результатов аннексии Крыма и последовавшего "коренного изменения лица" края стали татарские восстания, правда, местного значения. Вспышки вооруженных мятежей, начавшиеся в пору захвата Крыма, продолжались и в дальнейшем. "Заподозренные в агитации или симпатиях к Турции наказывались беспощадно. Умиротворение края произошло только после истребления значительной части татар" (Вольфсон Б., 1941, 63).
К сожалению, точное число жертв карательных акций, проведенных уже в мирное время, нам неизвестно. Сохранились лишь свидетельства о стремлении местных властей скрыть объем репрессий, а также особенности принятых мер, очевидно крайне жестоких даже для своего времени, поскольку обычно секрета из методов подавления волнений не делалось. Так, в донесении из Карасубазара от 28 апреля 1783 г. говорилось: "Экзекуция продолжалась тайно от его сиятельства и еще над некоторыми преступниками, при коей и упомянутые в письме 46 человек наказаны каторгой, битьем плетьми и некоторым урезанием ушей; ныне же по всему Крыму состоит спокойно" (цит. по: Вольфсон Б., 1941, 63).
В эти же годы открывается одна из наиболее трагичных для населения Крыма страниц — начинается первый массовый исход татар, вызванный политикой грабежа и насилия, проводимой властью, чуждой им во всех отношениях. Так, уже в первые годы существования "русского Крыма" его оставило 4 — 5 тыс. татар, эмигрировавших в Турцию; к 1787 г. общее число эмигрантов, в основном степняков, достигло 8 тыс. человек (Маркевич А.И., 1978, 380).[290]
XI. КРЫМ ВО ВТОРОЙ ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕ НЕЕ
"ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ"
План правительства Екатерины II завоевать часть Турции, включая проливы, нередко именуется в советской историографии вымыслом, "мифом" (Маркова О.П., 1958, 53, 58) и даже ставится в один ряд с действительно апокрифичным "Завещанием Петра I".
Между тем ныне мы располагаем неопровержимо доказательными свидетельствами о существовании такого проекта, важной частью которого было превращение Крыма в опорный пункт для агрессии против соседней страны.
Мысль о "воздвижении животворящего честнаго креста Господня" над Софией была, как мы видели, не нова. Давно и верно было замечено, что основные положения екатерининских планов аналогичны заложенным в известный манифест Петра I черногорцам (1711 г.), да и в высказываниях самой Екатерины II они встречаются еще в 1769 г. (Щебальский П.К., 1868, 142). Но если ранее захват Босфора и Балкан рассматривался как одно из средств борьбы с турками, то теперь он становится стратегической самоцелью.
Заманчивой была такая цель и чисто экономически: центральная часть России была относительно перенаселена, интенсификация ее хозяйства была по внутриполитическим причинам (крепостное право и др.) невозможна, оставался экспансивный путь развития — расширение территории за счет Причерноморья, выход к Черному морю и далее в Средиземноморье — это дало бы возможность расширения производства и выгодного, без посредников сбыта хлеба (Покровский М.Н., 1918, 12 — 16). Но идея такой экспансии издавна стыдливо облекалась в идеологические одежды; так, в 1768 г. граф А. Орлов писал: "И[291] если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых из-под ига тяжкого, которое они терпят. И скажу так, как в грамоте Петр Первый сказал: а их, неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песчаные, на прежние их жилища" (цит. по: Покровский М.Н., 1918, 17).
История этого плана, именуемого в литературе "Греческим проектом", такова. Сблизившись в противовес Пруссии, Франции и Турции с Австрией, царица обратилась в 1781 г. к подготовленному Потемкиным еще до Кючук-Кайнарджийского мира "великому плану так называемой восточной системы", цель которого состояла в изгнании турок из Европы и образовании на освободившемся месте православного Греческого царства под скипетром великого князя российской императорской фамилии (Жигарев С., 1896, 208). Проект этот был в 1782 г. детализирован в "Записке" Безбородко, где указывались конкретные цели русской экспансии — захват территории между Бугом и Днестром, Крыма, Греческого архипелага. Нападение на Турцию планировалось совместно с Австрией; такой удар должен был бы заставить турок уступить нужные обеим союзницам земли, а также согласиться на создание из Молдавии, Валахии и Бессарабии буферного государства Дакии (Маркова О.П., 1958, 59; Жигарев С., 1896, 209) под властью Потемкина или члена дома Романовых.
В случае если нападение пройдет удачно, предполагалось посадить на реставрированный греческий престол внука Екатерины II Константина (История СССР, 1939, I, 722; Соловьев СМ., 1862, 34 — 35). Кстати, последний и имя-то свое получил (в 1779 г.) с символической "нагрузкой"; современные поэты чутко это уловили: "Се Константин восстал! ликуйте, мудры греки! возобновятся вам прошедши сладки веки, Афины мощною воздвигнет он рукой". Или: "Гроза и ужас чалмоносцев, великий Константин рожден" (цит. по: Маркова О.П., 1958, 70).
В октябре 1782 г. проект был отправлен на согласование в Вену. Уже через месяц Иосиф II апробировал его с уточнением причитающейся ему части Турции (Мартене Ф.Ф., II, 136). Но далеко не столь гладко пошло дело с осуществлением этого плана. И проблема заключалась не только в турецком сопротивлении, но и в настроениях подлежащих "освобож[292]дению христиан. Проектируемое "Греческое царство" должно было бы называться так лишь по имени, будучи населенным преимущественно славянами, которые без энтузиазма относились к перспективе неминуемого при таком обороте огречивания. Далее, общепринятое мнение о неимоверных страданиях всех славян под турецким игом не всегда верно. Иго угнетало прежде всего зажиточную часть турецкого славянства, купцов например, которые были поставлены в худшие по сравнению с их мусульманскими коллегами условия. Основная же, крестьянская масса христиан существовала при условии своевременной уплаты подати вполне сносно — упадок их хозяйств был бы попросту невыгоден османам. И поскольку, как замечает Энгельс, "христианин-земледелец под турецким владычеством находился в лучших материальных условиях, чем где бы то ни было" (МЭ, XXII, 32), то было бы странно, если бы он подвергал свою жизнь риску ради перспективы стать крепостным у русского помещика!
Были и внешнеполитические трудности. В Европе прекрасно понимали, что, приобретя власть над Дакией, Россия не на шутку усилится, а это мало кого устраивало. Наконец, сам антитурецкий союз был чреват расколом по причине двойной политики царицы — она скрыла от цесаря свой план аннексии Крыма, что неминуемо должно было вскоре обнаружиться.
"Греческому проекту" не суждено было осуществиться полностью и сразу, как о том мечтала Екатерина. Но его обсуждение, ставшее известным европейским политикам, принесло в ближайшем — и отдаленном — будущем осложнения не меньшие, чем пресловутое "Завещание Петра I". Оттого странно и выглядят выводы советских историков о том, что "Греческий проект" был блефом, демонстративным актом, который должен был принести пользу Петербургу (Маркова О.П., 1958, 61): есть материалы, подтверждающие факт активизации военной колонизации всего Новороссийского края именно в преддверии выполнения этого плана (Загоровский Е.А., 1918, 12).
"Отец" проекта Потемкин создавал для него фундамент. Не ограничившись фантастическим по масштабам переселением русских и нерусских коло[293]нистов (общее число их достигло 700 тыс, человек. — Щебальский П.К., 1868, 140), князь проводил широкую милитаризацию края. В эти же трудные для России годы Екатерина приняла в подданство Грузию — акт по политическому значению непростой, ведь между Россией и Грузией находились кавказские государства, настроенные к империи весьма недружелюбно. Но она сделала этот шаг, зная, какие трудности ее ждут с удержанием и обороной новоприобретенного края. Факт малопонятный, если не учитывать, что теперь Россия наконец-то могла ударить по Турции с обоих флангов. Центральное же место в подготовке к осуществлению проекта отводилось, очевидно, Крыму и будущему Черноморскому флоту. Все эти меры и составили тот самый фундамент, о котором говорилось выше.
Повторяем, утечка информации о переговорах с Австрией принесла России большой вред, крайне насторожив все без исключения страны Европы. Действительно, "Царьград в качестве третьей российской столицы, наряду с Москвой и Петербургом, — это означало бы, однако, не только духовное господство над восточнохристианским миром, это было бы также решающим этапом к установлению господства над Европой. Это означало бы безраздельное господство над Черным морем, Малой Азией, Балканским полуостровом. Это означало бы, что Черное море по первому желанию царя может быть закрыто для всех торговых и военных флотов, кроме русского, что это море превращается в русскую военную гавань и место маневров исключительно русского флота, который в любой момент мог бы с этой надежной резервной позиции делать вылазки через укрепленный Босфор и снова укрываться в этой гавани. Господство над Балканским полуостровом продвинуло бы границы России до Адриатического моря" (МЭ, XXII, 18). И вполне можно согласиться с тем, что именно сильнейшее беспокойство, вызванное фактом подготовки "Греческого проекта", способствовало "развертыванию русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг. " (Маркова О.П., 1958, 78) — войны, к которой не были готовы ни Турция, ни Россия.[294]
ПОДГОТОВКА РОССИЕЙ ВОЙНЫ
Стратегическая ценность Крыма после его аннексии становится все более заметной во всей южной политике империи. Планы правительства уже не ограничиваются обладанием полуостровом, они более обширны. Крым был лишь "первой станцией на пути к Босфору" (Мочанов А.Е., 1929, 60), без захвата которого Черное море оставалось открытым для беспрепятственного международного мореплавания. "Варшава и Царьград были две мучительные мечты, два манящих призрака, не дававшие спать Зимнему дворцу", — писал Герцен о внешней политике России той поры (1957, 87). И вывод этот подтвержден в работах, специально посвященных этому вопросу.
Впрочем, некоторые авторы утверждают, что политика Екатерины II 1783 — 1787 гг. была исключительно мирной, ее цель была "предотвратить назревающую войну с Турцией" (Дружинина Е.И., 1959, 186). Однако события говорят об ином: уже в 1784 г. в начале этого года переселенные на Юг государственные крестьяне и воинские поселенцы были приведены "под одно звание воинских" (Скальковский А.А., 1836, 167). Может возникнуть предположение, что цели при этом были оборонительные. Однако здесь лучше всего говорят факты.
Во время знаменитой поездки Екатерины II в Крым "на Юге было сосредоточено громадное количество войск, в чем турецкое правительство не могло не видеть намерение России продолжать свою наступательную политику" (Жигарев С., 1898, 226). Не только турки, но и европейцы были уверены в том, что Иосиф Австрийский и польский король заключили союз с царицей, направленный против Турции, предназначенный для захвата проливов и превращения Черного моря в "русское озеро" (Шнейдер Д.С., 1930, 43).
И еще одна мелкая деталь — по именному повелению Екатерины к моменту прибытия участников поездки (среди которых царица была не единственной венценосной особой) в Севастополь на городских воротах была выбита надпись, поражающая своей откровенной, наглой агрессивностью: "Дорога в Константинополь" (Жигарев С., 1896, 221). Далее, говоря о широком военном строительстве в окрестностях но[295]вого, возникшего на месте села Ахтиара города, русский историк заключает, что надпись сделали "с тем, чтобы вполне ясно обнаружить цель таких гигантских сооружений". Ведь уже в 1785 г. был готов штат флота, в который входило 12 линейных кораблей, 20 фрегатов и 23 мелких судна (Дружинина Е.И., 1959, 175).
ВОЙНА 1787 — 1791 гг.
Когда в Турции стало ясно, что "могущественный сосед, утвердившийся на берегах Черного моря, в Крыму, стремится овладеть всем побережьем и грозно стучится в Ворота Стамбула" (Лашков Ф.Ф., 1889, 52), она предъявила, естественно, ультиматум, где требовала прекратить нарушения Кючук-Кайнарджийского мира, а устно — возвратить Крым под ее опеку. Протестовала она и против разорения Россией северных турецких городов (История СССР, 1939, I, 723). Когда же Россия ультиматум отвергла, началась война.
Екатерина намеревалась вести ее, опираясь на христиан Турецкой империи, но надежды на "пятую колонну" не оправдались. Тогда она прибегла к помощи Австрии. Но и султан привлек к себе Пруссию, также, между прочим, настаивавшую на уходе русских из Крыма. И тогда военные действия разгорелись с невиданными размахом и жестокостью. Причем страдало в основном мирное турецкое население — ведь бои шли не в России. Приведем не самое яркое свидетельство захвата одного мелкого городка, Анапы, в 1791 г.: "Россияне превозмогли и, войдя в город, обагрили свой меч как в крови оттоманских воинов, так и женщин и младенцев невинных" (Пишкевич А.С., 1885, II, 141).
После ряда успешных действий русских войск в Яссах в 1791 г. был заключен мир, подтвердивший акт 1783 г. относительно аннексии Крыма; был подтвержден и Кючук-Кайнарджийский мир.
Собственно в Крыму военных действий не велось, но урон, который понес севастопольский флот, заставил Потемкина обратить внимание на оборону полуострова — внутреннее его положение, очевидно, также было столь шатким, что князь даже настаивал на[296] выводе оттуда войск. Начало укрепления Крыма было положено основанием первого крупного славянского поселения у Керчи — в 1788 г. здесь отвели земли для Черноморского казачьего войска.
Но это было не все. Русские, "разгневавшие и ожесточившие татар" (Мертваго Д.Б., 1867, 180), слишком опасались соответствующей реакции в случае поддержки народного движения извне. Оружие у татар изъяли еще до войны, в 1784 г., а в 1787 г. последовал указ о выселении их из приморских деревень. Они могли возвращаться на свои участки лишь днем, а на ночь удалялись в горы. Заодно у них изъяли и скот, впрочем, оружие вскоре вернули, но не владельцам, а христианам-крымчанам.
Затем в 1788 г. в Евпаторию и Феодосию пришло распоряжение о том, что если турки высадятся, то мирные жители должны отгоняться в глубь полуострова, на Карасубазар и Тобе-Чокрак. С началом войны поэтому началось повальное бегство с побережий; не дожидаясь десанта, оттуда ушли и войска!
ПЕРВЫЙ ИСХОД
Возросшая с началом войны опасность царских репрессий (а такой опыт за краткое время господства русских уже накопился) стала причиной первого массового бегства татар из Крыма. Пока шла война, население было спокойно. Но при известии о Ясском мире, положившем конец надеждам на восстановление древних традиций, народные массы уяснили себе, что никаких улучшений в их судьбе ждать не приходится. Решение эмигрировать было вполне естественным, особенно для ногаев, этих степняков-Скотоводов, у которых был изъят единственный источник существования. Но были причины и духовного порядка. Муллы, разочарованные в пустых обещаниях царицы сохранять былое равенство мусульман и русских, призвали паству оставить землю отцов ради сохранения жизни и веры.
Начавшейся в 1792 г. эмиграции русские чиновники отнюдь не препятствовали. Более того, есть множество свидетельств того, что они "даже подгоняли бежавших, завладевая бросаемой татарами на произвол судьбы землею" (Гольденберг М., 1883, 70).[297] Но исход приобрел такой размах, что эхо его донеслось до Петербурга, и там забили тревогу. Было ясно, что край покидает население, единственно способное плодотворно трудиться в уникальной географической среде Крыма — на счет переселенцев правительство не обольщалось: они показали весьма низкую способность к ассимиляции на чужой земле. И наконец, массовое бегство тысяч и тысяч новых подданных императрицы могло дать ценные козыри ее европейским врагам, и без того неустанно разоблачавшим хищническую суть последних приобретений России.
Поэтому уже в 1792 г. местные власти получают распоряжение об улучшении жизни татар. Но было слишком поздно, ибо невозможно было одним махом "парализовать действие тех причин, которые поддерживали эмиграционное движение" (Лашков Ф.Ф., 1897, 128). Действовал принцип домино — отъезд одной деревни вселял панику в соседние; снимались с места целые степные роды...
Число покинувших Крым татар вывести весьма непросто ввиду того, что точные переписи тогда не велись. Но попытки такого рода учеными делались позже на основе информации современников эмиграции. Наиболее точны, с нашей точки зрения, расчеты А.И. Маркевича, пришедшего к выводу, что приблизительно из полумиллиона крымских татар выехало чуть менее 100 тыс. (1928, 389), т. е.1/6 их. Если же учесть выселенных Суворовым 30 тыс. христиан, то Крым потерял в эти годы до четверти своего коренного населения.
И последнее. Каким бы сомнительным ни покажется анализ крымской катастрофы с этнокультурной точки зрения, мы должны сделать эту попытку уже для полноты картины новой, сложившейся в результате исхода демографической ситуации. Именно с указанной точки зрения (мы это подчеркиваем) положение сложилось все же "не самым худшим" образом. Менее всего подверженным эмиграции оказалось историческое ядро этноса. Снова, как в XV в., Крым покинули степняки-скотоводы, наиболее пострадавшие от конфискаций военного времени, потомки переселившихся сюда только в XIII в. кочевников-ордынцев и еще более поздних пришельцев — ногайцев (Маркевич А.И., 1928, 385). Горное и южнобережное[298] население, прямые потомки древнейших обитателей полуострова, и на этот раз осталось на местах[83].
Таким образом, соотношение между автохтонным европейским и пришлым, в основном монголоидным по расовому признаку, азиатским населением вновь резко изменилось в пользу первого.
"КОМИССИЯ ДЛЯ РАЗБОРА СПОРОВ..."
Смерть Екатерины и воцарение Павла I принесли Крыму некоторые перемены. Ненавидевший, как известно, все екатерининское, новый император приказал уничтожать потемкинские нововведения, среди которых было немало полезных Крыму, его экономике. Он подчинил полуостров новороссийскому губернатору, ликвидировав самостоятельную Таврическую губернию. Бывшие беглые крестьяне были водворены к старым владельцам в России, отчего их новообработанные пашни в Крыму пришли в запустение. Павел выгонял с мест екатерининских служак, "оставя многое число в чины выведенных негодяев", и безработные ветераны покойной "матушки-царицы" "составили корпус нищих в старинных наместнических мундирах" (Мертваго Д.Б., 1867, 182). Этот "корпус" не мог, как ранее, кормиться в обезлюдевшем из-за эмиграции и высылки беглых краю. Поэтому бывшие чиновники и офицеры скоро превратились в настоящих стервятников, растаскивавших древние мечети и кладбища на материал, из которого строили дома и тут же продавали их новопоселенцам. Они же "организовывали сплошную вырубку брошенных садов, а также лесных массивов, на которые население не могло предъявить владельческих документов. В первую очередь уничтожались наиболее ценные сорта, так как древесина шла на продажу". Современники поражались "тому, с какой быстротой происходили порубки тутовых и маслинных рощ, приходили в запустение дороги, иссыхали лавры и растаскивались кирпичи... строений" (цит. по: Медведева И.Н., 1956, 244).
Но лишь при Александре I непрекращавшиеся жалобы населения на варварскую ликвидацию памятников их древней духовной и материальной культуры, находившихся на отобранной у них земле,[299] возымели какой-то результат. Была создана Комиссия для разбора споров по землям и определения повинностей на Крымском полуострове. Официально основной ее целью было "принадлежащее настоящим хозяевам возвратить или другим пристойным образом сделать удовлетворение" (Лашков Ф.Ф., 1897, 137)
Под председательством сенатора Лопухина члены комиссии[84] выехали в 1802 г. в Симферополь. В первый же месяц жалоб было принесено столько, что ни о каком разборе их силами пяти членов комиссии не могло быть и речи, если бы даже они работали беспрерывно несколько десятков лет. И они, очевидно убоявшись бездны головоломных дел, всячески тянули с их разбором. "Медленность комиссии и порядок, несносно отяготительный, причиною, что в три года ее существования ни одного дела не решено и даже половины бумаг не разобрано и не прочтено" (Мертваго Д.Б., 1867, 185 — 186).
Вопросы, спорные по ханскому периоду землевладения, сами по себе достаточно сложные из-за отсутствия владельческих документов, как снежный ком обрастали конфликтами, возникавшими уже в послеаннексионное время. Через год правительство приняло соломоново решение — комиссии предписывалось в противоположность первоначальной инструкции не возвращать татарам земли, отданные новым помещикам, если последние успели возвести там здания, мельницы и т. п. Этот же документ подтверждал право помещиков на десятину и 8-дневную барщину. Ободренные подобным признанием их прав, помещики установили по отношению к татарскому крестьянству порядки, не отличавшиеся от традиционно крепостнических. От захватов земель и садов они перешли к ужесточению эксплуатации татар, попавших к ним в зависимость; комиссия буквально потонула в жалобах на бар, которые крестьян "разоряют и немилосердным боем тиранят" (Лашков Ф.Ф., 1897, 185).
А в 1809 г. последовало новое законодательное утверждение практически сложившегося крепостного права. Отныне татары не могли покидать места жительства в период с декабря по март, а если они переселялись в остальное время года, то земля и имущество их все равно отходили к барину. Барщина должна была отправляться по первому понуждению[300] помещика (там же, 190 — 191)[85]. Руководясь подобными "дополнениями" к инструкции, комиссия в абсолютном большинстве случаев решала конфликты в пользу русских помещиков. Если же выяснялось, что новый владелец не мог доказать своих прав на землю, то в этом редчайшем случае она татарам не возвращалась. Помещик должен был лишь возместить ее стоимость в общину согласно приблизительной оценке. Оценку же проводили чиновники, естественно ее занижая. Достаточно сказать, что по всему Крыму было собрано таким образом лишь 20 тыс. руб. (там же, 194).
ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
После роспуска комиссии в 1809 г. вопрос крымского землевладения остался открытым. Но поскольку жалобы продолжали поступать не только от крестьян, но и от помещиков (не умевших разъяснить татарам всю безнравственность выпаса скота на бывших общинных землях), то в 1816 г. был издан новый именной указ. Здесь прежде всего подводились такие итоги распределения земель, как продажа 0, 5 млн десятин ее за бесценок, т. е. "по 1 руб. 21 коп. десятина, чему и веры нельзя дать по богатству тамошних земель"[86]. Что же касается татар на этих землях, то, очевидно, уже тогда обнищание их дошло до такого уровня, что указом предписывалось "учреждение опек над дворянами, небрегущими о благе крестьян" (ПСЗ, XXXIII, №26254).
В 1816 г. по причине провала деятельности первой комиссии учреждается вторая с той же целью — разбора жалоб и наказания виновных в нарушении законодательства. Затем создали некий комитет из трех (!) чиновников, тоже для рассмотрения нескончаемых дел о притеснениях крестьян и упорядочения владельческих прав (ПСЗ, XXXVI, №28014). А затем — в 1822 г. — Временное отделение комитета при Таврической казенной экспедиции с той же целью (ПСЗ, XXXVIII, №29084). Деятельность всех этих органов оказалась бесплодной, причин чему было немало, а одна из основных — то, что, как замечали современники, "почти все власти Крыма имеют зем[301]лю, они влияют на ход размежевания". Предлагавшиеся же планы активизации этих работ (например, по земле, принадлежавшей графу Воронцову) были рассчитаны на затягивание размежевания на десятки лет. "Но правды не было бы и через 50 лет", — пессимистично замечает тот же современник (Вольфсон Б., 1941, 66).
Наконец в 1827 г. было составлено Положение для татар-поселян и владельцев земель Таврической губернии, имевшее силу указа (ПСЗ, II собр., II, №1417). Долгожданный этот документ дал помещикам право на неограниченные поборы с татар, живущих на их земле (§ 18), и произвольный сгон крестьян с барской земли (§ 21). Общинная земля пока отчуждению формально не подлежала.
Однако настал и ее черед. В указе 1833 г. "О поземельном праве в Таврическом полуострове и облегчении в оном межевания" (ПСЗ, II собр., VIII, №5994) помещикам разрешалось продавать и общинную землю (§ 5), впрочем, разрешалась распродажа общинных угодий, в которых и не было помещичьей доли, т. е. чисто татарской собственности. Здесь явно уничтожались препятствия на пути превращения земли в товар, что было необходимо скупавшим ее новым землевладельцам уже вполне капиталистического склада. Так рухнул древний институт татарской общины, благодаря которому на плаву оставались беднейшие хозяйства, и семьи деревни, остававшиеся без кормильца, — первый же неурожай заставлял татар расставаться со старинными угодьями. Чтобы не умереть с голоду, они продавали их.
Явления эти стали позднее общероссийскими. Но были в Крыму и специфические, весьма изощренные способы вполне феодальной эксплуатации крестьян. Сохранились многочисленные данные о том, что русские "посягали не только на землю, но даже и на воду": "проточная вода... беспрепятственно отводилась частными лицами в особые резервуары и возвращалась в прежнее русло лишь за отдельную плату..." (Гольденберг М., 1883, 70). Таких плодов цивилизации XIX в. ранее Крым не знал. Помещики использовали и дарованное им право безразмерных налогов — они дошли до 10 руб. и более с души; за 25 лет до Крымской войны они удвоились. Но денег не хватало — уже из-за стремительного роста бюрократи[302]ческого аппарата губернии. Число чиновников за тот же период учетверилось, "так что на одно только это управление с татар взималось более 1 000 000 руб. ежегодно" (там же, 71).
ЭКОНОМИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Один из крупнейших колонизаторов начала прошлого века, Мордвинов, был уверен, что "татары неспособны жить и занимать земли и сады", отчего "благо всеобщее требует, чтобы в горную часть Крыма привлекаемы были иностранцы, поднимающие цену только благодатной земли" (Мордвинов Н.С., 1881, 211 — 212).
Власти практиковали замену татарских крестьян зарубежными переселенцами с первых послеаннексионных лет. Естественно, колонисты принесли объективную пользу крымской экономике: они обладали земледельческой техникой и опытом, стоявшими на передовом уровне эпохи. Но экономические успехи, которые бросались в глаза при посещении усадеб колонистов, по сравнению с татарскими объяснялись и иными причинами. Иммигрантам обеспечивался ряд льгот, которые и не снились местному населению. Так, немцам-менонитам бесплатно предоставлялось 85 десятин на семью и освобождение на 10 лет от любых налогов (1786 г.). В начале XIX в. размер семейного надела снизился до 50 десятин, но также бесплатных. Кроме того, им выдавались крупные пособия и бесплатный семенной материал (Заселение, 1900, №29 и 30), для их нужд был в 1814 г. заложен знаменитый Никитский сад и несколько других питомников близ Старого Крыма (там же, №32).
Татарам было тяжело вынести конкуренцию колонистов потому, что они, во-первых, несли все поборы "на покрытие издержек по содержанию края" (там же, №33); во-вторых, как мы видели, их сгоняли с земли, и, в-третьих, ни на какую правительственную помощь они, в отличие от иностранных колонистов, не могли рассчитывать — до них никому не было дела. До 21 февраля 1833 г. правительство не удосужилось даже закрепить землю точным, юридически разработанным актом за теми немногими татарами, что ею владели, — как можно было в таких условиях забо[303]титься о бонификации земли, если владелец вполне мог быть с нее согнан в любой момент!
И тем не менее именно трудом татар Крым за полстолетия XIX в. был буквально преображен. Возьмем пример из хозяйственной сферы, где пришлого элемента почти не было, — из овцеводства. Издавна славившихся на всем Востоке тонкорунных овец в 1823 г. было 112 тыс., в 1837 г. — 195 тыс., а в 1848 г. — около миллиона голов (Памятная книжка, 1889, отд. IV, 21).
В хлебопашестве, где принимали участие и колонисты, и вывезенные из России крепостные (впрочем, и тех и других было пока неизмеримо меньше, чем татар-земледельцев), успехи были не менее показательны: если к 1841 г. валовой урожай пшеницы равнялся 755 тыс. четвертей, то, после того как возросли цены на хлеб, объем зерна поднялся через два года до 1 252 млн четвертей, а в 1845 г. — до 1, 8 млн, т. е. возрос в 2, 5 раза за 4 года (Максименко М.М., 1957, 17). Скупая статистика тех лет показывает, что основная масса зерна при этом была собрана государственными крестьянами (т. е. татарами), помещики же сняли урожай, в 5, 5 раза меньший (Секиринский С.А., 1974, 16).
Число виноградных кустов к 1830 г. достигло 4 млн в основном на Южном берегу, в долинах Бельбека, Альмы, Судака и Качи. Однако уже тогда началось и степное виноградарство: вблизи Симферополя, Феодосии, Евпатории к 1848 г. под 35 млн кустов было занято 5 тыс. десятин. Возросло и товарное значение отрасли — если в 1823 г. было произведено 228 тыс. ведер вина, то в 1848 г. уже 823 тыс.[304]
XII. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
В национальной политике, проводимой в эту эпоху царским правительством в Крыму, отчетливо видны начала осознанного и позднее, в годы Крымской войны, и после нее теоретически "обоснованного" шовинизма и практического геноцида. И в этом отношении Крым является чуть ли не исключением из всей колонизаторской практики России. Так, в Средней Азии с самого начала проникновения, а затем и аннексии и колонизации ее у руля российской политики по отношению к Туркестану и другим территориям стали члены Императорского Географического общества, а также ученые-востоковеды, крайне бережно относившиеся к культурному наследию древних цивилизаций, а главное — знавшие край и понимавшие его нужды. Они смягчали колонизаторские замашки России и цивилизовали не только "аборигенов", но и местных русских чиновников. Подобные тенденции проявились и на Кавказе, лишь только умолкли пушки "усмирителей", — там до сих пор чтут память генерала Н.Г. Петрусевича, много сделавшего для горцев, уважавшего их законы и традиции. В Крыму такого не было.
Уже в начале века из Крыма были высланы в глубь России представители мусульманского духовенства и отдельные мурзы. Отбор шел по признаку авторитетности того или иного деятеля в народе. На новом месте большинство их (несмотря на обещание Екатерины приравнять в правах мурз к русским дворянам, а мулл — к священству) было приписано к государственным крестьянам (Кричинский А., 1919, 19). Всем сосланным навсегда запрещалось возвращаться в Крым; нарушивших этот запрет гнали по этапу назад. Именно тогда впервые вдоль северной границы полуострова были расставлены особые посты и кор[305]доны. Дороги контролировались окружными и уездными начальниками, а также военными властями.
С 1829 г. начались и религиозные притеснения. Русскими "экспертами" по мусульманству было, к примеру, установлено, что все побывавшие в хадже "... приносят с собой новую силу духа мусульманского и утверждают оный в здешних жителях" (Кричинский А., 1919, 24 — 25). В связи с этим было решено паспорта паломникам не выдавать и вообще препятствовать любому контакту с духовными институтами Турции. В середине века за всеми хаджи по их возвращении уже устанавливалась слежка (там же, 28), а многих из них по именному указу царя высылали в Калугу или Ярославль, подальше от единоверцев Крыма или Казани. Паспорта же могли быть выданы по разрешению новороссийского генерал-губернатора или таврического губернатора ("не иначе как с особого по каждой просьбе разрешения лично"). Легко представить себе, какую "массовость" теперь получил хадж! Достаточно было даже не отказать в паспорте, а задержать его выдачу — и паломничество теряло смысл, ведь хадж (не путать с простым посещением святынь — умрой) может быть свершен в строго определенный период — десять дней месяца зу-ль-хадж.
С 1836 г. по закону занять духовную должность мог лишь отличающийся "надежностью, верностью и добрым поведением" мулла. Таким образом, отныне полицейские и жандармы проверяли на политическую благонадежность всех мулл, имамов и муэдзинов. Отстранению от должности подлежали те из них, кто проявлял национальное самосознание, содействовал развитию национальной культуры и т. п. Но даже благоприятная жандармская характеристика не могла помочь лицам, побывавшим в Турции, — им навсегда запрещалась любая духовная должность. Казалось бы, не весьма важный запрет, но так татары были одним росчерком пера лишены образованных мулл, учившихся в крупнейших мусульманских духовных институтах, а население Крыма — его наиболее интеллигентной прослойки. Более того, муллой не мог стать татарин, вообще получивший образование за рубежом. Та же судьба ожидала всех имевших несчастье хоть раз обратить на себя внимание полиции — для этого достаточно было обыска, хоть и без[306]результатного. Наконец, с большим трудом могли получить доступ к должности муллы все окончившие наиболее прогрессивные отечественные "новометодные" медресе (Галеевское, Галие, Хусаиновское).
Муфтия по-прежнему избирали сами татары, но лишь из трех кандидатов, которых губернатор считал "благонадежными". Естественно, бывали случаи, когда он отвергал всех троих. Так губернатор Кавелин однажды и поступил, пытаясь с целью ликвидации "невежества и религиозного фанатизма" татар протолкнуть на высший духовный пост своего чиновника Караманова!
Поэтому неудивительно, что муфтиями становились лица, для которых национальные и культурные интересы соплеменников были пустым звуком, лица, совершившие преступления против народа. В 1833 г. муфтием стал некий Сеит-Джелил-эфенди, который вместе с кади-эскером Османом-эфенди по собственной инициативе и получив одобрение губернатора и министра внутренних дел провел широкую операцию по изъятию не только у духовенства, но и вообще в татарских семьях всех старинных рукописей, сохранившихся от предков. Акция эта была проведена с тем, чтобы ликвидировать произведения, "не согласные ни с законом, ни с правилами благоразумия". Естественно, никто не занимался тщательной проверкой собранной таким образом огромной массы книг и рукописей. Вскоре все они были сожжены по распоряжению министра внутренних дел. Ясно, что колонизаторы предавали огню не бумагу, но воплощение ненавистного им национального самосознания. А это, как мы увидим, не могло не сказаться и на исторической судьбе татар, запасах жизнестроительной энергии народа, причем в самом скором будущем.
И здесь мы вынуждены еще раз повторить, что уничтожение национального достояния огромной культурной и исторической ценности, этот акт беспримерного вандализма, стало возможно лишь при помощи выродков татарского народа, манкуртов, которые, увы, встречаются в любой нации. Немалый вред приносили духовной жизни этноса и рядовые муллы. Прошедшие проверку на лояльность в жандармерии, некоторые из них становились платными доносчиками. Избавиться от этих ренегатов было[307] трудно — в случае раскрытия их просто переводили в другую общину.
В целом приведенные факты говорят о коренном неравноправии христианского и татарского населения Крыма. Особенно же ярко оно проявлялось в случаях перемены веры. Переход татар в христианство не только поощрялся, но нередко и проводился более или менее насильственно. Так, дело №5 (1795 г.) Архива таврического губернатора озаглавлено: "О случившихся неудовольствиях при приведении в веру христианскую протопопом Сауром турецкой колонии" — здесь название дела говорит само за себя. Наоборот, принятие любым крымчанином мусульманства рассматривалось как уголовное преступление (Кричинский А., 1919, 45). Ранее этого никогда не было. Запахло кровью...
Суммируя все вышесказанное, мы должны признать, что на протяжении всего периода между аннексией и Крымской войной татары подвергались культурному, экономическому, религиозно-идеологическому, национальному угнетению со стороны колониальных властей.
Причины возникновения и развития этой политики достаточно ясны. Национальное угнетение и экономическое неравноправие татар были средством укрепления русского владычества за счет аборигенного населения. Религиозные преследования имели конечно же не столько идеологическую, сколько социально-экономическую основу. Мы говорили уже о фактическом установлении в аннексированном Крыму крепостных порядков. Однако формально крепостное право, основанное на законоположениях о личной зависимости крестьян, полицейских и судебно-исполнительских функциях помещиков по отношению к крепостным и т. д., короче, той системы, что ряд веков была общей для стран остэльбской Европы, в Крыму установлено не было. И невозможным это было из-за ислама, запрещающего одному мусульманину владеть другим и брать за аренду "ушур" более1/10 или вообще вымогать плату за выпас скота — трава принадлежит Аллаху! (Щербаков М.М., 1940, 14). А крымские татары, и крестьяне и мурзы, были народом весьма религиозным и шариату преданным. Именно потому столь яро и стремились захватчики ослабить влияние ислама и местных патриархальных,[308] в основе своей демократичных и гуманных, традиций, что они вкупе мешали царизму насадить в Крыму собственные порядки вроде заведенных на недавно еще свободной Украине, а также в причерноморской, заперекопской части бывшего Крымского ханства, откуда мусульмане были физически удалены.
Остается сказать, что проводил эту политику порабощения через национально-религиозное угнетение чрезвычайно пестрый контингент русских помещиков, жандармов, военных, полиции, крупных и мелких чиновников, во главе которых стоял сам царь. Но активную помощь колонизаторам оказывали татарские ренегаты, о которых мы выше упоминали и о которых будем говорить и в дальнейшем: без них, как выразился бы А. Платонов, "народ неполный".
Конечно же ренегаты составляли исчезающе малое меньшинство. Возникает вопрос: а как реагировал на национальное утеснение весь народ? Оказывал ли он сопротивление царским колонизаторам в период перед Крымской войной? Увы, мы вынуждены признать полное отсутствие у татар этого периода политической активности. Сопротивление отмечалось, и неоднократно, но оно было пассивным и выражалось исключительно эмиграцией за пределы империи.
Мы рассмотрели и будем рассматривать далее более или менее подробно лишь крупные волны эмиграции, связанные с резким ухудшением положения народа. Однако нужно учесть, что были и малоизвестные отливы населения из Крыма — например, в 1812 г., когда эмигрировало 3,2 тыс. татар (Мартьянов Г.П., 1887).
Практически же поток эмигрантов не иссякал на протяжении всего XIX в., просто в отдельные периоды он становился наиболее заметным.
Тем не менее, несмотря на почти полную пассивность населения новой царской колонии, правительство ожидало бунта, какого-то возмущения. Причина этого достаточно ясна: аналогичная политика на Кавказе давно привела к вооруженному сопротивлению горцев. Теперь очередь была за Крымом.
И царизм пытался принять превентивные меры, причем в естественности и необходимости их была всеобщая уверенность. Так, хорошо осведомленный об акциях обезземеливания крестьян Паллас считал, что присяга новой власти на Коране, которую татары[309] принесли после аннексии, недостаточна. Почтенный академик настаивал поэтому на дополнительной, какой-то особо торжественной присяге, предусматривавшей неотвратимость предельно жестоких репрессий в случае ее нарушения, вплоть до каторги, разделения семей и т. п. (Марков Е.Л., 1902, 308).
Короче, к началу Крымской войны колонизаторы, следуя собственной логике и наученные опытом Кавказа, априори считали татар клятвопреступниками, только и ждущими удобного случая, чтобы вонзить нож в спину "белому царю". Соответственным стало и отношение к народу, скопом зачисленному в "изменники". И уже в начальные месяцы войны, осенью 1854 г., военный министр отдает приказ о том, "что император... повелел переселить от моря всех прибрежных жителей магометанского вероисповедания во внутренние губернии" (БСЭ, 1-е изд., Кр. АССР, 308).
Исполнить этот приказ из-за оккупации Крыма не удалось. Однако другие акции против татар (о них ниже) осуществлены были; народ постигли новые тяжелейшие испытания.[310]
XIII. КРЫМСКАЯ ВОЙНА
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды [чистый] лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел!
А. С. ПушкинОбратившись к теме Крыма в войне 1853 — 1856 гг., автор оказался перед понятной проблемой аспектов, в которых целесообразно рассматривать это событие огромного исторического значения: нужно ли, например, излагать ход собственно военных действий, касаться ли внешней политики всех стран — участниц войны и т. п.
Конечно, подробное рассмотрение такого рода важных составных любой войны могло обогатить книгу, но и непомерно увеличило бы объем главы, и без того немалый. Поэтому, вместо того чтобы еще раз досконально описывать военную или политическую сторону события, очевидно, целесообразно отослать интересующегося читателя к специальным работам или справочной литературе, благо в них недостатка нет. Автор же оставляет за собой право касаться политики или военных операций лишь тогда, когда это совершенно необходимо для раскрытия основной темы. Так, рассмотрим более или менее подробно важные сюжеты предыстории войны и ее характера.
Проблема степени оправданности (или, лучше, "справедливости") войны, которую вновь затеяла на Юге Россия, весьма сложна и раскрыта пока далеко не полностью. Но, игнорируя ее, мы не сможем решить и прямо относящиеся к предмету книги важные вопросы: а стоили ли огромные жертвы татарского народа в годы войны той цели, что поставило перед собой правительство? Можно ли оправдать всю пролитую кровь задачами, которые война должна была[311] решить? Ответить на эти вопросы можно, лишь начав анализ их с предвоенного периода.
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЙНЫ
Оставим на время чисто крымские проблемы и бросим взгляд на страну, доставшуюся в наследство преемникам великой Екатерины. Одну из лучших характеристик державы находим у Энгельса: "К моменту смерти Екатерины владения России превосходили уже все, что мог требовать даже самый необузданный национальный шовинизм... Россия не только завоевала выход к морю, но и овладела как на Балтийском, так и на Черном морях обширным побережьем с многочисленными гаванями. Под русским господством находились не только финны, татары и монголы, но также литовцы, шведы, поляки и немцы. Чего еще желать? Для любой другой нации этого было бы достаточно. Для царской же дипломатии — нацию не спрашивали — это являлось лишь базой, откуда теперь только и можно было начинать настоящие завоевания" (МЭ, XXII, 26),
Вот так обозначены начала послеекатерининской политики России, политики XIX в. "Целью Александра, как всегда, оставался тот же Царьград", — добавляет классик (там же, с. 29) и расширяет эту характеристику на политику царей всего предыдущего века, в перспективе которой маячил "Константинополь как великая, никогда не забываемая, шаг за шагом осуществляемая главная цель" (с. 26). И то, что при Александре I она была отложена, вовсе не означает "забыта", просто царь счел, очевидно, более доступной задачу покорения Кавказа, Методы же "замирения" этого края показали не только горцам, но и всему миру, что при продвижении на юг царские захватчики не остановятся ни перед чем. Уже уполномоченный Александра I по покорению Кавказа князь Цицианов откровенно писал горцам: "Дождетесь вы моего посещения, и тогда не дома я ваши сожгу — все сожгу, из детей ваших и жен утробу выну" (Вспомогательные материалы, 1939, 23).
Это откровение касается средств проведения южной российской политики в жизнь; более близко к целям ее — другое, высказанное Алексеем Орловым[312] (братом известного фаворита Г. Орлова): "Если ехать, так уж ехать до Константинополя... И скажу так, как в грамоте Петр Первый сказал: а их, неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песчаные, на прежние их жилища" (Покровский М.Н., 1918, 17).
И были эти слова не пустым звуком — они постоянно подкреплялись делом. В 1820-х гг. русские уже приступили к планомерному захвату земель черкесов, карачаевцев, чечен, лезгин, кумыков и других народов. И там, где сопротивление горцев захватчикам было особенно упорным, обычные военные действия сменялись "политикой кровавого истребления местного населения" (Вспомогательные материалы, 1939, 90). Но на противоположном, западном берегу Черного моря такая политика встречалась с трудностями. И дело было не столько в мощи потенциального противника — Турции. Приходилось считаться с Европой, на чьей земле планировались будущие завоевания. Кроме того, сама Турция признавалась тогда "основным устоем общеевропейского равновесия", и если бы Россия за ее счет усилилась, то, как и раньше, для всего европейского мира возникла бы "большая опасность" (Бочкарев В.Н., 1912, 274).
Екатерина оставила в наследство право владения причерноморскими землями и свободного прохода торговых русских кораблей через проливы. Но военные цели державы требовали такого же права и для военного флота. И, во-вторых, права на закрытие, в случае необходимости, проливов для военных флотов других держав. А права этого нужно было добиваться от Турции. Военным или мирным путем.
До ряду причин, коренившихся не только в восточной, но и в западной ее политике, Россия не была заинтересована в полном упадке Турции. Поэтому Николай I вначале избрал невоенные средства к достижению указанных целей — да они были и дешевле. Вначале попытки эти принесли весомый результат. Воспользовавшись сложным положением Стамбула в годы восстания египетского паши Мехмета-Али, царь подписал с султаном Ункиар-Искелесский договор, секретная статья которого обязывала турок препятствовать проходу в Черное море иностранных флотов, но беспрепятственно пропускать российский.
Внезапное это усиление позиции России на Востоке настолько обеспокоило западные державы, что[313] проливы надолго превратились в регион мощного политического напряжения, став как бы магнитными полюсами вообще между Востоком и Западом. В Европе перед лицом общей угрозы миру было достигнуто межнациональное Соглашение о совместной гарантии безопасности Турции, а в 1841 г. подписана Лондонская конвенция, согласно которой проход через проливы был закрыт любому военному флоту, в том числе и российскому. Пользуясь современной терминологией, проливы объявлялись "зоной мира".
Тогда Россия выдвинула претензии на свое исключительное право оказания покровительства турецким христианам. Это было продолжением начатой еще в 1760-х гг. Екатериной борьбы за гарантированные Россией же свободу вероисповедания, автономию и политическую независимость христианских областей Турецкой империи. Это была игра в одни ворота: Турция подобных требований по отношению, скажем, к казанским или среднеазиатским мусульманам не выдвигала. Тем не менее посредством договоров (Бухарестский 1812 г., Аккерманская конвенция 1826 г., Адрианопольский трактат 1826 г.) Петербургу удавалось шаг за шагом продвигаться к намеченной цели.
Другое дело, что при Александре I и Николае II Россия являлась верховной покровительницей реакционного Священного союза и рьяно отстаивала принцип легитимизма, т. е. защиты сложившегося права, а также борьбы против революционного и национально-освободительного движения. И в этот период оба царя вели политику, враждебную попыткам балканских христиан выйти из-под османского ига. Особенно жесткой стала эта антиславянская политика после Венского конгресса (Тодоров Н., 1979, 193). Теперь же, когда обстановка несколько изменилась, а Россия ощутила свою возросшую мощь в Европе и на Востоке, она решила вмешаться во внутренние дела Турции, снова "воспылав любовью" к ее христианам, — дело того стоило. Россия должна была принести "волю" единоверцам за рубежом. "Но не лучше ли было бы начать с освобождения своих невольников, — восклицает Герцен, — ведь они тоже православные и единоверные, да к тому же еще и русские" (1957, 202). Риторичность этого простого вопроса ясна, даже если не задаваться вторым — а что[314] ждало христиан, будь они даже "освобождены" Россией?
В настоящее время известно, какую судьбу готовил Петербург балканским христианам. Эти народы ни в коем случае не должны были оставаться свободными, но тут же должны были перейти под новое владычество — российское (Тодоров Н., 1979, 193). Иного им было не дано, царь не мог ни упустить такого случая легкой экспансии на Юг, ни допустить прецедента появления свободных территорий в Европе, жандармом которой он по праву считался. Поэтому в рассмотрении агрессивных акций царизма, приведших к войне, мы должны обратиться к их идеологическим и внутриполитическим истокам.
Внутренняя политика Николая I определилась еще в 1825 г. на Сенатской площади. Попытка декабристов поднять страну до общеевропейского уровня социального, политического и экономического развития не удалась: царь, считавший себя до кончиков ногтей европейцем, не желал расстаться с азиатчиной ни в стиле правления (деспотическом), ни в методах подавления прогрессивных движений. Но ближе к середине XIX в. его трон зашатался — началось неконтролируемое движение давно безмолвствовавшего многомиллионного народа. Россия забурлила, запылали помещичьи усадьбы. И это было не слепое, стихийное сопротивление крепостническому гнету. Тут запахло не бунтом, а революцией с ее четко осознанной целью[87].
Система петербургского деспотизма и дикого крепостного права могла держаться только в закрытом обществе. Как консервы, которым необходима полная герметичность: стоит ее нарушить — и мгновенно начнется процесс разложения. Оттого-то цари и видели политическую панацею в консерватизме. Даже великий новатор Петр отнюдь не "откупорил" Россию, но, прорубив даже не окно, а узкую форточку, стал возле нее, не выпуская топора из рук. Николай I немногим от него отличался, будучи гораздо консервативнее.
Слепым он не был, ему было скорее всего понятно, что в XIX в. экономические интересы дворянства требуют отмены крепостничества. Ведь трещина между Западом и Востоком росла, Россия отставала от Европы и экономически, и в военной мощи, чему[315] виной было средневековье в деревне. Но система российского абсолютизма в силу ряда своих особенностей требовала совершенного социального и политического застоя, им лишь она и держалась в эпоху демократических преобразований в цивилизованном мире. Поскольку же сохранение крепостничества не сулило экономического прогресса, то становилось ясно, что великая держава зашла в тупик.
Был ли из него выход? По меньшей мере два. Первый — отказ от крепостного права, путь прогресса, европейский путь. О втором читаем у Энгельса: "Чтобы самодержавию властвовать внутри страны, царизм во внешних отношениях должен был не только быть непобедимым, но и непрерывно одерживать победы, он должен был вознаграждать безусловную покорность своих подданных шовинистским угаром побед, все новыми и новыми захватами" (МЭ, XXIV, ч. 2, 29). Николаем был избран этот второй путь.
Но была и чисто экономическая причина новой большой войны. За первую половину XIX в. пашня юга России увеличилась вдвое, а урожай зерна — вчетверо (История СССР, IV, 520), что открывало возможность экспорта хлеба. Вывоз шел в южном направлении. До 1840-х гг. Россия занимала на турецком хлебном рынке почти монопольное положение. Но накануне войны роль России здесь переходит к Англии, русский экспорт на Юге сокращается в 2, 5 раза (Зверев Б.И., 1954, 7). Англичане из года в год увеличивали хлебный оборот в портах Галаца, Браилова, Варны, а склады Таганрога, Херсонеса, Одессы ломились от нереализованных запасов. Так стали терять смысл все "приобретения" Екатерины П. Бороться с Англией экономическими методами было невозможно: крепостное хозяйство не было конкурентом для буржуазного. И в этом смысле также оставался лишь второй, военный путь из тупика.
НАКАНУНЕ
К десантной операции в районе Стамбула стали готовиться еще в 1850 г. (История СССР, IV, 523). Николай обещал, что после захвата турецкой столицы[316] он "согласен принять на себя обязательство не утверждаться в Константинополе в качестве владельца, другое дело — в качестве временного охранителя" (Окунь С.Б., 1957, 257). Но одновременно царь готовит — по необходимости — соглашение с Англией, в котором предназначает себе не только Стамбул с Босфором, но и Молдавию, Валахию, Болгарию и Сербию. Англии же — по принципу "на тебе, Боже, что нам негоже" — Египет и почему-то Крит: "Этот остров, может быть, подходит вам, и я не знаю, почему бы ему не стать английским" (цит. по: МЭ, X, 152, 155). Раздел был предложен не столько своеобразный, сколько несообразный, и Англия от него отказалась. Когда эта попытка двух крупных хищников договориться о "мирном" поглощении третьего провалилась, Россия решила, что сможет справиться с ним в одиночку, зато и добыча будет больше. Был составлен военный план — вместо десанта решили идти сухим путем через Варну и Бургас (Горев Л., 1955, 61) — оставалось лишь найти casus belli.
Кто ищет — обрящет. Поводом стало "дело о христианских святынях" в Вифлееме, тогда входившем в Османскую империю. Россия требовала ключи от храма, переданные турками французам, одновременно снова повторив старую свою претензию на свободу вмешиваться в дела турецких христиан на Балканах. Переговоры в Стамбуле вел посол А.С. Меньшиков, причем весьма своеобразно — так, он упорно отказывался приветствовать членов дивана простым наклонением головы и т. п. Турки, оскорбленные подобным нарушением протокола, хитроумно понизили притолоку двери. Здесь растерялся бы любой дипломат, но не князь. На следующем заседании после объявления титула чрезвычайного посла собравшиеся вельможи увидели сначала зад пятившегося сиятельного амбассадора и лишь затем все остальное (История СССР, IV, 523)! Естественно, на таком кухонном уровне переговоры долго продолжаться не могли. И даже когда турки пошли на компромисс и согласились отдать ключи от храма православным, Россия односторонним актом прервала диалог. Собственно, к этому исходу Петербург и стремился — характерно, что уже по окончании войны, в ходе мирных переговоров, о ключах все забыли!
Турки правильно понимали неизбежность войны[317] с Россией, причем задолго до провала предвоенных переговоров. Еще в 1853 г. они просили англичан и французов помочь им в случае нападения с севера — и получили согласие. Мы не можем сказать, что будущие союзники Турции были в этой войне так уж заинтересованы и дали согласие, что называется, "с первого предъявления" — впрочем, есть и иные мнения[88]. Обе державы представляли, с одной стороны, капитализм, с другой — демократию (буржуазную). Россия же была тормозом как первого (в Европе), так и второго (дома). Поэтому сторонники обуздания России получили на Западе полную поддержку общества (Бочкарев В.Н., 1912, 275; История СССР, IV, 521), принявшего в конфликте сторону Турции. "Весь свет жалеет турков не потому, что они были кому-либо близки, — писал Герцен, — их жалеют оттого, что они стоят за свою землю, на них напали, надобно же им защищаться" (1957, 206).
Но с другой стороны, правительства тех же стран видели в мощи своего "жандарма" гарантию против повторения событий революционного 1848 года, когда пошатнулись многие режимы. И тот же лорд Палмерстон, что до войны считал необходимым "поставить предел развитию русского могущества" (Бочкарев В.Н., 1912, 275), через три года пророчил: "Падение Севастополя приближается. Когда это случится, возникнет новая опасность — опасность мира, а не войны" (Покровский М.М., 1918, 29). Наверняка думал он об этой угрозе и до войны.
Почему же все-таки великие державы решились выступить против России? Очевидно, реальная опасность полной утраты позиций из-за агрессии России на Ближнем Востоке и непомерного усиления царя перевесила проблематичную угрозу революций. Петербург просто не оставил этим странам выбора. Как заметил А. Герцен, наблюдавший европейскую политику изнутри, "итак, царь накликал наконец войну на Русь. Как ни пятились назад, как ни мирволили ему его товарищи и сообщники, боясь своих народов больше всякого врага, — он напросился на войну, додразнил их до того, что они пошли на него" (1957, 201).
Так относилась к Крымской войне Европа. Такие же полярные точки зрения были и у русских. Громче всех в предвоенные и первые военные месяцы здесь[318] звучал ура-патриотический хор. Осанну "белому царю", "освободителю православных святынь Востока", пели едва ли не все газетчики, но националистический угар закружил и более светлые головы: тюркофобные стихи лились из-под пера Тютчева, Ф. Майкова, В. Алферьева. Доставалось и союзникам турок — наиболее характерно, быть может, восклицание, принадлежащее Ф. Глинке: "Ура! На трех ударим разом!" Не только в аристократических салонах и светских гостиных, но и среди мелкого чиновничества царило какое-то восторженное поклонение самому духу новой битвы — еще свежа в памяти была война 1812 г. Эта "Россия восторженно откликнулась на боевой призыв Его (царя. — В.В.), как привыкла откликаться на всякий призыв своих царей", — писала одна из образованнейших современниц войны (Штакеншнейдер Е.А., 1934, 40).
Но вот в этом шовинистическом гвалте раздался трезвый голос Н.Г. Чернышевского. Он развенчал не только эту, но и другие подобные акции царизма на Востоке: "Толпа монахов стояла у озаренной светлым солнцем одной из палестинских церквей, ссорясь из-за ключа, но далеко на туманном севере люди видели честолюбие русских царей" (1935, 353). А затем отрезвел и Ф. Тютчев. "... Невозможно присутствовать при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодяями" (1934, 19), — писал он, имея в виду турок и русских.
Сложнее было услышать мнение безгласного народа, определить степень популярности войны среди основной массы населения. Ясно, что было бы ошибкой ставить знак равенства между героизмом севастопольцев и настроениями в русской деревне, обескровленной рекрутчиной. Да и героизм — не показатель одобрения войны[89]. "Из тысяч сражавшихся солдат, турецких или русских, было ли хоть два человека, которые добровольно взялись за оружие?" — вопрошает Н. Чернышевский и не дает ответа — он очевиден (1935, 220). Россия "пошла лечь костьми, не зная, на что и за что она идет", — говорит Е. Штакеншнейдер (1934, 40), но она ошибается. Выли в России прогрессивные мыслители, видевшие в военном проигрыше социальный и политический выигрыш для русского народа. Это были едва ли не первые в истории России пораженцы, ощущавшие[319] близость великой реформы, для ускорения которой стоило проиграть войну, к тому же агрессивную: "Высадка союзников в Крыму в 1854 г. и... сражения при Альме и Ингуше и обложение Севастополя нас не слишком огорчали, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение было в том же духе" (Кошелев А.И., 1884, 81 — 82).
Современник был прав — из разных концов огромной страны в столицу стекались жандармские донесения: "Войны здесь никто не желает", "Надеются, что дело не дойдет до войны, которой никто не желает", "Желают, чтобы политический вопрос кончился миролюбиво" и т. п. (Бестужев И.В., 1956, 42). Не менее "воинственно" было настроено и офицерство; один из них так объяснял, отчего он участвует в войне "с отвращением": "Чтобы воевать усердно, надобно иметь идею, за что охотно пожертвовал бы жизнью, а так, по прихоти деспота, подставлять лоб, право, никому нет охоты" (Вдовиченко И.С., 1860, 114). Ему вторил небогатый чиновник: "... цели Крымской войны для русских были неясны, неопределенны, и понятие "турки бунтуют", с которым мы брались за винтовку, не воодушевляло, да и не могло воодушевить народные массы" (Раков В.С., 1904, 52).
"Война 1853 — 1856 гг., как известно, была непопулярна: причин ее никто не понимал, цели в ней не видел", — ставит точки над i современник войны — крымский писатель (Стулли Ф.С., 1894, 490). О всей нации делает столь же бесспорный вывод его петербургский коллега: "Но чтобы русский народ в эту войну заодно шел с царем — нет" (Чернышевский Н.Г., VII, 1950, 1002). Таким образом, это была трагедия народа, в которой он был не виноват, нация чувствовала ненужность, несправедливость новой бойни. Но лишь советский период дал историкам возможность сделать подлинно научные выводы о сути восточной политики России в ту эпоху; она "сводилась к расчленению Турции и, может быть, Австро-Венгрии, но с поглощением славянских (и не только славянских!) частей этих государств Россией или установлением над ними русского протектората" (Штраух А.Н., 1935, XIX).
Казалось бы, выводы эти четки и бесспорны. Но[320] есть сторонники и иной оценки войны. Не будем приводить цитаты из них — имя им легион. Сделаем лишь одно исключение. Для совсем недавней работы, где автор чохом оправдывает все, в том числе и агрессивные, войны, что Россия вела на протяжении последней полутысячи лет, войны, превратившие нашу страну в пугало и выведшие ее из всемирной семьи народов, в которую мы и до сих пор невхожи, не в последнюю очередь из-за рудиментов нашего имперского мышления. Вот эти слова: "Обороняясь и наступая, Россия в целом вела справедливые и неизбежные войны, иного выбора у нее и не было. Если страна хотела жить и развиваться, то должна была, отбросив ножны за ненадобностью, в течение пяти столетий клинком доказывать соседям свое право на жизнь и развитие. Эти войны в определенном смысле (?) были народными войнами (!) с постоянным и деятельным участием народной вооруженной силы..." (Нестеров Ф.Ф., 1984). От комментариев воздержимся.
И, наконец, дадим слово иностранцам, не располагавшим морем архивных документов СССР, массой свидетельств современников, записями русских участников войны. Но они сделали в XIX в. выводы, которые, увы, превосходят научностью ученые разработки иных советских авторов, поражающие своей плоскостью и необъективностью. Итак, француз Г. Культюр, книга "Николай и святая Русь", год издания — 1854: "Царь не затеял бы этой несправедливой войны из-за пустого предлога заступиться за веру христиан в Турции... После 29 лет царствования он не мог больше управлять Россией" (цит. по: Герцен А.И., 1957, 259).
НАЧАЛО ВОЙНЫ
Начавшиеся односторонним актом военные действия показали превосходство российского оружия на суше и на море. Турецкий флот был почти полностью уничтожен в ноябре 1853 г. при Синопе, а вдоль молдавских берегов все дальше на юг ползла русская армия. Западные союзники, проводя анализ сравнительной мощи русской и турецкой армий, очевидно, предвидели такой успех нападающей стороны. Но[321] извне не была, естественно, видна внутренняя слабость николаевского режима; впрочем, не была она явна и самим русским до того, как начались первые поражения, обусловленные именно этой гнилостью чиновничьего и армейского аппарата, а не недостатком мужества русского солдата.
Еще в сентябре 1853 г. турецкие, английские и французские войска численностью 63 тыс. человек высадились, не встретив сопротивления, в Евпатории и двинулись к Севастополю. В том же месяце после кровопролитного сражения на Альме, закончившегося поражением русских, началась знаменитая 349-дневная Севастопольская оборона. Война стала затяжной, что входило в планы русского правительства, пожертвовавшего Крымом ради интересов и безопасности собственно России и обескровливания обороны турок на западном берегу[90]. Однако выполнение второй части стратегического плана русских (касавшейся овладения Адрианополем, Стамбулом и проливами) безнадежно затягивалось.
А потом последовало крайне невыгодное развитие событий и в Крыму. Вместо сдерживающих, локальных боев русские были принуждены к масштабным сражениям, мало напоминавшим картину "демонстративных" военных действий. Крым неожиданно становился из "ловушки" для союзных армий в нечто противоположное — "... если это место было наиболее благоприятным для показной войны, то для серьезной войны оно было бы наиболее опасным" (МЭ, XXII, 39). Союзники же, бесспорно, оказались серьезным противником, говоря не только о Южном театре. В последние месяцы своей жизни Николаю I довелось увидеть редкое для русского царя зрелище — вражеский флот, крейсирующий у Кронштадта в виду его петергофской дачи. Это был результат всей политики императора, хотя он и не дожил до последнего ее результата, последнего унижения, покончив с собой (так, по крайней мере, уверяли современники) накануне сдачи Севастополя.
ТАТАРЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Какую же позицию по отношению к воюющим сторонам заняло основное население Крыма? Чита[322]тель, задавшийся этим вопросом, почти наверняка прежде всего обнаружит вполне недвусмысленный и четкий ответ в капитальном труде П. Надинского: "Крымские татары оказались изменниками и тысячами перебегали в лагерь врага" (I, 131), Встречаются и более развернутые откровения того же плана, например о том, что союзникам "всеми силами" помогало "местное татарское население, восторженно встретившее турок и их покровителей. Разжигаемая турецкими и английскими агентами и собственными муллами ненависть татар к русским широко разливается грабежами и насилием вокруг Евпатории, достигает Перекопа и Армянского базара, терроризирует русское население" (Горев Л., 1955, 237). Примеры можно до бесконечности множить, но нового это даст немного — в них будет все то же стремление любой ценой заклеймить народ и, увы, все та же голословность, бездоказанность подобных "убойных" выводов. Оставим их на совести авторов, писавших после апреля 1944 г., и обратимся к источникам и фактам.
В первые же дни после объявления войны таврический муфтий Сеид-Джелил-эфенди обратился к мусульманам Крыма с воззванием. Духовный владыка говорил правоверным, что они "должны быть искренне преданы царю и отечеству и для них не щадить ни крови, ни жизни" (Материалы, I, 1871). Указание муфтия, обладавшего непререкаемым авторитетом, исполнялось почти буквально. Татары с готовностью свозили на приемные пункты все необходимое для армии, прежде всего продукты питания и фураж, А городские муллы и муфтии обратились к русским властям с выражением своей готовности всячески поддерживать их в борьбе с Турцией. Очевидно, эта инициатива была связана со ставшим им известным планом правительства о депортации всех крымских татар "в одну из отдаленных губерний" (Дубровин Н.Ф., 1900, I, 285).
Впрочем, это наше предположение; возможно, заявление мулл было искренним изъявлением желания помочь тем, кто жил с ними бок о бок уже не первое поколение. К счастью, осуществлению программы высылки татар в места отдаленные помешала на этот раз десантная операция союзников, и мусульмане были оставлены в покое. Благо вскоре выяснилось, что пользы от них куда больше, чем вреда.[323]
Впрочем, "покой" этот был весьма относительным, особенно на оккупированной врагом территории. Со стороны прибывших в обозе союзников турецких мулл начались попытки склонить татар к пособничеству, поддержанные и отдельными татарскими их коллегами. Но эта пропаганда была тут же нейтрализована выступлением местного и поэтому более авторитетного князя Мехмет бея Балатукова. Невзирая на опасность репрессий со стороны оккупантов, князь открыто "выступил защитником русских" в ряде деревень близ Евпатории, после чего зарубежные муллы просто опасались там появляться (Раков В.С., 1904, 16).
Не в пример князю Балатукову русская администрация бежала из Евпатории, оставив подопечное население без "пастыря" еще до высадки десанта. Причем некоторые чиновники оказались столь резвыми, что остановились лишь у Перекопа (Стулли Ф.С., 1894, 495). Поскольку же русская армия также отмаршировала без боя, то татары оказались брошенными на произвол оккупантов, чем те и воспользовались. Начался повальный грабеж татарских деревень и евпаторийских кварталов, причем особенно отличались французы. Бесчинства достигли таких масштабов, что о них стало известно и за рубежом. Той же осенью "Тайме" писала, что зверства союзников в евпаторийских деревнях таковы, что газета не решается привести подробности — "они слишком оскорбительны для человечества" (Материалы, II, 1871, 268). Ак-Мечеть была разграблена "дочиста, скот и овцы угнаны... людей же от старого до малого избивали и подвергали всякого рода оскорблениям" (Материалы, III, 1872, 204). Российская пресса в отличие от английской хранила по этому поводу мертвое молчание, лишь много лет спустя коснувшись такой "закрытой" темы, как страдания татар во время оккупации, да и то весьма кратко и без подробностей, очевидно решив пощадить нервы читателей, у которых в противном случае "волосы станут дыбом" (KB, 1896, №74).
Некоторые села послали гонцов в Симферополь, прося защиты от мародеров. И через несколько месяцев (!) здесь появились летучие уральские и донские казачьи сотни, отчего татары, что называется, попали из огня да в полымя. Теперь стали мародерствовать[324] казаки, причем в селах на периферии и даже вне оккупированной врагом территории — очевидно, для безопасности от противника. Справедливости ради заметим, что в грабежах лихих рубак отнюдь не было ничего "антитатарского" — с тем же успехом они угоняли коней и у русских помещиков (Стулли Ф.С., 1894, 515). Но если пропажа десятка коней мало что значила для богатого скотовода, то татарская беднота была поставлена уральцами и донцами на грань голодной смерти: они не только забирали скот, но и "беззастенчиво опустошали, если удавалось отыскать, хлебные ямы" (там же, 507). Угнанный скот казаки сбывали своим же интендантам как "отбитый у неприятеля".
Со временем местное население стало больше, чем "западных иноплеменников", опасаться появления в деревне "наших казаков и даже солдат" (Марков Е.Л., 1902, 95). И немудрено, так как последние "на весь Крым смотрели как на изменников. Под этой фирмою они угоняли стада овец, выжигали целые деревни... они врывались в дома как завоеватели; били зеркала, кололи перины, мебель, отыскивая сокровища; татары бежали от них то в лес, то к неприятелю. Если собиралась где кучка татар человек в 20, в нее стреляли. Это была тоже измена" (там же, 106).
Казачий террор действительно принуждал татар искать защиты в местах дислокации противника, за городскими стенами. "Опасаясь более всего преследования казаков, татары целыми селениями переселялись в Евпаторию и в ближайшие ее окрестности и гибли там во множестве от голода и недостатка помещения" (Дубровин Н.Ф., I, 1900, 287). Помещики же, опасаясь бросить имущество, отправились к губернатору. Не осмеливаясь гневать начальство, они указали, что ночные грабители — татары и турки. Но тот, знавший, в чем дело, прогнал их, в бешенстве заявив: "Татары не грабят и не бунтуют и бунтовать не будут — бунтуете вы!"[91] (Раков В.С., 1904, 24).
Не легче было татарам и в неоккупированной части полуострова. Деревни здесь, в основном животноводческие, были практически лишены властями корма. Хотя сена в первый военный год было накошено "очень много", но его "стало ненадолго, так как проходившие полки истребляли его самым немилосердным образом — лошадей пускали прямо к стогам,[325] без привязи, и они в одну ночь вытаптывали и портили больше, чем съели бы в неделю. Но этого мало — сено служило топливом" (Стулли Ф.С., 1894, 515), и это в Крыму, где топлива всегда в избытке; даже в степи татары никогда не покупали дров, топя кизяком и кураем!
Страдали и постройки, причем не от огня артиллерии, а в тылу: "Истребительная сила наших солдат проявилась не на одном селе; стоило какому-нибудь отряду переночевать в деревне, и наутро большая часть изб, оставленных хозяевами, оказывалась без дверей и без крыш: и то и другое шло на костры, и все в присутствии того же обычно растущего кустарника. Разрушения вызывались даже не какою бы то ни было потребностью, а производились часто от скуки". После месяца такого постоя обычно "деревня была опустошена, не оставалось ни одной овцы, ни одного вола, ни зерна хлеба, ни клока сена или соломы" (там же, 516, 517).
Весьма тяжкой была подводная повинность, отвлекавшая массу рабочей силы и скота из разоренной деревни. Нехватка фуража вела к массовому падежу скота. Очевидец подсчитал, что вдоль дороги Бахчисарай — Джанкой в среднем на 1 версту приходилось 120 трупов татарских волов и лошадей (Дубровин Н.Ф., II, 1900, 358). Для уборки этой падали также использовались татары, согнанные в особые "команды".
Современники утверждают, что уже к весне 1855 г. "край был совершенно истощен, и в особенности пространство между Севастополем, Симферополем и Евпаторией". Кстати, именно по этой причине — хищнического разорения Крыма и непосильных повинностей с татар, создававших экономическую основу тыла, — "Севастополь должен был пасть сам собой" (там же, II, 360; III, 25) — это теперь был вопрос времени.
Итак, мы рассмотрели экономическую сторону жизни татарских масс в годы войны; обратимся к политической. Попробуем узнать, не было ли среди них, как уверяет нас П.Н. Надинский, "измены" трону и отечеству. Начнем с того, что сама постановка вопроса об измене угнетенных аборигенов своим колонизаторам весьма проблематична, идет ли речь о русско-крымских или, скажем, англо-индийских отношениях[326] в прошлом веке. Во всяком случае, автор не решился бы выдвигать столь серьезное обвинение, не снабдив его понятными оговорками. Впрочем, полемика на эту тему увела бы нас в сторону от основной темы. Поэтому ограничимся той самой истиной, что познается в сравнении. Выше мы видели, как сильна была настроенность против войны российского населения, в том числе и крестьянства, как откровенно выражались там даже не пацифистские, но явно пораженческие настроения. Приведем еще один пример, последний. В одном из писем Н. Чернышевский говорит: "Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения: крепостные от помещичьей неволи, раскольники... свободы вероисповедания..." (VII, 1950, 1002). Поразительное свидетельство для наших ультрапатриотичных авторов: народ предпочитал свободу победе в войне, падение крепостничества — захвату новых земель и племен!
Увы, столь прогрессивным мышлением население Крыма не обладало. Татары не выразили, по словам свидетеля войны, "ничем своего недовольства против наших властей", "они были кротки и умеренны" и "во весь период Крымской войны не заслуживают ни малейшего упрека" (Раков В.С., 1904, 22, 39). Может быть, они боялись единственно жестоких законов военного времени? Отнюдь. Когда однажды при изменении обстановки на фронте русская администрация сбежала во главе с губернатором в том числе и из столицы края, "уступив свою власть татарам", то... ничего не произошло. Разве что сумятица среди татар, не знавших, кому теперь оставлять подать: "Никто ничего не знал, большинство городов лишилось своих чиновников" (Дубровин Н.О., I, 1900, 294 — 300); татары же, оставшись без власти, по сути в межфронтовой полосе, как и ранее, "по обыкновению отбывали без малейшего побуждения все земские повинности..." (Раков В.С., 1904, 39).
Впрочем, одно "политическое" выступление татар все же было: один крымский землевладелец сообщает, что они "сильно избили" помещика Веснинского, который жестоко их притеснял в довоенное время (Стулли Ф.С., 1894, 497, 499). Но это не было национальным выступлением. "Едва ли была бы на их[327] месте какая-нибудь другая народность столь незлопамятна, имея такие возможности к мести", — раздумчиво завершает свой пассаж наш автор-аграрий.
Так говорили те, кто всю войну провел в Крыму. Петербургские же публицисты подняли в эти годы шумную клеветническую кампанию против "изменников-татар", подхваченную шовинистическими кругами российской провинции. Однако верить этим измышлениям могли лишь там, где не знали крымских татар. И если в России, как замечает Е.Л. Марков, сам факт "измены" был "вне всякого сомнения", то в Крыму, продолжает он, "... я не встречал ни одного старожила, который не презирал бы от всей души этих гнусных нареканий на татарина, сделавших несчастие целого края. В один голос говорят, что без татар мы проиграли бы Крымскую войну: все перевязочные средства и все припасы были в их руках" (1902, 103).
Но даже авторы "гнусных нареканий" середины прошлого века не приводили каких-либо конкретных фактов широкой "измены народа" (если только в науке есть такое понятие). Очевидно, они опасались немедленного позорного разоблачения: Россия была полна уцелевшими ветеранами Крыма. Ныне этого можно не опасаться — и в 1950-х гг. появляются все новые подробности этой "великой измены". Такая, к примеру: "В Евпатории, находившейся в руках противника, формировались военные отряды из добровольцев-татар" (Надинский П.Н., I, 1955, 131). Снова серьезное обвинение, даже чем-то перекликающееся с более поздними... Что же произошло в Евпатории, ведь дыма без огня не бывает? Выясняется, что действительно татары организовали отряд милиции в 800 человек (запомним эту цифру!) для защиты от пришлых и собственных, казачьих мародеров ("для разъездов вблизи города"). Но когда их стали притеснять муштрой и т. п., "то большая половина татар разбежалась" (Дубровин Н.Ф., I, 1900, 289). Итак, огонь в самом деле был, но какие же тучи дыма ухитрился извлечь из него Надинский! "Со стороны Евпатории постоянно существовала угроза тыловым коммуникациям русской армии, сконцентрированной под Севастополем" (I, 1951, 131) — заметим, что о столь важном стратегическом факторе не упоминает ни один специалист по Крымской войне. Очевидно, они не располагали цифрой этого "татарского сое[328]динения": 10 тыс. — понятно, приводимой Надинским без ссылки на источник.
Кстати, об источниках. Как известно, бывают заблуждения добросовестные — когда автор не располагает закрытыми архивными данными. Но здесь случай иной — Надинский располагал тем же кругом источников, что и более поздние авторы, сделавшие тем не менее совершенно противоположный вывод: когда "татар пытались организовать в Евпатории в вооруженные отряды", то инициаторы "потерпели неудачу" (Крым, 1988, 41). Поистине, слеп тот, кто видеть не хочет! Ведь даже неспециалисты по Крыму говорят мимоходом как о факте общеизвестном, что когда в Евпатории высадились союзники, "то татары не поддержали их" (Гумилев Л.Н., 1988, 6).
Впрочем, теперь нам более интересен не сам этот факт, но причины пассивности татар в судьбоносные для нации годы войны. То, что для народа предпочтительнее был бы во всех отношениях возврат к османскому протекторату, — бесспорно, ибо с приходом русских, по словам В.О. Ключевского, "легкая зависимость татар от турок сменилась тяжелой от освободителя". Выше упоминалось, что и правительство настолько было уверено в неизбежном выступлении крымчан против колониального ига в любой подходящий момент, что планировало накануне войны их выслать. И после войны еще много лет русская общественность не могла опомниться от удивления, почему "после вопиющих жестокостей и преследований, в самых широких размерах практиковавшихся в дореформенное время, татары... не воспитали в своих сердцах самую непримиримую ненависть к нам, русским" (KB, 1896, №74).
Тем не менее восстания не последовало. В то самое время, как оно могло быть поддержано всей мощью союзников, среди которых были и единоверцы-турки. В то время, как на Кавказе армия Шамиля вела отчаянную войну, "принесшую жителям гор наибольшую славу" (МЭ, XII, 119). И турки, гарантировавшие великому имаму предоставление свободы и независимости для края с северными границами по Тереку и Кубани, свое слово держали. Почему же столь соблазнительный пример никак не подействовал на крымских татар? Чем объяснить их непоколебимую лояльность по отношению к царизму?[329]
Причин здесь несколько, и все они лежат на поверхности. Во-первых, это вековая ограниченность, изолированность сельского по преимуществу населения. Причем не только от "большого мира", но и гор от предгорья, предгорья от степи. Изолированы были друг от друга и отдельные деревни. Разделенные диалектами, вряд ли осознающие себя как единую нацию, несхожие друг с другом даже антропологически, татары не могли и не хотели объединиться политически перед лицом общего угнетателя.
Во-вторых, за десятилетия российского владычества неизбежно должен был угаснуть былой воинственный дух татар, по крайней мере степняков (горцы всегда были мирными тружениками-садоводами). Духовные силы этих бедняков, "молча голодающих и молча вымирающих" (KB, 1896, №74), по необходимости до конца исчерпывались в аннексированном Крыму борьбой за выживание на оставленных им клочках земли. Сил не хватало ни на культурное, ни на духовное, ни на национально-патриотическое развитие — в то время как кавказцы сохранили в почти беспрерывной вооруженной борьбе и высокое чувство воинствующего патриотизма, и сознание межнациональной общности, и сливавшее племена воедино чувство ненависти к страшному врагу, несшему на своих штыках порабощение из века свободным и вольнолюбивым народам. Война нанесла жестокий удар татарскому народу. Но не нужно было быть пророком, чтобы предвидеть новые и новые акции царизма, грозившие физической деградацией и вымиранием не только отдельным семьям, но и всему этносу. Народ это предвидел, осознал и вновь после долгого перерыва проявил непокорность судьбе, неотвратимо влекшей его в пропасть забвения. Однако сопротивление это было своеобразным.[330]
XIV. ВТОРОЙ ИСХОД
ПРИЧИНЫ ЭМИГРАЦИИ 1850 — 1860 гг.
Наша историография в объяснении второй великой эмиграции крымского народа весьма безапелляционна. Если только советские историки вообще не опускают ее в своих исследованиях, то они избирают из многочисленных побуждений экономического, идеологического, отчасти политического плана, заставивших татарские массы бросить имущество, очаги и землю предков, лишь одно: "Основной причиной эмиграции явилась боязнь татар перед (?) справедливым возмездием за их изменническое поведение во время войны" (Надинский П.Н., I, 1951, 131).
Об "изменническом поведении" народа выше уже говорилось — скорее нужно было бы применять "справедливое возмездие" к другим племенам империи, например к русским, поскольку в Центральной России "крестьянские восстания во время войны охватывали целые губернии" (Всемирная история, IV, 484), тогда как в Крыму не было и следа бунта. Очевидно, все же причина второго в истории крымских татар исхода кроется в чем-то другом.
Эмиграция 1780-х гг. объяснялась крымскими чиновниками, привлеченными к ответу за обезлюдение края, проповедями мусульманского духовенства. Муллы уверили массы, что мурзы предали их русским, намеревающимся силой крестить народ. Пропаганда эта якобы упала на благодатную почву; племенной и религиозный фанатизм и стал виной выселению. Однако уже дореволюционные историки указывали на лживость подобных заявлений, считая, что причина демографического сдвига была прежде всего экономическая (Гольденберг М., 1883, 69), а не идеологическая. Известную роль сыграла и антитатарская по сути социальная политика первой русской администрации в Крыму, о чем говорилось выше.[331]
Но и "объективной" причины фанатизма невозможно было привести в 1860 г., через 80 лет после аннексии Крыма. Татары давно утратили остатки религиозной нетерпимости, весьма, впрочем, слабой и в период расцвета ханства. Но за эти годы они взамен основательно ознакомились с той экономической и социальной действительностью, что принесла с собой новая власть. Массовое обезземеливание, бесправие в сравнении с новопоселенцами, фактическое закрепощение, полный отрыв от центров всемирной мусульманской культуры — вот что обрели они, утратив покровительство Турции.
Тем не менее эмиграции почти не наблюдалось всю первую половину XIX в. Незаметна она была и сразу после окончания войны — в воздухе носились слухи о скором освобождении крестьян и передаче им земли помещиков. По этой же причине татары возлагали большие надежды на новую, назначенную в 1856 г. Комиссию по разбору жалоб на помещиков и вообще для изыскания способов нормализации татарской экономики. Однако результаты работы комиссии неожиданно оказались прямо противоположными. Крымские помещики, испугавшиеся, что положение их крестьян будет улучшено за счет господских земель, стали прекращать арендные договоры и выселять крестьян со своих угодий. Обратного результата достиг и поток жалоб в Петербург от теперь уже окончательно — на деле, а не на бумаге — обезземеленных татар. Ответ пришел в 1859 г. Департамент сельского хозяйства объявил, что, во-первых, отныне ходатайства о наделах вообще удовлетворяться не будут, а, во-вторых, натуральная арендная плата заменяется денежной выплатой (Никольский П.А., 1929, 25). И ранее ведшие натуральное по большей части хозяйство, татары наличных денег почти не имели, поэтому такое решение правительства ставило их в окончательный тупик.
Но если эта беда коснулась лишь крестьян, живших на помещичьих землях, то послевоенные годы стали невыносимо тяжелым испытанием для всех без исключения татар.
В многочисленных трудах о Крымской войне основное внимание уделяется дипломатам, ходу военных действий, экономике воевавших стран в целом. Совершенно справедливо указывается при этом, что[332] война стоила больших жертв народам нескольких стран. Но ни одна работа не рассматривает специально вопроса: во что обошлась война населению края, где разворачивались главные ее действия?
Попытаемся хоть вкратце на него ответить. Прежде всего, с началом войны прервался сбыт аграрной продукции по налаженным каналам — уже это отбросило экономику Крыма далеко назад. Далее, войсковые перевозки повлекли за собой массовый падеж тяглового скота, за который компенсации почти не выплачивались[92]. Если крестьяне во время принудительных по сути работ питались из войскового котла, с них взыскивали сумму, далеко превышавшую действительную. Имела место и подчеркнуто национальная дискриминация. Для русских, чьи хозяйства входили в зону военных действий, делалась скидка с 10-рублевого (в среднем) подушного налога в 7 руб., а с татар — только 1,1 — 1,7 руб., т. е. по сути тяготы с разоренного хозяйства оставались прежними. Были и другие поборы, не санкционированные властями. Так, крестьяне должны были платить 3 — 5 руб. казакам, которые хватали степных бедняков, угрожая пересылкой по этапу в Сибирь якобы за сотрудничество с противником. Впрочем, зажиточным хуторянам приходилось еще хуже — с них брали отступных по 50 — 100 руб. Если при обыске находили старое, ржавое холодное оружие (а у какого татарина нет дедовского кинжала!), то виновного ковали в кандалы (причем скидки не делалось ни малолетним детям, ни древним старцам), а затем требовали выкуп с родственников, и тут сумма резко возрастала.
Вот так татары и были доведены до того предела, за которым жизнь становилась невозможной. Известно, что крестьяне всего мира держатся за землю до последнего, противясь даже соблазну переезда в соседний город. Упорно цеплялись за нее и коренные крымчане, пронеся эту верность наследию предков сквозь все издевательства и унижения. Но теперь их ждала неминуемая смерть. И все же они медлили два-три года, продавая жалкое имущество, нанимаясь батраками на чужую землю, нищенствуя.
Последним толчком стал слух о близящемся выселении их в Оренбургскую губернию. И администрация края отнюдь зти толки не рассеивала. Мы не знаем даже, не были ли они и рождены в глубинах[333] кабинетов, ведь сам Александр II рассматривал возможное освобождение Крыма от "вредного населения" как исключительно "благоприятное явление" (Никольский П.В., 1929, 25). Известно другое — прозрачными намеками чиновники раздували тревогу татар, рассчитывая погреть руки на всенародном исходе. И не без оснований — когда началась эмиграция, то извлекали из нее пользу и они, даже обычные помещики, которые кроме брошенных земель получали деньги за предоставление своим крестьянам паспорта. Так, татары Бекелы-Базы и Орсунки платили по 21 руб. (с души!), карасубазарские мещане — по 13,5 руб.; это было всеобщим явлением, а кое-где поборы достигали таких размеров, что чиновники попросту обогатились на народном горе.
Эмиграция началась еще до наступления мира — бежали мурзы, опасавшиеся наказания за симпатию к Стамбулу, но таких нашлось немного. В последовавшие за войной годы выезд был весьма скромным. Но в начале 1860 г. движение вспыхнуло, подобно степному пожару, перебрасываясь с уезда на уезд, стало неуправляемым, лавинообразным. Очевидно, пик переселения приходится на 1863 г., когда "совершенно опустели 784 аула и татарские деревни" (Горчакова Е., II, 1883, 31); населенные же пункты, где остались лишь немногие жители, никто не считал.
И на сей раз родину покинули в большинстве своем степняки, скотоводы, дочиста разоренные войной. Горцы, как и в 1780-х гг., остались на месте: их сады частично уцелели, да и лес давал кое-какое пропитание. Опять древнейший крымский генофонд уцелел; ногаев же теперь практически не осталось. И если сравнивать город и деревню в целом, то, конечно, эмигрировали гораздо чаще крестьяне.
Сколько всего бежало, сказать сложно. По подсчетам правительства, 141 667 человек, но сюда не входят те, кто выехал без паспорта, а их было немало. Согласно тому же источнику (Никольский П.А., 1929, 26), когда эмиграция закончилась, в Крыму остался 102 951 житель. Итак, если огромная Россия потеряла в Крымскую войну несколько десятков тысяч человек, то маленький полуостров — более полутораста тысяч, более половины своего населения.
Послушаем же очевидцев этого поистине библейского исхода: "Бросив на произвол судьбы свои по[334]стройки и сельские принадлежности, расставшись навеки с прахом своих предков, эти татары громадными нестройными массами со всем своим движимым имуществом, со старцами, женами, детьми, больными двинулись из своих прадедовских жилищ к Евпатории, Севастополю, Феодосии, Керчи, откуда на пароходах и парусных суднах переправились в Турцию" (Горчакова Е., II, 81).
Другой очевидец: "В опустелых деревнях только выли собаки, двери в хатах от ветра хлопали, окна были выставлены, крыши раскрыты. Ночью, когда полная луна освещала эту пустыню, становилось как-то жутко... Днем приходилось наталкиваться на сцены, поистине раздирающие душу. Вот стоит несколько нагруженных мажар, татарские семейства все, от стара до мала, пошли на кладбище сказать последнее "прости" своим похороненным предкам; эти добровольные изгнанники опускаются на колени, бьют себя кулаками в грудь и целуют землю. Ни воя, ни криков не слышно, тихо струятся слезы по их загорелым лицам; каждый из них берет по горсточке земли с могилы дорогого для них покойника и идет, повеся голову, к своим волам, давно проданным какому-нибудь предприимчивому торговцу" (цит. по: Никольский П.В., 1829, 25).
Естественно, никакой эмиграционной службы не было организовано, как не была налажена или хотя бы проконтролирована перевозка людей. У татар не было выхода, и этим пользовались турецкие и греческие моряки, часто отбирая у них за перевоз последнее. Суда нередко вообще не годились для перевозки пассажиров. Стремясь заработать в эту необычную "путину", владельцы ветхих шхун и фелюг загружали их выше любого предела. В море эти суденышки гибли от малейшего волнения; о том, сколько татар "погребено в пучинах Черного моря... об этом знают те шкипера, которые перевозили этих несчастных, да карантинные стражники и прибрежные жители Крыма, находившие во время эмиграции ежедневно по нескольку трупов, выброшенных морем и принадлежащих переселенцам" (Горчакова Е., II, 1883, 31). Берега Черного моря в страшном ожерелье из трупов — такое зрелище предстало приморским жителям в первый и последний раз.
Остается добавить, что пожар эмиграции привлек[335] к Крыму массу спекулянтов и жуликов всех мастей из России, которые надеялись нагреть руки на татарском имуществе. Как грибы возникали всевозможные "меняльные конторы", обменивавшие царские кредитки на турецкое золото, как правило фальшивое. Образовались общества на паях, "переуступавшие" права на купленную землю помещикам и наживавшие такие проценты, что пайщики платили муллам немалые деньги за проповедь эмиграции и не прогадывали на этом (KB, 1888, №33 — 34). Реакция правительства на переселение была однозначной: она совпадала с мнением крымских помещиков и землевладельцев, о котором говорилось выше. Так, директор I департамента Министерства госимуществ Гернгросс считал эмиграцию "счастливой случайностью для края" (Усов С.А., 1925, 50). Известно, что те же мысли были у нового императора, а значит, и у идеологов эпохи, формировавших общественное мнение. И они писали, что благую деятельность администрации доныне тормозило лишь "смешанное население, не представлявшее никакого единства: постоянное брожение разнородных элементов мутило светлую наружность страны". В этом отношении переселение оказалось полезным: "... потери мы в этом не видим решительно никакой; напротив, удалением своим в пределы Турции крымские фанатики развязали руки русскому правительству, которое постепенным преобразованием старалось улучшить и развить благосостояние Крыма" (Б-н П., 1856, 43).
Но когда эмиграция развернулась во всем своем гигантском масштабе, снова, как в XVIII в., забили тревогу — на сей раз помещики. Русские землевладельцы хорошо знали цену почти бесплатному татарскому труду по сравнению с отдачей от завезенного из России крестьянства, не умевшего приспособиться десятилетиями к чуждому краю. Доля русских среди крестьян исчислялась тогда совершенно незначительными процентами. Поэтому неудивительно, что степь после переселения напоминала современнику "пустыню, та же участь грозит и горной части Крыма. Села обезлюдели, поля остались без обработки. Ценность земли упала с 20 до 3 руб. за десятину" (цит. по: Усов С.А., 1925, 52).
Поэтому тревога помещиков была понятна. А когда ее подхватила либеральная часть русской общест[336]венности, то был издан циркуляр-обращение к татарам с просьбой оставаться на местах и с обещанием всяческих благ. Циркуляру никто не верил, и после этого эмиграция продлилась не на месяцы — на годы...
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Тема опустевшего Крыма, осиротевшего и печального, волновала сердца многих авторов эпохи. Они понимали, что со временем жизнь снова наполнит долины предгорий и степные села, но что-то исчезло с земли безвозвратно. И они щедро выплескивали свою ностальгию по былому Крыму на страницы мемуаров. Не будем упрекать их за многословие и, быть может, пристрастие — это все, что у нас осталось от крымской старины...
"... Татары возделывали свои сады с замечательным искусством, не только поливая их, унаваживая, расчищая и т. д., но и делая искусственные прививки. Некоторые крымские города буквально утопали в зелени садов; виноградники в некоторых местах простирались на целые мили... сорта винограда считались десятками, татары изощрялись в способах посадки лоз, в искусственной прививке для облагораживания винограда, и крымские виноградники давали ежегодно до сотни тысяч ведер отличного вина, которое, по словам Палласа, не уступало венгерскому. Земля крымских степей, теперь почти пустынных, была в высшей степени плодородна: из Крыма вывозили ежегодно сотни тысяч четвертей пшеницы для снабжения других местностей. Весьма развито было в Крыму и скотоводство: везде встречались хорошо содержимые табуны лошадей, стада рогатого скота, овец и коз, смушки с крымских овец особенно славились тонкостью шерсти и вывозились отсюда сотнями тысяч; из козьих шкурок выделывался отличный сафьян, всюду встречались верблюды, буйволы, дорогие волы...
Теперь же от всего этого остались одни следы... Виноградники разводятся менее, нежели в половинном размере против прежнего, да и тем угрожает филлоксера. Нет теперь и помину тех хлебов и трав, что были когда-то, — нет главным образом потому,[337] что столь необходимые для орошения безводных крымских степей колодцы, с изумительным искусством копавшиеся татарами, запущены, фонтаны засорены, речки повысохли, и, не орошаемый искусственно, край буквально задыхается от безводья. В результате перед обитателями одной из плодороднейших местностей мира стоит продовольственный вопрос в не менее грозном виде, нежели перед остальной Россией... Неведомо куда исчезла и живая жизнь: буйволы и верблюды встречаются крайне редко, лошади измельчали и даже не напоминают собою прежних крымских коней, систематически облагораживавшихся арабскою и турецкою кровью; мелкие проворные волы, незаменимые в горных местностях, почти совершенно выродились; овец и коз не осталось и третьей части" (Гольденберг М., 1883, 68 — 69). "... Северная часть Крыма, за исключением приморских пунктов и долин по течению рек, осталась после татар пустынною и безлюдною, и только опустелые и разбросанные там и сям деревни, засорившиеся колодцы, полуразвалившиеся каменные изгороди и заросшие в степи углубления проселочных дорог свидетельствуют, что здесь когда-то все было заселено, была жизнь и довольство" (А. У., 1876, 261).
И еще одна важная заметка — о том, что лишь татары легко "переносили сухой зной степи, владея тайнами извлечения и проведения воды, разводя скот и сады в таких местах, где долго не уживется немец или болгарин. Проезжайте, например, Евпаторийский уезд, и вы подумаете, что путешествуете по берегам Мертвого моря. Словом, Крым после ухода татар — это дом после пожара" (Марков Е.Л., 1902, 103 — 104).
Выше была сделана оговорка относительно возможного пристрастия цитированных авторов-разночинцев, естественно сочувствовавших угнетенным классам или целым народам. Но послушаем еще одного мемуариста, на сей раз даму из высших аристократических кругов, княгиню Е. Горчакову, которую трудно заподозрить в преувеличении бед, обрушившихся на голову крымчан, племени, ей до приезда на полуостров совершенно незнакомого.
"Удаляясь в Азию, татары унесли с собой тайну своего довольства и преуспевания; ни один колонист, будь он русский, болгарин или немец, не создаст на[338] незнакомой почве чуждой ему земли тех садов и виноградников, которые давали обильные плоды любимым сынам своим, потомкам первых обитателей Тавриды, и путешественник, проезжая теперь по бесконечным пространствам северо-западной части полуострова, взирает с изумлением на эти сожженные горячим солнцем поля, дающие земледельцу скудную жатву, и не узнает в безлюдной, сухой, безжизненной степи ту страну, которая некогда слыла житницей Греции и славилась своим богатством и плодородием. Животная жизнь здесь также постепенно исчезает; породы измельчали: верблюды, буйволы становятся редки, рогатый скот, овцы и козы убавились наполовину, и маленькие табуны лошадей, встречающиеся теперь в степи, не могут сравниться с прежними татарскими конями, горячими, быстрыми, воспитанными для набегов, красотой своих форм не уступавшими арабской лошади".
И далее: "Селения редки, фонтаны развалились или пересохли, воды мало, жалкие остатки опустелых хат попадаются часто и свидетельствуют о бывших поселках, а груши, черешни, мушмула, одичалые виноградные лозы в пустынной балке или вдоль лесного ручья говорят вам, что здесь когда-то были сады и виноградники, луга, холмы, покрытые лесами, густонаселенные, богатые деревни, оставившие в наследство пустынным местностям и урочищам свои татарские названия, а нынешним обитателям Крыма обширные кладбища, расположенные на придорожных холмах, с множеством надгробных камней разных цветов и форм; некоторые из камней стоят еще как одинокие стражи этой долины смерти, но многие рассыпались, растрескались, лежат в осколках, как после страшного землетрясения" (Горчакова Е., 1883, II, 27, 31 — 32).
Нет необходимости множить здесь подобные свидетельства тотального разорения края, чудовищной цены, которую татарский народ уплатил за войну, развязанную великими нациями. Попытаемся лишь ответить на вопросы, поставленные в начале главы: а стоили ли огромные жертвы коренного населения цели, поставленной царем? И результатов, этой войной достигнутых?
Послушаем старого историка-марксиста: "Объективно и турецкие войны, и крестьянские переселения[339] служили одной цели: поддержанию устаревшего типа народного хозяйства. И те и другие служили орудием экономического, а с ним и всяческого другого застоя" (Покровский М.Н., 1918, 25) — кажется, эти слова были сказаны сегодня, а не в 1918 г. Именно сохранение застоя, торможение объективного прогрессивного процесса были целью российского правительства в Крымской войне. И менее всего царь думал об освобождении балканских братьев-славян, развязывая очередную Южную кампанию. "... И не должны ли были казаться лицемерием не только врагам, но и друзьям России заветы о свободе народов, когда во внутренней политике она руководствовалась совершенно противоположными началами. ...Не давало ли (это) права ее врагам говорить ей: "Врачу, исцелися сам"?" (Данилевский Н.Я., 1871, 344 — 345). И это слова отнюдь не марксиста и даже не либерала, это говорит реакционер, вскоре, при небезызвестном Делянове, ставший почти официальным идеологом России; это слова из книги, предназначенной быть настольной у любого преподавателя-историка и студента эпохи Александра III. К сожалению, на подобную объективную оценку национальной политики наши историки веком спустя уже не осмеливались...[340]
XV. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Главным последствием Крымской войны стала, как известно, отмена крепостного права в России. Реформа пришла и в Крым. Однако здесь, где формально число крепостных не превышало 4% населения, это событие не несло с собой таких масштабных сдвигов, как на материке. Фактически закрепощенных крестьян-татар было неизмеримо больше, но их-то реформа 1861 г. не коснулась вовсе, за исключением тех мест, где перемен захотели сами помещики. А таких земледельцев нашлось немало. Они не были заинтересованы в сохранении старых порядков, так как чувствовали, что новая, капиталистическая экономика принесет гораздо больше доходов, что за ней — будущее.
Выше указывалось, что специализация сельского хозяйства в Крыму началась довольно рано: в 1820-х гг. уже имелось немало товарных овощеводческих, виноградарских, садовых хозяйств; в 1840-х гг. появляются зерновые. Залогом свободного развития всех их был обширный рынок рабочей силы. Раннее складывание его сдерживалось крепостным правом. Теперь же, когда эти ограничения беспрепятственного перераспределения производительных сил были сняты, крымские помещики понемногу начинают заменять крепостные и староарендные хозяйства новыми. Это не означало обязательную смену арендаторов — просто на старых крестьянских участках, в том числе основанных на крепостном труде, вводились формы аренды, более выгодные помещику в новых условиях.
Собственно, выгоду от реформы помещики смогли[341] извлечь еще до ее осуществления. Узнав, что она неизбежна, что манифест уже подготовлен, они стали распространять всевозможные слухи касательно новой кампании по лишению земли лично несвободных крестьян. В результате естественно появившегося стремления татар освободиться помещики резко повысили выкупную цену. Так, в дер. Саблы помещик Давидов брал 150 — 200 руб. за душу, отпуская крестьян при этом без земли (ЮК, 1905, №115). Как правило, вольноотпущенники становились впоследствии арендаторами своих же участков.
Более или менее широкий выкуп земли начался лишь после опубликования манифеста. При этом возросла уже цена земли — до 50 руб. за десятину горной и 25 руб. — степной (Максименко М.М., 1957, 58). Тем крестьянам, что могли заплатить не менее 20% общей стоимости надела, правительство шло навстречу, давая ссуду с рассрочкой на 49 лет. Понятно, что эта помощь могла коснуться лишь зажиточной части крестьян, в которой татар почти не было.
Бедняки же были вынуждены при проведении реформы довольствоваться бесплатными, так называемыми нищими наделами, размером в 1,5 десятины степной или 0,75 десятины горной земли. Понятно, что владельцы этих жалких клочков (по сути годных лишь для огорода) отныне становились намертво привязанными к хозяйству их бывшего помещика: они начинали работать по найму, условия которого редко бывали аналогичны бывшей барщине. Как правило, тяготы при этом возрастали. Рента с десятины достигла уже 12 — 20 дней отработок, иногда — 30 дней; кроме того, нужно было сдавать в имение 1/10 урожая хлеба с предоставленной дополнительно площади, а без нее обойтись было невозможно. К добавочным повинностям можно отнести два подводных дня, плату за пользование выпасом — два-три дня за каждую пару волов, а за сенокос — от 0,1 до 0,4 собранного сена (Щербаков М.М., 1940, 16, 18).
Как можно заметить, новая арендная система имела первоочередной целью обеспечение помещика, сохранившего власть над землей и рабочей силой для обработки ее. Учитывая выгодную рыночную конъюнктуру (об этом ниже), перевод хозяйства имения на новые рельсы означал и повышение дохода с него. Таким образом, перемена 1860-х гг. никого не могла[342] обмануть, в Крыму по крайней мере. Легче татарам от реформы отнюдь не стало. И недаром крымские журналисты и через четверть века после ее проведения не спешили сдавать в архив старинный термин, говоря, что на полуострове закон сохраняет "доселе архаическую форму барщины" (СЛ, 1887, №3). Всего, таким образом, т. е. с "нищим" наделом, было освобождено 6 тыс. душ мужского пола, или 35% всех освобожденных с землей.
Однако и таких клочков не получили крестьяне Южного берега Крыма, а также дворовые на всей территории полуострова. И если у помещиков осталось в целом 30% сельскохозяйственной территории, то, учитывая их относительную малочисленность, это очень высокий процент. Огромное большинство крестьян собственной земли так и не получало. И лишь в Евпаторийском уезде, где земля, как известно, суха, частично засолена и поэтому дешевле, чем в других местах, крестьянский клин достиг 70% от общей площади.
Но тем не менее в Крыму уже ощущалась близость настоящих, глубоких перемен. Вторым признаком их стало уникальное в истории полуострова увеличение населения. Начавшись в 1860-х гг. за счет хлынувших на благодатную крымскую землю вчерашних русских крепостных, этот демографический взрыв за 30 с небольшим лет утроил население: если в 1865 г. здесь проживало 194 тыс., то в 1897 г. уже 547 тыс. человек. Доля городского населения за этот период увеличилась на 190% (в среднем по России только на 97%), достигнув 41,9%, что говорит о росте городского пролетариата, в первую очередь за счет переселенцев.
Татары в целом оставались на местах, в сельской сфере. Но и здесь в 1870-х гг. начался коренной социальноэкономический перелом. Завершение в 1876 г. строительства первой в Крыму Лозово-Севастопольской железной дороги немало содействовало структурной перестройке сельского хозяйства, особенно в степной части. Если ранее здесь преобладающим было скотоводство, а земледелие оставалось на низком уровне, то теперь улучшение сбыта зерна как за рубеж, так и в глубь России привело к увеличению хлебных площадей, интенсификации зернового хозяйства. Возросли денежная стоимость земли, продажные и арендные цены, что окончательно подкосило[343] скотоводство, требовавшее больших территорий. Рост производства зерна повлек за собой увеличение доли обрабатывающей промышленности, особенно вблизи железной дороги. Так, мукомольная промышленность сосредоточилась в Джанкое, Сарабузе, Курман-Кемельчи, Симферополе. Расширились посевы табака, обрабатывавшегося на фабриках Украины, — если в 1871 г. культура занимала 890 га, то в 1886 г. — 4,7 тыс. га, а урожай увеличился с 0,635 тыс. до 4,7 тыс. т (Никольский П.В., 1929, 28). Резко возросла выгодность садоводства — ранее трудности сбыта не давали отрасли расширяться (татары называли фрукты "гнилым товаром"). В 1880 г. вывозилось уже 75 тыс. т в год.
Тормозом развитию сельского хозяйства все более явно становилось дворянское землевладение, охватывающее более половины крымских земель. Помещики и мурзы не могли обработать более трети своей земли, тогда как за Перекопом под плуг шло 94% хозяйственных площадей, из которых 3/4 принадлежали крестьянам. Основанная в значительной своей части на натуральной экономике, система дворянского земледелия не выдержала конкуренции фермерского высокорентабельного хозяйства колонистов: уже в 1905 г. помещичьих земель осталось менее четверти общей площади. Причем это были в основном земли русских помещиков; мурзачество исчезло навсегда уже к середине 1890-х гг., отчасти разоренное ростовщиками и собственной бесхозяйственностью, отчасти прокутившее имение предков (KB, 1896, №74).
На волне высокой конъюнктуры не смогли подняться и крестьянские надельные хозяйства — за этот период их доля снизилась с 9 до 5%. Зато вдвое увеличили свои площади вышеупомянутые хозяйства с рациональной формой производства выраженного фермерского типа, основанные как на владельческом (с применением передовой техники), так и на наемном труде.
Естественный рост спроса на землю привел к бешеной спекуляции ею; помещики не могли устоять перед поистине фантастическими ценами и продавали свои угодья. Процесс этот шел повсеместно, но особенно активно — в прибрежной, курортной полосе, где постепенно возобладал тип мелкого высокодоходного "дачного" землевладения. В целом выросло и[344] крупное землевладение: участки свыше 0,5 тыс. га занимали на рубеже веков 53% площади, а от 0,1 до 0,5 га — лишь 12%.
С ростом латифундий новых земельных магнатов шел процесс обезземеливания татар. Если процент татарских крестьян и до 1860-х гг. был выше, чем на материке, то в 1880-х число всех обезземеленных достигло 17,5 тыс. семей, или 47% крестьянского населения. Большая часть их проживала в степи (72%) и предгорьях (52%); гораздо меньше (9,7%) — в горах (Усов С.А., 1925, 81).
Возникает вопрос: а куда же делись 55 тыс. десятин земли татар-эмигрантов, почему их клин не способствовал обеспечению оставшихся земляков? Дело в том, что после войны правительство с новой силой продолжало свою политику колонизации. Первая большая партия колонистов (1,5 тыс. семей) состояла из надельных крестьян, которых поселили на землях эмигрировавших татар. Затем в Евпаторийский и Перекопский уезды прибыли эстляндцы, их селили и у Симферополя; в Перекопский же уезд направляли чешских эмигрантов и немцев — здесь доля последних достигла 77% всей земли (НТ, 1887, №3846). В 1877 — 1905 гг. переселенческие крестьянско-фермерские семьи увеличили свои площади с 12,9 до 28,2% от общей территории; к концу периода они вместе с получившей в Крыму развитие кооперацией владели чуть ли не 40% всей площади. И можно согласиться с тем, что в результате этой "земельной революции не коренное население полуострова, а именно они стали наследниками местного и пришлого дворянства" (Усоз С.А., 1925, 88).
Доля татар в результате нового земельного перераспределения упала до крайних пределов. В 1888 г. они владели в Крыму лишь 280 наделами общей площадью 7,6 тыс. десятин. Непрерывно уменьшалась площадь собственных татарских участков — в процессе межевания у татар их отчуждали, предоставляя равноценные в других местах, но уже не в собственность, а в надел, что далеко не одно и то же (Крым, 1888, №33 — 34). Там же, где татары десятилетиями арендовали землю у крупных владельцев, те заменяли их немецкими или хотя бы русскими арендаторами, считавшимися "хозяйственно сильнее" татар (НТ, 1887, №3839; Б-н И., 1856, 43).[345]
ПРЕДПОСЫЛКИ АНТИТАТАРСКОЙ ПОЛИТИКИ
Остановимся на минуту на этом мнении — хотя бы из-за его распространенности в определенных российских кругах. Стоит раскрыть газеты той эпохи, и почти в каждой мы найдем схожие сентенции. Доходило и до безапелляционного: "Татары — народ ленивый", причем так высказывались авторы весьма многотиражных и популярных изданий (Библ. для чтения, 1856, янв., т. 135, 43). Некоторые авторы, сознательно или нет, отталкивались при этом от некоторых национально-психологических особенностей татарского народа. Так, общеизвестным было, что татары не шли "в ногу с веком", диктовавшим необходимость извлечения повышенной, капиталистической прибыли. Неважно, за чей счет — эксплуатации наемного труда или труда своей семьи, собственного труда до изнеможения ради достижения самых разнообразных целей, в том числе связанных с престижем. Журналисты с удивлением повествовали о татарском обычае запахивать лишь такую часть надела, которая была совершенно необходима для пропитания, оставляя целину, заросшую кустарником или травами, чтобы было "на чем кофе варить" (KB, 1896, №75).
Большой знаток Крыма и крымчан прошлого века Е.Л. Марков писал по этому поводу, что труд татар "не имеет того лихорадочного, энергически-напряженного характера, с которым он неразлучен в цивилизованной Европе. Но и зато корысть его не имеет того цивилизованного ожесточения, которое всю жизнь европейского человека обращает в погоню за приобретением, в безжалостную и бесконечную войну с своим же братом — человеком за кусок золота" (1902, 313).
И еще одна черта, отличавшая татар от северных соседей, — более развитое даже в беднейших слоях чувство собственного достоинства. Газеты писали в пору жесточайшего обнищания крымчан в 1870 — 1890-х гг.: "Видел ли кто-нибудь татарина, просящего милостыню? Он входит в чужой двор только затем, чтобы попросить работы.
И уж конечно никто не скажет, что татарин снес свои заработки в кабак" (KB, 1896, №75). О том, какими могли быть "заработки"[346] в пору всеобщего обезземеливания, можно только догадаться. И тем не менее "самые бедные женщины и самые маленькие дети одеты довольно пристойно: нет этой повальной сермяги, поскони, войлока и льна, этих отцовских зипунов на грудных детях, мужицких тулупов на бабах. У каждого ребенка своя, нарочно для него сшитая курточка со шнурками, с узорами, синяя или полосатая, непременно цветная, у каждого свои сафьяновые или кожаные мешвы, своя красивая шапочка, пригнанная в мерку" (Марков Е.Л., 1902, 313). Автор делает из этого абсолютно верный вывод об истоках заботливости отца и матери, "признающих своим нравственным инстинктом и за ребенком такое же человеческое право и такое же человеческое достоинство, как и за самим собой". И далее: "В хате его всегда необыкновенный порядок, чистота и приличие — сейчас видно, что человек уважает себя". Это же качество, вызванное уважением, бросалось в глаза и в отношениях между различными социальными прослойками: "Чабан входит в гостиную своего хозяина в своих буйволовых сандалиях, с достоинством закуривает, опустившись на ковер, свою трубку и протягивает руку к стоящему угощению, не сомневаясь нимало, что имеет на него равное со всеми право" (с. 312). Впрочем, эта особенность татарского характера была замечена еще Богушем-Сестренцевичем, писавшим о том, что татарам присуще чувство чести такого уровня, "которое находится в Европе у народов, наилучше образованных".
Очевидно, именно оттого, что соседей татар в XIX в. вряд ли можно было отнести к "наилучше образованным" из всех европейских народов, подобные отличия (в том числе "невписываемость" татар в капиталистическое общество эпохи) этих соседей не могли не раздражать. Впрочем, "раздражение" — весьма мягко сказано. По наблюдению такого тонкого психолога, каким был А. Платонов, если люди "в свое время безошибочно угадывали особенных самодельных людей, то уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением". И это не преувеличение — взглянем еще раз на газеты 1880 — 1890 гг. Оказывается, не удовлетворяясь экономическим ограждением татар, "русские всячески издевались над ними" (Крымский вестник,[347] 1898, №75). Была разработана целая "теория" о невозможности сожительства в Крыму аборигенного и пришлого населения именно из-за "национальных особенностей и крайнего фанатизма" татар (НТ, 1887, №3846), в результате кому-то надлежало исчезнуть — естественно, не русским; и землю стали давать с середины 1880-х гг. "только русскому крестьянству", оказывая ему, "понятно, предпочтение, вытекавшее из экономических и государственных интересов" (НТ, 1887, №3839). И еще более определенное признание: "Правительство рядом последовавших в последнее время распоряжений высказалось против татар и обсудило систему покойного кн. Воронцова, который, как известно, особенно покровительствовал татарам, награждая их незаслуженными льготами и преимуществами" (НТ, 1887, №3846) — каковы были эти "льготы", мы видим; что же их сменило?
Обезземеливание татар шло весь послевоенный период, но лишь в 1884 г. его, так сказать, спонтанный характер сменяется целенаправленным. На место отдельных случаев экономической сегрегации приходит система. Именно в этом году министр государственных имуществ Островский по согласованию с Министерством внутренних дел вообще запретил отвод казенных земель в надел крымским татарам, мотивируя свое распоряжение "недостаточностью казенных земель и необходимостью их для поселения русских безземельных крестьян". Беспрецедентный этот акт отнюдь не держался в секрете, о нем писали газеты, пытавшиеся, впрочем, "объяснить" его с вполне шовинистической, великорусской точки зрения: "Крайне примитивная система развития, общий склад жизни и ума татар, неспособных к культуре (?), — все это говорит не в пользу татар как нации (!), и еще больше можно сказать о них отрицательного со стороны приспособленности их к совместным условиям земледелия" (НТ, 1887, №3846). И далее оказывается, что предпочтение русских "в отношении татар, отрицательные национальные качества которых так хорошо известны правительству" "имело в виду соблюдение государственных интересов со стороны политической" (НТ, 1887, №3848) — значительное признание, не что иное, как очередная гальванизация старых утверждений о политической неблагонадежности народа в целом[93].[348]
В дальнейшем мы не раз встретимся с ними; прямые обвинения татар в готовности изменить или в прямом предательстве будут слышны и до и после Великой Октябрьской революции. Но поразительно одно пророчество скрывшего свое имя одесского газетчика, очевидно предвидящего грядущие преследования татар, их обреченность геноциду и в будущем, каким бы оно ни было. Говоря о фактическом неравноправии, национальном угнетении народа, он вопрошает, изменились ли условия его жизни за три года, прошедшие после упомянутого распоряжения Островского? И сам же отвечает: "Конечно, нет, как не изменят их последующие три десятилетия и, может, даже века" (НТ, 1887, №3848). Поразительные слова!
ВАКУФНЫЙ ВОПРОС
После войны постепенно усиливаются религиозно-экономические преследования татар русскими властями. Государство впервые посягнуло на вакуфные имущества, незаметно, шаг за шагом уменьшив их общую массу за 30 — 40 лет (путем отчуждений по суду, включения в иные владения административным путем и т. д) более чем наполовину (Переводчик, 1890, №31). Между тем важность вакуфной недвижимости для татар к 1890-м гг. возросла, как никогда раньше. С упадком богатого мурзачества и ликвидацией государственного домена ханства вакуфы стали основным средством поддержания не только духовных институтов, но и национального просвещения вообще, ведь империя не выделяла на эти статьи расхода ни копейки. Далее, после ликвидации крестьянской общины на вакуфные средства оказывалась социальная поддержка беднякам, поддерживались многие общественные институты и даже часть городской и сельской инфраструктуры. Так, бахчисарайский водопровод, масса фонтанов и чашмэ на территории всего Крыма содержались за счет вакуфов. Именно поэтому возникший в рассматриваемый период так называемый вакуфный вопрос перерос свое первоначальное чисто экономическое значение, быстро став масштабной проблемой национальной культуры и идеологии. Естественно, вызвав заметные волнения[349] в широких татарских и не только татарских массах населения.
В России часто бывало, что общественное мнение по частному вопросу готовили газеты определенного направления. В середине 1870-х гг. они начали широкую кампанию за передачу большей части крымских вакуфов государству. Уже в 1876 г. московские газетчики, как по команде вдруг заинтересовавшиеся вакуфными делами далекого Крыма, публикуют массу статей о бесполезности наделения татар землей взамен усиления борьбы против их фанатизма, вернейший путь к ликвидации которого — изъятие у них вакуфного имущества. Конечно, писали газеты первопрестольной, такое решение, вероятно, усложнится "давнишним недовольством крымских татар своим положением", но чрезмерно опасаться этого не следует: крайний вид протеста, до которого они способны дойти, — это эмиграция[94], а это не страшно, более того, и удерживать их не следует, так как переселенцев для Крыма явится довольно и из внутренних губерний, и из-за границы (МН, 1976, №244; НВ, 1876, №232 и др.).
Одновременно осуществляется политический нажим на крымское мусульманское духовенство. В том же 1876 году министр внутренних дел Тимашев окончательно запретил выдачу паспортов татарам, собиравшимся для ежегодного паломничества к святыням Мекки. Министр предписал отклонить прошения о паспортах, "под какими бы предлогами они ни поступали" (Кричинский А., 1919, 30). Тем не менее пока вакуфы оставались в неприкосновенности.
На следующий 1877 год произошла активизация "турецкой" политики Петербурга, что не могло не оказать влияние на крымские дела. Начался очередной антитурецкий милитаристский шабаш, причем за новую агрессию выступала, и в который раз, часть общественности, интеллигенция. К примеру, Ф. Достоевский, считая необходимым скорейший захват Стамбула, полагал невозможным предоставление древней столице статуса вольного города, иначе она рискует сделаться "гнездом всякой гадости, интриги, убежищем всех заговорщиков всего мира, добычей жидов, спекулянтов и проч. и проч. ". "Константинополь должен быть наш" — к такому выводу пришел великий русский писатель (Собр. соч., 1984, т. 26, 83).[350]
К несчастью, эту фантастическую идею лелеяли не только не располагавшие реальной властью литераторы, но и руководители русской политики, в том числе канцлер Горчаков. Как выразился М.Н. Покровский, "Достоевский бредил в хорошей компании..." (1918, 9). Естественно, усиливается и внутрироссийское пропагандистское наступление на инородцев-мусульман, прежде всего на крымских татар, которых власти по-прежнему считали в видах близившейся войны какой-то "пятой колонной". Поощряемый властями, в Крыму начался дикий разгул антитатаризма. Татар гнали из немецких "экономии", из имений русских помещиков и фермеров, норма эксплуатации тех немногих, что сохранили свои места, удвоилась, они платили уже не1/10, а1/15 урожая. В конце 1870-х гг. озверевшие переселенцы устраивали акции настоящей травли татар, еще живших кое-где на плодородных землях; даже кладбища, святые места, столь чтимые мусульманами, было невозможно уберечь от изуверов: "Из плит, поставленных в головах покойников, он (т. е. русский. — В.В.) наделал корыт для птиц и, раскопавши могилы, увез вывороченный оттуда камень для стен своих амбаров" (KB, 1896, №74). Естественно, это массированное политическое, экономическое, социальное наступление на народ не могло не повлиять на национальную психологию населения и, в частности, на общую демографическую ситуацию. Атмосфера полной безысходности, отсутствия перспектив для развития народа ощущалась конкретными его членами, каждой семьей. И отразилось это нагляднее всего на деторождении. Мусульманское общество, уровень рождаемости в котором всегда был выше, чем в православном, отреагировало вполне естественным образом — в 1880-х гг. крымских татар умирало втрое больше, чем рождалось (Гаспринский М., 1889). Общество было обескровлено морально и физически.
И лишь дождавшись, когда подобная ситуация созрела, правительство нанесло давно задуманный и подготовленный удар по древнему достоянию нации — по ее вакуфам. Это произошло в начале 1890-х гг., акция была проведена "сверху", хотя формально — по инициативе "снизу", т. е. "по всеподданнейшему ходатайству" таврического губернатора. Он указывал, что духовное управление татар даже в том виде,[351] который ему придали годы русского владычества, — институт "вредный и нежелательный", следовательно, необходимо ликвидировать его экономическую основу — вакуфы, передав их губернской администрации (Кричинский А., 1919, 39). Так и случилось, начался раздел испокон века неделимых и неотчуждаемых угодий, усадеб, постоялых дворов, чаиров между различными ведомствами, в результате чего татары в первые же годы потеряли2/3 своего общего достояния.
Однако на этом процесс разграбления последнего из былых сокровищ нации не кончился. Пользуясь как безответностью татар, так и ситуацией всеобщего разгула законной экспроприации любого имущества, которое можно было отнести к вакуфному, местные и пришлые помещики стали запахивать землю татарских крестьян под предлогом того, что она — вакуфная! При этом не нужно было располагать никакими документами. Редкие попытки сопротивления подавлялись безжалостно, прихвостни землевладельцев, их слуги расправлялись с "мешавшими им татарами" физически, избивали их, были случаи увечий. Как говорят очевидцы, преступники при этом оставались безнаказанными — потерпевшие и их родственники лишь горестно качали головами: "Злой человек, злой человек!" (KB, 1896, №75).
Своеобразно были отчуждены вакуфные наделы в Евпаторийском уезде — задолго до рокового 1890 года евпаторийские помещики, явочным порядком выгонявшие свой скот на вакуфные пастбища, предложили распорядителям этих земель, что они будут платить вместо обычных штрафов за потраву налог на землю. Те согласились, но по истечении 10 лет объявили себя собственниками этих угодий по праву многолетних плательщиков подати за них. И власти утвердили переход к ним нескольких тысяч десятин татарской земли (Крым, 1888, №33 — 34).
НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ
Причины новой волны эмиграционного движения среди татар, развернувшегося в 1873 — 1890 гг., носили сложный, экономически-идеологический характер. Брожение в татарских массах, начавшееся в[352] такт с вышеназванными притеснениями в разных планах и национальной травлей, обострилось накануне принятия нового закона о воинской повинности, где вопреки давним заверениям, в эпоху аннексии Крыма, намечалось лишить крымских мусульман освобождения от службы.
Татар не пугали тяготы армейской жизни, они и ранее служили в мусульманских частях. И более того — служили не за страх, а за совесть. Известно, например, что еще в годы Отечественной войны 1812 г. в кампаниях участвовали Симферопольский, Перекопский и Евпаторийский коннотатарские полки (в том числе и в знаменитом набеге Платова на тыл французской армии под Бородином). В 1813 г. татарские конники были особо отмечены за участие в "делах" у Тильзита, Рогниди и Бранденбурга, в блокаде Данцига, при Люцене и Кульме. Многие татары были награждены — лишь нижние чины Симферопольского полка получили 22 ордена, а пятеро стали офицерами. Боевых отличий удостоились и некоторые командиры, а один из них, Балатуков, кровью заслужил чин генерала (Габаев Г., 1913, 134).
Однако теперь речь шла не о татарских, но об общеармейских частях. Здесь правоверным конникам пришлось бы есть запрещенную шариатом свинину и вряд ли удалось бы соблюдать посты и отправлять духовные требы. Кроме того, предполагалось распределить крымчан поодиночке в различные русские полки, где от сослуживцев вряд ли можно было ожидать иного, кроме издевательского, отношения (Мартьянов ГЛ., 1887).
Указ был опубликован 1 января 1874 г.; к весне Крым покинули первые 300 призывников, многие с семьями, а губернская канцелярия уже была завалена прошениями о выдаче паспортов на выезд. По опыту зная, чем чревата идея ухода татар из Крыма, царь тут же направил на Юг князя С.М. Воронцова, сына покойного фельдмаршала, о котором татары сохраняли в общем добрую память. Князь объехал все уезды полуострова, лично беседуя с татарами и обещая от имени командования создание особых татарских частей типа бывшего лейб-гвардейского крымскотатарского эскадрона, где даже форма будет близка к национальной одежде и будет мусульманское духовенство.[353]
Миссия Воронцова приостановила начавшуюся эмиграцию: князю верили, хотя он выдавал (возможно, из лучших побуждений) желаемое за действительное. Но, прибыв в Петербург, он в самом деле решил довести дело до конца и подал докладную, где указывал, что для прекращения эмиграции необходимо прекратить запугивать татар чиновниками (которые уже успели получить около 10 тыс. за оформление выезда). Князь указал далее, что среди причин волнений есть и экономические, так как степняки-десятинщики "терпят большие притеснения, в особенности от арендаторов казенных земель", отчего у татар настолько "бедственное положение... что выселение из пределов России представлялось их воображению делом, могущим только улучшить положение" (там же). Далее, князь предлагал Александру: 1) отрезать татарам наделы из казенных земель в рассрочку; 2) провести ряд шоссе, чтобы можно было вывозить виноград из горных районов; 3) возвратить отобранные в 1838 г. у татар лесные "дачи"; 4) рассмотреть накопившиеся жалобы на произвол земельных ведомств; 5) возобновить свободную выдачу паспортов паломникам и 6) оставить управление вакуфами у мусульманских общин.
Надо сказать, что царь сочувственно отнесся к предложениям Воронцова — по крайней мере в первое время. Однако хватило его на проведение в жизнь лишь одного — татар, у которых были средства на то, чтобы явиться на призывной пункт с собственным конем, направляли в мусульманский эскадрон. Но столь зажиточные хозяева среди татар были в абсолютном меньшинстве. Поэтому прекратившаяся было эмиграция вновь возросла — началось повальное бегство рекрутов. До конца 1874 г. ушло 0,5 тыс. человек, притом без паспортов, незаконно, на турецких фелюгах, отходивших по ночам из Евпатории, Судака, Севастополя и Гурзуфа. И поток этот пресекся лишь в 1875 г., когда началась война.
На этот раз военных действий в самом Крыму не было, но они повлияли на положение крымчан косвенно. Активизировался процесс перехода земли от коренного населения к русским, немцам, караимам. Но если раньше безземельные татары находили выход в аренде, то рост арендной платы в последние годы XIX в.[95] отнял у них и эту возможность — ни[354]какая работа на снятых участках более себя не окупала. И снова исподволь началась агитация со стороны чиновников за эмиграцию, и не без успеха — в 1893 г. поднялась ее новая волна.
Своего пика переселение достигло несколько позже, на рубеже веков, когда в Крыму стало известно о создании так называемой Противомусульманской лиги. Говорили, что цель этой организации — насильное обращение всех татар в православие. Не спасла положение и публикация об истинных задачах (KB, 1901, №95), ей просто не поверили, скорее она подлила масла в огонь. Некоторые местные чиновники попытались было бить тревогу, но их одернули сверху: в эмиграции были заинтересованы влиятельные слои общества, которые этого и не скрывали. Так, губернатор новороссийский доносил в 1902 г.: "Считая невозможным и даже бесполезным удерживать насильно татар в подданстве русском и в пределах империи, я в то же время признавал бы весьма желательным приобретение оставленных ими земель в русские руки. Для лучшего осуществления сего было бы крайне желательным, чтобы Крымский банк оповестил через государственное посредство местное татарское население о желании своем покупать земли и при этом объявил свою цену. Я убежден, что этим будет сделан действительный шаг к дальнейшей колонизации Крыма..." (Щербаков М.М., 1940, 43).
Что же изменилось с 1873 г., когда власти еще удерживали татар? Объяснение — единственно в упомянутом увеличении населения Крыма за 30 лет почти втрое. Теперь на полях и в садах было кому работать, надобность в татарском крестьянине отпала, исчезновение подобного "балласта" с крымской земли было бы для российских колонизаторов только желательным... К счастью, вскоре темпы эмиграции несколько замедлились. Этому было несколько причин: просветительная деятельность патриотически настроенной татарской интеллигенции, распространение либеральных и революционных идей, слухи о скорой раздаче земель крестьянам и, наконец, глубокие сдвиги во всей общественно-политической ситуации в Крыму, которые история связывает с событиями 1905 г.[355]
НАРАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
Очевидно, настало время определить этапы национально-освободительного демократического движения татар, шедшего с различной интенсивностью на протяжении всего колониального периода истории Крыма. Первый этап, начавшийся после аннексии их родины Россией и окончившийся приблизительно в 1880 г., характерен ярко выраженной стихийностью, переменчивостью и "сбивчивостью" целевых установок, отсутствием идеологического и политического центров и руководства в целом. Грубо говоря, татары боролись, часто вразнобой, за выживание, иногда против разрушения колонизаторами их сложных и неодноплановых (в том числе идеологического характера) традиций. Впрочем, и последние входили в систему, единственно способную поддержать общество в условиях непрестанных ударов извне.
Второй период (1880 — 1905) отмечен упорными исканиями нарождавшейся татарской интеллигенцией своего пути, освященного единой для всего народа идеей. Такая идея, впрочем родившаяся не в Крыму, а в соседнем центре мусульманства — Стамбуле, связана с историей младотурецкого движения. Младотурки боролись против монархии в виде султана и халифата, рудиментов феодализма, теократии, короче, всего, что стояло и на пути крымских татар, было актуально и в Крыму. Под сильным влиянием Стамбула (где многие татарские интеллигенты получали образование, а некоторые участвовали в революционной борьбе) развивалось младотатарское движение. Имея буржуазно-националистическую направленность, оно сыграло выдающуюся роль в истории татарской национально-освободительной демократической борьбы.
Была у младотатар и положительная, конструктивная программа, в которой наибольшее внимание уделялось освобождению крестьянского труда и необходимому для этого условию — просвещению народа.
Нужно отметить, что в деле просвещения национальных масс младотатары пионерами отнюдь не были; их задача облегчалась тем, что строили они не на пустом месте. Наиболее реалистично мыслившие деятели светской татарской культуры довольно рано,[356] еще в середине XIX в., осознали ту объективную пользу, что может принести духовному подъему нации обогащение ее достижениями великой русской культуры. Первым, самым необходимым шагом к культурному обмену было издание словарей и пособий по изучению русского языка, и они были составлены Абдурахманом Крым-Хавадже и Абдурефи Боданинским и начали печататься в Крыму начиная с 1850 г.
Первые светские просветители крымскотатарского народа не ставили себе задачей национальное или социальное освобождение населения Крыма, чего нельзя сказать о следующем, младотатарском поколении. Переходный этап между этими двумя волнами общественного движения отразился в деятельности крупного просветителя демократической формации Асана Нури, человека, энциклопедически образованного, полиглота, близко знакомого с культурой ряда восточных и европейских стран. Преемственность поколений крымских просветителей можно проиллюстрировать на примере семьи Боданинских — Абдурефи, филологу и представителю "чистого" просвещения, пришли на смену его сыновья — младотатарин, затем член РСДРП Али и Усеин, деятель крымской культуры новой формации, ученый и этнограф, ряд трудов которого увидел свет при Советской власти.
Наиболее ярким выразителем младотатарских идей был Исмаил Гаспринский, начавший в 1883 г. издавать газету "Тержиман" ("Переводчик"). Получивший блестящее образование в Москве и Стамбуле, бывший секретарь И.С. Тургенева, И. Гаспринский и сам был талантливым литератором — его перу принадлежат роман "Взошло солнце", повести "Девушка-львица", "Страна вечного блаженства", "Письма из Франции" и др., а также огромное количество очерков и публицистических статей по крымским и иным проблемам. Ныне имя этого выдающегося просветителя и деятеля национально-освободительного движения советской историографией прочно забыто — очевидно, с тех пор, когда в 1930-х, в годы широкого наступления сталинских идеологов на культуру национальных окраин, И. Гаспринский был задним числом обвинен в "тайной пропаганде панисламизма" (Бочаров А.К., 1932, 15), хотя в более обширных[357] исследованиях тех же лет при наличии обвинений в иных, не менее криминальных грехах[96] о "панисламизме" его не обнаруживается ни слова. В группу Гаспринского входили наряду с интеллигенцией городские кустари и ремесленники. Наиболее известные ее деятели — С. Байбуртлы, Б. Муртазаев, Исмаил Мурза, М. Акчурин, Я. Пичакчи, Али Боданинский (кстати, последний стал в 1919 г. большевиком и погиб через год бойцом Красной Армии под Мелитополем).
Деятельность И. Гаспринского еще ждет своего исследователя, но уже сейчас в результате анализа многочисленных выступлений его на страницах крымской печати мы можем сделать вывод о политическом облике этого незаурядного деятеля — безусловно, он был сторонником эволюционных перемен, реформ, проводимых сверху, противником насилия с той или иной стороны. Многие идеи Гаспринского были утопичны, не выдержали проверку временем, но в свое время татарские крестьяне высоко ценили его как глашатая равноправия татар с "новыми" крымчанами, как заступника обездоленных. На страницах "Переводчика" (редактор газеты Исмаил Мурза) регулярно появлялась разоблачительная информация о случаях экономического и шовинистического произвола русских помещиков и властей в Крыму, пропагандировались национальные ценности народа, разоблачались попытки их опорочить; газета звала народ к обновлению и просвещению в национальном духе.
Призывы эти не остались втуне. Под непосредственным влиянием газеты вырастает целая плеяда талантливых молодых литераторов. Осман Акчокраклы, Асан Сабри Айвазов, Осман Заатов, Сеид Абдулла Озенбашлы создают оригинальные произведения и, что не менее важно, переводят на татарский язык классиков мировой литературы — А.С. Пушкина, Л. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Навои, Низами, Хайяма и многих других.
Итак, национально-освободительное движение до 1905 г. скрывало свои социально-политические тенденции под пологом культурно-просветительной деятельности. Такая форма его могла обмануть ряд исследователей (многие из которых желали быть обманутыми), объективно же младотатары содействовали[358] накоплению новых сил в лице интеллигенции, все новых кадров учителей, журналистов, врачей и т. д., получивших образование в бурлящем политическом котле Стамбула. На базе крымскотатарской народной школы шел процесс внутреннего духовного освобождения от идеологического гнета феодально-теократической реакции. Достаточно сказать, что в первые годы XX в. к движению примыкают уже не только безусые юнцы, но и женщины — факт, для Крыма неслыханный (Фирдевс И., 1925, 24).
Младотатары не декларировали в своей платформе столь радикальных, как стамбульские революционеры, идей. Но, будучи духовно родственными с ними, они не могли не воспринять, например, поражение России в русско-японской войне как положительное событие, как начало разложения империи и распада империалистического окружения всего Востока. В такой атмосфере было естественным, закономерным и возникновение на левом крыле младотатарского движения сепаратистских тенденций, что характерно и для других распадавшихся колониальных империй этого периода.
Группа И. Гаспринского пользовалась широкой поддержкой татарского крестьянства, инстинктивно стремившегося к просвещению и культуре, наиболее отвечавшей менявшейся действительности. Например, его деятельность (особенно в области школьных реформ) встречала ожесточенное сопротивление консервативного мусульманского духовенства. Оно же выступало против гражданственной, интернационалистической по сути программы единения народов, проводником которой была газета Гаспринского. "Могучий, кипучий Запад с его миллиардами и широкими знаниями, пробуждающийся языческий Восток с его несчетным населением могут сдавить нас, как тиски, если мы не поторопимся как следует сплотиться, просветиться и развить во всю ширь работоспособность и производительность", — писал он, имея в виду союз русского и татарского народов (Терджиман, 1905, №29).
До открытой критики господствовавшего режима поднялась группа Решида Медиева, сына крестьянина. Этот карасубазарский учитель с самого начала своей политической деятельности в 1900 г. отмежевался от Гаспринского, заявив, что стоит "на полярно[359] противоположной точке зрения с ним по вопросам социальноэкономическим" (Бочагов А.К., 1936, 18). Программа группы Р. Медиева отражала интересы беднейших крестьян, ремесленников, кустарей. Это были культуртрегеры, не считавшие просвещение панацеей для Крыма, где экономическая отсталость обезземеленных татар была ужасающей, где без земельных реформ, перераспределения средств производства никакое просвещение не имело смысла.
Р. Медиев формально баллотировался в Думу от кадетов, но фактически им, конечно, не был. Он вообще никогда не заявлял о принадлежности к какой-либо политической партии. Однако сохранившиеся программные документы группы и его личные записки дают основание полагать, что он ближе всего стоял к социал-революционерам. Собственно, это естественно: в период до революции 1905 г. вряд ли какая-либо иная партия России столь наглядно и ярко (хоть и не всегда последовательно) отражала интересы не фабричного пролетариата, а связанных с землей или иными частными средствами производства крестьян, ремесленников, кустарей, т. е. слоев, составлявших в Крыму, в отличие от промышленных регионов России, большинство трудящегося населения. Слоев наиболее обездоленных, которым и посвятил свою борьбу Р. Медиев.
Еще в 1900 — 1902 гг. в Симферополе, Севастополе и некоторых других городах возникли первые социал-демократические организации (в 1903 г. они объединились в Крымский союз РСДРП). Эта партия в отличие от эсеровской не уделяла коренному населению Крыма никакого внимания. Как большевики, так и меньшевики развернули в предреволюционные годы бурную деятельность на фабриках, в портовых мастерских, на заводах и кораблях Черноморского флота, в матросских и солдатских казармах. И хотя уже была написана и издана брошюра В.И. Ленина "К деревенской бедноте", у нас нет ни единого свидетельства о том, что крымские единомышленники вождя революции вели хоть какую-то работу в татарской деревне.
Нельзя, впрочем, сказать, что крымское село вообще не видело в эти предгрозовые годы социал-демократов.
Они уделяли некоторое внимание и крестьянству, но исключительно пришлому, не имеющему в[360] Крыму корней, т. е. тем, кому действительно было "нечего терять, кроме своих цепей". Очевидно, в этом и кроется причина поистине необъяснимого пренебрежения, с каким относилась РСДРП к татарам. Подобное объяснение — не наш вывод, он был сделан в несправедливо забытых (хотя бы из-за их объективности) работах советских историков крымского революционного движения, изданных в период, предшествовавший утверждению культа личности Сталина в науке. Авторы этих работ откровенно, хоть и несколько наивно, сетуют на то, что татары были негодны к социал-демократическому движению, не воспринимали его идеи уже в силу своей привязанности к "товарному производству" индивидуального типа, будь то деревенские животноводы, виноградари, садоводы или городские ремесленники, кустари, мелкие торговцы.
Был здесь и еще один, неэкономический фактор. "Буржуазные националисты", хранившие в абсолютном большинстве традиционную верность российскому престолу, вели направленную против программных установок социал-демократов и эсеров борьбу. И при этом за ними шла значительная часть татар (для которых вообще был характерен известный традиционализм), увлеченных национальной программой подъема татарских культуры и просвещения, экономического развития деревни "без войн и революций". Глобальные идеи социал-демократов проигрывали в глазах деревенских татар и в сравнении с эсеровской программой. Селу Крыма уже которое десятилетие почти постоянно грозило вымирание от элементарного голода, а "городские" единоверцы-эсеры предлагали план немедленного и полного избавления от этой угрозы, раздачу земель и т. д. Таким образом, эсеры увлекали наиболее радикально настроенную часть народа, тех, кто не принимал буржуазнонационалистическую эволюционную программу, кто требовал немедленных революционных социальных и экономических перемен, всестороннего улучшения условий жизни деревенской и городской бедноты.
Вот этим-то двум политическим партиям социал-демократы и уступили без боя крымскотатарское село.
Подобное пренебрежение крестьянской массой принесло свои горькие плоды большевикам и в 1917 г.,[361] и позже. Причем дело здесь даже не в том, что в канун Октября в ленинской партии оказался один-единственный крымский татарин — И. Фирдевс. Случилось то, что могли предвидеть социал-демократы в 1900 — 1905 гг., — в 1917 г. произошел взрывной подъем политической активности татар. Но завоевывать авторитет среди них уже было поздно — их симпатии целиком принадлежали молодой татарской интеллигенции социал-революционного направления, создавшей себе прочную опору в крымской деревне, занимавшей ведущее положение в национально-демократическом движении еще до 1905 г.
1905 ГОД
Впервые в этом году в Крыму вспыхивает не стихийный, причем пассивный, протест, но осознанная, политически целенаправленная, активная классовая борьба. Она не была столь яркой, как в иных местах империи, по вполне понятным причинам — неразвитости крупной промышленности, отсутствию более или менее значительного отряда городского пролетариата. Кустари и ремесленники крымских городов в массе своей революции не приняли; еще дальше от нее оказались татарские крестьяне. Поэтому, когда в феврале, например, бастовали рабочие феодосийской фабрики Стамболи, а 1 мая демонстрации против самодержавия прокатились по всем городам, татарская деревня безмолвствовала.
Итак, III этап национально-освободительного демократического движения татар начался с почти полного игнорирования революции 1905 г. Были, конечно, исключения, их не могло не быть в ту пору всеобщей политической активности. Но это были скорее рецидивы стихийного сопротивления, лишь получившего новые средства и возможности. Так, едва над "Потемкиным" взвился красный флаг и основные силы стражей порядка стянулись к Севастополю и другим портам, как забастовали почувствовавшие безнаказанность крестьяне на помещичьих полях с. Каралез Феодосийского уезда, требовавшие повышения оплаты труда. Начались массовые порубки леса в дер. Салы того же уезда, а также в имениях Мордвиновых в Байдарской долине (Опалов В.,[362] 1931, 28). Короче, пока это были скорее довольно мелкие нарушения законности.
И лишь к моменту, когда революция 1905 г. была на излете, пошла на спад, можно отметить первые признаки политического пробуждения крестьян Крыма: в Воинке организуется политически-экономический "Крестьянский союз", правда не под эгидой какой-либо политической партии, но благодаря активности местной беспартийной интеллигенции. Лишь в декабре крестьяне создали собственный координирующий орган — "Таврический крестьянский союз" — в Симферополе. Стоит ли говорить, что в его работе не принимал участия ни один социал-демократ, что и здесь, у истоков первой всекрымской организации крестьян, стояли исключительно те же социал-революционеры?
Союз продолжал свою работу в обстановке 1906 и 1907 гг., когда в деревне начались серьезные беспорядки — пришлые наемные сельскохозяйственные рабочие бастовали, а татары продолжали открытые порубки частновладельческого леса, т. е. продолжалась все та же борьба за сугубо экономические цели. Иногда уровень ее поднимался до вооруженной защиты своих прав, захвата имений (например, в дер. Кунан, Каперликой и др.). Но поскольку никакого централизованного руководства этими акциями не было, их позволительно отнести к стихийным.
И еще одно замечание относительно первой революции в Крыму. Здесь, как и в ряде других южных губерний, жандармские и полицейские управления в борьбе с социальным движением впервые широко применили такое средство, как погромы. Эта мера, внешне направленная против еврейской торговой буржуазии, нацеливалась инициаторами погромов на революционные силы. Погромщики, получившие от полиции водку и деньги, с одинаковым рвением громили лавки и разгоняли манифестации в крымских городах. Доходило до того, что они поджигали облитые керосином общественные здания, где происходили собрания, а всех выбрасывавшихся из окон безнаказанно убивали на месте (KB, 1905, №251) — такого Крым не видел со страшных времен турецкого вторжения в XV в.
Современники 1905 г. согласно указывают на социальный и национальный состав этих организован[363]ных банд («Союз русского народа», Михаила Архангела и др.). Это были прежде всего строительные рабочие и грузчики, несколько меньше было безработных батраков-наемщиков. Всех их агенты полиции вербовали прямо на бирже труда. Другими словами, в рядах погромщиков были исключительно иммигранты, более или менее недавние люди в Крыму или же сезонные рабочие из центральных губерний. Коренное население, таким образом, на провокации не поддалось (единственное исключение — несколько греков, также замеченных в погромах). Ни один крымский татарин не принимал участия ни в революционных демонстрациях, ни в их подавлении, по крайней мере судя по сохранившимся воспоминаниям очевидцев погромов. Лишь в одном случае татары действовали активно, но и то по приказу сверху, — речь идет о разгоне 21 апреля 1905 г. в Симферополе толпы погромщиков татарским эскадроном Крымского дивизиона (Гелис И., 1925, 19).
Основное значение, которое 1905 год имел для истории татарского движения, заключалось в поражении националистов-сепаратистов, проповедовавших идеи мелкобуржуазного социализма для национальной интеллигенции. Они искренне увлеклись программой эсеров, партии, которая, по их мнению, была на самом прямом пути разрешения основной проблемы нации — земельной, а также политического раскрепощения крестьянства. Оба этих вопроса были активизированы революцией, не принесшей татарской деревне никакого облегчения. Еще один вопрос, также впервые поставленный 1905 годом, — о коалиции е трудящимися России — возник также в надежде укрепить движение за счет консолидации революционно-демократических сил империи. Инициатором здесь был Р. Медиев.
Организующим центром нового, антисепаратистского движения стала газета группы Р. Медиева "Ватан Хадими" ("Служение Родине"), первый крымский печатный орган, поставивший вопрос об обеспечении крестьян землей во всей его глубине и сложности, Вокруг газеты сплачиваются теперь не только интеллигенты, но и гораздо более широкие социальные прослойки и группы, среди которых на первом месте стоят учителя, а среди них — преподаватели русского языка, получившие образование в России, люди, хо[364]рошо знавшие русскую действительность и знакомые с революционной теорией и практикой Севера. Популярность групп возросла теперь настолько, что к Медиеву переходят самые перспективные сторонники И. Гаспринского — такие, как Идрисов, Заатов, Джемилев, Арабский, Сейдаметов, Айвазов и др. Показательно, что верными "Терджиману" остались почти исключительно учителя, получившие образование в Стамбуле, т. е. общемусульманской культурной и политической ориентации.
В группе Медиева была составлена петиция татарских крестьян, направленная в Думу (Медиев был депутатом Думы II созыва от Таврической губернии). В этом документе было прямо сказано о последовательном и направленном лишении татар земли, о налогах, задушивших крымского крестьянина, о произволе местных властей, "которые делают, что хотят, не справляясь ни с какими законами", о массовом раскрестьянивании татар, которым приходится "искать работу на стороне, жить в батраках, наемниках". Требования татар прозвучали в думской речи Р. Медиева; они сводились к "земле и воле". "Чем дальше продолжаются прения, — заявил он, — тем ярче выплывает перед нами требование народа, что землей должен пользоваться тот, кто на ней трудится" (Стенограмма 24-го засед. 9. IV. 07). Конкретно же депутат требовал немедленного возвращения татарскому обществу вакуфных земель и прекращения действия сегрегационных законов об инородцах.
Р. Медиева высоко оценил В.И. Ленин, отозвавшийся о его выступлении как о "горячей революционной речи" (Ленин В.И., 16, 389), хотя крымский депутат стоял гораздо ближе к социал-революционерам, чем к социал-демократам.
Впрочем, в годы работы Думы отдельные татары-горожане уже входили в РСДРП и даже выполняли довольно ответственные партийные поручения: так, в 1906 г. в типографии "Терджимана" было напечатано на татарском языке 1200 экземпляров подрывного "манифеста" о роспуске Думы; эту акцию с начала до конца совершили вооруженные татары социал-демократы (Советов, 1933, 78).
Подводя итоги, мы можем сказать, что в Крыму в 1905 г. широко развернулась осознанная политическая, классовая борьба. Но велась она не коренным, не[365] татарским населением. И подавили эту вспышку также пришлые по сути, представители охраны российского правопорядка и их пособники. Социальное же движение татар, даже принимая иногда внешне вполне политическую форму, устремлялось по четко отграниченной от классовой борьбы колее отдельных национально-освободительных и экономических акций. Татарская деревня не была увлечена, не поверила сторонникам насильственного свержения власти. Какие-то надежды на скорые и положительные перемены в татарской массе бродили — об этом говорит хотя бы резкое снижение уровня эмиграции в первые годы XX в. Но связано это было, очевидно, не столько с революцией 1905 г. (или ее поражением), а с теми шагами, что под влиянием упомянутых событий были предприняты как императором (манифест 1905 г.), так и другими представителями правящего класса. В частности, мы имеем в виду реформы, которые история связывает с именем П. Столыпина.[366]
XVI. ЭПОХА СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ
Как известно, П. Столыпин считал, что успех его преобразований во многом зависит от темпов роста прослойки культурных сельских хозяев, способных осознанно интенсифицировать производство, а также от темпов вымывания из сельскохозяйственной сферы малоспособного к подобной деятельности элемента и связанного с этим процессом освобождения земель для "крепких хозяев". Безусловно предвидя близившийся подъем классовой борьбы, Столыпин предполагал, что обеспечение значительного слоя сельских хозяев землей создаст в их лице мощную опору государственной политике, содействующей, в частности, росту благосостояния "крепких", экономически сильных и авторитетных в деревенском мире крестьян.
Насколько соответствовала столыпинской системе, его планам крымская деревня, ее основное население? Вопрос весьма сложный, специально еще не изученный, поэтому автор ограничивается здесь самыми общими наблюдениями. Рассмотрим прежде всего такую важную сторону проблемы, как перемены в культурноэкономическом облике села за десятилетие, предшествовавшее реформе.
РОСТ КУЛЬТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТАТАР
О состоянии малоинтенсивной и отсталой с точки зрения европейской экономики татарской системы землепользования во второй половине XIX в. уже говорилось. Добавим лишь, что российское законодательство последних десятилетий века, стремясь "просветить" татар, нанесло более вреда, чем пользы. Масса новых законов, регламентирующих экономическую жизнь Крыма, отчуждение частных и вакуфных имуществ, открытие и закрытие школ для татарской молодежи — вся эта ежечасно менявшаяся[367] система духовного и экономического прессинга не могла не отталкивать население от русских нововведений в целом, даже тогда, когда они были ему чем-то объективно полезны; в частности, речь идет о тех возможностях заимствований более развитой культуры русских, о которой Энгельс говорил в письме Марксу от 23 мая 1951 г.: "... несмотря на всю мерзость и славянскую грязь, господство России играет цивилизующую роль для Черного, Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар". Это точка зрения европейца.
Для татарского же общества это была культура поработителей, и она отвергалась потому уже, что, по словам советского историка, "политика царизма взрастила в широких массах татарского населения особо острую ненависть к русским и стремление к национальной независимости" (Бочагов А.К., 1932, 11). Мы не можем согласиться с утверждением о "ненависти к русским"; она имела место разве что у отдельных социальных групп. Но что касается колонизаторской культуры, то заставить себя "полюбить" ее, очевидно, не был в силах ни один татарин.
Поскольку же приобщаться к мировой культуре крымский народ мог лишь через посредство русской (турецкий вариант давно отпал), то, органически ее не принимая, открытое ранее татарское общество входило с годами во все более глухую самоизоляцию. Причем тем большую, чем большим становилось культурное давление извне и чем выше процент славянских переселенцев, чем более явно татарское население осознавало себя бесправным меньшинством.
Культурное развитие большей части этноса оказалось, как это всегда бывает при изоляции народа, в полосе застоя. И просветительская деятельность национальной интеллигенции выливалась в самообслуживание культурных городских прослоек населения, не достигая наиболее нуждавшихся в просвещении жителей деревни. Именно поэтому уже в 1880-х гг. ситуация стала настолько очевидной, что мимо не могла пройти и русская пресса: "Общественная и умственная изолированность мусульман, глубочайшее невежество, мертвая неподвижность во всех сферах их деятельности, постепенное обеднение населения и... гибельная эмиграция" (Таврида, 1881, №43) — вот картина, бросавшаяся в глаза наблю[368]дателю. И если, по словам того же журналиста, давно уже "дышали Европой" такие центры мусульманства, как Стамбул, Дамаск, Смирна, Каир, то Бахчисарай оставался по сути тем же, что и во времена "Ивана Грозного, Ермака и Чабан-Гирея, с затхлой атмосферой неподвижности застоя".
К периоду революционного подъема 1905 г. положение несколько изменилось лишь в сфере продуктивности и общей культуры хозяйствования татар. Но конечно же даже немногие собственные хозяйства татар оставались далеко позади крепких дворов русских переселенцев, пользовавшихся наемной рабочей силой, не говоря уже о фермах, расположенных в черте немецких колоний. Что касается уровня просвещения в духовной области, то здесь картина в эти годы весьма усложнилась благодаря активности со стороны как официального ведомства образования, так и татарских просветителей.
НОВОЕ В СИСТЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Народное образование традиционно находилось в Крыму на весьма высоком уровне. Всеобщее обязательное обучение в приходских школах (мектебе) для детей с 6 до 15 лет было введено здесь гораздо раньше, чем в России. Мектебе были в каждой деревне, где имелась мечеть. Всего же мечетей в начале XIX в. было (не считая Ялтинского уезда) 1556 (КричинскийА., 1919, 43), т. е. одна школа приходилась на 700 — 800 человек, что также намного превосходило общероссийский уровень. Но шли годы, и царская администрация последовательно закрывала мечети, распускала школы, так что в 1890 г. осталось лишь 275 мектебе (Надинский П.Н., 1951, 162), а новых школ для татар создано почти не было.
В этой связи стоит остановиться на проблеме "новой" школы вообще. Нельзя сказать, что татары были настолько консервативны, что сами не понимали необходимости организации школы нового типа, более отвечающей изменившейся обстановке не только во всем мусульманском мире, но и в Крыму. Сразу после окончания Крымской войны татарская общественность подняла вопрос о создании сети мусульманских гимназий с расширенной программой, включавшей и[369] светские предметы. Были даже собраны с этой целью деньги (и немалые). Но, завладев ими, администрация использовала часть суммы на строительство шоссе вдоль Южного берега Крыма, соединившее дачи и дворцы российской элиты с Симферополем. Остаток татарских денег пошел на возведение православного храма, христианского приходского училища и т. п. (Марков Е.П., 1902, 306). Тем не менее татары и в период глубокого национального культурного упадка, 1860 — 1870 гг., смогли содержать за свой счет (а отчасти и создать заново) 23 медресе и значительное количество мектебе, где училось свыше 5 тыс. детей, в том числе 900 девочек. То есть и в эти годы в Крыму учился каждый 28-й, в то время как в России — лишь каждый 66-й.
Учебное заведение нового образца было создано в Крыму лишь в 1870-х гг., но позаботилась об этом не царская администрация, а православная церковь. Под именем татарской школы русскими миссионерами было открыто училище, готовящее преподавателей русского языка. Здесь студенты-татары получали весьма основательные познания не только в языке, но и в русской культуре вообще. Кстати, "татарская школа" стала первой ступенью просвещения для таких выдающихся личностей, как братья Боданинские, Р. Медиев, издатель Ильяс Мирза, Борачинский и многие другие (Фазык Р., Нагаев С., 1989, 140).
В XIX в. российская администрация начала создавать, испытывая нужду в более или менее квалифицированной рабочей силе, более массовые "татарские школы грамотности". Преподавательский состав в них был вначале исключительно русским. Поэтому учителя, не знавшие ни языка, ни культуры татар, оставались чуждым элементом среди учащихся как этих школ, так и мектебе, где иногда также вводилось изучение русского языка (на звуковой основе). Русские преподаватели, вооруженные российскими методиками, активно ими использовавшимися в мектебе, невольно восстановили против себя и коллег-мусульман, и родителей учащихся (KB, 1895, №131). Татарских же преподавателей русского языка явно не хватало не только для мектебе, но и для медресе; их готовило единственное Зинджерлы-медресе в Бахчисарае. Что же касается Симферопольской татарской учительской школы, то и здесь, для того чтобы ус[370]пешно усваивать курс, преподававшийся по-русски, нужно было предварительно заниматься языком на трехлетнем подготовительном отделении по 7 — 8 часов в сутки даже тем, кто изучал его ранее (Т., 1881, №47). Но таких почти никогда не удавалось сыскать: по чисто материальным и иным условиям в русско-татарские школы шли лишь окончившие мектебе, т. е. ученики 10 — 12-летнего возраста, занятия языком здесь проводились по 2 — 3 часа в день, чего для овладения им было явно недостаточно.
Впрочем, и эти школы опустели после 1891 г., когда открылась крымская "Противомусульманская миссия". Сразу распространился слух, что теперь в русско-татарских школах детей будут насильственно крестить — слух, вызванный крайне реакционной, шовинистической, антитатарской по сути программой миссии (KB, 1901, №95). В результате татары даже упоминать стали об этих школах "с ужасом" (Щербаков М.М., 1940, 42).
Создается впечатление, что администрация, стремившаяся "просветить" татарские массы, не могла добиться успеха лишь из-за тяжести поставленной задачи. Однако, как показывают специальные исследования, духовный, умственный застой, в котором татары очутились по вине русского правительства, этими чиновниками консервировался. Министр внутренних дел Маклаков был известным противником так называемых "новометодных" (т. е. светских татарских) школ, поддерживал мусульманскую реакцию, наиболее ортодоксальных из татарских деятелей. В одном из своих циркуляров он откровенно отзывался о них как о людях, которые, сами того не замечая, являются союзниками властей в вопросе нежелательной с государственной точки зрения национализации (т. е. огосударствления. — В.В.) мусульманской школы" (Кричинский А., 1919, 51). И это не было временным явлением — позже, в 1915 г., директор народных училищ Крыма С. Маргаритов вообще закрывал татарские школы, как только в них вводились общеобразовательные предметы. Он же преследовал тюркских преподавателей этих предметов (там же, 52).
Все это вело к вполне понятным результатам. И правы были газетчики, утверждая, что за десятилетия существования русско-татарские школы не выпустили ни "одного татарчонка со свидетельством на[371] знание русской речи" (Т., 1881, №46). Русский язык в результате знало едва 0,1% татар, а ведь более половины из них были грамотными, они читали и арабские тексты (Т., 1881, №47). В гимназиях же не могли учиться и самые одаренные татарские дети по причине перегруженности программы. Красочно описывал Е.Л. Марков, чем оканчивались редкие попытки такого рода: "Помаются (татарчата)... годочка по два, по три и сплывут обратно, бессильные одолеть массу латинского, славянства, неметчины, французятины и всех гуманных и реальных наук, которыми вплоть до краев налиты наши гимназии" (1902, 305).
В итоге за столетие (1780 — 1880) высшее образование получило всего два татарина. Конечно, неплохое образование давали и медресе, бывшие одновременно духовными академиями, учительскими семинариями и общеобразовательными учебными заведениями[97] и в качестве таковых оказывавшие гораздо большее влияние на общество, чем любой европейский университет. Но им все же не хватало светских современных дисциплин, для введения которых в программу требовалась дотация в 7 — 8 тыс. руб. ежегодно на каждое медресе (там же). Эту сумму государство выделить отказывалось; вакуфная же казна давно опустела...
Все это — и искусственное торможение развития сети народных школ, и уменьшение количества уже имевшихся, и стремление оставить их программы на средневеково-окостенелом уровне — сказалось на положении татарской интеллигенции. По сути дела в XIX в. народ ее не имел, так как с эпохи аннексии число образованного духовенства уменьшилось чуть ли не всемеро — с 5 тыс. до нескольких сот человек (Кричинский А., 1919, 43). Но и духовенство концентрировалось в основном вокруг культурных, духовных центров. В горах мулл было мало, в степи еще меньше. Там же, в степи, до самого низкого уровня опустилась поэтому элементарная грамотность, недаром степняков в начале нашего века все чаще стали называть "китапснэ", "карататар", т. е. "бескнижные", "темные татары". Число преподавателей общеобразовательных предметов из татар ограничивалось несколькими десятками, а татар-журналистов можно было пересчитать по пальцам.[372]
Немногочисленные татарские газеты влачили жалкое существование — в основном из-за нажима сверху, со стороны администрации. Над ними постоянно висела угроза закрытия. Осуществлялся постоянный политический и идеологический надзор, причем в ряде случаев его вели священники. Так, в 1909 г. и позже за карасубазарской "Крым-Седасы" наблюдал отец Н. Соркин, получивший на это архипастырское благословение епископа Таврического Алексея. Как результат этой "опеки" газету вскоре закрыли. Через границу не пропускали мусульманскую прессу, особенно младотурецкую.
Вообще любые мусульманские инициативы, вне зависимости от их направленности, в том числе и благотворительной, тут же пресекались. Руководители подобных сообществ подвергались репрессиям, их принуждали к эмиграции и т. д. В то же время администрация приветствовала организацию в Крыму таких сборищ, как "Русское народное собрание", "Русский народный союз Михаила Архангела" и т. п., о них уже говорилось. Инициаторами их создания были полиция и жандармерия, но покровительство часто оказывала церковь, православные священники принимали в них живое участие. Их деятельность, направленная против инородцев, т. е. и против татар, финансировалась из народных денег в различных фондах, где была и татарская копейка. В таких условиях, когда властями упорно разжигалась национальная рознь, в Крыму началась реакция на первую революцию, проявившаяся в ряде политических и экономических реформ.
Национальная подоплека реформ
В любом многонациональном государстве устойчивый и органично развивавшийся правовой механизм может быть построен лишь при широком участии в нем всех народов этого государства. Однако бюрократия всех времен не только не понимала животворности такого участия, не только не стремилась организовать его, но и всячески ему противилась из узкосословных эгоистических интересов, для монополизации власти, что не имело ничего общего с государственными интересами.[373]
В Крыму (как и в ряде других областей России) власти не ограничивались простым отстранением татар от участия в управлении их краем, но до последних дней существования монархии безоглядно растрачивали тающие духовные ресурсы российской государственности на бессмысленную, при всей ее энергичности, борьбу с пробуждающимся самосознанием "инородцев". И нас не должны вводить в заблуждение такие памятники имперского "братства народов", как Указ 12 декабря 1904 г., где говорилось о немедленном расширении религиозных прав и об отмене административных стеснений в этой области, об укреплении начал веротерпимости. Указ этот так и остался на бумаге, не став законом (Тукаев М.Ш., 1912, 4). Остались и сегрегационные законы, и, что хуже, складывалась практика и привычки представителей одних этносов третировать, а иногда и терроризировать других. Не в последнюю очередь под влиянием спущенных сверху положений (чего стоит лишь запрет крымским татарам держать коз, обнародованный в Уставе лесном, т. 8, с. 214). Уже были преступлены незыблемые ранее в Крыму грани простой культуры общежития и даже правопорядка. Русские все настойчивее преследовали татар, но к желанной Петербургом цели поголовной русификации это пока не приводило.
Был достигнут другой результат: "... живой, творческий дух народов был растрачен на борьбу с мелочными придирками, принижен в вынужденном подпольном существовании, сделался подозрительным, ненавидящим, недоверчивым" (Станкевич В., 1921, 5).
1905 год принес нацменьшинствам России новые надежды — была восстановлена конституция Финляндии, отменены дикие законы о запрещении украинской, белорусской, литовской письменности, дарована свобода организации партий и союзов, в том числе по национальному и религиозному принципам. Однако царизму пришлось вскоре раскаяться в вынужденном своем "либерализме".
Уже во II Думе мусульманская группа выдвинула требования, отражавшие не только весьма слабое почтение правоверных к властям, но и их стремление к экономической и социальной модернизации общества. Мусульмане-думцы требовали ограничения влас[374]ти царя конституцией, свободы вероисповедания для всех, равноправия национальных языков с государственным (с ведением делопроизводства на местном языке), образования автономных национальных областей с органами местного самоуправления, раздачи безземельным и бедным всех удельных, государственных и кабинетских земель и отчуждения за счет казенной покупки части монастырских и частновладельческих территорий, предназначавшихся также бедным, отмены остатков зависимости от помещиков, введение 8-часового рабочего дня (Программа, 1907, 3-13).
Приходится признать, что принятие этой внепартийной программы (схожие документы составляли и иные думские фракции, идея-то носилась в воздухе) объективно содействовало бы усилению державы — известно, как забеспокоился Берлин, узнав, например, о проекте предоставления Польше автономии, или какая тревога поднялась в Австрии при вести, что украинский "националист" историк М. Грушевский получил доступ к трибуне I Думы (Станкевич В., 1921, 7). Однако непоследовательность, если не слепота, царской администрации, одной рукой пытавшейся укрепить экономику (Столыпин), выразилась в том, что другой рукой (тот же Столыпин) она принятием антинационального закона державу ослабила.
Столыпинский Акт от 3 июня 1907 г. повернул начавшую было меняться национальную политику России вспять. Более того, если до Столыпина русификаторская в основе эта политика не имела четкой программы, ясной цели[98], то теперь мы видим законченный образец великодержавного шовинизма, чьи основные принципы запечатлены на бумаге, систему, основанную на идеологии и практике национализма. И что парадоксально — именно в XX в., в конституционный период истории страны, впервые появился подобный акт, оправданный единственно правом сильнейшего. Время заигрывания правительства с национальной элитой, казалось, ушло в небытие.
Созданная Столыпиным репрессивная машина была пущена в ход в том же году. На крымских татар обрушились санкционированные властями меры пресечения любой самостоятельной, инициативной деятельности. Этот запрет проявлялся в различных областях, но везде он вел к одному результату — еще[375] большему сужению возможностей выбора форм проявления самосознания населения. Теперь административные санкции уже были не случайным проявлением местной таврической "самодеятельности" — центр наносил удары по окраинам империи, наносил методично и неотвратимо. Именно в эти годы была жестоко урезана финляндская конституция, объявлены "не соответствующими русским государственным задачам" украинское и белорусское культурно-национальное движение (столыпинский циркуляр от 10 января 1910 г.), разворачивается широкая колонизация Прибалтики.
И еще одно новое качество в национальной политике Петербурга. Если до Столыпина нацменьшинства страдали, как выше говорилось, лишь от худших представителей бюрократии, то теперь правительство ищет и находит опору в весьма широких и авторитетных кругах общественности. Русской, естественно. Открыто публикуются шовинистические статьи, авторы которых не всегда бездарны, "теоретически" обосновывается превосходство народа-богоносца, одновременно подвергаются насмешкам и издевательствам духовные ценности, любовь к родному языку, исторические традиции нерусских народов. Естественно, массированная шовинистическая пропаганда оказала известное влияние и на часть образованного общества, и на часть трудящегося населения. Это и была идеологическая основа экономических преобразований Столыпина.
Экономическая реформа
Необходимость для России перемен революционного масштаба и содержания была ясна не только одним революционерам. Нужно сказать, что понимающих эту необходимость можно было обнаружить не только в нижних, но и в самых верхних этажах государственного здания. И после 1905 г., после провала попытки провести политические и экономические преобразования революционным путем снизу, П. Столыпин делает попытку реформировать Россию сверху путем эволюционным.
Это — схема. Конкретные формы столыпинских реформ далеко не столь однозначны и бесспорны, хо[376]тя бы с точки зрения перемен в уровне демократичности общества, уровне благосостояния крестьянства и т. д. И наиболее ярко спорность как целей, так и средств для их достижения выступает в экономическом аспекте реформ.
Накануне в Крыму не имело земли в среднем около 16% сельского населения. Но в некоторых уездах, вроде Евпаторийского и Перекопского, процент обезземеленных повышался соответственно до 75 и 67; при этом, как и раньше, основную часть этих бедняков составляли татары. Для сравнения укажем, что в материковых уездах губернии (например, Бердянском и Мелитопольском) число безземельных едва превышало 3% (Губенко Г.Н., 1961, 14). При этом оплата наемного труда и аренды не только не поднялась по сравнению с концом XIX в., но кое-где и упала, что вызывалось среди прочего и возросшей мобильностью контингентов рабочей силы. В Таврической губернии, прослывшей по всей империи "хлебной" и привлекшей огромное количество обедневшего крестьянства, в год действительно требовалось около 270 тыс. человек пришлой наемной рабочей силы. Однако колоссальное предложение превышало и этот немалый спрос.
Прибывшие в Крым крестьяне-отходники, многие из которых проделали неблизкий даже по российским масштабам путь, являлись на рабочие рынки, главным из которых был Джанкойский, вспомогательными — в Симферополе, Курман-Кемельчи (ныне Красногвардейское) и Карасубазаре. И только здесь могло обнаружиться, что рынок переполнен, а цены найма снизились до минимальных. Тем не менее, находясь в безвыходном положении, пришельцы соглашались и на самые невыгодные условия. Этим они содействовали постепенному закреплению нужной оплаты труда, причем она оставалась такой и после сезонного наплыва рабочей силы, зимой.
Одновременно росла продолжительность рабочего дня. Обычно он начинался теперь затемно, а заканчивался поздно вечером. Впрочем, в пору молотьбы работа не прекращалась и ночью. Небывалого объема достиг труд женщин и подростков, доля детского труда почти нигде в Крыму не опускалась ниже 50%, а в отдельных местах превышала 75% (там же, 25).
Относительное перенаселение края тяжело сказывалось[377] прежде всего на труде, быте, уровне жизни сельских татар[99]. Причем, даже будучи доведены до крайней степени нужды, они не могли перебраться в город — даже бедняки-переселенцы, не имевшие в Крыму корней, но владевшие русским языком и нередко грамотные, составляли непреодолимую конкуренцию этим вчерашним темным крестьянам.
Таким образом, готовившиеся Столыпиным реформы, которые должны были ударить прежде всего по наиболее консервативной, малоспособной к резким переменам части сельского общества, объективно были направлены в Крыму против татарской бедноты. Это показали и результаты их проведения.
Земля стала объектом грандиозных спекуляций, губернию заполнили орды перекупщиков, совершавших сделки с огромной для себя выгодой; скупая крестьянские участки по 90 — 95 руб. за десятину, маклеры продавали ее по 180 — 230 руб. (Сельскохоз. обозр., 1910, 157). В конечном счете земельные массивы оседали в фондах банков, у крупных землевладельцев, округлявших свои домены, зажиточных крестьян, ведших хозяйство наемным трудом, переходили из сельскохозяйственного в градостроительный сектор.
Возникает вопрос: чьей землей торговали бесчисленные маклеры 1906 — 1915 гг., у кого она была отнята? Статистика указывает: 70 — 75% всех продававшихся участков составляли 25-десятинные. Другими словами, это были типичные мелкие самостоятельные хозяйства крестьян, обрабатывавших землю собственным трудом (Бунегин М.Ф., 1927, 10).
Столыпинские реформы, ослабив пути внешнеэкономического принуждения в сельской местности, объективно способствовали окончательному распаду крымской татарской общины, на что они отчасти и были рассчитаны. И именно в Крыму, где патриархальные традиции села были особенно сильны, разложение их шло наиболее быстро. Если в России в целом из общины к 1915 г. выделилось менее 30% хозяев, то в Крыму — 63,6%, при этом общинные земли уменьшились вдвое (Дубровский С.М., 1963, 575), а по числу выделившихся на отруба крестьян губерния опередила даже степную Украину, выйдя на первое место в империи (Секиринский Д.С., 1981, 11). Одновременно уменьшился и дворянский клин (с 33, 5[378] до 18,4% за тот же период), но резко выросла доля крупного крестьянского и предпринимательского хозяйства на собственной земле[100].
Эволюция аграрного сектора в Крыму шла так называемым американским путем. С одним отличием от классических образцов — в ходе этой буржуазно-крестьянской перестройки крымская сельская среда не смогла выделить собственный тип агрария капиталистического склада, как на это указывают некоторые авторы (напр., Секиринский С.А., 1974, 25). Лишь весьма редко крепкие крымские фермеры нового образца могли похвастать, что корни их родов уходят в крымскую же землю. Это были в основном переселенцы, или в лучшем случае дети, внуки их.
Коренные же крымчане, в особенности татары, оказались в результате реформ, как было сказано, пострадавшей стороной. Они при всем желании не могли купить выброшенные на свободный рынок земли. Пресса тех лет сообщала, что в результате роста цен "наиболее нуждающиеся крестьяне и поселяне по недостатку средств для оплат, во многих случаях даже с помощью банка, не имеют возможности выступить в роли покупщиков" (Обзор Тавр. губ., 1915, 17).
Возникает естественный вопрос: а не были ли реформы задуманы как составляющая общей русификаторской политики? В частности, антитатарской в крымских условиях? Утвердительный ответ здесь не исключен уже по причине весьма высокой избирательности, с которой новые законы били именно по массе татарских крестьян. Есть и еще одно соображение в пользу такого вывода. То, что Столыпин придерживался общего курса на русификацию, духовное и внеэкономическое закрепощение угнетенных наций, доказано давно. Не он "изобрел" этот курс, но впервые с его легкой руки подобная политика получила поддержку столь широких кругов русского общества, ведь за его самые шовинистические законопроекты голосовало большинство депутатов III и IV Дум, в том числе известные своей демократичностью и либерализмом; например, П.Б. Струве призывал к беспощадной борьбе с ростками национального самосознания и т. д. (Сафаров Г.И., 1923, 337). В целом же этот важный вопрос требует специального исследования.[379]
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ
Первые столыпинские реформы совпали по времени с победой II турецкой революции (1908 г.), принесшей победу сторонникам парламентаризма. Турецкими событиями весьма пристально интересовалась татарская интеллигенция, известная своими устремлениями к демократизации и свободе культурного саморазвития нации. Они вызвали поэтому заметное оживление в крымской общественной жизни, что в совокупности с глухим брожением беднейших масс села вызвало немалую тревогу властей. В 1908 — 1909 гг. начинаются репрессии, направленные против татар любой социальной принадлежности. Это была ничем не прикрытая сегрегация — людей преследовали лишь по национальному признаку (Фирдевс И., 1925, 27).
Абсолютно немотивированная репрессивная, а с 1914 г. — карательная политика вызвала неожиданно мощное эхо в широких массах. Среди прочего и в тех кругах, что ранее были известны специфической "татарской аполитичностью". Теперь уже не только интеллигенты, но и отдельные крестьянские сообщества, разочарованные принесшими им новые беды экономическими реформами и еще более раздраженные беспочвенными политическими преследованиями, начинают поворачивать головы в сторону соседней Турции с ее демократическими преобразованиями. Наладившиеся было трудами крымских просветителей русско-татарские духовные связи снова рвутся, сменяясь крымско-турецкими.
С целью возобновления прерванного царизмом культурного обмена со Стамбулом налаживаются контакты, пока в глубокой тайне от властей. Все больше татарской молодежи пытается получить разрешение учиться в турецких университетах и медресе. Многие, приезжая в Турцию, тут же с головой погружаются в революционную работу, а вернувшись домой, с восхищением рассказывают о духовной и политической раскрепощенности соседей, об огромных культурных ценностях, отложившихся в братской по вере и языку стране. Естественно, что два несхожих фактора — неприемлемость для народа столыпинской национальной политики и притягательность[380] примера свободной Турции — ведут к оживлению сепаратистских настроений.
Крымских сепаратистов 1909 — 1917 гг. трудно упрекнуть в беспочвенности их антирусских настроений — скорее странно, что они появились столь поздно и исчезли так быстро. Сам же факт их появления был не исключением, а общим правилом для всех угнетенных царскими колонизаторами наций. Причем совпадали такие частности, как расположение организующих центров не на родине, а за рубежом. Приведем несколько примеров.
Духовный огонь Украины, который стремились погасить Столыпин и Струве, ярко пылал в зарубежном Львове; поляки жили своим Краковом, тогда входившим в Австрию; литовцы готовились к национальному подъему, печатая книги и листовки в Восточной Пруссии; очаги финской культуры давно передвинулись из "великого княжества" в братскую Швецию. Короче, у России был не один, а несколько собственных "Пьемонтов".
Однако показателен здесь не столько сам феномен эмигрантских, как их назвали бы теперь, культурных очагов — это была печальная необходимость, — но то, что и финны, и литовцы, и татары были готовы при первой же возможности перенести свои национальные ковчеги обратно, на Родину. Другое дело, что пока (т. е. до начала Февральской революции) такая возможность абсолютно исключалась. Но как только она возникла, крымскому "сепаратизму" пришел логический конец. На сей раз — навечно. Вызванная суровой необходимостью, идея зарубежного культурно-идеологического центра исчерпала себя, как только в перспективе возник призрак свободы развития национального духа и культуры в Крыму, на земле предков.[381]
XVII. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.
Революция — варварская форма прогресса.
Жан Жорес
"ЗАТИШЬЕ" ПЕРЕД БУРЕЙ
Выше говорилось об ужесточении антитатарских репрессий в 1914 г., с началом первой мировой войны. Власти ожидали (в который раз!) массовой измены, перехода татар к враждебной России Турции. Так, уполномоченный крымских дворян Чернов писал генеральному прокурору Баклемишеву о "готовности татар к измене российскому престолу". Ему вторил Мордвинов, давно мечтавший о полном "очищении" полуострова от коренных жителей: "Не должно магометан водворять на военно-сторожевых стезях гор" (Лапицкая С., 1937, 49). Или вот такое типичное жандармское донесение на учителя симферопольского училища Руштие, который "кроме чтения своего предмета тайно посвящал учеников старших классов в историю Турции и бывшего Крымского ханства", за что доносчиком предлагалось содержание столь опасного преступника "под стражей в симферопольской тюрьме" (Бочагов А.К., 1932, 24).
Более подробная фактология проблемы в печати отсутствует, и читатель, пожелавший ознакомиться с ней глубже, вынужден обращаться к советским послевоенным историческим трудам. Но, увы, новых фактов, кроме упомянутых, он не обнаружит и здесь. Но зато в его распоряжении окажутся крайне любопытные заключения по военному периоду. Не беда, что они голословны, — это с лихвой компенсируется твердостью убеждений авторов и яркостью начертанной ими картины. Возьмем, к примеру, такой пассаж: "Татарские националисты по указке из Стамбула тайно проводили сбор средств для помощи Турции" (Гадинский П.Н., I, 1951, 208). Никакой информацией об этой "тайной" деятельности автор, очевидно, не[382] располагал, так как она не приведена, но такая мелочь не помешала ему нанести прямое оскорбление чохом целому пласту крымского населения, назвав его "пятой колонной германских империалистов" (там же, 203).
Собственно, Надинский лишь подхватил эстафету публицистов колониального периода истории крымских татар, что позволило занять ему достойное место в ряду сталинских фальсификаторов истории наций. Поражает лишь его нетворческий подход к социальному заказу — он почти дословно повторяет измышления газетчиков 1916 — 1917 гг., обличавших, например, крымских "немцев — шпионов, захвативших землю" и т. д. (цит. по: Бунегин М.Ф., 1927, 25).
Впрочем, продажные журналисты военного времени лишь отражали атмосферу взаимного недоверия, слежки и доносительства, которая душным саваном одела Крым еще в 1914 г. Репрессии против немцев-колонистов сменялись повальными обысками татарских кварталов в Симферополе и Евпатории; цензура зорко следила за проповедями в мечетях Бахчисарая; досмотру подвергались фелюги рыбаков Феодосии и Балаклавы. Но особенно болезненно отразились нововведения военной поры, жандармская слежка и добровольно-"патриотические" выступления и доносы частных лиц на татарскую прессу. Репрессии властей и все более смелые акции национально-демократической оппозиции, не считавшей необходимым потворствовать обострившейся шовинистической реакции, чем дальше, тем чаще приходили в столкновение, высекая искры, долетавшие и до самых горных и степных деревень. Что же касается городов, то здесь население давно уже разделилось на антагонистические группы, с нетерпением ждавшие момента, когда накопившийся за долгие годы социальный гнев разразится в открытой и бескомпромиссной политической борьбе. Именно эта взрывоопасная обстановка объясняет некоторые особенности крымского варианта Февральской революции.
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Когда до Крыма донеслась весть о долгожданном перевороте в обеих российских столицах, то в исходе аналогичной метаморфозы здесь не было сомнений[383] ни у сторонников революции, ни у ее противников. Последних оказалось слишком мало, они не пользовались никакой поддержкой большинства населения, отчего и признали разумным сложить оружие, не обнажив его. Губернатор мирно передал власть уполномоченному новообразованного Временного правительства Крыма. После чего последовала присяга на верность, которую вся администрация полуострова принесла новой власти. Никто из чиновников старого аппарата не видел, кстати, в отречении от "любимого монарха" ничего зазорного: ведь одними из первых стали на сторону Февраля генерал-губернатор Эбелов и командующий флотом Колчак!
Татарская деревня увидела в революции прежде всего то, что желала увидеть, — залог окончания войны, основную тяжесть которой приходилось нести именно ее сыновьям, не говоря уже об экономической стороне дела[101]. Но аполитичность села была велика — если в городах Советы рабочих и солдатских депутатов были созданы уже в марте 1917 г., то волостные и уездные Советы крестьянских депутатов — лишь летом. Сходным в этих органах власти было лишь то, что большинство и здесь и там принадлежало эсерам или меньшевикам. Даже в марте не было в Крыму ни одной большевистской организации. То есть основная волна арестов жандармов, полицейских, чиновников-монархистов, другие революционные акции произошли без участия большевиков. И это нимало не сказалось на радикальности перемен такого рода, происходивших не только в городе, но и в деревне. Так, в июле Советы Зуйской и Петровской волостей передали первичным крестьянским комитетам все имущество помещичьего имения Кильбурун; крестьяне Тав-Бодракской волости вынесли решение об отказе от воинской повинности, а делегаты феодосийских сел выдвинули требование о немедленной конфискации земель крымских помещиков (Надинский П.Н., II, 1957, 25).
Названные и некоторые иные действия — из числа крайних. Основная же масса Советов в Крыму была явно настроена на бескровное, ненасильственное, эволюционное перерастание буржуазного общества в народнодемократическое, к чему были основания. Процесс, начавшийся в Феврале, протекал здесь более мирно и свободно, чем в большинстве иных губерний.[384] Естественно, некоторые трения имелись в фазе практического осуществления революционных преобразований, и, конечно, шли острые дискуссионные схватки в идейнополитической сфере. Но и здесь сторонники планомерных радикально-репрессивных мер были в абсолютном меньшинстве: если эсеров в августе было всего 27 000, а меньшевиков — 7000, то большевиков — едва 250 человек (Гавен Ю., 1923, 8). Причем и эсеры и меньшевики Крыма, среди которых значительную часть составляла татарская интеллигенция, были весьма пацифистски настроены и во внутренней и во внешней политике. Они смыкались, например, с большевиками, отстаивая программу немедленного выхода России из империалистической войны, даже ценой уступки оккупированной противником территории.
Собственно, татарские интеллигенты и до революции твердо стояли по отношению к войне на пораженческой позиции, чем вызывали к себе повышенное внимание жандармского управления. Большинство лидеров национального движения выдвинулось из их рядов уже после революции. Показательно, что не все они были горожанами, многие — впервые в истории народа! — пришли в политику из татарской деревни. Назовем хотя бы братьев Яшлавских (дер. Ханышкой), Ибрагима Аджи (дер. Коккозы), Шейх-Якуба Халилова (дер. Эффендикой) и др. (Елагин В.Л., 1924, 41). Этим пацифистам, сторонникам компромиссного, постепенного пути развития, уже в 1917 г. противостояла так называемая группа Р. Медиева (А. С. Айвазов, X. Чапчакчи, Д. Сейдамет, С. Маметов), стоявшая за чисто революционный, насильственный переход к новому порядку.
В целом же гонимое до революции татарское национальное, демократичное по духу движение развернулось в 1917 г., как никогда раньше. Отлично сознавая, что избавиться, в частности, от пережитков прошлого, тащившего его назад, к средневековой духовной, социальной и экономической зависимости, Крым может только с помощью революционной России, участники этого движения полностью отказались от имевших в предреволюционные годы некоторое распространение идей сепаратизма. Они включили в свои программы (весьма друг от друга, впрочем, отличавшиеся) единую цель — построение нового Кры[385]ма, находящегося в федеративном союзе с преображенной Россией. Причем подобной точки зрения придерживались и самые ортодоксально магометанские политические группировки. Например, имевший большой вес среди верующих татар Мусульманский комитет[102]. При всем различии крымскотатарских партий и группировок, они были едины в главном: национальное движение нуждалось в организационном оформлении, стал необходимым представительный демократический парламент — Курултай. Первое, организационное собрание Курултая открылось в Симферополе 25 марта 1917 г. Двухтысячный делегатский корпус избрал на нем постоянный орган этого всекрымского народного форума — Мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком) количеством в 50 человек.
Мусисполком Крыма быстро получил всеобщее признание (в том числе и центрального Временного правительства) как единственного, полномочного и законного административного органа, представляющего всех крымских татар и обладающего правом решать отныне все проблемы дальнейшего развития народа Крыма.
В своей политике Мусульманский комитет еще в апреле 1917 г. отмежевался от сепаратистской программы отдельных политиков, настаивавших на полной "автономизации" (по сути отделении) Крыма, и даже выпустил специальное воззвание, где объявил своей целью построение "демократического республиканского строя на национально-федеративных началах" (Южные ведом., 1917, №91). С комитетом солидаризовалась в этом вопросе и сплотившаяся позже, летом 1917 г., "Национальная партия", более известная как "Милли-Фирка".
Это не единственный пункт, общий для программ двух партий, своеобразно соединявших в своей деятельности религиозную и революционную идеологию, причем первую не в ущерб второй. Присягнув весной — летом на верность революционному правительству, они организовывали татарские манифестации в поддержку его, а в мечетях — моления за победу революции! "Чисто революционные" партии относились к подобным неординарным акциям с иронией. Впрочем, она быстро испарилась — после проповедей и публичных речей имама И. Тарпи, необычайно популярных[386] в народе и немало сделавших для уяснения широкими татарскими массами сути революции (Елагин В.Л., 1924, 43).
На Первом съезде Мусульманского комитета председателем его был избран бывший учитель, солдат С.Д. Хаттатов. Делегаты, в подавляющем большинстве крестьяне, провалили на выборах в руководство партии ряд кандидатов-помещиков (в том числе весьма авторитетного их лидера С.Б. Крымтаева), предпочтя им популярных в среде трудящихся Нумана Челеби Джихана (Ч. Челебиева), Д. Сейдамета, А. Озенбашлы, X. Чапчакчи, Енилеева, И. Тарпи, К. — Б. Крымтаева, С. Меметова, А. Боданинского и др.[103]
Ключевые не только в партии, но в масштабе всего Крыма посты заняли Ч. Челебиев (Временный комиссар духовного правления и одновременно Таврический муфтий), Д. Сейдамет (комиссар Вакуфной комиссии), А.С. Айвазов и М. Кипчакский (члены бюро мусульманской фракции Думы). Мусульманские лидеры пользовались авторитетом не только как патриоты и демократы, но и как опытные политики, прошедшие большую жизненную и профессиональную школу[104].
Показательно, что первым постановлением Мусульманского комитета стало решение о народном просвещении и лишь во вторую очередь он позаботился о создании необходимой для любой власти вооруженной поддержки — мусульманских добровольческих частей. Против этого национального отряда, кстати, также выступило Временное правительство Крыма, изо всех сил стремившееся сохранить монополию на власть. Тем не менее татарский батальон был вскоре признан как законная революционная часть всероссийским Временным правительством, которое даже усилило его, переведя для этого в Симферополь запасную часть Конного татарского полка. Татарский батальон стал первым поистине народным войском Крыма, вставшим на защиту прав своего народа и этим народом всегда поддерживаемым[105].
Что же касается первого упомянутого постановления, то впервые татарская русифицированная школа была передана в руки татар же. Но это ни в коем случае не означало стремления комитета ее обособить, оторвать от культуры России. В школе преподавались[387] русский язык и литература, история страны, а летом 1917 г. татарские преподаватели были отправлены за счет комитета в Москву на курсы повышения квалификации.
Комитет стремился к улаживанию всевозможных конфликтов, стихийно вспыхивавших между татарами и правительством в ходе аграрной реформы. Так, когда в южных волостях Крыма, на 58 — 96% населенных татарами (Соц. — эк. атлас Крыма, 1922, 9), вспыхнули беспорядки и крестьяне стали самовольно захватывать земли (дер. Кикинеиз, Байдары), то комитетчики, став посредниками, добились решения проблемы, приемлемого и для татар, и для администрации Советов (KB, 1917, №134).
Следующее важное решение комитета — о передаче вакуфного имущества или доходов с него татарским крестьянам, т. е. потомкам дарителей и собирателей этого народного достояния (ГТ, 1917, №3). Иная точка зрения была у правительства, считавшего, что вакуфы должны остаться в руках духовенства, но под контролем государства. Разгорелась дискуссия, тем более острая, что речь шла о все еще значительном имуществе — 88 тыс. десятин лучших земель и полутысяче домов и лавок. Комитет развернул широкую пропагандистскую работу в деревне, обосновывая свою позицию тем, что вакуфы, будучи переданы беднякам села, не только улучшат положение крестьян, но и лишат экономической базы духовенство, сохранившее в известной мере верность свергнутому царскому режиму. Естественно, село пошло за комитетом, как и беднейшие слои города. Именно в этот период, когда в городах и уездах крепли местные отделения партии, а Мусульманский комитет превращался в стройную организацию с четкой национально-демократической программой, его реальная сила основывалась на безоговорочной поддержке доверявших ему масс — от центра до самых глухих деревень (Бунегин М.Ф., 1927, 46). По сути комитет стал единственной партией, которая в новое время взяла на себя заботу о возрождении — экономическом и культурном — нации. Трудно назвать какую-либо иную группировку, которая в XIX — XX вв. столь четко и бескомпромиссно могла бы связать свою судьбу с борьбой по большому счету за возврат крымскому народу Крыма.
С лета 1917 г. центральным органом комитета[388] стали независимые газеты "Миллет" (ред. А.С. Айвазов) и "Голос татар" (ред. А. Боданинский и X. Чапчакчи) — печатные издания, в отличие от "Терджимана" содействовавшие не только культурному и национальному возрождению народа, но и его политической консолидации. Поэтому, поддерживая революционную власть, обе газеты не останавливались и перед критикой Советов, нередко игнорировавших интересы татар. Так, когда с попустительства власти контрразведкой Севастополя был арестован муфтий Ч. Челебиев[106], комитет поставил прямой вопрос: "Имеет ли право на существование власть, идущая на удочку реакции... и не могущая дать минимум личных свобод?" (ГТ, 1917, 2).
Подобная критика отражала и трещину в отношениях между татарским и российским демократическим движением, наметившуюся еще до 1917 г. и со временем отнюдь не уменьшившуюся. На новом этапе лишь умножились пункты расхождения между программами — к национальной добавилась проблема выбора средств преобразований. Если татары, уставшие от притеснений и репрессий, по-прежнему стремились к мирному исходу, то российские революционеры, в особенности большевики, стояли за насильственную ломку старых отношений. Так, осенью 1917 г. Свердлов охарактеризовал Крым как оплот эволюционистов, считавших, что все революционные преобразования можно провести мирным путем, компромиссами, и призвал буквально к разгрому "социал-соглашателей", заявив, что "Севастополь должен стать Кронштадтом Юга" (Гавен Ю., 1922, 5). Напомним, что это было сказано до развертывания террора на севере и юге России.
Подобная нацеленность на безусловную необходимость репрессий была вредна уже тем, что раскалывала демократическое движение России и Крыма — крымчане не могли ее принять именно из-за ее кровавой безысходности, что вовсе, кстати, не означает, что татары были готовы сдаться любой вооруженной силе. Ведь, когда начался мятеж Корнилова, Мусульманский комитет решительно встал на защиту завоеваний революции. Навстречу мятежникам были посланы крымские делегаты с целью отколоть от них солдат-мусульман и пополнить ими ряды вооруженной защиты Петрограда (ГТ, 1917, №7). Но во главу[389] угла комитет ставил все же идеологические средства в борьбе, в том числе и против собственной мусульманской реакции, — в сентябре 1917 г. им был подвергнут острой критике комплот "ученых" — улемов — и бывшего муфтия Тарпи, активно звавших назад, к шариату[107] (ГТ, 1917, №10).
Из сказанного ясно, что Мусульманский комитет и Милли-Фирка не пользовались поддержкой, с одной стороны, Временного правительства, с другой — большевиков. Но если первое было вынуждено с комитетом мириться как с пользовавшейся безусловным авторитетом среди татарского населения силой, то большевики заняли непримиримую позицию. Они отвергали любые попытки татарских лидеров найти общий язык, а разделяться с "соглашателями" им мешало только отсутствие реальной власти РСДРП на местах.
Кроме того, в Крыму пока не было даже единой большевистской организации. Лишь поздней осенью 1917 г. в Симферополе собралась учредительная I Таврическая партийная конференция. На ней присутствовало 17 делегатов, которые решали организационные вопросы (о денежных средствах партии и т. п.), а отнюдь не об отношении к набравшему реальную силу национальному движению. Учитывая общее отношение большевиков к коренному населению, упущение это вполне объяснимо, как и то, что критика его последовала лишь через 5 (!) лет (Гавен Ю., 1923, 15), хотя результаты подобного проявления политической слепоты последовали весьма скоро — через считанные месяцы татарский вопрос разросся до таких масштабов, что к оружию потянулись руки и самых рассудительных членов РСДРП...
Напротив, национально-демократическое движение набирало силу исключительно мирным путем. В октябре 1917 г., накануне революции, состоялся II Крымскотатарский делегатский съезд. Когда начались выборы в Учредительное собрание делегатов Крыма, то один из наиболее авторитетных участников съезда, Вели Ибраимов, заявил, что необходимо выдвигать тех, кто приобщился к делу революции не со вчерашнего дня, а с "давних пор", кто мог бы "всеми силами отстаивать интересы рабочих и крестьян и всей нашей голытьбы" (ГТ, 1917, №11). Этим будущий Предсовнаркома Крыма и объединившаяся во[390]круг него группа противопоставила себя крайним националистам, считавшим, что главная задача крымских делегатов — высоко нести "эмблему татаризма — голубое знамя Чингиза" (там же), а социальная их программа — дело второстепенное.
Группа В. Ибраимова на съезде добилась поддержки большинства участников. Резолюция съезда декларировала поэтому свое отношение к мусульманам всего мира в первую очередь как к "жертвам европейского империализма". Съезд высказался за первоочередное решение назревших социальных и экономических задач, а также за право всех угнетенных наций на национальное самоопределение (ГТ, 1917, №11). Собственно, эта позиция была аналогична большевистской, что, кстати, не помешало большевикам позже, когда встала проблема автономного Крыма, подвергнуть ее резкой критике.
Переходя к истории образования первого крымского народного правительства, необходимо сделать некоторые замечания, касающиеся геополитической ситуации в Крыму, обычно исследователями этого сложного периода не учитывающейся. Как правило, дело представляется таким образом, что татарские националисты, захватив власть, пытались оторвать Крым от России и передать его в руки Турции. При этом забывается, что Крым какое-то время был и без того "оторван" от России — после того как Центральная рада объявила о создании Украинской народной республики. И лишь после этого Мусисполком заявил, что он, как "выразитель воли татар, не желая допустить в Крыму гегемонии какой-либо народности над другой... признает Крым для крымцев и находит, что чрезвычайные обстоятельства повелевают народам Крыма объединиться для общей дружной работы на благо всех народов, населяющих Крым" (ГТ, 1917, №15).
Крым для крымцев! Это была единственная платформа в той ситуации полного распада бывшей империи, что могла отвечать чаяниям населения, уже ощущавшего угрозу захвата и подчинения Крыма, оставшегося без защиты центральной власти. Это означало максимально возможную гарантию сохранения политической независимости, сохранения исконной культуры и равноправия всех наций, населявших полуостров. Это видно из приведенного за[391]явления, но еще более — из декларации татарского представителя на сентябрьском (1917 г.) съезде народов в Киеве: "Пусть знают все, что крымские татары не позволят никому устанавливать какую-либо гегемонию на Крымском полуострове. И на этот раз уже крымские татары не покинут своего края без упорной защиты своих прав и добытой свободы... Мы, свободные сыны отныне свободного татарского народа, протягиваем вам руку с лозунгом демократической федеративной республики для счастливого дружеского сожительства в будущем" (Бунегин М.Ф., 1927, 50, 87-88).
Как видно, и эта платформа соответствовала, между прочим, большевистской: недаром приветствие УНР, направленное из Крыма, было подписано совместно татарскими делегатами и большевиком Ж. Миллером[108]. Точно так же с обоюдного согласия был сделан такой важный шаг, как передача УНР трех таврических уездов, где не было татар, но большинство украинцев, — материковой части бывшей губернии. Отношение к решениям Мусисполкома изменилось гораздо позже — в трудах советских историков, поголовно настроенных к Мусисполкому резко критически (1950 — 1980-е гг.). Так, даже лозунг "Крым — для крымцев" (не татар, заметим), рассмотренный вне исторического контекста, оценивается как "стремление татарских националистов оторвать Крым от нашего государства" (Надинский П.Н., II, 1957, 37). Возникает естественный вопрос: для кого должны были члены комитета предназначать свой край — для москвичей, киевлян или тамбовцев? Тем более в то смутное время, когда "засамоопределялись, засамоуправлялись, заполонили своими делегатами столицы Европы Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Дон, Кубань. Газеты запестрели новыми географическими и политическими терминами..." (Станкевич В., 1921, 16). По-моему, ожидать, что крымское русофильство должно было бы стать на порядок выше донского или кубанского, уж не попытка ли это обнаружить крымчан святее папы римского...
В начале октября 1917 г. в Крыму развернулась кампания по выборам в Учредительное собрание; в ней приняли широкое участие и большевики во главе с "губернским парторганизатором" Ж. Миллером. Од[392]нако выборы, завершившиеся в ноябре 1917 г., показали минимальную популярность в массах именно РСДРП(б). Новообразованный губернский Совет, как и Учредительное собрание в Крыму, состоял на 52% из эсеров, 31% — членов национальных партий, остальные места достались большевикам[109] и другим менее значительным группам. Следует заметить, что выборы эти проводились "на основе самого совершенного избирательного закона" как в Петербурге, так и на местах и их итоги "отражали действительное соотношение если не сил, то политических симпатий" (Р., 1989, №3, 22). Когда результаты выборов были обнародованы, в Крыму состоялись грандиозные многотысячные демонстрации в поддержку органа, впервые созданного многосословным и многонациональным населением на основе всеобщих, прямых и равных выборов. Впервые делегаты — татары, украинцы, русские, немцы, евреи, эстонцы, не смущаясь, обнимали и целовали друг друга (Южн. нов., 1917, 102). Это была какая-то эйфория свободы и демократии, и никто не подозревал, какой конец готовят народной власти большевики, у которых никогда "не было серьезных намерений решить политическую проблему парламентским путем", и единственной целью их участия в созыве Учредительного собрания было "разуверить народ в парламенте" (Р., 1989, №3, 24). Да и как могли они допустить нормальную работу собрания, где не обладали влиянием?
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Именно поэтому когда 26 октября сюда докатилась весть о перевороте в Петербурге, то его приветствовал почти исключительно лишь флот. Население же Крыма, питавшее иллюзию о возможности демократичного, мирного развития, выразило свой протест против первого из трех событий (переворот, гражданская война, диктатура), которые "вряд ли могут соответствовать идеалам, нормам и ценностям правового государства, которые мы сегодня провозгласили своей целью" (Р., 1989, №3, 22). Причем явная антидемократичность начавшегося многолетнего процесса подавления личности и свободы национального развития пришлась по душе далеко не всем[393] крымским большевикам. Переворот в Петербурге был осужден, например, Евпаторийской партийной организацией во главе с В. Елагиным, о чем она заявила в печати (Надинский П.Н., II, 1957, 36 — 37).
Гораздо более резко выступил с оценкой происходившего Мусисполком, пророчески заявив, что "разыгравшиеся в Петербурге кровавые события, парализовав силу существующей власти, открывают путь для анархии и гражданской войны, размер и гибельные последствия которой теперь трудно представить" (ГТ, 1917, №12).
Учредительный Курултай было намечено провести 26 ноября (Н. ст.), и этому не смогли помешать октябрьские события в центре бывшей метрополии. Депутаты, собравшиеся в Бахчисарае, приняли первую в истории Крыма конституцию, созданную по воле и при непосредственном участии его коренного населения. Новое государство, естественно, суверенное, было названо Крымской Народной Республикой. Ее правительство (Совет директорий) возглавил председатель Нуман Челеби Джихан.
В конституции признавалось равноправие всех жителей Крыма вне зависимости от национальности, провозглашались основные демократические свободы. Правительство заявило о своей основной цели: "на основе идей братства, чувства единой Родины... действовать во имя воссоединения с общедемократическим миром, во имя спасения от когтей кровавой революции, которая разрушила памятники, культовые здания, сожгла дотла дворцы, растоптала щедрый и прекрасный Крымский полуостров" (Цит. по: Кандымов Ю., 1991, 3).
На учредительном Курултае был принят и государственный флаг Крыма — голубое полотнище с золотой гиреевской тамгой в углу у древка".
Большевики не могли в условиях полного неприятия Октября практически всем населением даже пытаться свершить что-то подобное в Крыму. Началась трудная борьба за наведение нового "порядка" в собственных рядах, а потом и среди масс. Борьба обещала быть кровопролитной, так как с декабря 1917 г. сюда стали прибывать мусульманские части из распавшейся царской армии, и вскоре коалиционное правительство Крыма (Совет народных представителей) уже располагало двумя кавалерийскими и[394] одним пехотным полками общим числом 6 тыс. человек, не считая 2 тыс. офицеров при штабе и двух украинских куреней, которые также сохраняли верность выборной власти. И войско это обладало реальной силой, особенно после того, как Одесский военный округ распустил все немусульманские армейские части Крыма.
Тем не менее, скопив значительные силы среди военных моряков, большевики смогли в январе 1918 г. перейти в наступление. Корабли подошли к большинству приморских городов и навели на них орудия главного калибра; в другие города вошли распропагандированные большевиками армейские части, и лишь при прямой угрозе уничтожения безоружного населения переворот свершился и здесь.
Впрочем, кое-где они встретили сопротивление. Татарские кавалеристы-"эскадронцы", оставшиеся верными народному правительству, пытались защитить завоевания революции, выступив против ревкома Севастополя с целью вывести город из-под его власти. Однако и они, и другие правительственные части были разбиты под Сюренью, Альмой и Дуванкоем превосходящими силами противника. Эти бои, а также ожесточенные схватки между гарнизонами ряда городов и матросскими отрядами, пришедшими из Севастополя, означали по сути начало гражданской войны.
Встречающиеся и в самое последнее время повторения тезиса о том, что гражданская война была "развязана контрреволюцией", не имеют под собой фактической почвы. Не только в Крыму, но и в других регионах огромной страны именно большевики первыми пошли на применение насилия "при решении вопросов общенационального политического устройства. Гуманистическая тенденция развития России, начатая бескровной революцией и рассчитанная на духовное и материальное обогащение, отныне была прервана. Началось бессмысленное, безудержное и безнравственное взаимное уничтожение нашей культуры" (Васильев Б., 1989). И первым шагом к этой кровавой оргии был разгон большевиками Учредительного собрания.
Если в Петербурге оно просуществовало полсуток, то его век в Крыму был несколько длиннее, хотя конец одинаков — его разогнали и здесь. Отличие ситуации[395] было в национальной особенности края. Если большевики опирались в основном на распропагандированные части армии и флота, а также на городской (русский) пролетариат, то татары защищали Мусисполком, Учредительное собрание и другие органы правовой власти. Именно поэтому события 1917 г. и последовавших годов представлялись "очень многим как борьба русских с татарами" (Бунегин М.Ф., 1912, 118).
На деле, конечно, борьба протекала в иной плоскости, а именно демократии с зарождавшейся диктатурой. На далекой периферии бывшей империи беспартийными массами (не говоря уже о членах Мусисполкома — см. выше), не поддерживавшими разгром демократических институтов, отстаивавшими свое право на власть народа, инстинктивно ощущалось то, о чем мы заговорили в полный голос лишь сейчас, когда пытаемся объективно оценить события тех далеких лет.[396]
XVIII. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
НАЧАЛО РЕПРЕССИЙ
В январе 1918 г. Крым уже основательно ознакомился с практикой "классовой борьбы", как ее понимали взявшие в свои руки инициативу большевики. Они же определяли лозунги, под которыми в Крыму впервые после долгого перерыва стали совершаться организованные убийства. В конце 1917 г. таким лозунгом был призыв: "Вся власть Советам!" Но позже, когда большевики убедились в малой способности этих органов власти проводить политику ликвидации части населения страны, Центральный комитет партии большевиков заявил через свой орган, что лозунг этот должен быть сменен на "Вся власть чрезвычайкам!" (Правда, 18 октября 1918). Впрочем, это была не единственная альтернатива Советам. В условиях Крыма, где население было смешанным по национальному признаку, для достижения той же цели было избрано иное средство — и над полуостровом раздался новый клич: "Нам грозит военная диктатура татар!" (Прибой, 1918, №117).
Таким образом, борьба, мало соответствовавшая понятию классовой и до того (это были скорее бои между двумя воинскими группировками, выступившими с узкопартийных позиций), теперь окончательно утрачивает классовый признак, становится национальной. Заняв таким образом позицию разжигания национальной розни, большевики могли теперь опираться не только на военные отряды (которых уже не хватало даже для карательных операций), состоявшие исключительно из некрымчан. Теперь на их сторону пошел местный элемент, заинтересованный то ли в полной русификации Крыма, то ли в возможности безнаказанно обогатиться, громя "инородцев".
Естественно, в рядах сформированных большевиками отрядов было кроме солдат и матросов какое-то число и крымчан, искренне принявших Программу[397] РСДРП (б). Какую часть они составляли? Ответить на этот вопрос нелегко. Но, учитывая крайне слабую популярность партии в Крыму до революции, число ее приверженцев за несколько месяцев намного возрасти не могло. Да и в специальной литературе мы встречаем, как правило, одних и тех же лиц, активистов партии, небольшие группы которых были в нескольких городах. Они переходят, известные пофамильно, из книги в книгу, но ни в одной из них не встречается даже упоминания о крупных, массовых большевистских организациях, как, например, в Петербурге в том же 1918 г.[110]
Вооруженную борьбу регулярных частей с правительственными отрядами, имевшую не только политический, но и национальный характер, пытался в самом начале погасить Мусисполком. Инициатива принадлежала Ч. Челебиеву. Ему противостояли некоторые члены правительства, чувствовавшие себя в безопасности, так как большинство населения было за них. Тем не менее Ч. Челебиеву удалось, приведя данные о многочисленных жертвах в первую очередь среди мирного населения, убедить коллег в необходимости послать к большевикам парламентскую комиссию. Предлагалось создать смешанную краевую власть из представителей парламента
Совета народных представителей и большевиков. Вначале ревкомовцы вроде соглашались с таким компромиссом и переговоры шли успешно. Но Севастополь тем временем неожиданно направил ударную группу войск с артиллерией на Сюрень и далее — на Симферополь, который был 14 января взят.
В захваченной столице новая власть арестовала членов правительства, начались первые расстрелы местной "буржуазии", т. е. пленных из правительственных войск и городской самообороны, среди которых, естественно, было много татар. Показательно, что первые свои распоряжения Симферопольский ревком публиковал исключительно на русском языке, большинству татар города и особенно деревни малопонятном. Поэтому они не могли эти распоряжения выполнять, и многие шли под арест, а затем и на расстрел, так и не понимая, в чем их вина. Казни воспринимались как бессмысленные убийства и оставшимися в живых. По этой и еще ряду причин симферопольские татары, ошеломленные внезапным[398] вторжением матросских частей и массовыми репрессиями, бежали в горы. Курултай был распущен — очевидно, за расхождение во взглядах с флотским ревкомом. В глазах даже образованной части татар "это было простым возвращением русских, их власти, насилием, произведенным русскими войсками над пробудившимся национальным движением" (Бунегин М.Ф., 1927, 123), справедливо отмечает советский автор. Неудивительно, что не только татары, но и славяноязычные крымчане воспринимали новую напасть, пришедшую с Севера, как продолжение былых кровопролитий, походов Миниха, Ласси, Долгорукого, еще живших в памяти народа. Красный террор был настолько ужасен, что не укладывался в сознание людей XX века. Казалось, в Крым вернулись ледяные ветры средневекового Московского государства:
В этом ветре — гнев веков свинцовых, Русь Малют, Иванов, Годуновых — Хищников, опричников, стрельцов, Свежевателей живого мяса — Чертогона, вихря, свистопляса — Быль царей и явь большевиков. (Волошин М.А., 1969, 44)Так писал поэт, встретивший 1918 г. на берегах Черного моря. А его современник, которого столь же трудно заподозрить в татарском национализме, делал вывод о том, что именно это насилие, а не мифические националистические агитаторы "привели к организации антисоветских татарских ячеек на местах, а затем и к вооруженному выступлению против Советов".
Как вспоминает старый крымский большевик В.Л. Елагин, игнорирование ревкомами языка и национальной культуры татар было символичным: "Советская власть с момента возникновения и до момента гибели под натиском немцев оставалась русской, говорила на чужом для татар языке". Именно поэтому "крымские большевики в 18 г. не смогли разрешить национального вопроса" (1924, 88). Добавим, что нам не известны даже попытки решить его. Ставка делалась, как мы видели, не на компромисс, единственно необходимый в сложной социальной и национальной обстановке тех месяцев, а лишь на во[399]оруженную силу, на физическое уничтожение инакомыслящих.
Ревкомовцы Севастополя и других городов понимали, что власть на штыках не может быть прочной по крайней мере до того, как не будут ликвидированы все сторонники прежнего демократического правительства. При всех его недостатках оно было выбрано большинством крымчан, имело общие с местным населением интересы и, главное, успело решить ряд проблем, абсолютно чуждых новым Советам, созданным армией и флотом и ими контролировавшимся. Положение это нужно было менять, полагали большевики.
МАССОВЫЙ ТЕРРОР
Предлог к такого рода акциям представился уже в феврале 1918 г. Новая власть обложила местную "буржуазию", т. е. частных предпринимателей, от крупных до самых мелких, контрибуцией в 10 млн руб. Сумма, и сама по себе немалая, могла быть собрана в разоренном войной и революциями крае с большим трудом. Тем не менее в считанные дни в ревкомы было сдано 3 млн руб., а когда в назначенный срок деньги полностью внесены все же не были, это послужило сигналом для матросов и солдат Севастополя, которые развязали кровавый террор. За три ночи 21 — 24 февраля в городе было вырезано несколько сот "национальных буржуев", расстреляны заключенные в городскую тюрьму члены правительства, среди которых был и Нуман Челеби Джихан (Гавен Ю., 1923, 53).
Волна террора, постфактум оправданного как превентивное средство против реставрации выборной власти, прокатилась и по другим городам. Только в Симферополе было расстреляно 170 мирных жителей, отнесенных на сей раз к "мировой буржуазии" (Бунегин М.Ф., 1927, 126). Террор стал массовым — это признают и апологеты подобного насилия над народом. Причем был он направлен не только против "классово чуждого элемента", но и против недавних союзников большевиков — расстрелу подлежали эсеры и меньшевики (Надинский П.Н., II, 1957, 77).
В красном терроре принимали участие и команды[400] с кораблей Черноморского флота. Страшную память о себе оставили в Евпатории транспорт "Трувор" и крейсер "Румыния", экипажи которых за три дня расстреляли, зарезали и утопили не менее 300 человек. Всего же только зимой 1918 г. в этом маленьком городке было репрессировано около 1 тыс. мирных жителей.
Здесь, как и в других крымских городах, казни местного населения предварялись жуткими пытками, тем более бессмысленными, что никаких "антибольшевистских" тайн жертвы не хранили. Матросы пытали евпаторийцев на палубах, сжигали их в корабельных топках живьем единственно "для развлечения" (Мельгунов С.П., 1990, 90). Единожды окунувшись в эту кровавую вакханалию, люди почти поголовно становились садистами, солдаты и матросы теряли человеческий облик, постоянно искали всё новый и новый выход своим извращенным наклонностям.
Иногда утверждается, впрочем, что дикая эта резня, сопровождавшаяся самочинными обысками, откровенным грабежом и страшными актами насилия над мирным населением, якобы осуществлялась "незаконными" бандами "уголовных и анархиствующих элементов" (там же). Утверждение это сомнительно уже потому, что террор начался как по команде одновременно в разных районах Крыма и осуществлялся вооруженными отрядами, беспрепятственно уводившими крымчан на расстрел не только из собственных домов, но и из государственных тюрем. Наконец, наименее "законными", на наш взгляд, были организованные именно ревкомами так называемые сортировочные комитеты, без суда и следствия выносившие смертные приговоры арестованным.
Максим Горький коснулся крымской темы в марте 1918 г.: "Уничтожив именем пролетариата старые суды, гг. народные комиссары этим самым укрепили в сознании "улицы" ее право на "самосуд" — звериное право. И раньше, до революции, наша улица любила бить, предаваясь этому "спорту" с наслаждением...
И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как бы дано право свободно истязать друг друга. Они пользуются своим "правом" с явным сладострастием, невероятной жестокостью...
Грабят и продают церкви, военные музеи, продают[401] пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать, в Феодосии солдаты даже людьми торгуют: привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок и продают их по 25 руб. за штуку" (цит. по: "Смена" (Ленинград), 06. II. 90).
За первой контрибуцией последовала вторая — Советы под угрозой репрессий обязали крестьян Крыма выплатить недоимки еще царского времени, т. е. за несколько лет сразу, а долгу прежним властям из-за военных лишений накопилось немало. Поэтому снова поднялась волна репрессий, на этот раз по отношению исключительно к деревенскому населению... Позже этот шаг был признан ошибочным (Бунегин М.Ф., 1927, 125), но в свое время он окончательно оттолкнул от Советской власти основную часть татар — крестьянство Крыма.
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТАВРИДА
Наступившая после спада террора "мирная передышка" мира крымчанам не принесла. Строительство Советской власти было исполнено жестокими внутренними противоречиями, сопровождалось различными видами репрессий, фактически продолжалась гражданская война против коренного населения. Она шла в различных сферах, формы ее были разнообразны, но не менялся основной принцип: власть диктовала свои законы и за нарушение их расправлялась немедленно. Был, например, распущен в феврале губернский съезд профсоюзов — отряд солдат и матросов разогнал делегатов лишь за то, что на нем была вынесена оценка деятельности властей, последним не понравившаяся. Правда, затем был собран новый съезд профсоюзов, "делегаты" которого были назначены сверху и поэтому беспокойств властям более не доставляли.
Одновременно заседавший в Симферополе губернский съезд Советов избрал Центральный исполнительный комитет. В состав ЦИК ввели теперь и эсеров (левых). Эти 8 человек при 12 большевиках были безопасны, но создавалась видимость демокра[402]тии и плюрализма, ставших после недавних событий просто необходимыми. 10 марта 1918 г. ЦИК объявил своим декретом территорию Крыма Советской социалистической республикой Тавридой. Древний топоним "Крым" не случайно был исключен из названия нового государственного образования — его возглавили исключительно "крымчане" в первом поколении. И они оказались, в частности, не в состоянии (или даже не пытались — об этом нет сведений) прекратить резню южнобережных татар греками, воспользовавшимися наступившей безнаказанностью (Фирдевс И., 1923, 68).
Правительство ССРТ пробыло у власти немногим более месяца, но выводы о направленности его политики сделать можно. Было проведено две кампании национализации недвижимости. При этом в ряде городов, например в Балаклаве, национализировались частные постройки, в том числе принадлежавшие трудящимся. С другой стороны, землю не перераспределили. Более того, когда вопрос о наделении участками крестьян татарских сел был выдвинут эсерами, большевики выступили против, предложив свою альтернативу — национализацию земли, по сути все оставившую на своих местах. При этом вся территория Крыма была торжественно объявлена "всенародным достоянием", но до передела участков с учетом массы обезземеленного деревенского населения властям дела не было: они решали более "масштабные" задачи. Поэтому татары так и остались без земли, а значит, без декларированной новой властью свободы. И это не было исключением из общего правила: крымские большевики, как и в других местах, относились к крестьянам как к "несознательному, последнему буржуазному классу" — это было характерно для них и впоследствии (Голованов В., 1989).
Казалось, большевики сознательно, шаг за шагом, все более углубляли пропасть между Советской властью и татарами: "Крестьянин, веками мечтавший о земле, не получил ее от большевиков, принципы национализации были непонятны крестьянину, особенно в то время, когда, не допуская распределения земли, большевики применяли очень строгие меры при сборе хлебопродуктов в деревне" (Бунегин М.Ф., 1927, 139). Голодающие татары села, испокон веку мечтавшие о собственном хозяйстве, были вы[403]нуждены вступать в организованные властью сельскохозяйственные кооперативы, тем более что особой разницы между новой формой труда и старым батрачеством не было; не изменились ни техника, ни продолжительность рабочего дня, ни заработки.
Новым было лишь усиление идеологического давления сверху. Были открыты советские школы, многие — для взрослых, Солдатский университет в Ялте, шла подготовка к открытию Таврического университета.
Все это были звенья одной цепи оков для традиционно свободной духовной жизни края. Агитация за такое "просвещение" не могла заслонить от татар полного равнодушия к их проблемам, того, что школы открывались с иной, чем просветительская, целью. На I съезде ЦИК было указано, что национального вопроса в Крыму не существует, так как теперь "все равны". А когда татарская группа съезда предложила ввести в Исполком одного-двух ее представителей, то председатель ЦИК отказался рассматривать предложение, издевательски посоветовав татарам вступить в РСДРП(б) — тогда они смогут баллотироваться в качестве членов партии, но не ранее (Бунегин М.Ф., 1927, 140). И положение это осталось в силе до самого конца "мирной передышки".
Наступил он 26 марта 1918 г., когда в связи с угрозой вторжения в Крым с Украины немецкой армии у татар были вновь конфискованы лошади и другой скот, была объявлена всеобщая мобилизация. При этом "политически незрелых" жителей села и города погнали, еще до начала военных действий, рыть окопы и углублять ров на Перекопе. Однако Советы неправильно рассчитали политическую обстановку — опасность им грозила вовсе не от татар и даже не от немцев, но со стороны собственной опоры — начались волнения в воинских частях. Крестьяне в солдатских и матросских шинелях не желали более поддерживать своими штыками диктатуру ЦИК в абсолютно чуждом им Крыму. Конца их службе, судя по обстановке, не предвиделось; из родных губерний шли письма, зовущие их к земле, а они были вынуждены практически исполнять карательные и оккупационные функции в окружении враждебного им крымского народа. Первым признаком недоверия ЦИК стало избрание в Севастополе, а затем и в других городах[404] не большевистских, как это было ранее, а меньшевистских лидеров.
И тут же начались волнения в татарской деревне. Самостоятельные крестьяне протестовали против национализации их имущества, бедняки — против лишения их последнего скота и мобилизации в пору полного развала собственного хозяйства. Власть не обеспечила их землей, и они, естественно, не желали проливать за нее кровь. И татары стали отказываться от мобилизации, уходить в горы. Начались вооруженные волнения — вначале поднялись Кизил-Таш, Шумы, Демерджи, Корбеклы, Кучук-Узень, а затем и весь Южный берег.
Времени для конструктивного диалога с крестьянами у властей было достаточно, средств для уничтожения причин волнений — тоже. Однако вместо раздачи, хоть и с опозданием, земли ЦИК предпочел прежнюю меру — в "мятежные" деревни были посланы карательные отряды. Первый удар нанесен по городу, который почитался неким "центром" волнений. В Алушту был направлен вначале пеший отряд, затем, перед самым началом немецкой оккупации, — миноносец с десантниками (см. ниже). Власти, опасаясь любых видов не контролируемых большевиками организаций, распускали не только самостоятельные мелкие потребительские кооперации, но и более крупные, отнюдь не прерывавшие своей деятельности. Так, в Судаке был разгромлен созданный из-за немецкой угрозы татарский комитет самообороны, в Феодосии — союз инвалидов и т. д.
Но стали уже меняться и сами Советы. Из некоторых уходили старые кадры, осуждавшие бесконечный террор, в других свил себе гнездо недопустимый "либерализм" (Надинский П.Н., II, 1957, 89). Параллельно большевистскому был создан Совет меньшевиков и эсеров, власть стала распадаться. Милли-Фирка требовала распустить Советы, укомплектованные "солдатами и курортниками" (т. е. некрымчанами), ввести туда татар, единственно способных защитить права беднейшего из слоев населения (Крым, 1918, №8). ЦИК уже не наступал на своих идейных противников, а "опустился" до диалога с ними. Кончилось тем, что свое слово сказал истинный хозяин положения в Крыму, кому подчинялся весь аппарат насилия, — Центрофлот. Он распустил оба Совета и[405] назначил 18 апреля выборы под собственным контролем. В результате состав нового Совета стал смешанным — в него кроме большевиков вошли эсеры и меньшевики. Наметилась возможность сотрудничества, но в тот же день в Крым начали входить немцы и неудержимо продвигаться от Перекопа на юг.
Члены Советского правительства, естественно, не хотели нести ответственность за месяцы советского террора (некоторые "вожди" явились его прямыми инициаторами). Поэтому они, в равной степени опасаясь и немцев, и восставших татар, приняли решение не бороться за сохранение Советской власти, но бежать из Крыма. Заметим, что в этот момент Крым еще не был под оккупацией, она лишь готовилась, и "пламенные революционеры" могли хотя бы подготовить силы подпольного или партизанского сопротивления, что случалось в Крыму не раз. Взамен группа этих перепуганных штатских деятелей метнулась на трех переполненных автомобилях в Ялту. Затем, когда им сказали, что корабль за ними пришел в Алушту, они отправились туда, но по дороге были арестованы повстанцами. В Алушту прибыл упомянутый выше миноносец, орудия с которого снова, как и четыре месяца назад, были направлены на город. Под их прикрытием на берег сошли матросы и начали буквально вырезать татарские кварталы. Подчеркиваем: вопрос жизни или смерти здесь решала только национальная принадлежность, так как "матросы рубили без пощады всех попадавшихся им навстречу татар" (Елагин В.Л., 1924, 80). Но отыскать бывшее правительство все же не удалось — его держали за городом. Тогда миноносец открыл артиллерийский огонь по Алуште, и лишь после этого повстанцы решили уходить с семьями в горы, предварительно расстреляв пленников по принятому в месяцы Советской власти обычаю, т. е. без суда и следствия.
Первый период Советской власти в Крыму начался с кровавого насилия; на всем его протяжении правительство, не сделавшее ничего для коренного населения, держалось террором и репрессиями, а конец был достоин начала. И расстрел бывших руководителей был лишь каплей в потоках крови, затопившей Алушту, где уходящий режим справил свою тризну.[406]
НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ
Крым был полностью взят немцами к 1 мая 1918 г. На полуострове установился режим, более всего напоминавший колониальный. В очередной раз местному населению было предложено сдать оружие, в том числе и холодное, за неисполнение грозил расстрел. И это была не пустая угроза — уже 25 мая были казнены татарин Д.Д. Дженаев и украинец А. Савенко — здесь царило полное "равноправие". Несмотря на начавшиеся преследования "туземного" населения (официальный термин германских приказов), часть многонациональной (русской, татарской, армянской) буржуазии стала сотрудничать с немцами. Согласился было стать премьером нового правительства Д. Сейдамет, но, когда нетатарские коллаборационисты (кадеты, эсеры, земцы) потребовали власти только для себя, отказавшись от участия в коалиционном кабинете, его кандидатура была снята. Немцы поручили тогда сформировать правительство бывшему царскому генералу М.А. Сулькевичу. Тот быстро согласился и составил кабинет, в котором кроме Д. Сейдамета были русские (например, граф Татищев, князь С. Горчаков), немец-колонист П. Рапп, армянин и еврей.
Одним из своих первых постановлений кабинет Сулькевича вновь лишил татарскую бедноту занятой было ею земли, вернув участки старым хозяевам. Были запрещены политические партии, организации, а также работа вновь собравшегося Курултая. Вернувшиеся при немцах русские помещики шли на любые меры для замены неудобного для них татарского крестьянина бессловесной наемной силой: после весенних волнений они начали опасаться социального взрыва в будущем. Новая власть процессу вымывания татар из села не препятствовала, вообще занимаясь чем угодно, кроме национальной проблемы.
Но и в тяжелейшую пору немецкой оккупации нашлись люди, которые по-прежнему болели бедами своего народа. Это были члены сильно пострадавшей, но сохранившей активность и энергию партии Милли-Фирка. Ее орган "Крым" бесстрашно разоблачал антитатарскую помещичью политику, бил тревогу по каждому случаю, когда "изгоняются с насиженных мест целые деревни крестьян-татар" только за то, что[407] ранее "по требованию большевиков они должны были... засеять землю" бежавших помещиков; газета требовала остановить "поход против татарского деревенского люда" (Крым, 1918, №19)[111].
Требования эти были тщетными. Правительству было не до татар: оно боролось в эту пору с планами Киева присоединить Крым к Украине. Впрочем, план этот лишь внешне принадлежал украинским националистам, идея его была немецкой, судя по тому, что навязывали его крымскому правительству именно оккупанты. Им было бы легче опираться на юге России на единое государственное образование, возглавляемое Радой, целиком им послушной (Бочагов А.К., 1932, 46). Среди крымской общественности, осенью 1918 г. открыто выступившей против идеи новой, украинской аннексии Крыма, наиболее активно выступали Милли-Фирка и члены Курултая, считавшие, что после распада империи у Крыма единственный способ сохранить интересы населения — это "сделать такой же политический шаг, какой сделали Финляндия и Украина", т. е. добиться свободного, независимого пути развития (Крым, 1918, №1). Ту же платформу было вынуждено занять и правительство. Но германское командование и на этот раз показало, кто в Крыму хозяин, заявив, что никогда не признает самостоятельное крымское государство со всеми вытекающими из этого последствиями (Бунегин М.Ф., 1927, 183).
Общую картину политического господства оккупантов дополняло и социально-экономическое бесправие крымчан. С первых дней захвата Крыма начался его беспримерный грабеж, чего не знали даже германские колонии. На запад уходили поезда, груженные уникальной мебелью и картинами из императорских дворцов и яхт, аристократических вилл и замков Южнобережья. В Берлин отправлялось демонтированное портовое и заводское имущество. Крупными операциями такого рода командовал немецкий губернатор Кош; без каких-либо команд огромные массы продуктовых посылок отправляли солдаты; специально для этого повсеместно возникли почтовые отделения, на которых красовались орел к готическая надпись: "Deutsche Reichpost" (Винавер М.М., 1928, 2).
Это организованное выкачивание крымского до[408]стояния было столь эффективным, что уже летом начался голод; хлебный паек опустился до нормы 200 г для взрослого и 100 г для ребенка. Протесты правительства против вывоза натолкнулись на декларацию Коша: если протесты не прекратятся, то Крым присоединят к Украине без согласия кабинета, который тут же распустят. Больше протестов генерал не слышал...
Сулькевич стремился, нужно отдать ему должное, к демократическим переменам. Не удовлетворенный позицией своих коллег по кабинету, по сути назначенных немцами, он восстановил выборные земства и издал распоряжение о созыве 20 декабря 1918 г. краевого парламента на основе всеобщего избирательного права. Однако решения эти запоздали — истекали последние дни пребывания в Крыму немцев, а премьера — у власти.
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Перед самым уходом воинских частей проигравшей войну Германии ввиду приближавшихся к Крыму войск Англии, Франции и Добрармии малопопулярное правительство Сулькевича пало (16 ноября 1918 г.). Земские собрания, съезд городских деятелей и татарское совещание пришли к единому решению — передать дело образования новой власти в руки кадетской и социалистической партий. Одновременно часть членов Курултая выступила за проведение назревших революционных преобразований мирным путем, сверху. Левое же крыло парламента самостоятельно, без всякого нажима из центра, образовало первую татарскую ячейку большевиков, имевшую собственную программу, далекую, естественно, от идеи бескровного развития революции.
Новое правительство было между тем создано земцами. Во главе его стал агроном, бывший думец Соломон Самойлович Крым, ярый противник независимости, автономии края. Очевидно, именно поэтому он составил кабинет, где не было ни одного татарина. Более того, из аппарата были изгнаны оставшиеся в наследство от Сулькевича два рядовых функционера — за то, что они татары (Винавер М.М., 1928, 82), Это был кабинет, нацеленный на восстановление[409] единой русской государственной власти" и полное подчинение ей Крыма. Правительство выступило в ожидании "лучших времен" против любых социальных реформ, в том числе и против передачи земли крестьянам. Оставались в силе вообще все законы бывшего Временного правительства России. По соглашению с новым кабинетом для охраны этого порядка в Крым должны были войти и части Добрармии. Флот Антанты приглашен не был, но, когда он все же явился, его приветствовали[112]. С.С. Крым увидел в союзниках еще одну опору своему правительству.
Впрочем, "опорой" считать Антанту он мог с оговоркой. Практически кабинет не правил, т. е. не пользовался всей полнотой власти, ни одного дня. Первое, с чего начали союзники, — это демонтаж и вывоз германских военных сооружений и техники. Вообще союзники делали все, что им указывало их командование, так же поступала и Добрармия. Последняя особенно отличалась своей "независимостью" от штатского кабинета — офицеры ее нередко расстреливали арестованных, хотя правительство об этом ничего не знало. Так были казнены подпольщики у Семи Колодезей, а в Симферополе — весь состав правления Союза металлистов, только-только выпущенный С. Крымом из-под стражи.
Союзники отличались на другом поприще. Они возобновили прерванное с уходом немцев ограбление Крыма. Но если германские власти и солдаты основное внимание уделяли продовольствию, изымая его организованно, то новые защитники Крыма опустились до мелкого грабежа. Впрочем, их можно понять: крупные запасы зерна, вещевые склады и т. п. были давно опустошены кайзеровской армией. Поэтому англичане и французы кинулись добирать, что можно, у частных лиц в городах и особенно в глубинке, в беззащитной татарской деревне. И тут они не брезгали ничем, отбирая наличные деньги, пачки табаку, татарский скот, штаны, кольца, галоши, посуду, обувь и т. д. — полный список награбленного можно прочесть, например, в жалобе татар из дер. Джепар-Берды (Бунегин М.Ф., 1927, 205). Иногда, впрочем, жертвам платили: эфемерное правительство выпускало не менее эфемерные дензнаки, на одной стороне которых была карта Крыма, на другой — двуглавый орел (!). И все эти грабежи свершались с ведома и[410] согласия правительства, чей орган призывал не осуждать, а "благословлять" их как составную часть борьбы и "твердость в стремлении к единой России" (ТГ, 1919, №38).
Но это не спасало кабинет С. Крыма от обвинения в "излишней демократичности" — так выразился Деникин, узнав о протесте правительства против насильственной мобилизации. Впрочем, командующий несколько сгустил краски, указывая в феврале 1919 г., что его армия находилась в "невыносимых условиях безудержного развития внутри Крыма большевизма, поощряемого преступным попустительством Крымского правительства" (Винавер М.М., 1928, 208). С. Крым и его коллеги таких упреков не заслужили; другое дело, что подпольное движение действительно нередко велось почти целиком большевистскими группами; но мобилизация была сорвана самим населением. Оно упорно сохраняло отвращение к гражданской войне, не желая становиться ни на одну из сторон. Схожую позицию занимали и партии меньшевиков, кадетов и эсеров (ТГ, 1919, №38), поэтому обвинять в срыве мобилизации в Крыму только большевиков — несправедливо...
Вообще правительство С. Крыма, хотя и не было инициатором репрессий (вновь широко применявшихся, теперь уже антибольшевистскими силами), не пользовалось среди народа популярностью. Ни татары, ни другие сторонники демократии не могли примириться с властью, чей первый лозунг был "Долой татарское национальное самоуправление, долой двоевластие!".
С. Крыма поддерживало небольшое число наиболее реакционных мулл и мурзаков-монархистов, но Курултай в целом, не говоря уже о Милли-Фирке, стал в своей борьбе за интересы коренного населения в оппозицию к правительству. Миллифирковцы даже разработали антиправительственный программный документ "Положение о культурно-национальной автономии мусульман Крыма", резко расходившийся и с централизаторской, русификаторской политикой премьера, и с панисламистскими иллюзиями части татарской интеллигенции и духовенства. "Эпоха протекторатов закончилась, протекторат несовершенен и шовинистичен", — считали они, открыто становясь на прогрессивную платформу К. Ататюрка,[411] главы единственного тогда дружеского Советской России государства.
Весьма показательным было отношение Милли-Фирки в этот период к Советской власти. Партия признавала целесообразность восстановления Советов, но не форсированного движения к торжеству коммунизма. Советская власть признавалась оптимальной альтернативой развития в будущем, но лишь "как власть, представляющая право свободного самоопределения народов", как проводник социальных реформ, в том числе и земельной, в татарской деревне.
К сожалению, миллифирковцы не смогли провидеть дальнейшего развития "национального вопроса" в теории и практике большевиков грядущих лет. Впрочем, вряд ли их стоит упрекать в этом: тогда многие считали неудачным лишь первый опыт, верили в совершенствование Советской власти, не догадываясь, что она имманентно чревата террором. И миллифирковцы шли в народ, призывая бороться за Советскую власть.
Работа эта была чрезвычайно трудной и неблагодарной. С одной стороны, их ждала верная смерть в случае разоблачения добрармейской контрразведкой, с другой — непонимание масс, так как в прошлом "татарский крестьянин не получил от Советской власти того, что он по праву от нее ожидал" (Бунегин М.Ф., 1927, 226). Парадоксальный факт — работа миллифирковцев в деревне осложнялась и тем, что от нее самоустранилась группа татар-большевиков: РСДРП(б) Крыма традиционно игнорировала татарского крестьянина, его интересы.
Неожиданно деревней заинтересовались другие организации, причем вполне официальные. С. Крым был вынужден пойти на некоторое расширение правящего и законодательного аппарата, при нем образовались более демократичные органы — Директория и Меджлис-мебусан (парламент). Со временем они стали все более заметно отражать интересы широких масс, в том числе татар, несмотря на то что кабинет С. Крыма и командование Добрармии, каждый по отдельности, старались всячески ограничить возможности этих выборных институтов. Удары наносились как непосредственно по Директории (в январе 1919 г. ее даже лишили помещения), так и по татар[412]ской массе. Татар правительство вообще рассматривало как низкую "нацию прирожденных оппозиционеров", доходя в нажиме на них до прямых акций общенационального притеснения — в дни христианских праздников, например, все татарские предприятия насильственно закрывались и т. д.
Наконец, 23 февраля 1919 г., накануне заседания татарского парламента, отряд белогвардейских офицеров совершил налет на Директорию и конфисковал всю документацию, затем были арестованы активисты Милли-Фирки, разгромлена редакция газеты "Миллет". Это был сигнал — на местах тут же начались повальные обыски, аресты и расстрелы татар, заподозренных в "национализме", конечно, без всякого суда и следствия. Поэтому вполне естественными были крайнее ожесточение и начавшееся вооруженное сопротивление населения как Добрармии, так и кооперировавшемуся с нею кадетскому правительству. Часть членов Директории и парламента ушла в подполье, чтобы обрести в глазах народа ореол мучеников за дело татар. В эти дни разгула реакции даже правительственный орган признавал: "Жутко, очень жутко видеть способы, которыми в Крыму насаждаются порядок и спокойствие. Роль татарского населения стараются свести к нулю" (Крым, 1919, №12).
Как не раз бывало в периоды неприкрытого геноцида, вскоре происходит слияние различных политических сил во имя национального освобождения: в списках кандидатов Милли-Фирки на готовившиеся выборы в центральные руководящие органы мы встречаем имена скрывавшихся пока большевиков, в том числе Вели Ибраимова. "Левело" и правительство — чем ближе части Красной Армии подходили к Крыму, тем дальше от добрармейских "принципов" отходил кабинет С. Крыма; речь могла идти уже о полной утрате былой солидарности между ним и Деникиным.
Когда же большевики взяли Джанкой, то 10 апреля 1919 г. правительство С. Крыма в полном составе погрузилось на греческий корабль "Трапезунд". За будущность свою беглый премьер мог не опасаться — он прихватил с собой ценных бумаг и золота на 10 млн. руб. Тем большим было его разочарование, когда союзники отказались доставить его на берега Босфор[413], пока он не сдаст краденое. Пришлось согласиться...
Так закончился еще один эпизод борьбы, которая велась в Крыму не его населением и не ради этого населения, — борьбы, основная тяжесть которой снова легла на татарского крестьянина, хотя спорили за обладание Крымом великие державы. В очередной, но не в последний раз.
"ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ" СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Ревком Симферополя, состоящий в основном из большевиков, взял фактическую власть 9 апреля 1919 г., еще до полного освобождения Крыма. По мере продвижения Красной Армии в остальных городах шел шаблонный процесс — люди в шинелях назначали ревкомы и распускали выборные земские управы и городские думы. Наконец, 6 мая Крым вторично был объявлен Советской социалистической республикой. В правительство вошли и три татарина — С. Идрисов, С. Меметов и И. Арабский. Тем не менее татарская деревня уже в первые недели новой власти могла готовиться к повторению пройденного: ее постиг очередной жестокий удар сверху — возобновились "контрибуции".
Те жалкие крохи имущества и продовольствия, что уцелели от немецких, антантовских и белогвардейских грабителей, теперь дочиста выметались Советами. И, как ни странно, тоже на "законном" основании "обезоруживания кулака, освобождения бедноты из-под кулацкого экономического засилья" (Бунегин М.Ф., 1927, 254). Бедная татарская деревня сама не понимала своей пользы, когда стоном стонала весной 1919 г. Ведь если представить себе крымскую деревню некими весами с двумя полярными чашами, кулацкой и бедняцкой (именно таким был "социальный" подход), то, снимая все дочиста с полупустой чаши, власти ничего не клали в просто пустую — так элементарно достигалась социальная справедливость. Самого простого не предусмотрели власти — того, что, разоряя "кулака", т. е. зажиточного соседа бедных крестьян, она пускала по миру и последних, которым негде было теперь и семян-то одолжить...[113][414] Начался беспримерный рост поборов с села — уже общего плана. Вначале на крымского крестьянина взвалили лишний миллион налога, затем сумма "контрибуций" выросла с 5 до 12 млн руб. Естественно, подобные самоубийственные для экономики решения принимались где-то наверху, но симферопольские большевики рьяно проводили их в жизнь, железной рукой борясь с попытками скрыть семенной хлеб. Мужества выступить против политики, явно ведшей к голоду и деревню и город, хватило лишь у меньшевиков, уже тогда видевших выход из кризиса не в подобном безоглядном подавлении способности деревни накормить всех, но в том, чтобы, наоборот, "поднять как производство, так и производительность труда" (Борьба, 1919, 40). Но это был глас вопиющего в пустыне. И если городские предприятия постепенно приступали к работе, то обескровленная "контрибуциями", загнанная в экономический тупик деревня была парализована.
В свете встречающихся в исторических трудах упоминаний о так называемых инициативах масс этого периода особенно поучительно выглядят приводимые в литературе случаи "добровольного" добавочного сбора хлеба крымским крестьянством. Сотни тысяч пудов зерна на уезд "добровольно" ссыпались на приемных пунктах в 1919 г. — и это на фоне полуфунтового хлебного пайка в условиях голода, который должен был прийти и пришел в Крым. После чего не приходится удивляться новой популярности эсеров, публиковавших не лживые доклады о поддержке селом экономической политики властей, но конкретно указывавших на первопричину разрухи и голода — "насильственная коммунизация, обирательство крестьян в виде налогов, насаждение назначенцев" (В., 1919, №35).
С другой стороны, не следует принимать эту критику за борьбу с большевизмом — тогда эсеры, чье руководство участвовало в работе ВЦИК, все еще ждали от власти радикальных перемен в аграрном и национальном вопросах, надеялись на них, считая, что "большевики есть основная сила, двигающая и созидающая Советскую власть", сторонниками которой они оставались (Б., 1919, №34). Эсеры лишь предупреждали большевиков о неизбежности крайне нежелательного взрыва недовольства, которое возника[415]ет "благодаря недальновидному хозяйничанью в деревне большевиков" (Б., 1919, 35). И это говорилось задолго до того, как В.И. Ленин признал причину поражения политики Советской власти к весне 1921 г. именно в том, что "наша хозяйственная политика в своих верхах оказалась оторванной от низов и не создала того подъема производительных сил, который в программе нашей партии признан основной и неотложной задачей" (Известия, 1989, №94).
Вполне дружественной большевикам по-прежнему была и позиция Милли-Фирки. С тревогой видя непрочность Советской власти как по внешним (близилась угроза деникинского вторжения), так и по внутрикрымским причинам, миллифирковцы тем не менее "стали серьезно и вполне искренне готовиться и готовить идущие за ними массы к новому строю на советских началах" (Тавр. коммунист, 1919, №15), одновременно выступая против незаконных арестов середняков, "вредивших" власти в татарской деревне.
А репрессии в те месяцы усилились непомерно. В обстановке тыла приближавшегося Южного фронта свирепствовала ЧК. Тюрем не хватало, и физически уничтожались многие заподозренные в простом сочувствии к разогнанной большевиками выборной власти, к эсерам, к крестьянам-повстанцам, скрывавшимся в лесах Главной гряды, к участникам крестьянской войны на соседней Украине. Как сообщал знаменитый "командарм-2" Скачко, в то время как повстанцы "проливали кровь" в различных некоммунистических отрядах, боровшихся против Деникина, Петлюры, Шкуро, Григорьева и т. п., "мелкие местные чрезвычайки" преследовали их и их родственников на обратной стороне фронта и в тылу. Подобная "работа местных чрезвычаек определенно проваливает фронт и сводит на нет все успехи, создавая такую контрреволюцию, какой ни Деникин, ни Краснов никогда создать не могли" (цит. по: Голованов В., 1989).
ДЕНИКИНЩИНА
Красная Армия не могла сдержать нового наступления Добрармии[114]. 1 июля 1919 г. Крым был занят корпусом генерала Добровольского. И уже через два дня командование определило цель своей политики[416] в Крыму — он должен был остаться российским без всяких автономий, а "самостоятельному краевому правительству не может быть места" (Тавр. день, 1919, №5). Во главе новой власти был поставлен губернатор, распоряжения всех предыдущих правительств отменялись.
Таким образом, второй период всевластия Добрармии если и отличался от первого, то лишь в ликвидации последних остатков демократии и национального равноправия, торжественно провозглашенных в феврале 1917 г. Земля вновь закреплялась за помещиками, возобновились и открытый грабеж татарской деревни, репрессии, карательные походы. Причем подобные акции приняли настолько гомерический масштаб, что даже деникинский официоз признавал противность их человеческому разуму, весьма мягко именуя репрессии "прискорбными явлениями, отнюдь не характерными для Добровольческой армии" (Тавр. день, 1919, №4).
Началось с отказа татарских крестьян платить помещику до1/5 от урожая. И каратели двинулись в Ак-мечетскую, Карачинскую, Унанскую волости. Первый массовый расстрел татарской бедноты состоялся в дер. Акумане, потом они стали привычными, как и порка в качестве опять-таки "вынужденной" экзекуции (ТГ, 1919, №7). Когда же деревня была усмирена, на нее возложили все поборы натурой, которые отличались от "контрибуции" советского периода отнюдь не размерами, но лишь названием. Впрочем, для татарского уха новый термин "реквизиция" звучал той же музыкой, что и прежний.
Реквизиции подлежали скот, хлеб, подводы. Собрать все это было для большинства крестьян крайне трудно, а для массы арендаторов попросту невозможно, ведь арендная плата поднялась к этому времени до 1,5 тыс. руб. с десятины (ТГ, 1919, №113). Очередным ударом по экономике татарской деревни стал и приказ Деникина о мобилизации, согласно которому деревню должна была покинуть вся трудоспособная часть сельского населения.
Вначале, запуганные расстрелами, татарские "добровольцы" послушно являлись на сборные пункты. Но когда стало ясно, что за первой мобилизацией следуют дополнительные, а семьи их остаются вообще без мужских рук, началось повальное дезертирство, а[417] призывники стали массами уходить в горы и леса, иногда уводя с собой и семьи и скот. Деникинцы стали прочесывать леса, пытаясь хоть таким способом пополнить свои ряды. Первая крупная облава с этой целью была проведена в ноябре 1919 г. в районе южнобережных деревень Туак, Ускут и др., но окончилась провалом, часть карателей при этом была татарами разоружена. В январе 1920 г. сопротивление вступает в новую фазу — начинается ликвидация деникинских усмирителей; так, при мобилизации татар дер. Капсихор все солдаты и офицеры были уничтожены. И уже в этом месяце отмечено образование первых организованных и хорошо вооруженных отрядов "зеленых" из числа жителей горных и прибрежных деревень.
Следует отметить, что движение это было полностью стихийным. Подполье, для которого уходившая из Крыма большевистская администрация оставила "очень много средств и техники", оказалось не только неспособным возглавить партизанское движение, но и само "разваливалось изнутри". Причины этого развала ныне определить нелегко; единственное объяснение находим в старой, еще довоенной работе П. Надинского: "Ряды подпольщиков были наводнены провокаторами, шпионами и авантюристами" (1938, 80). Удовлетворимся этим туманным толкованием, невольно заставляющим вспомнить старую истину: "Каков поп — таков и приход", естественно, в применении исключительно к крымскому руководству РСДРП(б)...
"Зеленых" становилось все больше. Наконец, на это движение, сильное поддержкой местного, татарского населения, обратил серьезное внимание Деникин. Началась охота за людьми, в том числе из мирных крестьян, связанных с партизанами. Так, в январе 1920 г. в Ялте состоялся публичный суд над Мустафой Амзаном за то, что он помогал "зеленым", снабжал их продовольствием и служил им проводником. Однако это один из последних случаев расправы, более или менее оправданной "законом". В дальнейшем этот антураж был отброшен.
Не в силах уничтожить отряды партизан, укрывавшихся в лесах и наносивших оттуда внезапные удары, каратели обрушились на мирных жителей татарских сел. Приходя в деревню, они устраивали[418] скорый суд и тут же чинили расправу. Особенно отличался отряд офицера из бывших помещиков Шнейдера, оставлявший после рейдов по татарским селам сотни поротых, повешенных, изнасилованных.
Даже эмигранты, сочувственно относившиеся к белому движению, с ужасом и отвращением вспоминают о кровавой вакханалии, разыгравшейся в Крыму при Деникине, солдаты которого, "сохраняя внешнюю дисциплину, в действительности являлись разнузданными кондотьерами, развращенными грабежами и насилиями до последних пределов. Это не были энтузиасты времен Корнилова, Маркова, Алексеева, Каледина, беззаветно шедшие за своими вождями. Это были скорее преторианцы, склонные в любой момент выступить против своих руководителей. Пьянство, разгул, грабежи, насилия и, что особенно угнетало население, бессудные расстрелы и своеобразие мобилизации, выражавшееся в том, что добровольцы хватали на улицах всех мужчин и тащили к себе в полки, — вот атрибуты, с которыми прибыл в Крым Добровольческий корпус" (Раковский Г., 1921, 8).
Весьма точно характеризовал деникинское воинство и адмирал Врангель — это была "армия, воспитанная на произволе, грабежах и пьянстве, ведомая начальниками, примером своим разрушающими войска..." (цит. по: Бунегин М.Ф., 1927, 299).
ВРАНГЕЛЬ
Критиковавший режим Деникина Врангель сменил его в Крыму в конце марта 1920 г. Адмирал хотел создать на полуострове образцовое государство, своего рода "опытную ферму", образовать "государственное ядро, которое будет развиваться и притягивать к себе другие области", где ненавидят большевиков (Раковский Г., 1921, 32). Вместе со своим министром иностранных дел Струве он призывал к образованию демократического федеративного государства, отказавшись от всех "великодержавных затей", хотя ввел в свое правительство не только эсеров, но и монархистов, стремясь сделать его плюралистическим (это сказалось даже на переименовании в апреле 1920 г. Добровольческой армии в Народную).[419] Далее был санкционирован ряд процессов над офицерами, замеченными в обирании и прямых грабежах местного населения; нередко на скамью подсудимых садились и полковники (ТГ, 1920, №14); для борьбы с мародерством в рядах армии были созданы особые комиссии. Затем была объявлена полная амнистия политическим противникам, в том числе и тем, кто ранее находился в Красной Армии.
Для того чтобы привлечь местное население в свое войско, Врангель увеличил ставки рядовых до 800 руб. в месяц[115]. Общая либерализация внутренней политики врангелевского режима выразилась в свободе профсоюзного движения — в руководство новообразованными крымскими профсоюзами смогли войти даже меньшевики (Бунегин М.Ф., 1927, 302). Подобные акции поначалу привлекали к новому правительству симпатии трудящегося населения, как и резкое уменьшение безработицы: в связи с прекращением экономических связей с Россией при Врангеле получила развитие местная производящая товары широкого потребления промышленность — мыловаренная, сахарная, кожевенная, текстильная, электротехническая; из-за рубежа (в основном из Англии) стали ввозить инструменты, мануфактуру, горючее, топливо (КМ, 1920, №166). Возобновили работу банки, выдававшие ссуды предпринимателям города и сельским хозяевам.
Но гораздо важнее для села был Закон о земле, опубликованный в конце мая 1920 г. Согласно этому акту, которого уже три послереволюционных года тщетно ожидало крымское крестьянство, земля отчуждалась у крупных землевладельцев и передавалась трудившемуся на ней населению "в вечную наследственную собственность". Сюда же относились все угодья казны, Государственного земельного банка, а также пустошные и не обрабатывавшиеся их владельцами или сдаваемые ими в аренду земли (Усов С.А., 1925, 146 — 147). Единственным условием для получения надела была принадлежность к крестьянскому сословию — с тем чтобы участок не переходил к "чужому земле человеку". Мера вполне оправданная — это был заслон от спекулянтов, от которых уже полтора века страдал крымский земельный фонд.
За выделяемые правительством участки предла[420]галось платить выкуп, впрочем относительно невысокий, не превышавший размер аренды (т. е.1/5 урожая), а то и меньший ее, на протяжении 25 лет. Часть выкупа должна была идти бывшим землевладельцам, но своих прав на нее они лишались немедленно. Вполне терпимым этот выкуп был и потому, что крестьяне могли расширить производство до масштаба, представлявшегося им оптимальным, что должно было увеличить производительность труда по сравнению с прошлым, когда большинство имело (или арендовало) нищенские клочки земли.
Газета "Крестьянский путь" справедливо отмечала в августе 1920 г. выгодность новых положений для крымского крестьянства, ведь они гарантировали всем, в том числе и беднейшему татарскому населению,4/5 урожая, полную свободу выбора сельхозкультур и, что не менее важно, свободу от продразверстки, реквизиций, возвращения помещиков и т. д. Тем не менее Законом о земле воспользовалась лишь часть населения, а именно зажиточные крестьяне — русские и немецкие фермеры. Татарское крестьянство не решилось им последовать по ряду причин. Во-первых, передавая крестьянам землю, власти откладывали оформление законных купчих до момента полного погашения земельного выкупа. Далее, обнищавшее большинство населения татарских деревень, испытавшее за последние четыре года смену восьми различных властей, каждая из которых приходила со своими законами, не верило в прочность врангелевского правительства, смотрело в будущее с оправданным пессимизмом. Никто из них не торопился вкладывать труд и средства в землю еще по одной причине — "все равно, мол, большевики придут" (Бунегин М.Ф., 1927, 296), а с ними — и продразверстка, и прочие атрибуты "военного коммунизма".
Экономическому пессимизму и бездеятельности татар не могла помочь и новая национальная политика, хотя объективно она была направлена на поддержку интересов коренного населения. Еще в мае 1920 г. в Симферополе впервые после разгона Деникиным татарской национальной Директории был собран съезд татарских представителей. Его целью была разработка принципов самоуправления края, решения проблем вакуфов и национального просвещения. Работа съезда завершилась образованием[421] Мусульманского совета по выборам в аппарат будущего самоуправления, а также постановлениями о развитии национальных культуры и экономики. Осенью проект центрального органа самоуправления — Мусульманского совета по татарским делам — был утвержден Врангелем, однако деятельность его до прихода Красной Армии так и не развернулась.
Следует заметить, что и Врангель, очевидно, утверждал Положение о мусульманском самоуправлении, так сказать, вынужденно, боясь восстановить против своего правительства большинство населения Крыма. Он не мог всерьез думать об улучшении положения татарского крестьянства уже потому, что целиком полагался в своей земельной политике на советы своего премьер-министра Кривошеина — бывшего помощника и единомышленника Столыпина. Не без участия последнего адмиралом был подготовлен приказ, согласно которому имущество и земля не только дезертиров (или бежавших в горы призывников), но и их ближайших родственников подлежали конфискации. Приказ этот, фактически перечеркнувший Закон о земле, стал причиной новых карательных акций, прямого грабежа населения, чудовищных насилий над ним. Не будем перечислять кровавых подробностей походов "усмирителей", прислушаемся лишь к свидетельству современника их: "Обстановка исполнения этого приказа была так ужасна, что некоторые офицеры отказывались ехать... а генерал Зеленин... после первой же командировки в качестве начальника карательного отряда поспешил уйти в отставку, чтобы не видеть этих ужасов" (Раковский Г., 1921, 83).
Результатом этих акций стало вновь вспыхнувшее партизанское движение "зеленых" и "красно-зеленых", число которых достигло 10 тыс. Как и при Деникине, это были беглые призывники, дезертиры, крестьяне, уклонившиеся от уплаты налогов. Возросшая мощь "зеленых" позволила им нападать не только на мелкие заставы белых, но и на города. Благодаря сочувствию татарских масс села они "были неуловимы... Население, конечно, их кормило, сообщало все сведения и, если нужно, укрывало, а укрытий в горах было достаточно" (Слащев Я., 1924, 130 — 131). Торное татарское население, враждебно относившееся к врангелевцам, оказывало зеленоар[422]мейцам мощную поддержку, тем более что мусульманские нравы исключали возможность выдачи лиц, находивших у них убежище" (Раковский Г., 1921, 150). Особенно результативными стали их походы осенью 1920 г., когда движение возглавил профессиональный военный, капитан П. Макаров, бывший "адъютант его превосходительства" Май-Маевского. Большую роль в руководстве народным движением на нескольких этапах его развития сыграл татарский лидер Баба-хан. Позднее руководящую роль в большей части движения против Врангеля захватила прибывшая из Советской России так называемая группа А.В. Мокроусова.
Советские исследователи подчеркивают, что в массовом движении "зеленых" Крыма основную роль играли татары (Бунегин М.Ф., 1927, 317), отдельные отряды состояли целиком из них. Например, таким был Карасубазарский отряд, созданный населением деревень Топлы, Курт, Камышлов, Еленовка. И здесь напрашивается весьма примечательный вывод — чехарда правительств в течение послереволюционных лет, репрессии менявшихся властей привели к совершенно неожиданному результату. За оружие впервые после аннексии Крыма взялась самая мирная и безобидная часть населения полуострова — татары, причем не под влиянием агитации какой-либо партии[116], но совершенно стихийно, самостоятельно. Мы не можем здесь объяснить этот уникальный феномен, который конечно же заслуживает специального исследования.
Конец власти Врангеля в Крыму хорошо известен. Набрав почти четырехкратное превосходство в воинской силе, большевистские армии 12 ноября 1920 г. смогли прорвать оборону на Перекопе и ворвались в Крым. Началась эвакуация через портовые города. При этом уходили не только вооруженные противники Советской власти, но и все, кто помнил о былых ее репрессиях, опасался их возобновления (и не без оснований, добавим, несколько забегая вперед). Поэтому, например, на Севастополь в эти дни "в 4 ряда по шоссе непрерывной вереницей неслись повозки тыловых частей, обозов и мирных жителей" (Смоленский С., 1921, 14). В числе этих штатских людей были не только "буржуи" — паника перед наступавшей Красной Армией была всеобщей. Это было по[423]истине массовое бегство, в котором участвовали даже больные. "Больные и раненые шли пешком к вокзалам. Цепляясь за стены, шатаясь от слабости, шли тифозные. Калеки ползли по земле, умоляя Христом Богом помочь им выбраться..." (Раковский Г., 1921, 83-184).
Несмотря на то что за море отправилось около 170 тыс. русских людей, в Крыму осталась большая часть солдат и офицеров, которым не хватило места на 120 участвовавших в эвакуации судах (Смоленский С., 1921, 214). Многие из них ушли в горы, кое-кто осел в степных деревнях, ожидая решения своей судьбы от новой власти. С тревогой ожидало новую власть и коренное население Крыма. Насчет политики Советов в России носились самые противоречивые слухи. Говорили о новых веяниях среди лидеров большевизма, об их намерении вести общество к большей, чем ранее, демократии в "освобожденных" областях, о новой земельной политике и т. д. Слухам этим и верили и не верили...
Через 10 дней после прихода в Крым Красной Армии ситуация прояснилась. В.И. Ленин, выступая в Москве 26 ноября, заявил: "Сейчас в Крыму 300 000 буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим"[117].
Таким образом, сомнениям пришел конец. Безусловно, вождь мирового пролетариата имел в виду и остатки не успевшей эмигрировать российской буржуазии и белой армии (60 000 человек). Но, судя по названной цифре, прежде всего местное население: 240 000 только крымских "шпионов и спекулянтов" (а вместе с семьями — около миллиона человек)[118], т. е. практически все крымчане, треть из которых составляли татары[119], могли готовиться к новым испытаниям с последующим "перевариванием".
В истории коренного крымского населения открывалась последняя, самая трагическая ее страница.[424]
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Б — "Борьба", газета
БСЭ — Большая Советская Энциклопедия
ВДИ — "Вестник древней истории"
ГТ — "Голос татар", газета
ДТ — "Дорогой тысячелетий", очерки
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК — Известия Археографической комиссии
ИГАИМК — Известия Гос. академии истории материальной культуры
К — "Крым", газета
KB — "Крымский вестник", газета
ЛОИИ — Архив Ленинградского отделения Института истории СССР
МН — "Московские новости", газета
МЭ — К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е издание
ИТАК — Известия Таврической археографической комиссии
НВ — "Новое время", газета
НТ — "Новороссийский телеграф", газета
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
Р — "Радуга", журнал
РВ — "Русский вестник", журнал
РПП — "Россия, Польша, Причерноморье в XV-XVIII вв. ", сборник
СА — "Советская археология", журнал
СЛ — "Севастопольский листок", газета
Т — "Таврида", газета
ТГ — "Таврический голос", газета
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЮК — "Южный курьер", газета[436]
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
А. У. О заселении Крыма новыми поселенцами // РВ. 1866. Т. 63. Май.
Абаев В.И. Скифо-европейские изоглосы. М., 1965.
Аверинцев В.В. На границе цивилизаций и эпох: вклад восточных окраин римско-византийского мира в подготовку духовной культуры европейского средневековья // Восток — Запад. Вып. II. М., 1985.
Алекберли М. Борьба украинского народа против турецко-татарской агрессии во второй половине XIV — первой половине XVIII в. Саратов, 1961.
Алексеев В.М. Наука о Востоке. М., 1982.
Алексеева Т.Н., Алексеев В.П. Этногенез славянских народов по данным антропологии // История, культура, этнография и формирование славянских народов. М., 1973.
Аммиан Марцеллин. История. Т. III. Киев, 1908.
Апанович ОМ. Запоризська Січ у боротьбї проти турецько-татарскої агресії: 50 — 70 роки XVII ст. Київ, 1961. Арриан. Перипл Понта Эвксинского. Т. I. СПб., 1893.
Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962.
Архив Государственного совета. Т. I. СПб., 1969.
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. 6. М., 1939.
Бадер О.Н. Некоторые памятники палеолита и мезолита в восточной части горного Крыма // История и археология древнего Крыма. Киев, 1957.
Бантыш-Каменский Н.Н. Реестр делам Крымского двора с 1474 по 1779 г. Симферополь, 1893.
Барбаро И. Путешествие в Тану // Барбаро и Кантарини. Л., 1971.
Бархатная и родословная книга князей и дворян. Т. 2. М., 1797.
Бахрушин С. Основные моменты истории Крымского ханства // История в школе. 1936. №3.
Беликов Д. Христианство у готов. Казань, 1887.
Бережков М. План завоевания Крыма, составленный Юрием Крижаничем // ЖМНП. 1891. Октябрь.
Бернштам А.Н. О деревянных постройках Крыма (Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931-1933 гг.) // ИГАИМК. М.; Л., 1935. Вып. 117.
Бертъе-Делагард А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде // ИТАК. 1920. Вып. 57.
Бестужев И.В. Крымская война. М., 1956.
Блаватский В.Д. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1954. Блуменфельд Г.Ф. Крымско-татарское землевладение. Одесса, 1888.
Б-н И. Крым // Библиотека для чтения. 1856. Т. 135. Январь.[437]
Бобин В.В. Черты сходства культур древнего населения Крыма и Северного Кавказа времен перехода от бронзы к железу // История и археология древнего Крыма. Киев, 1957.
Богаевский Б.Л. Орудия производства и домашние животные Триполья. Л., 1937.
Богословский М.М. Петр I: Материалы для биографии. Т. I. М., 1940.
Боплан Г. Описание Украины // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Киев, 1896. Вып. 2.
Бочагов А.К. Милли-Фирка. Симферополь, 1932.
Бочкарев В.Н. История России XIX ст. М., 1912.
Браун Ф.А. Разыскания в области гото-славянских отношений. СПб., 1899.
Он же. Мариупольские греки // Живая старина. 1890. Вып. II.
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
Броневский Мартин. Описание Крыма // ЗООИД. 1863. Т. V.
Бунегин М.Ф. Революция и гражданская война в Крыму. Б. м., 1927.
Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882.
Васильев А.А. Готы в Крыму // ИГАИМК. 1921. Т. I.
Васильев Б. Люби Россию в непогоду... // Известия. 1989. 17 — 19 января.
Вдовиченко И.И., Колтухов С.Г. Древние укрепления Северного Крыма // СА. 1986.
Веймарн Е.В., Стржелецкий С.Ф. К вопросу о славянах в Крыму // ВИ. 1952. №4.
Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.
Возгрин В.Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны (история дипломатических отношений в 1697 — 1710 гг.). Л., 1986.
Он же. Дипломатические связи Швеции и Крыма накануне и после Полтавы // Скандинавский сборник. 1985. Т. 29.
Он же. Материалы по истории шведско-крымских отношений в Архиве ЛОИИ // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. №9.
Волков М. Четыре года города Кафы // ЗООИД. 1872. Т. VIII.
Волошин М. Пути России. Париж, "Эхо", 1969.
Вольфсон Б. Присоединение Крыма к России в 1783 г. // Исторический журнал. 1941. №3.
Всемирная история. М., 1958. Т. IV.
Вспомогательные материалы по истории СССР. Л., 1939.
Высотская Т.Н. Скифские городища. Симферополь, 1975.
Габаев Г. Крымские татары под русскими знаменами // Журнал Военно-исторического общества. 1913. №3.
Гавен Ю. Возникновение Крымской организации РСДРП(б) // Революция в Крыму. 1923. №2.
Он же. Октябрь в Крыму // Революция в Крыму. 1922. №1.
Гайдукевич В.Ф. Боспор и скифы // Проблемы истории Причерноморья в античную эпоху. М., 1959.
Галактионов И.В. Россия и Польша перед лицом турецко-татарской агрессии в 1667 Г. // РПП. 1979.
Гаспринский И. Вымирание татар в Бахчисарае // Переводчик. 1889. №15.
Он же. Русское мусульманство. Симферополь, 1881.
Гейд В. История торговли Востока в средние века // ИТАК. 1915. №52.[438]
Гелис И. Симферополь в период первой революции (1905 г.) // Революция в Крыму. 1925. №1.
Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972.
Герцен А.И. Юрьев день! Юрьев день! // Собрание сочинений. М, 1957. Т. XII.
Голованов В. Батько Махно или "оборотень" гражданской войны? // Литературная газета. 1989. 8 февраля. Гольдберг М. Крым и крымские татары // Вестник Европы. 1883. Т. VI. №11.
Гордлевский В. Организация цехов у татар // Труды Этнографическо-археологического музея I МГУ. 1928. Вып. IV. Горев Л. Война 1853 — 1856 гг. и оборона Севастополя. М., 1955.
Горчакова Е. Воспоминания о Крыме. М., 1883 — 1884. Т. I — II.
Греков И.Б. К вопросу о характере политического сотрудничества Османской империи и Крымского ханства в Восточной Европе в XVI — XVII вв. (по данным Э. Челеби) // РПП. 1979.
Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950.
Грибанова Л.С. Политические взаимоотношения скифов и сарматов с полисами Северного Причерноморья в I — II вв. М., 1952.
Губенко Г.И. Крестьянское движение в Таврической губернии // Труды Крымского краеведческого музея. Симферополь, 1961.
Гумилев Л.Н. О людях, на нас не похожих // Советская культура. 1988. 15 октября.
Он же. Открытие Хазарии. М., 1966.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1871.
Демидов А. Путешествие в Южную Россию и Крым. М., 1853.
Дивин В.А., Казаков Н.И. Об освещении некоторых вопросов Крымской войны в литературе последних лет // ВИ. 1957. №2.
Доватур А.И., Каллистов Д.И., Шишова И.А. Народы нашей страны в "Истории" Геродота. Л., 1982.
Доклад императрице Екатерине II по вступлении ея на престол, изображающий систему крымских татар, их опасность для России и претензию на них // ИТАК. 1916. №53.
Домбровский О.И., Махнева О.А. Столица Феодоритов. Симферополь, 1973.
Домбровский О.И., Щепинский А.А. Археологические загадки Красных пещер. Симферополь, 1962.
Дорогой тысячелетий: Экскурсии по средневековому Крыму. Симферополь, 1966.
Дорожник Александра // ВДИ. 1949. №3.
Драчук В.С., Кара Я.Б., Челышев Ю.В. Керкинитида-Гёзлёв-Евпатория. Симферополь, 1977.
Драчук В.С., Kymaйcoв В.А. Исследование Керкинитиды // СА. 1985. №1.
Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775 — 1800 гг. М., 1959.
Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. Т. 1. СПб., 1900.
Он же. Присоединение Крыма к России в 1775 — 1780. СПб., 1885-1889. Т. I — IV.
Дубровский СМ. Столыпинская земельная реформа. М., 1963.
Елагин В.Л. Националистические иллюзии крымских татар // Революция в Крыму. 1924. №1 (3).
Еманов А.Г. Система торговых связей Кафы в XIII — XV вв.: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Л., 1986.[439]
Ерофеев И. Крым в малороссийской народной поэзии XVI — XVII вв., преимущественно в деревнях // ИТАК. 1907. №42.
Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе (ее история в XVI — XIX вв., критическая оценка и будущие задачи). М., 1896.
Жизнь Пишчевича, им самим описанная // ЧОИДР. 1885. Кн. 1, отд. 1; Кн. 2, отд. 1.
Жиров Е.В. Костяки из каменных ящиков Крыма // Сборник Музея антропологии и этнографии. 1949. Т. X.
Житие Иоанна Готского // Василевский В.Г. Труды. 1912. Т. II. Вып. 2.
Жития херсонесских мучеников // Василевский В.Г. Труды. 1912. Т.И. Вып. 2.
Жихарев С.П. Записки современника. Часть 2: Дневник чиновника. М.; Л., 1935.
Заборовский Л.В. Крымский вопрос во внешней политике России и Речи Посполитой в 40-50-х гг. XVII В. // РПП. 1979.
Загоровский Е.Л. Военная колонизация России при Потемкине. Одесса, 1913.
Записки А.И. Кошелева (1812-1883). Берлин, 1884.
Записки Д.Б. Мертваго (1760-1824). М., 1867.
Записки Мухаммеда Неджати-эфенди, турецкого пленного в России в 1771-1775 гг. // Русская старина. 1894. Т. 81. №3-5.
Заселение Крыма // КВ. 1890. №27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40.
Засыпкин Б.Н. Памятники архитектуры крымских татар // Крым (М.). 1929. №2 (4).
Зверев Б.И. Синопская победа. Симферополь, 1954.
Зубарь В.М., Павленко Ю.В. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси. Киев, 1988.
Иванов Е.Э. Херсонес Таврический // ИТАК. 1912. №46.
Из бумаг графа Н.И. Панина // Русский архив. 1978. Т. XII.
История агван Моисея Каганкатваци, писателя X в. СПб., 1861.
История Византии. М., 1967. Т. I — III.
История СССР с древнейших времен до наших дней. Первая серия. М., 1967. Т. 4.
Каллистов Д.И. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949.
Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1842. Т. VII.
Кандымов Ю. Курултай. Как это было. "Авдет", №№7 — 8, 1991.
Карасев А.Н. Раскопки Неаполя Скифского // КСИИМК. 1951. №37.
Карпов С.П. Работорговля в Северном Причерноморье первой половины XV в. // Византийский временник, 1986, т. 46.
Кеппен П. Крымский сборник (О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических). СПб., 1837.
Керкинитида — Гёзлёв — Евпатория. Симферополь, 1977.
Ким Г.Ф., Ашрафян К.З. Государство в традиционных обществах Востока: некоторые дискуссионные проблемы // Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987.
Клочка В.И., Мурзин В.Ю. О взаимодействии местных и привнесенных элементов скифской культуры // Скифы Северного Причерноморья. Киев, 1987.
Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986.
Колли Л.П. Хаджи-Гирей-хан и его политика (по генуэзским источникам // ИТАК. 1913. №50.[440]
Колосов Ю.Г. Белая скала. Симферополь, 1977.
Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. Николаев, 1873. Т. I; СПб., 1875. Т. 15.
Он же. История христианства в Тавриде. Одесса, 1871.
Кондукторова Т.С. Населення Неаполя Скїфского за антропологічними даними // Матерїали з антропологи України. Київ, 1964. Вип. 3.
Корсаков В.В. По поводу 100-летнего юбилея присоединения Крыма. Симферополь, 1883.
Корпус боспорских надписей. Л., 1965.
Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий // Исторические монографии. СПб., 1904. Кн. 4.
Кочубинский А. Мы и они (1711 — 1878): Очерки истории и политики славян. Одесса, 1878.
Краткое описание военных случаев, касающихся до Азова, от создания сего города до возвращения онаго под Российскую державу. СПб., 1782.
Кричинский А. Очерки русской политики на окраинах. Часть I: К истории религиозных притеснений крымских татар. Баку, 1919.
Кропоткин В.В. Население юго-западного Крыма в эпоху раннего средневековья: Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. ист. наук. М., 1953.
Крым и крымские татары (по поводу столетия присоединения Крыма к России). Киев, 1885.
Крым многонациональный: Массово-политическое издание. Симферополь, 1988. Вып. 1.
Крым: прошлое и настоящее. М., 1988.
Крымский Агафангел. Студії з Криму. Київ, 1930.
Кузнецов А.Б. Россия и политика Крыма в Восточной Европе в первой трети XVI В. // РПП. 1979.
Куклина И.В. Этнография Скифии по античным источникам. Л., 1985.
Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. Киев, 1914.
Куропаткин А.Н. Задачи русской армии. СПб., 1910. Ч. I.
Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в XVI-XVII вв. М., 1963. Ч. 2.
Лапицкая С. Завоевание и колонизация Крыма царизмом // Исторический журнал. 1937. №7.
Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947-1949, 1950, 1952.
Лашков Ф.Ф. Исторические очерки крымско-татарского землевладения. Симферополь, 1897.
Он же. Сельская община в Крымском ханстве. Симферополь, 1887.
Он же. Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 1783 Г. // ЗООИД. Т. XIV. 1886.
Он же. Несколько слов об исторической судьбе Крыма. Симферополь, 1881.
Он же. Материалы для истории второй турецкой войны 1787-1791 гг. // ИТАК. 1890. №10.
Он же. Охрана Крыма во вторую турецкую войну 1787 — 1791 гг. // ИТАК. 1889. №8.
Левченко М.В. История Византии. М.; Л., 1940.
Лесков А.И. Горный Крым в I тысячелетии до н. э. Киев, 1965.
Лесков А.И. Таврическая культура в горном Крыму (вторая[441] половина IX — III вв. до н. э.): Автореф. канд. дис. на соискание уч. степ. канд. ист. наук. М., 1961.
Летопись событий в Юго-Западной России в XVII в., изданная Временной комиссией для разбора древних актов. Киев, 1851. Т.П.
Лисовенко Н. Песни предков // Известия. 1988. 1 апреля.
Лобова И.И. Скифы в Крыму. М., 1956.
Лызлов А.И. Скифская история. СПб., 1786. Т. 1 — 4.
Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. Одесса, 1896.
Люк Д. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин... // ЗООИД. 1879. Т.П.
Максименко М.М. Крестьянское движение в Таврической губернии накануне и после отмены крепостного права. Симферополь, 1957.
Малицкий Н.В. Заметки по эпиграфике Мангупа // ИГАИМК. 1933. Вып. 31.
Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII в. М., 1974.
Манштейн К.Г. Записки о России. СПб., 1875.
Маркевич А.И. Переселения крымских татар в Турцию в связи с движением населения в Крыму // Известия АН СССР. Отдел гуманитарных наук. 1928. 4 — 7.
Он же. К вопросу о... // Таврический церковнообщинный вестник. 1910. №10.
Он же. Императрица Екатерина II и Крым // ИТАК. 1897. №27.
Марков Е.Л. Очерки Крыма. СПб., 1902.
Маркова О.П. О происхождении так называемого Греческого проекта: 80-е годы XVIII в. // История СССР. 1958. №4.
Марр Н.Я. Готское слово guma "муж" // Известия АН. 1930.
Мартене Ф.Ф. Собрание документов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1874 — 1902. Т. 1-13.
Мартьянов Г.П. Последняя эмиграция татар из Крыма в 1874 Г. // СЛ. 1887. №45-46.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. СПб., 1871-1872. Вып. 1-2.
Материалы к этнической истории Крыма. Киев, 1987.
Медведева И. Таврида. Л., 1956.
Мельгунов С.П. Красный террор в России. М., 1990.
Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII в. СПб., 1891.
Михаил Литвин. О нравах татар, литовцев и московитов: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Киев, 1890. Вып. 1.
Мнение о Крыме, поданное в 1802 г. адмиралом Н.С. Мордвиновым (об отводе безземельным степным татарам земель) // Русская старина. 1872. Февраль.
Мочанов А.Е. Борьба царской России и Турции за обладание Крымским ханством. Симферополь, 1929.
Мундт Т. Крым-Гирей — союзник Фридриха Великого: Пролог столкновений между Россией и Турцией // ИТАК. 1909. №43.
Мурзакевич Н. Поездка в Крым в 1836 году // ЖМНП. 1837. Ч. 13.
Мурзин В.Ю. Узловые моменты этногенеза скифов // Тезисы I Кубанской археологической конференции. Краснодар, 1989,
Мыц В.Л. Исследования Горно-Крымской экспедиции: Археологические открытия 1986 года. М., 1988.[442] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Симферополь, 1951-1967. Ч. 1-4.
Надинский П.Н. Русские на Крымском полуострове. Советский Крым. 1946. №3.
Он же. Страницы из жизни крымского комсомола. Симферополь, 1938.
Наше правительство (крымские воспоминания о 1918 — 1919 гг.). Париж, 1928.
Немирович-Данченко Г.В. В Крыму при Врангеле. Берлин, б. г.
Нестеров Ф.Ф. Связи времен. М., 1984.
Новгородские летописи. СПб., 1879.
Никольский П.А. От Крымского ханства до наших дней. Симферополь, 1929.
Никольский Н.В. Бахчисарай и его окрестности. Симферополь, 1927.
Никольский П.В. Саблы // Педагогический журнал Крыма. 1925. №6.
Новичев А.Д. История Турции. Л., 1963. Т. 1.
Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М., 1948.
Озербашлы А. Роль царского правительства в эмиграции крымских татар // Крым. 1926. №2.
Окунь С.Б. Очерки истории СССР: Вторая четверть XIX в. Л., 1957.
Опадов В. 1905 год в Крыму. Симферополь, 1931.
Орешкова С.Ф. Османская автократия: опыт типологической характеристики // Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987.
Отчет члена Комиссии по вероисповедным вопросам Государственной думы II и III созывов Мухамет-Шангира Харисова Тукаева. Уфа, 1912.
Памятная книжка Таврической губернии. Симферополь, 1867. Вып, 1.
Панашенко В.В. Кримське данство у XV — XVIII ст. // Украиньскїї історичнії журнал. 1989. №1.
Пионтковский С. Великодержавные тенденции в историографии России // Историк-марксист. 1930. №17.
Плетнева С.А. Хазары. М., 1986.
Поденная записка путешествия Его сиятельства кн. Василия Михайловича Долгорукова в Крымский полуостров во время кампании 1773 Г. // ЗООИД. 1872. Т. VIII.
Покровский М.Н. Российская история с древнейших времен // Избранные произведения. М., 1965 — 1966. Т. 1 — 2.
Покровский М.Н. Внешняя политика. М., 1918.
Полиен. Военные хитрости // Древний мир на юге России. М., 1918.
Программа мусульманской группы во II Государственной думе. СПб., 1907.
Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1950.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986.
Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 — 1794 гг. // ЗООИД. 1881. Т. XII.
Равдоникас В.И. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья // ИГАИМК. 1932. Т. XII. Вып. 1-8.[443]
Райпольский А. Туберкулез среди татар // Экономика и культура Крыма. 1930. №2.
Раков В.С. Мои воспоминания о Евпатории в эпоху Крымской войны 1853 — 1856 гг. Евпатория, 1904.
Раковский Г. Конец белых. Прага, 1921.
Революционное движение в Крыму. Симферополь, 1940.
Репников Н.И. О так называемых "дольменах Крыма" // ИТАК. 1910.
Революционное движение в Крыму. Симферополь, 1940.
Репников Н.И. Каменные ящики Байдарской долины // ИАК. 1909. Вып. 30.
Розенталь Е.И. К истории Крымского союза РСДРП // Материалы истории России в период капитализма. М., 1976. Россия; Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1910. Т. 14.
Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918.
Рубрук В. Путешествие в восточные страны. СПб., 1910.
Рыбаков Б.А. Исторические судьбы праславян: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1978.
Санин Г.А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII в. М., 1987.
Сапрыкин С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М., 1986.
Сафаров Г.И. Революционный марксизм и национальный вопрос // Марксизм и национальный вопрос. Харьков, 1923.
Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный Комиссией для разбора древних актов. Киев, 1888.
Светлов Э. На пороге Нового Завета. Брюссель, 1983.
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
Секиринский С.А., Волобуев О.В., Когонашвили К.К. Крепость в Судаке. Симферополь, 1980.
Они же. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII — начале XX в.
Они же. Очерки истории Сурожа IX — XV вв. Симферополь, 1955.
Сестренцевич-Богуш С. История о Херсонесе Таврийском. История о Таврии. СПб., 1806. Т. I-II.
Скифская проблема в отечественной науке. Харьков, 1947.
Симиренко Л.П. Крымское промышленное садоводство. М., 1912.
Сказание священника Иакова // ЗООИД. 1850. Т.П.
Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края в 1730-1823. Одесса, 1836. Ч. I. Слащов Я. Крым в 1920 г. М.; Л., 1924.
Смирнов АЛ. Скифы. М., 1966.
Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII в. СПб., 1887.
Он же. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII ст. Одесса, 1898.
Смоленский С. Крымская катастрофа. София, 1921.
Советов П.В. Проекты вступления дунайских княжеств в подданство России и Речи Посполитой в XVII — начале XVIII В. // РПП. 1979.
Соколова К.Ф. Антропологические материалы из раннесред[444]невековых могильников Крыма // История и археология средневекового Крыма. М., 1958.
Соколова К.Ф. Антропологический материал из Алуштинского могильника // СА. 1958. №2.
Сокольский Н.И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1971. Соловьев В.С. Великий спор и христианская политика // Собр. соч. СПб., Б. г. Т. 4.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960-1963. Кн. IV-IX.
Соломонїк Е.к Про значення термина "тавроскїфи" // Археологїчнї пам'ятки УРСР. Київ, 1962. Т. XI.
Сорочан С.Б. Торговля Херсонеса Таврического в I в. до н. э. — V в. н. э. М., 1981.
Социально-экономический атлас Крыма. Симферополь, 1922.
Средневековый Крым. М.; Л., 1964.
Станкевич В. Судьбы народов России. Берлин, 1921.
Сто лет жизни Тавриды. Симферополь, 1885.
Стржелецкий С.Ф. Очерки истории Гераклейского полуострова и его округи в эпоху бронзы и раннего железа: Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. наук. М., 1954.
Стулли Ф.С. Собрание повестей и рассказов. СПб., 1894.
Суворов в Крыму. Симферополь, 1949.
Сумароков П. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1779 г. М., 1800.
Он же. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб., 1805. Кн. 1-2.
Суперанская А.В. Исторический словарь топонимики Крыма. М., 1985. Т. 1 (рукопись).
Сыроечковский В.Е. Мухаммед-Гирей и его вассалы // Ученые записки МГУ. 1940. Вып. 61.
Росы в Крыму // СА. 1974. №3.
Творения Святого отца нашего Иоанна Златоуста. СПб., 1897. Т. 3.
Тереножкин А.И. Скифский вопрос // Скифы Северного Причерноморья. Киев, 1987.
Он же. Общественный строй скифов // Скифы и сарматы. Киев, 1977.
Он же. Киммерийцы. Киев, 1976.
Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. СПб., 1884. Т. I; М.; Л., 1941. Т.П.
Троицкая Т.Н. Скифские погребения в курганах Крыма: Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. ист. наук. Симферополь, 1954.
Тунманн Н.Э. Крымское ханство. Симферополь, 1936.
Тютчев Ф.И. Сочинения. М., 1984. Т. II.
Ульяницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII в. М., 1883. Ч. 2.
Усманов М.А. Этапы исламизации Джучиева улуса и мусульманское духовенство в татарских ханствах XIII — XVI вв. // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем Востоке в период феодализма. М., 1985.
Усов С.А. Историко-экономический очерк Крыма. Симферополь, 1925.
Фадеев Т.М. По горному Крыму. М., 1987.[445]
Фазыл Р., Нагаев С. Сердце народа // Звезда Востока, 1989. №3.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. I.
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
Филоненко В.И. Тамги татарских кладбищ г. Евпатории. Симферополь, 1928.
Филосторгий. Церковная история // ВДИ. 1948. №3.
Фирдевс И. Октябрьский переворот в Симферополе // Революция в Крыму. 1922. №1.
Он же. Первый период Советской власти в Крыму // Революция в Крыму. 1923. №2.
Он же. Влияние революции 1905 г. на национально-освободительное движение крымских татар // Революция в Крыму. 1925. №2 (6).
Флоря Б.Н. Проект антитурецкой коалиции середины XVI в. // РПП. 1979.
Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1983.
Хазанов А.М. Социальная история скифов. М., 1975.
Хартахай Ф. Христианство в Крыму. Памятная книга Таврической губернии. Симферополь, 1867.
Он же. Исторические судьбы крымских татар // Вестник Европы. 1866. №2; 1867. №2.
Харузин А.Н. Татары Гурзуфа (кефалометрические наблюдения над татарами Южного берега Крыма // Известия имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1890. Т. 68.
Хензель В. Проблема ясыря в польско-турецких отношениях XVI-XVII ВВ. // РПП. 1979.
Цветаева Г.А. Боспор и Рим. М., 1979.
Чеглок А. Красавица Таврида. М., 1910.
Чередниченко Н.Н. История срубных племен Подонья. Киев, 1973.
Чернышевский Н.Г. Рассказ о Крымской войне по Кинглеку. М., 1935.
Чистякова Е.В. Идея совместной обороны южных границ России и Польши в русской публицистике второй половины XVII в. // РПП. 1979.
Шарков В.В. Крым, его прошлое и настоящее. М., 1890.
Шатилов П. Крымские татары. СПб., 1857.
Шнейдер Д.С. Балаклава. Симферополь, 1930.
Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записи. М.; Л., 1934.
Штамбок А.А. Из царства Атея в Неаполь Скифский. М., 1968.
Штраух А.Н. Чернышевский и восточный вопрос // Чернышевский Н.Г. Рассказ о Крымской войне по Кинглеку. М., 1935.
Шульц П.Н. О некоторых вопросах истории тавров // Проблемы истории Северного Причерноморья. М., 1959.
Он же. Исследования Неаполя Скифского // История и археология Крыма. Киев, 1957.
Шебальский П.К. Потемкин и восстановление Новороссийского края // Сборник антропологических и этнографических статей о России. М., 1868.
Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л., 1978.[446]
Щеглов А.Н. Полис и хора. Симферополь, 1976.
Щепинский А.А. Во тьме веков. Симферополь, 1966.
Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. СПб., 1895.
Якобсон Л.Л. Крым в средние века. М., 1973.
Янушевич Э.В. Культурные растения Северного Причерноморья. Кишинев, 1986.
Яшуржинский X. Южнорусские пленники в Крыму // ИТАК. 1912. №47.
Adelung. Mitridates oder allgemeine Sprachkunde. Berlin, 1817. Bd IV.
Braun F. Die letzten Schicksale der Krimgoten. SPb., 1890.
Tagebuch des Generalen Patrik Gordons. SPb., 1851. Bd II.
Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig, 1906. Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. L., 1971.
Oxenstierne E.C.G. Die Urheimat der Goten. Leipzig, 1945.[447]
Примечания
1
См.: Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887.
(обратно)2
См.: Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Т. 1 — 3. Симферополь, 1951-1964.
(обратно)3
Печать призывает к поддержанию особого положения с пропиской в Крыму татар (в отношении 50 тыс. ежегодно вербуемых для переселения граждан других национальностей подобных ограничений нет), приводя в качестве оправдания его именно то, что Крым "имеет большое общесоюзное значение для отдыха и восстановления здоровья миллионов трудящихся" (Известия, 1987 г., 17 окт.).
(обратно)4
Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М., 1981. С 25
(обратно)5
Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 23. С. 62.
(обратно)6
См.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 365.
(обратно)7
Там же.
(обратно)8
См.: Надинский П.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 5.
(обратно)9
Санин Г.А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII в. М., 1987. С. 239.
(обратно)10
Труды, оспаривающие данное апробированное мнение, к печати не допускаются. Пример — блестящая плановая работа коллектива сотрудников Института языкознания АН СССР (ред. А.В. Суперанская), подготовленная к печати еще в 1985 г., — "Исторический словарь топонимии Крыма" — до сих пор не вышла в свет и знакома широкому читателю лишь в копиях. Многие "плановые" авторы позавидовали бы подобной судьбе их творений, ведь речь идет о сугубо научном труде, но пользующемся редкой популярностью.
(обратно)11
Впрочем, автор тут же проговаривается: и при Екатерине II "в лояльность крымских татар мало кто верил всерьез. Поэтому вопрос о заселении Крыма русскими приобретал важное значение" (Надинский П.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 103). Подобную политику Россия вела, как известно, и на Кавказе, и в иных завоеванных землях.
(обратно)12
Печально известное "Сообщение ТАСС" от 23 июля 1987 г. впервые после 1940-х гг. открыло серию публичных нападок на крымских татар. В нем были перечислены преступления отщепенцев, ни в коем случае не характеризующих ни один народ, будь то западноукраинцы, литовцы или кубанские казаки. При этом стремление очернить татар дошло до своего естественного предела — предельного искажения фактов. Так, в нем упоминалось о том, что татары участвовали в массовых казнях в Крыму путем сжигания людей живыми в печах. Однако такого в практике оккупантов не было не только в Крыму, но и вообще нигде — хотя бы по чисто техническим причинам. В "Сообщении" не нашлось места для простого упоминания о дважды Герое Советского Союза летчике Аметхане или сотнях татар-партизан, павших в борьбе с немцами[425] за свою Родину — Крымскую Автономную Социалистическую Республику.
(обратно)13
См.: Бахарев М. Слеп тот, кто перемен не видит // Московские новости. 1987. 18 окт. Впрочем, в этой статье по понятным причинам дано "сокращенное" изложение упомянутого инцидента.
(обратно)14
Имеются в виду религия, язык, культура вообще.
(обратно)15
Чисто антропологически крымские татары отчетливо делились еще в XVIII в., т. е. до первого крупного вмешательства в их жизнь северных соседей, на два этнотипа: узкоглазых — ярко выраженного монголоидного типа жителей редких степных деревень — и горных татар, основную массу этноса (обитавших на территории былого расселения аборигенов Крыма — тавров), характерных европеоидным строением тела и чертами лица: высоких, нередко светловолосых и голубоглазых людей, говоривших на ином, чем степной, языке. Если первые сохранили в целом ордынский лексический конгломерат, то в языке горцев — множество древних корней предположительно дотатарского крымского происхождения, а также греческих и итальянских.
(обратно)16
Как указывали еще ученые XIX в., весьма важно было бы выделить в топонимике Крыма названия, не соответствующие языкам иных насельников полуострова, не тавров. Таким образом было бы возможно вычленить таврские лингвистические единицы (подробнее см.: Щепинский А.А., 1966, 263).
(обратно)17
Краниологи говорят о преобладании в таврских захоронениях черепов понтийского с небольшой примесью северопричерноморского и средиземноморского этнических типов (Соколова С.Ф., 1958).
(обратно)18
"...Ты, богиня, пришла из Скифии, чтобы поселиться в Алах Афинских, и отвергла устав тавров" (ВДИ, 1947, №3, 261).
(обратно)19
"Но Артемида вместо Ифигении представила к алтарю теленка, а ее унесла весьма далеко от Эллады, на так называемый Эвксинский Понт, к Фоанту, сыну Борисфена, и туземный кочевой народ назвала таврами, потому что вместо Ифигении представила к алтарю бычка, а ее — именем Таврополы" (т. е. Волопаски. — В.В.) (ВДИ, 1947, №3, 292).
(обратно)20
Т. е. Девичий. Имеется в виду мыс Фиолент.
(обратно)21
"Персей сделался царем тавров и, соединившись с какой-то нимфой, произвел дочь Гекату, которая, живя постоянно в пустынях, приобрела величайшую опытность в составлении ядовитых и лекарственных средств" (ВДИ, 1947, №3, 291-292).
(обратно)22
"Объезд Эвксинского Понта" написан во II в. н. э. (ВДИ, 1948, №1, 265).
(обратно)23
Аппиан. Митридатовы войны (ВДИ, 1947, №4, 283).
(обратно)24
Полиен. Военные хитрости (ВДИ, 1948, №2, 218).
(обратно)25
"Тофры... страна у Меотийского озера (т. е. Азовского моря. — В.В.), которую окружили рвами рабы" (Стефан Византийский. Описание племен // ВДИ, 1948, №3, 327).
(обратно)26
"... Тавры приносят так называемой у них Деве в жертву потерпевших кораблекрушение" (Афанасий Александрийский. Речь против эллинов // ВДИ, 1948, №3, 237); они "живут наподобие зверей, незнакомы с человеческими установлениями и не единодушны по своей природе, но живут совместно диким и насильственным образом" (ВДИ, 1948, №3, 239).
(обратно)27
"Тавры — народ многочисленный, ведут они жизнь горцев или кочевников, по свирепости — варвары и убийцы, умилостивляющие своих богов злодеяниями" (ВДИ, 1948, №4, 235).[426]
(обратно)28
Псевдо-Орфей. Поход аргонавтов (ВДИ, 1948, №3, 270).
(обратно)29
Периодизация проведена по культурологическим водоразделам истории тавров; выделены периоды: ранний (X — VI вв. до н. э.), средний (V — I вв. до н. э.) и поздний (I в. н. э. — III — V вв. и позднее).
(обратно)30
Термин ведет свое происхождение от особого типа захоронений, когда над неглубокой погребальной траншеей возвышались наземные бревенчатые срубы (подробнее см.: Щепинский А.А., 1966, 70-72, 78).
(обратно)31
К нашему времени десятки и сотни таких находок сделаны в Поволжье, Казахстане, Семиречье, на Памире, Южном Урале, Тянь-Шане, в Южной Сибири, Туве.
(обратно)32
Характерны две оценки скифов, сделанные в различные периоды их истории. Во II в. до н. э. один из авторов Библии, осуждая Птолемея, сравнивает его (очевидно, не найдя иного примера столь жестокого, беззаконного и варварского нрава) со скифами (2-я кн. Мак., 4, 47). Но уже в I в. н. э. Библия противопоставляет скифов варварам, а это весьма немало для оценки народа, жившего далеко за пределами тогдашнего цивилизованного мира! (Посл. к колос., 2, 11).
(обратно)33
Еще в эпоху правления Юстиниана I (527 — 566) и Юстиниана II (565 — 578) приказы о строительстве базилик в городах "спускались сверху", из Византии. Большинство горожан и практически все жители таврских селений хранили верность богам предков (Зубарь В.М., 1988, 67-71).
(обратно)34
М. Броневский писал в XVI в., что среди ремесленников чуть ли не основную часть составляли не татары, но работавшие с ними под одной крышей христиане (армяне), турки, евреи и т. д. (1863, 357).
(обратно)35
"И поныне живущие на полуострове греки удержали свой язык и веру..." (Михаил Литвин, 1890, 7).
(обратно)36
Геродот упоминает о них как о племени, находящемся еще по ту сторону Танаиса (История, IV, 20, 21, 100). Так, очевидно, и было приблизительно до IV в. до н. э.
(обратно)37
Наиболее красочно описывает массовую переправу сарматов через Дон и последующее истребление ими скифов Диодор Сицилийский (68). Более поздний период истории сарматов отражен в известном рассказе римского историка Полиена. По его словам, сарматская царица Амага боролась со скифами в союзе с херсонеситами. Так, захватив во главе своих конников дворец царя скифов, она убила его, "царскую власть отдала сыну убитого, приказывая ему править справедливо", но весь край отдала херсонеситам. Это свидетельство чрезвычайно любопытно, как отражающее переходный период в истории Крыма — в скифской его части еще правит царь, но он зависим от новой политической силы, от сарматов. Интересно здесь и описание сарматских нравов, сильно подверженных идеологии матриархата — женщины были и в составе конницы и занимали высокие жреческие посты. Царица же "сама расставляла гарнизоны в своей стране, отражала набеги врагов и помогала обижаемым соседям" (Полиен, VIII, 56).
(обратно)38
Имеется в виду положение костяка со скрещенными ногами, разбитые по ритуалу зеркала, конские захоронения в погребениях; характерна ориентация могил на юг и север.
(обратно)39
Так, римляне в Крыму создали по сарматским образцам отряды тяжелой конницы, причем всадники были одеты в чешуйчатые панцири; уже в I в. н. э. они были вооружены сарматским обоюдоострым[427] мечом "спатой". Впрочем, грекам Боспора и спата, и сарматский панцирь были известны еще раньше (Цветаева Г.А., 1979, 38).
(обратно)40
Часть храма, раскрытая в ходе раскопок 1870 — 1907 гг., хранила гробницу Иоанна и плиту с эпитафией этому энергичному готу.
(обратно)41
В "Записке" упоминается о каких-то народах, ранее добровольно присоединившихся к "варварам" и проявлявших справедливость и мягкость. Но в эту эпоху в Причерноморье было лишь одно разноплеменное, культурно и экономически развитое государство, придерживавшееся мирных и даже дружественных отношений с готами и Византией, — Хазарское. Лишь оно славилось своей веротерпимостью, а его каганы — государственным умом далеко не "варварского" склада. "Ни мадьяры, ни нападавшие на Крым русские, ни печенеги, само собой разумеется, в своей прошедшей истории не обладали" такими качествами (Васильев А.А., 1927, 244).
(обратно)42
Здесь явно имеется в виду одно из трех крупных расположенных близ Мангупа селений: Биюк-Сюйрен, Кючук-Сюйрен или Таш-Баскан-Сюйрен.
(обратно)43
Довольно значительный участок такой viamitaris сохранился на самом мысе Ай-Тодор; считают, что второй уцелевший отрезок магистрали — между Байдарами (ныне Орлиное) и верхней частью Шайтан-Мердвена, третий — в Судакском районе, между селом Таракташ и мысом Меганом.
(обратно)44
Восставших рабов Рим избивал и во второй половине III в., хотя это удавалось одряхлевшей империи с каждым новым мятежом все труднее (Ковалев С.И., 1986, 644).
(обратно)45
Популярность этого импортного продукта среди местного населения быстро росла — если во II в. Херсонес ввозил масла на 1 — 1,3 млн. динариев, то в IV в. уже на 5 — 6,6 млн. ежегодно (Сорочан С. Б 1981, 13).
(обратно)46
Точнее, сильнейший удар по половцам нанесли не татары, вторгшиеся в Крым в 1233 г., а годом до того турки-сельджуки под руководством Хусейна-ад-дина Чобана (см. ниже).
(обратно)47
Тмутараканских хазар было настолько значительное количество, что они, не прибегая к посторонней помощи, смогли пленить могучего Олега — об этом говорится в Лаврентьевской летописи (ПСРЛ, I, 1848). Однако основную часть тмутараканцев составляли касоги и ясы (ДТ, 1966, 143). Но были там и аланы, и некие "русы". Славянские имена князей (например, Мстислав) ничего не значат, так как основной опорой этих владык были отнюдь не славяне, но те же хазары (Гумилев Л.Н., 1966, 174).
(обратно)48
Впрочем, иногда полагают, что княжество могло просуществовать в виде цельного государственного организма чуть ли не до начала миграции в Крым татар в 1223 г. (Полиевктов А.И., 1929, 58).
(обратно)49
Очевидно, немалую роль в этом сдвиге сыграло географическое положение Судака — он был ближе к Керченскому проливу, Перекопу и Азовскому морю с его портами вывоза, чем Херсонес. Тогдашнее население города (до 15 тыс. жителей) позволяло отнести его к крупным городским центрам даже в европейском масштабе. Это был и военный форпост венецианцев — лишь гарнизон города насчитывал 1 тыс. солдат и офицеров (Якобсон А.Л., 1964, 79).[428]
(обратно)50
Между прочим, в Солдайе имел дом Матео Поло, крупный купец, родной дядя великого путешественника Марко Поло.
(обратно)51
Сельджукам удалось разгромить половцев, так как шедший на помощь русский князь опоздал. После первых битв Чобан захватил Сугдею, которая признала свою вассальную зависимость от султана Кейкобада.
(обратно)52
Показательно, что один и тот же тип растительного орнамента трех основных вариантов (вьющиеся спиралью побеги, переплетающиеся стебли с утолщениями и "плетенка") распространялся среди различных этнических и вероисповедных групп — он характерен для мечетей, армянских или греческих церквей, еврейских синагог, караимских кенасс, генуэзских башен Солдайи и Кафы. Это дает возможность классифицировать подобный стиль как "крымский" или же "крымско-сельджукский" (Якобсон А.Л., 1964, 117).
(обратно)53
О происхождении топонима "Крым" имеется множество гипотез, выдвигавшихся массой ученых, начиная с арабских и тюркских историков и философов средневековья и кончая советскими филологами. Однако и поныне эта интересная научная проблема удовлетворительного решения не получила (Суперанская А.В., 1958, 166-167).
(обратно)54
Кяризы — узкие, выложенные камнем туннели, прокладывавшиеся в крымских городах в виде сети с понижениями в "узлах" ее, к которым спускались отвесные колодцы. Эти туннели копили грунтовые и дождевые воды, а также конденсировали атмосферную влагу, скапливавшуюся в "узлах". Лучше всего кяризы сохранились в Старом Крыму и Евпатории — выход одного из кяризных колодцев сохранился до сих пор (недалеко от разрушенных недавно евпаторийских Старых ворот). Запас свежей воды в кяризах был практически неисчерпаем, что было важно при осаде города.
(обратно)55
Татарам Ногая удалось взять крепость, лишь пробив стенобитными орудиями широкую брешь в южной, обращенной к Иосафатовой долине стене (Дорогой тысячелетий, 1966, 178).
(обратно)56
Одни авторы переводили топоним как "сто глаз" — якобы по ночным огням города-порта, другие — "глаз-дом", третьи — от повелительного наклонения глагола "гёзле" ("посматривай, надзирай!"), что было связано с функцией гёзлевской крепости (Драчук В.С., 1977, 43-44).
(обратно)57
Впрочем, верно замечено, что представление о джихаде в частности и исламе вообще как о религии насилия и войн предполагает контрастный образ христианства как религии любви и мира, распространившейся силой убеждения, а не оружия. И здесь возникает некоторое недоумение — как могли отстаивать подобный тезис участники крестовых походов и, более того, находить массовое одобрение себе среди верующих христиан! (Уотт У.М., 1976, 100-101).
(обратно)58
По многочисленным сведениям, среди купеческого сословия Крыма христиане вообще составляли абсолютное большинство. Среди них были греки, армяне и итальянцы. Немало встречается и купцов-караимов и евреев.
(обратно)59
"Не одинаковы они — среди обладателей Писания есть община стойкая: они читают знамения Бога в часы ночи, совершая поклонение. Они веруют в Бога и последний день, приказывают одобряемое и удерживают от неодобряемого. Они спешат друг перед другом в совершении благого; они — праведники" (Коран, 3, 109-110).[429]
(обратно)60
В Крыму слова "гяур", "поп", "жид" были татарами вообще презираемы; за их употребление виновного отводили к кадию, который определял наказание в пользу оскорбленного христианина или еврея (Маркевич А., 1910, 530).
(обратно)61
Тюркофобия в России получила полное свое развитие в XIX в., ею были в большей или меньшей мере заражены почти все социальные слои. Показательно, что даже сочувствующие мусульманам, обличающие угнетение восточных народов Россией авторы искренне, хотя и наивно полагали, что все беды этих народов — от их религии: "... главное несчастье крымского населения состояло в том, что преобладающая масса его издревле приняла ислам и мало-помалу крепко привязалась к нему" (Б-н И., 1856, 37). Не столь наивен Н.Я. Данилевский, человек весьма образованный, считавший, что мусульманство вообще не имеет права на существование. Причина тому простая: оно "явилось шесть веков спустя после того, как абсолютная и вселенская религиозная истина была уже открыта". "Какой же смысл могло иметь еще это учение после христианства?" — задает вопрос автор (1871, 333), уже знающий на него ответ. Сравним несравнимое — этого блестящего эрудита и идеолога своей эпохи, известного писателя и малообразованного, "темного" Хаджи-Девлета, человека средневековья; конечно же хан во многом уступит петербургскому публицисту, кроме одного — терпимости — качества, с которым мы и в XX в. связываем более всего надежд на будущее.
(обратно)62
Московский государь уже несколько лет насильственно держал у себя двух соперников Менгли-Гирея — его родных братьев.
(обратно)63
Уже в XVI в. хлебный экспорт Крыма превосходит все иные виды его, в том числе вывоз рыбы и рабов; "Крым с его плодородными равнинами делается житницей Константинополя" (Бахрушин С., 1936, 38); султанским фирманом был даже запрещен вывоз крымского хлеба в иных направлениях.
(обратно)64
"... Хозяйство татар очень часто страдало от стихийных бедствий (засухи), саранчи и эпидемий". Ни садоводство, ни земледелие "не могли обеспечить даже минимальные потребности массы татар" (Якобсон Л.Л., 1973, 140).
(обратно)65
В настоящее время работа по выявлению древних крымских родов продолжена в Институте языкознания АН СССР (Суперанская А.В., 1985, 192-194).
(обратно)66
Налог в крымской его разновидности следовало бы именовать налогом-рентой.
(обратно)67
Один вьюк — около 54 тыс. акчэ или 31 талер.
(обратно)68
См., например: Россия, 145; Хартахай Ф., 1866, 201; Тунманн И.Э., 1936, 33; Надинский П.Н., 1951, 62-63.
(обратно)69
Такое "приглашение", направленное против Киева, сделал, например, в 1482 г. Менгли-Гирею царь Иван III, и весной хан напал на "мать городов русских", разрушил кремль и почти полностью увел в полон киевлян — единоверцев московского великого князя, чем тот был несказанно обрадован (Ящуржинский X., 1912, 159).
(обратно)70
Вообще нашим историкам давно пора провести черту между далеко не равнозначными понятиями "набег" и "экспансия"; отдельные авторы уже близки к этому. Так, например, говорят, что поход русских на Ливонию в 1550-х гг. "был лишь простым набегом, не преследовавшим цели изменения границ" (Флоря Б.Н., 1979, 76).[430]
(обратно)71
По свидетельству распорядителя похорон, Ремела-хаджи, Сагиб-Гирей и его 13-летний сын покоятся в дюрбе Хаджи-Девлет-Гирея в Салачике, там же, где погребли Менгли-Гирея.
(обратно)72
Подробнее см.: Галактионов И.В., 1979, 383.
(обратно)73
Подробнее см.: Чистякова Е.В., 1979, 293.
(обратно)74
Сравним, между прочим, эпический стиль цитированного старого автора с современным — трескучим и, главное, искажающим сам дух трактата — высказыванием: "Бахчисарайский договор — великая победа России, дипломатическая и военная. Этот мир был результатом совместной героической борьбы русского и украинского народов с турецко-татарскими агрессорами" и т. п. (Апанович О.М., 1961, 296).
(обратно)75
Всего в Стамбул было отправлено 5,5 тыс. золотых и на 10 тыс. собольих шкурок (ЦГАДА, 89, 1709, №2, л. 62).
(обратно)76
"Молдавское княжество предпочитало искать освобождение от турецкого ига с помощью вхождения в русское подданство" и т. д. (Советов П.В., 1979, 315).
(обратно)77
Однажды он заметил, что Тартюфов можно найти во всех странах; немало их и в Крыму (Мундт М., 1909, 65).
(обратно)78
Опыт 1780 г. не был забыт. В дальнейшем этот нехитрый, но безотказный прием многократно применялся русскими (а затем и советскими) администраторами Крыма — и всегда успешно.
(обратно)79
Документ опубликован в: Уляницкий В., 1883, 157 — 166.
(обратно)80
Официально князь именовался теперь "Главный руководитель и попечитель Крыма" (Лашков Ф.Ф., 1889, 91 — 93).
(обратно)81
Именно поэтому заселение Крыма русскими крепостными ("на вывод") шло слабо, так что к моменту освобождения крестьян в 1861 г. число их, считая и челядь, едва достигало здесь 5,5 тыс. человек (Никольский А.П., 1929, 18).
(обратно)82
Впрочем, мы не решились бы утверждать, что царская администрация целенаправленно раздавала "пустующие земли", стремясь "закрепить там свое положение и укрепить феодально-крепостнический режим" (Максименко М.М., 1957, 7). Конечно, она пришла именно к такому результату, но вряд ли он был так уж жестко запланирован. Скорее все же подобный ход событий объясняется более объективными причинами — коррупцией, непрофессионализмом, равнодушием к судьбе коренного населения, низкой культурой царских колонизаторов, а также изначальными бесправием и забитостью татарского крестьянства.
(обратно)83
Если кто-либо из горцев и эмигрировал, то это было незначительное число мулл и чиновников бывшего хана, экономически почти не пострадавших и выехавших по совершенно иным причинам, чем разоренные степняки. Несколько десятков мулл, молившихся за победу воинов Пророка, было выслано властями, но все они также были из степных, Евпаторийского и Перекопского, каймаканств (Лашков Ф.Ф., 1890, 103-106).
(обратно)84
В их число входил П. Сумароков, оставивший два интересных описания Крыма и его населения.
(обратно)85
Трудно удержаться от приведения еще одной "справки": "Правительство предоставило целый ряд" (!) льгот и татарским крестьянам. Они были причислены к разряду государственных крестьян, и на них крепостное право не распространялось. Они могли свободно переезжать с места на место и свободно продавать принадлежащие им земли". "Такое заигрывание царизма с крымскими татарами являлось не чем иным, как политическим маневром..." (Надинский П.Н., 1951, I, 103).[431] Как говорится, избавь нас Бог от такого "заигрывания"!
(обратно)86
Для сравнения укажем, что так низко ценилась лишь бесплодная перекопская или арабатская земля. Согласно "Общей оценке внутри Крымского полуострова землям, садам и лесам, учиненной генваря 1805 г. ", цена других земель доходила до 1200 руб. за десятину. Их-то и получали "новые крымчане", вроде англичанина Виллиса, уплатившего за свой участок на Южном берегу такие гроши, что, как заметил его современник, за них "можно приобрести земли разве в лесах Америки" (Щебальский П.К., 1868, 137).
(обратно)87
В 1848 г. жандармский полковник Романус записывал: "Смуты и беспорядки на Западе, в Европе, и здесь — ожидание крестьянами освобождения от крепостного состояния служат в настоящее время предметом толков и суждений как в образрванном классе, так и в народе" (Вспомогательные материалы, 1939, 133).
(обратно)88
Некоторые историки уверяют, что диалог Петербурга со Стамбулом прервался "в результате провокационных действий английской дипломатии" (Зверев Б.И., 1954, 14 — 15), что спровоцирована была и война в целом (Крым, 1988, 40), что вначале Англия и Франция ввели в Черное море военный флот и лишь "в ответ на это" царь приказал перейти границу Османской империи (Бестужев И.В., 1956, 16 — 17). Последнее — явная передержка. Оккупация турецких Молдавии и Валахии началась еще в пору переговоров Меншикова в Стамбуле, т. е. задолго до входа союзников в Босфор и объявления войны (Богословский М.М., 1940, 218). Наконец, наши военные историки полагают, что русское командование было просто вынуждено нанести "упреждающие удары" (Военная энциклопедия, IV, 1977, 488), стремясь опередить своих западных союзников (Дивин В.А., IV, 1957, 143). Опять и опять оправдания "превентивных войн", как будто мало нам эха Зимней войны и Афганистана, ведь и в 1939 г., и через 40 лет мы стремились "опередить" потенциального врага, принеся сотни тысяч человек в жертву порочной идее "первого удара", и расплачиваемся за это до сих пор!
(обратно)89
Попав в тяжелые условия по вине властей, не снабдивших солдат и матросов ни современным эпохе оружием, ни достаточным количеством боеприпасов и провианта, они могли противопоставить превосходящим силам противника лишь личный героизм — это был единственный способ выживания в окруженном городе. Ненависти к врагам севастопольцы не питали — Л.Н. Толстой дает примеры мирных и даже дружественных контактов сражающихся в краткие минуты затишья.
(обратно)90
К такому выводу приходят многие историки войн, в том числе Энгельс, указывавший, что для России было выгодно, "чтобы союзники отправились в Крым и основательно там застряли... Продвигаться из Крыма в глубь России было бы стратегическим безумием" (МЭ, XXII, 39).
(обратно)91
Очевидно, старый служака употребил этот термин в старинном смысле (т. е. "бунтуете татар"), имея в виду отношение помещиков к своим крестьянам — полукрепостным и в мирное время.
(обратно)92
За пару волов платили цену одного, но, сколько бы волов ни было взято у хозяина, компенсация не могла превышать цены двух голов (Гольденберг М., 1883, 71-72).
(обратно)93
Справедливости ради отметим, что в Крыму большинство газетчиков, лучше знавших татар и не столь подверженных известным теориям, получившим распространение во всю последовавшую[432] эпоху до 1917 г., иронизировали: "Турецкие эмиссары в зеленых чалмах, подбивающие население к эмиграции и даже прививающие ему дух сепаратизма (?!), существуют... только в пылком воображении разных непризнанных газетных Катонов" (КВ, 1893, №52).
(обратно)94
"Татары составляют слишком смирное и хозяйственное племя, чтобы питать активную вражду..." (Нов. время, 1876, №239).
(обратно)95
Арендная плата за десятину в год (руб.)
1889 г. 1899 г. Перекопский уезд 1,5 4,9 Феодосийский уезд 1,9 8,6 Евпаторийский уезд 0,9 3,6 Симферопольский уезд 2,3 7,1(Щербаков М.М., 1940, 13).
(обратно)96
Деятельность Гаспринского "сводилась к стремлению растущей татарской буржуазии расчистить себе пути от архаических остатков феодальных и родовых отношений-традиций, затушевать нарастающие классовые противоречия среди татарского крестьянства, облегчив его эксплуатацию вместе с русской буржуазией" (Советов В., 1933, 75).
(обратно)97
Так, в Зинджерлы-медресе в течение 10 лет обучения изучались татарский и арабский языки и письменность, математика, этика, каллиграфия, логика, поэтика, мусульманское право, богословие, содержание и толкование сунны и Корана, русский язык — последний по 2 часа ежедневно.
(обратно)98
Она нередко имела источником элементарное незнание чиновниками местных условий, их личное самодурство, жадность, просто лень.
(обратно)99
Один из показателей жизненного уровня татар в эти годы — первое место, которое они заняли в России по заболеваемости туберкулезом (Райпольский А., 1930, 94). И до этого довели население края, куда вся Россия ездила лечить убийственную тогда болезнь целительным крымским воздухом!
(обратно)100
В целом земли к 1915 г. распределились следующим образом: у фермеров — 45%, у крупных землевладельцев — 40, вакуф — 6, казенные — 4, городовые — 3, колонистские — 1,4% (Бунегин М.Ф., 1927, 12).
(обратно)101
В Крыму были реквизированы все лошади; за один лишь 1917 г. село дало армии более 200 тыс. голов крупного рогатого скота, свиней и овец (Надинский П.Н., 1957, 7).
(обратно)102
Эта общественная организация, задуманная как координирующий центр, быстро превратилась в самостоятельную политическую партию.
(обратно)103
Среди них были весьма образованные люди — Д. Сейдамет уже в 1910 г. издал за рубежом книгу "Угнетенный татарский народ", социалистом стал во Франции, где учился в Сорбонне, закончил Петербургский университет. Но он был и хорошим практиком — получив революционную закалку на фронте (где его звали "красным подпрапорщиком"), он, вернувшись в 1917 г. в Крым, буквально разгромил реакционное правление Вакуфной комиссии и непосредственно руководил раздачей земли беднейшим крестьянам.[433]
(обратно)104
Показательна судьба Ч. Челебиева (Нумана Челеби Джихана). В юности порвав с отцом-помещиком, он работал ремесленником в Евпатории и, скопив небольшую сумму, уехал в Стамбул, где, бедствуя и голодая, упорно учился. Принял активное участие в революции, сидел в страшной турецкой тюрьме, бежал, нелегально пересек границу, был рабочим в Москве. В 1914 г. ушел вольнонаемным на фронт, затем, вернувшись в 1917 г. в родной Таганаш, возглавил левое крыло национального движения. Был схвачен севастопольской контрразведкой, но это вызвало такой взрыв гнева во всем Крыму, что его быстро отпустили, боясь серьезного кровопролития. Погиб Ч. Челебиев в 1918 г., в расцвете сил, на подъеме своей политической деятельности, 35 лет от роду. Непостижима голословная характеристика этого первого крупного татарского лидера, данная ему П. Надинским, называющим патриота в духе сталинской терминологии "наемным турецким агентом" вкупе с другими членами Мусульманского комитета (1957, 27).
(обратно)105
Любопытный эпизод из истории этой татарской части: летом 1917 г. рядовые эскадроны после того, как им объявили о предстоящей отправке на фронт, разошлись по родным деревням. Правительство Крыма поспешило объявить их дезертирами, но было весьма пристыжено, когда через несколько дней те вернулись, приведя с собой в полк множество молодых татар-добровольцев, их земляков (Бунегин М.Ф., 1927, 86).
(обратно)106
Скорее это было прямое содействие контрразведчикам, так как именно Советы перевели муфтия из симферопольской в севастопольскую тюрьму, опасаясь, что он будет освобожден народом. После вынужденного освобождения Ч. Челебиева, к чему приложил немалые усилия Мусульманский комитет, встречать его вышел буквально весь Симферополь. Стоит ли говорить, что эта акция дополнительно укрепила авторитет комитета? (Бунегин М.Ф., 1927, 47).
(обратно)107
Высшее духовенство Крыма боролось за создание исламского государства, призывая включиться в борьбу и Ч. Челебиева. Но этот новый муфтий не был, как его предшественник, столь привержен театральности торжественных богослужений; он вообще предпочитал не участвовать в религиозных праздниках, поэтому улемы должны были отказаться от мысли использовать в своих целях его проповеди. Более того, он вскоре запретил союз улемов, заявив, что, по его глубокому убеждению, ученых среди мулл вообще нет и их союз — профанация самой идеи научных организаций, чего он не допустит. Это был точный удар по авторитету "ученых" — улемов, а заодно и по надеждам традиционалистов, бывших мурз и т. д. на разделение власти с выборным светским национальным правительством.
(обратно)108
Кстати, сближение осенью 1917 г. между татарскими лидерами и большевиками началось по инициативе Мусисполкома, видевшего в ленинской партии более надежного попутчика, чем в меньшевистской или эсеровской (Бунегин М.Ф., 1927, 93).
(обратно)109
Даже в Черноморском флоте, где влияние большевиков было максимальным, они получили лишь 20% голосов (Надинский П.Н., II, 1957, 39).
(обратно)110
Единственное "научное" указание о парторганизации Крыма, естественно не обоснованное документально, — о том, что она была "крайне малочисленна и засорена троцкистско-бухаринскими[434] шпионами, провокаторами и диверсантами" (Надинский П.Н., 1938, 52).
(обратно)111
Вопреки приведенным фактам иногда указывают, что при установлении подобных порядков "особенно ликовали" "верные псы германских варваров — миллифирковцы" (Надинский П.Н., 1938 56).
(обратно)112
Когда союзная эскадра встала у берегов Крыма, министр иностранных дел М.М. Винавер поднялся на борт флагмана и приветствовал адмирала Кольторпа словами: "Мы открываем вам наши двери: войдите в наш красивый край, являющийся только порогом страны, и будемте вместе продолжать путь, конечной целью которого являются Москва и Петроград" (Винавер М.М., 1928 91).
(обратно)113
Государство не только не ссужало хлебороба семенами, но и выгребало последнее. Весной 1919 г. лишь в Евпаторийском уезде только за месяц было изъято 262 тыс. пудов семенного хлеба. Для сравнения приведем цифру "помощи", которую Крым получил, когда в результате подобной экономики разразился голод, — на всех крымчан было выделено 199 тыс. пудов хлеба и 420 тыс. пудов муки.
(обратно)114
Эта трагическая страница гражданской воины еще ждет своего исследователя. Пока далеко не определена роль, которую сыграли в этой драме Троцкий, Фрунзе, Буденный, что произошло с частями Тухачевского, почему была расформирована 2-я Украинская армия, почему лишь Махно держал подступы к Крыму, когда бежали соседние 9-я дивизия и вся 13-я армия. Непосредственный участник событий В.А. Антонов-Овсеенко писал в ЦК, что вся вина за эту трагедию целиком ложится на аппарат Южфронта.
(обратно)115
1 кг хлеба стоил в апреле 1920 г. 35 руб.
(обратно)116
Чаще всего говорится, что руководящую и направляющую роль в партизанском движении 1919 — 1920 гг. играли большевики (Надинский П.Н., II, 234 — 239). Тем не менее факты свидетельствуют о том, что большевики заняли ряд постов в развернувшемся уже движении довольно поздно, лишь во второй половине 1920 г. Самый трудный этап становления и организации партизанской армии прошел в условиях, когда "партийный комитет прекратил фактически свое существование оттого, что организации на местах провалились, связи разрушились" (Бунегин М.Ф., 1927, 321).
(обратно)117
Ленин В.И. Собр. соч. 3-е изд. Т. 25. М., 1936. С. 511. Показательно, что в 4-м и 5-м изданиях Сочинений Ленина из стенограммы речи эти строки "самого человечного" таинственным образом исчезли.
(обратно)118
В начале века крымская семья состояла в среднем из четырех человек.
(обратно)119
Накануне революции численность населения Крыма составляла 652,8 тыс. человек (Энциклопедический словарь Гранат. 7-е изд. М., 1933 (по матрицам 1914 г.). Т. 26. С. 108).[435]
(обратно)
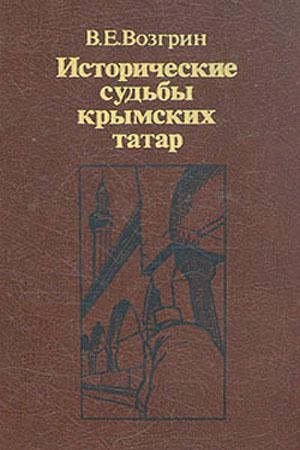


Комментарии к книге «Исторические судьбы крымских татар.», Валерий Евгеньевич Возгрин
Всего 0 комментариев