АДСОН ДЕ МОНТЬЕР-АН-ДЕР
"НОВЫЕ ЗАПИСКИ О ГАЛЛАХ"
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мои неуклюжие и, как говорят, запутанные познания в истории, тем более внушающие подозрения, что речь идет о таком далеком, смутном и чужеродном для меня периоде, как время последних Каролингов (X в.) , на первый взгляд запрещают мне выступать с предисловием к нижеследующему сочинению. Ведь по роду своих занятий я - философ, то есть потерянный для истории человек, ибо принадлежу к сонмищу молодых бородачей, заведомо чуждых исторической конкретике, так как с того момента, как Сократ убедился в своем незнании, мы стали стремиться к нему, культивировать "docta ignorantia" как истинные "idiota", агностицировать реальность, заниматься её немой, меонической субстанциональностью, отчего все события для нас - это тени, проложенные ноуменом наискосок от нашего сознания. История же...я все чаще думаю, что она - это только ветер. Не было случая, когда бы он ни дул; нет мгновения, когда он не старил бы нас; при этом иногда он совершенно незаметен, так тихо и крадучись проходит куда то стороной. В другую пору ветер может разъяриться, взвыть и помчаться, все сокрушая на своем пути, уносясь тем быстрее, чем сильнее мы старимся. В таком случае он проносится мимо нас словно экспресс, меняя десятый век и двадцатый, и тысячелетия мелькают, словно окна вагонов; тогда нам хочется ухватиться за него, остановить его, сесть в него и помчаться вместе с ним, но он без нас уходит куда то очень далеко, выскальзывая из рук. Потому что это только воздух, пустота. Ветер приходит ниоткуда и в никуда исчезает; он есть, но словно бы и нет его. Такова для нас чувственная реальность. В пустой арлекинаде истории мы всегда смотрим сквозь исторические факты - так бесплотен ветер - а не на них, пытаясь постигнуть её неподатливую суть, подменяя кричащую ярмарочность бытия безумием неоплатонического безмолвия, пребывая вне эмпирии, а значит и вне Империи. В этом смысле мы всегда остаемся вне истории... хоть и входим в неё иногда. "Hoc tantum dixisse sufficiat"[1].
Итак, автор публикуемой мною исторической хроники - отец Адсон [2] , в 968 - 990гг. аббат монастыря Монтьер-ан-Дер ( в современной Франции - департамент Верхняя Марна ), который при жизни и ещё в течение нескольких столетий после своей смерти для очень многих людей являлся "lumen lucernae super statuam candelabri" [3]. Отец Кальме в своей "Церковной и мирской истории Лотарингии" добавляет, что Адсон был одним из самых благочестивых людей своего времени. Отмечу ещё , что авторы "Литературоведения Франции" говорят, что в изучении как Священного Писания, так и внецерковной литературы - античной и современной - он преуспел в такой степени, какую вообще позволяла его эпоха. Таким образом Адсон являлся крупнейшим авторитетом и как знаток и живой носитель глубины христианской истины - за ним укрепилась слава ;"реформатора" ; он привносил в монастыри, дотоле снедаемые некрозом симонии и "кумовства" вкус к беспримесности и жертвенности религиозного долга - и как непререкаемый эрудит в области всего того по-настоящему прогрессивного, что как ладанное достояние человечество источило из красоты души своей. Итак, общения и дружбы с Адсоном искали самые знатные и талантливые люди на территории развалившейся Империи Карла Великого - Аббон Флерийский, Адальберон Реймский, Герберт Орильякский (Сильвестр II), Герберга (супруга Людовика Заморского), Оттон II, Оттон III ученые, архиепископы, короли и императоры.
Однако, мы не до конца представляем себе причины такой почтительности, такого уважения, которые снискал он в себе, тем более удивительного на фоне того, что на исторической сцена Адсон - фигура почти совершенно не заметная : родившийся в начале столетия, он до 968 года был простым монахом в монастыре, затерявшемся где-то в лесах между Нейстрией и Лотарингией. На мой взгляд неоднозначность личности Адсона заложена уже в его имени. Точнее - в именах. Первое из них, имя, которое он получил от рождения - Адсон, и восходит оно к латинскому "assono", что означает "откликаться", "отвечать на голос". Я думаю сейчас, что его жизнь - это далекое эхо, возвращающееся из глубоких и запутанных ущелий человеческой культуры, отзвук голосов - всех песен, всех чаяний, всей тишины и всей свежести, что звучат во всех нас где-то на той грани бессознательного, где индивидуальное уже перестает существовать. Это единство Адсона с наследием многочисленных поколений и заложено в первом его имени. Под вторым же - Hermiricus - он был известен только в родном для него монастыре Люксейль, этой columbarium (голубятне), заботливо разведенной в 590 г. святым голубем из Ирландии Колумбаном на месте усыпальницы прежнего Римского величия, обращенного в прах Аттилой - то есть на месте другого колумбария. Адсон провел в Люксейль годы своего отрочества и юности, постигая там азы христианского подвига и стиль языка Пиндара. Монастырь этот являлся одним из знаменитейших аббатств Европы [4]. Когда Меровинги были в расцвете своего могущества, и сердцами и душами франков повелевал мудрый король Дагоберт, Люксейль возглавил Вальберт (625г.) - ещё недавно герой военных кампаний, а ныне - рыцарь подвижнической жизни, пустынник и мистик. Пусть он не обладал полнотой тех качеств, которые, как истинный сын Ирландии воспитал в себе св. Колумбан - щедрость интеллектуального блеска и образованности, а также тиранический, доходящий до фанатизма пафос христианской искренности - но тот исключительный организаторский опыт, который он приобрел на плацдарме бесконечных войн в мирском мире собственничества, позволил ему настолько блестяще руководить общиной, что при Вальберте аббатство поднялось на невиданную до сих пор высоту славы и величия; Люксейль стал главным монастырем в Европе, подлинным светочем в абрисном, мозаичном мире раннего христианства. Сюда, ища наставнической помощи, приходили те, кто сами по своему долгу должны были нести пастве свет воспитательности. Как говорит историк монастыря L.Ecrement [5]."Франция, Германия и Италия были населены монахами, аббатами и прелатами, вышедшими из Люксейль". При св. Вальберте общая численность общины достигла девяти сотен ! Но сколь великолепно все было тогда, столь печально складывались дела у аббатства в первой половине десятого века, свидетелем чего был молодой Адсон; вещественное запустение и нравственное оскудевание - так можно было бы охарактеризовать текущую жизнь аббатства. Дело в том, что норманны, или "пираты", как их именует Рихер, агрессия которых активизировалась ещё в правление Карла Великого, к десятому веку, в момент критичной ослабленности королевской власти во Франции, которая, казалось, вновь возвращается к эпохе правления майордомов (здесь - герцогов, графов) и ленивых, усталых, нищих духом королей - безнаказанно бесчинствовали на землях священной Галлии, предаваясь без устали разорению, хищничеству и мародерству, ведь как ещё можно было назвать это упоительное стремление как Гог и Магог шакальничать над телом обескровленной внутренними распрями Франции ? И вот, в 888г. они буквально смели Люксейль с лица Вогезов, оставляя после своего побоища горстку уцелевших, трепещущих монахов, нашедших приют в немногих сбереженных строениях. Этот разрушительный рейд норманнов, усугубленный вылазками венгров, надолго обратил монастырь в пустыню, навсегда лишив его того несравненного блеска, который ему придавали Колумбан и Вальберт. До сих пор единственное представление о той атмосфере, которой была окружена в Люксейль юная, чуткая душа Адсона, воспитывавшегося здесь в первой трети Х века, состояло в том, что, как писал тот же Ecrement, "аббатство стало почти пустынным; монастырь молчал, так как не раздавалось более ни молитв, ни звуков псалмов, и все, чем наполнен был храм - это горем и унынием. В 948г. здесь жило лишь шестнадцать монахов, и далее, на всем протяжении Х столетия это число никогда не превышало тридцати" [6]. Причиной таких упрощенных взглядов было то, что ни каких документов, составивших бы более отчетливую картину уклада и нравов Люксейль в ту эпоху, у нас до сих пор не было, и о жизни аббатства при последних Каролингах нам приходилось судить только из косвенных источников. В этом смысле тот труд Адсона, который ныне публикуется впервые, во многом призван восполнить пробелы в том числе и в истории этого знаменитого аббатства. Пока же, комментируя слова Ecrement, замечу, что в той тишине запустения, которую они, правда, преувеличено описуют, молодой Адсон конечно же по-особому должен был воспринимать те истории, которые ему рассказывали об опустошительных набегах язычников, и вот уже легенды, которые он слышал о множестве народов, запертых Александром Македонским на краю земли народов,которые,отгороженные от мира Дербентской стеной,однажды должны были вырваться из заточения и заполонить своей непотребностью все Божье Царство эти легенды приобретали реальность, становились неотделимы от действительности и её ужасающих фактов.
Хотя для франков аббатство в одно мгновение утратило ореол светила христианского мира, иностранцы по-прежнему жили слухами о прекрасном, почти сказочном месте на земле, где св. Колумбан, как говорят, забыл, оставил свою душу. Поэтому никто не удивился тому, что однажды ночью, когда, как отмечает Адсон, шел дождь, в обитель постучались несколько странствующих греческих монахов, задавшихся паломническими стремлениями. Выражение "шел дождь" для рукописей эпохи Каролингов настолько необычно - по "флодоардовски" сухие, они не терпят никакой эмоциональности - что могло бы показаться позднейшей припиской. Однако, сочинение Адсона, становящееся известным только сейчас, спустя тысячу лет после его написания (991г.) , безусловно принадлежит к разряду выдающихся творений, уходя в гигантский отрыв от уровня литературы того времени. Оно бы так и осталось неопубликованным, если бы я не знал точно, что оно будет интересно не только для историков - для них "интересно" это не то слово; книга Адсона для них станет настоящим чудом и вызовет подлинный бум в кругах медиевистов - но и для рядового современного читателя, так как в ней много новаторств, выделяющих Адсона среди писателей той эпохи. Одно из нововведений - это искренность, задушевность повествования. Автор без околичностей вводит нас в свой внутренний мир, насыщая рассказ обилием живых подробностей, заставляющих нас сопереживать ему. Я вовсе не намерен сейчас давать литературоведческий анализ этого документа, предоставляя это профессиональным критикам, но только хотел бы подчеркнуть этот удивительный реализм повести Адсона, истоки которого в том, что он впервые ввел в рассказ "живую" личность автора - личность с её переживаниями, с её впечатлениями, с её внутренней драмой. Без сомнения, среди всех авторов раннего средневековья он более, чем кто-либо иной "человечен". Поэтому нет ничего удивительного в том, как не соответствует эпохе художественный стиль Адсона, просто он первым стал пропускать все через себя. Пусть он не до конца искренен, пусть "психологический" аспект сочинения всецело подчинен моторике сюжета, проходя лишь по касательной к эмпирической фабуле, все же это уже весомый шаг вперед на пути к постижению экзистенции человека, именно в христианском миросозерцании раскрывшегося как участник системы абсолютных ценностей. Итак, среди тех, кто потревожил монастырь в столь поздний час, автор называет Мефодия, который в дальнейшем сыграл большую роль в жизни нашего героя. Готовясь к изданию этой работы, столь важной для всех тех, кто занимается средневековьем, готовясь быть кем-то вроде Masson или Duchesne по отношению к письмам Герберта Орильякского - будущего Папы Сильвестра II ( в книге Адсона он предстает просто под именем Герберт), - я некоторое время занимался в библиотеке, пытаясь приблизить к себе ту эпоху, которая освещена в этом интереснейшем сочинении. И каково же было мое восхищение, когда, обнаружив в одном из томов "Monumenta Germaniae historica" - "Libri Confraternitatum Sancti Galli, Augiensis, Fabariensis" - список монахов монастыря Люксейль, я встретил там - редчайший случай - греческие имена, среди которых присутствует и имя Мефодия ! Я не сомневаюсь ни в том, что рукопись принадлежит Х веку ( это подтверждает и проведенный палеографический анализ документа, о результатах которого вкратце я расскажу чуть ниже ), ни в аутентичности имени её автора, но те чувства, с которыми вновь и вновь находишь этому подтверждение, трудно передать. Поэтому я советую всем читателям найти возможность прикоснуться к истории, поведанной Адсоном, с другой стороны - со стороны скрипторной документалистики, уже вошедшей в золотой исторический фонд.
Но я начал разговор о Люксейль с тем, чтобы указать на второе имя Адсона Hermiricus. Теперь мы знаем, что именно Мефодий окрестил так нашего автора, и с тех пор всегда, когда Адсон корреспондировался с родным монастырем или представлял братии свои агиографические сочинения, он подписывался своим псевдонимом, значением которого теперь самое время заняться. Итак, Hermiricus - это не только очевидное "Гермес", это прежде всего связь с закрытой традицией, то есть знанием или гипотезой, которые объединяют группу людей, не выходя из их, подчас, весьма немногочисленного круга. Как мы увидим, Адсон всей душой уверовал в то, что стало ему известно благодаря помощи Мефодия, и что по своей сути, по своей идеологии, не было незнакомо в Западной Европе того времени, и не то что не являлось чуждым сознанию христианизированного европейца, а и вовсе жило в его сердце - прежде всего в душе франка - как необыкновенное по своей силе предчувствие. Адсон, всему отдававшийся с полнотой сердца, верил в это, наверное, больше чем кто-либо другой, и его вера была вознаграждена : он столкнулся с такими фактами, которые незыблемо утвердили его в своей убежденности, той непреклонности, которая в дальнейшем спровоцировала его самого и его ближайших друзей на ряд интриг, хитроумную закулисную политическую игру, о которой до сих пор мы не имели объективного представления, ибо она только лишь подразумевалась, была скрыта, герметично замкнута. Теперь же труд Адсона открывает нам дорогу к пониманию удивительных событий во Франции и Германии Х века, поднимая завесу не только над обстоятельствами загадочными сами по себе, но и над тем, что казалось совершенно бесспорным.
Впервые издавая это сочинение, я стремлюсь угодить не только историкам, но и простым читателям. Поэтому я отверг идею начать с научного издания работы, выпустив вперед художественный вариант повести. Прочтя рукопись, мне захотелось первым делом приобщить к ней массового читателя, так как вся книга написана хорошим слогом, содержит внутри себя увлекательную интригу и самое главное - она имеет уникальный, ни на что не похожий сюжет, отчего просто обречена стать приманкой и вечным утешением для тех, кто ценит в литературе изысканное содержание. Тот факт, что все это было на самом деле, ибо труд носит явно исповедальнический характер, только добавит любви и к его героям и - хочется верить - к прекрасному смыслу, которым веет от страниц. Поэтому я предлагаю каждому читать книгу Адсона, как вы читаете обычные книги; не надо бояться чисто исторического характера этого сочинения; поверьте, что оно оправдает ожидание даже самого избирательного вкуса. Приключенческую линию повести я вижу наживкой для того, чтобы вы попались и на те идеи, которые Адсон хочет донести своему читателю. Желая популяризировать его труд я, таким образом, намерено отказываюсь от сносок и комментариев к нему. Смысл прост : если сначала сделать академическое издание, то потом уже невозможно будет обратить к книге симпатии большинства читателей. Итак, сначала издание литературное, а уж потом только научное. Следуя этой цели я не только избавился от комментариев, но и добавил к повести Адсона параллельный сюжет. Делаю это исходя из указанного соображения - сделать книгу как можно более привлекательной для любителей художественной литературы и чтобы компенсировать некоторую сухость и старообразность слога Адсона. Я самолично разбил его сочинение на главы, благо оно легко членится внутри себя, и к каждой части присоединил затем отрывки из мемуаров моего прадеда, которые, как мне кажется, служат прекрасным дополнением к основному труду, придавая ему особенный колорит, а заодно внося указанный момент интроверсии, который мне видится совершенно неизбежным в христологической, единственной человекоориентированной религии. Кроме того мне представляется, что личная драма, пережитая моим прадедом, во многом родственна коллизиям той эпопеи духа, которая совершалась в душе Адсона. Связанные между собой в первоистоках, две эти судьбы перекрещиваются и внешне, так как мой предок был ценителем сочинения "Эрмирикуса", и последнее довольно часто упоминается в его воспоминаниях. Органически единые, взаимодополняющие художественные автобиографии того и другого прекрасно сосуществуют вместе, и потому я переплел их между собой, стремясь из двух унисонных голосов сделать вечную эхолалию трагедийности человеческого бытия. Однако, закончу свою мысль по поводу избранной модели издания.
Если приходится ломать голову о том, каким образом заинтересовать массового читателя, то смешно было бы предполагать, будто для привлечения историков нужны какие-нибудь средства с моей стороны - труд Адсона тут вполне самодостаточен. Если даже крохотная его, тогда ещё монаха, работка "Об антихристе" вызвала вокруг себя такой грандиозный интерес, что и поныне внимание к этим нескольким страницам отнюдь не ослабевает, составляя подшивки исследований, то предсмертное, полноформатное творение этого человека совершенно определенно вызовет подлинную "адсономанию" в научном мире. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что с момента публикации этой работы среди историков начнется невиданный ажиотаж. Эта книга станет их ночным бредом, их дневными грезами. Поэтому издавая художественный вариант итогового творения Адсона я, мягко говоря, вовсе не тревожусь за его дальнейшую судьбу в научных кругах. Но все же, я думаю, будет несправедливо совсем освободить первый выход в свет этой работы от замечаний научного характера. Поэтому с этого места любители литературы могут перейти к чтению самой книги, я же хочу коснуться вопроса о том, что я имею в виду, когда говорю, что Адсон поднимает завесу над многими из событий и явлений Х века. Коротко разберу здесь только насколько примеров.
Около 932г. [7] брат епископа города Туля (город расположен на реке Мозель; один из древнейших во Франции, он был столицей галльского племени левков) - Хардрад, отважный и искусный солдат, как сообщают о нем "Деяния Тульских епископов" [8], отдыхая, очевидно, от военных компаний и предаваясь дикой прелести охоты в междуречье Мозеля и Мерта ( край этот благодаря живописным пейзажам и тому раздолью, которое лес Хайе предоставляет здесь охотникам, был хорошо известен ещё в галло-римском мире ) гнался однажды за кабаном, который увлекал за собой свору собак в самую гущу богатого тогда леса самшита и дуба. В настойчивом стремлении догнать этого зверя сказывались между прочим и яростная кровь Хардрада и отмеченная Вандальбертом Прюмским странная, присущая всем потомкам Хлодвига "франков к охоте неуемная, рьяная жажда". В итоге стремление это было утолено, когда кабан, сначала продравшись по склону горы, прямо из вод Мерта нависающей над небольшой деревней Буссьер, скрылся затем в кустах терновника на её вершине. Последовавший на ним охотник в крайнем удивлении обнаружил, что спущенные в погоню собаки, лая что есть мочи, не осмеливаются однако приблизиться к тому месту, где за высоким деревом упрятался затравленный зверь. Спешившийся Хардрад пробрался сквозь заросли и обнаружил за ними полуразвалившийся алтарь и руины старинной церкви, возведенной когда-то на этой просторной, поросшей редкими деревьями лужайке, с которой, кстати, открывалась захватывающая осенняя панорама речных долин, крутых холмов и исчезавших где-то на грани кругозора селений Ливердун, Помпеи и Пиксерекурт. Когда, возвратившись, он рассказал об увиденном своему брату Гозлину, возглавлявшему тогда Тульскую епископию - тот сильно заинтересовался неожиданной находкой, воздал благодарность непутевым охотничьим склонностям Хардрада и поспешил к границе своих владений, где на краю огромного округа Шомонтуа угнездился малоприметный Буссьер, о котором известно было разве только то, что он старше даже великого предка Хлодвига и отца всех франков Меровея, имевшего волосы длинные, как у той русалки, что его породила. Однако, деревня эта принадлежала Мецкой епархии, возглавляемой в то время достойнейшим Адальбероном I, гением династии Арденнов и первым из её высокого рода, предназначенного быть самым сильным в эпоху, когда генеалогические линии зарождавшегося дворянства только ещё начинали прочерчиваться на карте династической борьбы. И хотя на обширных, равных территориям нескольких варварских королевств землях, подчиненных Тульской кафедре, существовало много деревень, происхождение которых отсчитывалось от глубоко древних времен часто они были настоящим конгломератом многовековой культуры, свидетельствуя об этом, и своими кладбищами эпохи первых Меровингов, и развалинами прежних sudatorium ( римских потогонных бань) и ещё более древними кельтскими захоронениями, в которых археологи находят реликтовые сандалии для лошадей не смотря на это Гозлин, как мы увидим, сделал все для того, чтобы присоединить Буссьер к своим владениям, выкупив его у Адальберона. Источники сообщают нам, как разузнал он у старожилов о том, что пребывающая ныне в ветхости церковь посвящена была некогда св. Деве Марии, как раньше часто случалось, что тяжело больные, благодаря её заступничеству, получали здесь чудесное исцеление, как - по другим свидетельствам - по ночам в этом месте часто виден был свет и близлежащие места буквально исполнялись прекрасным сиянием [9]. Пораженный этими сообщениями и стремясь восстановить здесь прежний культ, Гозлин все же добился у Мецкого епископата уступки этой земли в пользу своего диоцеза, немедленно возвел на вершине горы обновленную церковь, а затем, желая сделать культ св. Девы постоянным, основал здесь женский монастырь по уставу св. Бенедикта, добавив новое слово в раздел западноевропейской внутрицерковной ономастики. В этой известной легенде о создании в Буссьер женской бенедиктинской общины для меня остается непонятным одно : что же так сильно приворожило епископа Туля, что ради приобретения у Меца этой горы он пошел на подношение Адальберону святейшей и несомненной реликвии, принадлежащей его краю - посоха ( baculum) апостола Петра, ещё в первом веке принесенным в Туль провозвестником христианства в древней Галлии св. Мансуи ? Легко отвлечься от "житийных" элементов рассказа - чудесных исцелений болезных паломников, неземного света, словно исходящего из денниц Девы Марии - выделив их из текстов в качестве чистого религиозно-биологического штамма; тогда у нас останется простая история о приобретением Гозлином земли у Мецкой епархии. Но Тульский диоцез был в то время одним из крупнейших в Западной Франкии, значительно превосходя тот же Мецкий и очерчивая своими границами пределы шести других епархий в Шампани, Бургундии и Эльзасе; у Туля без сомнения были безграничные возможности для внутренней экспансии и обогащения собственной экклезиастической топографии. Однако, пока три крупнейшие речные долины Лотарингии ждали здесь монастырского освоения, Гозлин обращает свой взор на северо-восток пага и жертвует достоянием своей церкви ради приобретения маленького клочка земли. Вот это-то мне и не понятно. По сути дела Буссьер стал вторым религиозным центром епархии, как минимум равноценным Тулю. Здесь для Гозлина построена была высокая кафедра, с которой по праздникам он обращался к прихожанам. Сюда в дни природных потрясений и национальных бедствий монахи приносили из Туля раки с мощами святых Мансуи и Эвра - первоапостолов христианства в краю левков; именно здесь, в Буссьер, по мысли Гозлина эти заступники предстательствовали перед ликом Богоматери, прося для Галлии Ее святого заступничества. Наконец самое удивительное - именно в этом месте Гозлин решил найти свое последнее успокоение и, когда в 962г. он оставил этот мир, траурная процессия перенесла его тело из Туля к этим окраинным владениям епископа, погребя раку в подземной часовне. Итак, подобная странная, какая-то жертвенная любовь Гозлина к заштатной деревеньке - любовь, чуть ли уже не влекшая за собой континуитет от Туля к Буссьер, была до сих пор необъяснима, но становится понятной из сочинения Адсона.
Теперь коснемся другого случая, на этот раз связанного с характером политической жизни восточной части бывшего государства Карла Великого. Седьмого декабря 983г. в Риме скончался двадцати восьми летний император "Священной Римской Империи", король Германии Оттон II из Саксонского дома молодой, но необычайно сильной династии, не только так непререкаемо взявшей в свои руки правление собственной страной, но и заставившей при этом другие державы считаться со своими амбициями. Молодому наследнику - Оттону III - было всего лишь три года, и на время его взросления нити управления государством должна была взять его мать Феофано - сестра ещё одних императоров (византийских) Василия II и Константина VIII. Интересно, что в ту пору, когда в Европе на развалинах многочисленных империй начинали создаваться молодые, самостоятельные государства (Франция, Германия, Италия) женщины демонстрировали не меньше политической зрелости и не меньше своенравной, независимой воли, чем их мужья, своей интеллектуальной взвешенностью, выверенной расчетливостью, интуитивизмом своих дальнозорких и бестиально жестоких сердец подчас уравновешивая и даже пересиливая слепую, то каменоломную в своей прямолинейности, то инфантильную в своей беспомощности государственную бесхребетность королей, словно терявшихся в нараставшей политической нестабильности: таковы и упоминавшаяся Герберга и Беатриса (супруга герцога Лотарингии Фредерика I ) и Феодора - правительница Рима - со своими дочерьми и гречанка Феофано. Однако, прежде чем получить законное регентство, императрице пришлось ждать почти год - двоюродный дядя Оттона III Генрих Баварский, ранее неоднократно дерзавший оспаривать права на престол, воспользовался малолетством отпрыска Оттона Великого, чтобы хитростью заполучить над ним опекунство и, склонив на свою сторону влиятельных германских и лотарингских вельмож, 23 марта 984г. в Кведлимбурге вероломно объявить себя королем. Установившаяся было в Германии стабильность и могущество новой, яркой Саксонской династии, пришедшей на смену выродившимся Каролингам, оказалось под угрозой. В это время во Франции, в Реймсе жили два человека, которым в дальнейшем суждено стать главными героями повествования Адсона - Реймский архиепископ Адальберон (племянник и протеже уже упоминавшегося одноименного епископа Меца) и аквитанский схоластик, прогрессивный ученый, блестящий эрудит в области как точных так и богословских наук, будущий глава Римской церкви - Герберт Орильякский. Оба они в соответствии с ложным, но прочно утвердившимся в историографии мнением, были самой чистой воды "немецкими империалистами", считавшими Францию лишь провинцией империи Оттонов, которыми, якобы, всецело владело стремление восстановления не на бумаге только, а фактически, то есть в полном его объеме - обновленной Священной Римской Империи во главе с Оттоном III. Я пока не буду оспаривать эти глубоко укоренившиеся представления, и попробуем на время действительно исходить из агрессивного, предательского по отношению к Франции германизма Адальберона и Герберта. Хотя уже здесь не мешало бы отметить, что обоснованного объяснения прооттоновским симпатиям обоих не смог дать никто. Например об Адальбероне говорили, что его преданность Оттонам зиждилась на следующих обстоятельствах : его родина Лотарингия принадлежала немцам; через своего брата Годфрида, графа Вердена, он был в дальнем родстве с императорским домом; вообще чуть ли не вся семья Адальберона была так или иначе породнена либо с Саксонской династией, либо с крупными вассалами немецкого короля. Я не вижу здесь ничего кроме апостериорных измышлений. Родился Адальберон тогда, когда Лотарингия принадлежала Франции Карла Простоватого. Дядя Адальберона, Фредерик I, был женат на племяннице Оттона II - Беатрисе. Но она в то же время была сестрой Гуго Капета - крупнейшего вельможи Франции, фактического главы государства. Самое же главное в том, что бабушка Адальберона - Кунегонда вообще была прямой наследницей Каролингов. Таким образом напрямую Адальберон восходил именно к Каролингам и лишь косвенно, через своих братьев, дядей и т.д. был в родственных связях с Робертинами (будущими Капетингами) и Оттонами (то есть Саксонцами). Большую же часть своей жизни он вообще прожил во Франции, за пределами Лотарингии. Итак, приняв на время германизм Адальберона и Герберта, мы видим, что в сложившейся исторической ситуации они ради будущего Оттона III должны были проявить весь свой богатый опыт подковерной политической борьбы ради устранения Генриха Баварского и прихода к власти Феофано. Однако этого не происходит. Злейшие враги Каролингов, они проводят активные консультации по назначению одного из них, действующего короля Франции Лотаря, на оспариваемый опекунский пост, чем ввергли в растерянность не только современников, но и историков. Как объяснить эту внезапную их коалицию с марионеточным Лотарем, который, приобретя неожиданную силу под манипуляциями наших реймских политиков, нанес потом существенный урон как Лотарингии, так и Германии ? Как понять, что во времена междуцарствия, сложившегося в Германии в 983-984гг., Адальберон и Герберт, всегда и во всем поддерживавшие Оттонов, ярые ненавистники последних Каролингов, готовые решиться на любые меры дабы пресечь агонизирующую династию, сделав безнадежными все её судорожные попытки удержаться за ускользающую власть - в кризисный для Оттонов момент взяли да поддержали Лотаря ? Это ещё один вопрос, на который до сих пор не было вразумительного ответа.
Другой проблемой, давно занимающей ученых, является начатая в XVIII в. и не прекращающаяся до сих пор дискуссия о местонахождении античной станции Ibliodurum, которая, согласно единственному сохранившемуся описанию, располагалась по дороге из Реймса в Мец через Верден. К сожалению, другое свидетельство о ней, находившееся в записках Марка Аврелия, упоминаемых Адсоном, до нас не дошло, и в нашем распоряжении имеется только один документ, так называемый "Итинерарий Антонина", авторство которого точно не установлено. Со времени своего первого выхода в свет у H.Estienne в 1512г., этот дорожник неоднократно исследовался, породив множество критических изданий, из которых самое известное - P.Wesseling(1735), а самое совершенное G.Parthey,M.Pindes(1848). Этот итинерарий не случайно создал вокруг себя огромную специальную литературу, библиография которой до сих пор не сделана, ибо он является самым полным из дошедших до нас сводом римских военных дорог эпохи расцвета Империи. Все остальные маршрутники либо не столь доскональны, хотя принадлежат той же эпохе - таковы знаменитые карты, переданные в 1508г. неким Мейсселем прославленному библиофилу Конраду Петингеру [10] - либо, как, например, дорожник, высеченный на вазах, открытых в 1852г., посвящены отдельным географическим областям, не ставя перед собой задачи описать все существовавшие к тому времени римские дороги. Таким образом понятно, почему "Итинерарий Антонина" является самым ценным : попросту он самый полный. И вот, хранящий в себе много камней преткновения для ученых, он окутывает дорогу из Вердена в Мец пеленой загадочности, разрешить которую не удалось ещё никому. И это не удивительно ! Как мы увидим, даже во времена Адсона путь из Вердена в Мец был окружен тайнами, и даже тогда, когда в распоряжении наших героев было гораздо больше документов, сохраненных историей, чем у нас, все они ломали голову над загадкой Ibliodurum, разрешив её в итоге лишь благодаря находчивости Герберта Орильякского. Что же представляет собой этот самый пресловутый Ibliodurum в современной исторической науке ? "Итинерарий Антонина" говорит, что между Верденом и Мецем есть всего две промежуточные станции : Fines и Ibliodurum. Расстояние от Вердена до Fines приблизительно равно пути от Меца до Ibliodurum, составляя соответственно девять и восемь галльских лье, величина которого 2,222 км. Все, казалось бы, ясно, но только и историки и географы никак не могут найти на карте ни того, ни другого, осмеливаясь лишь на предположения, которых к настоящему моменту накопилось столь же много, сколь значительно число ученых, занимавшихся этой проблемой. Первым высказался, разумеется, Bouquet [11], не ставший гадать и заявивший откровенно: "De Finibus et Iblioduro nihil est quod dicatur"(т.е. ничего нельзя сказать). Оставляя на время Fines, отмечу, что после Bouquet гипотезы о местонахождении Ibliodurum посыпались одна за другой; вот только некоторые предлагавшиеся варианты его отождествления: Hannonville-sur-Iron (Walckenaer и др.), Beville (Reichard), Gravelotte (De Fortia d'Urban), Chamblay (Gautier), Saint-Marcel (Taissaint) и самое курьезное среди всех - Gorze (Gauchez). Следы Ibliodurum никак не могут отыскать и, исследовав всю литературу по этому предмету, мы вынуждены признать: наука не в силах понять что же за Ibliodurum указан в "Итинерарии Антонина". При этом, как значительно число гипотез о его местонахождении, так много существует и вариантов выяснения этимологии этого названия. С одной стороны у нас есть мнение такого эрудита , как J.Meynier[12]. Господствующее представление, говорит он, состоит в том, что слово "durum", составляющее половину нашего названия, означает "вода", "течение воды" и от того переводилось оно многими как "река". Meynier отрицает подобное истолкование и предлагает свое: "durum" по его мнению есть на самом деле "род галльской крепости, где вода является одним из элементов укрепления". J.Gentil, к замечательной статье которого [13] мы ещё вернемся, говорит, что основная форма "Ibliodurum" - это "Ibleures" или "Ibloire", ограничиваясь этим. Наконец, M.Taissaint [14], сам не осмеливаясь на толкование, упоминает, что в окончании "durum" некоторые видят соответствие латинскому "forum"; автор, очевидно не соглашается с этим мнением, ибо и убедительных доказательств нет, и отсутствуют примеры того, что "durum" где-либо употреблялось самостоятельно, а не в качестве дополнения. Словом, перевести "Ibliodurum" тоже никто до сих пор не смог. Однако вернемся к терзавшей не одно поколение исследователей загадке местонахождения этой таинственной станции. Чтобы продемонстрировать степень разногласий, имеющихся на этот счет, обратимся к двум статьям. Одна из них - это уже упомянутое исследование J.Gentil ; другая опубликована C.Daville [15] почти пол столетия спустя, когда накопилась уже значительная специальная литература. Итак, перед нами два принципиально разных подхода к предмету рассмотрения. Gentil взял за основу строгое следование итинерарию, который говорит, что от Вердена до Fines девять миль, от Fines до Ibliodurum шесть миль, от Ibliodurum до Меца восемь миль. Что, казалось бы яснее, тем более, что общее расстояние в двадцать три мили ( последняя, напомню, равна здесь галльскому лье) полностью совпадает в фактической протяженностью пути, как это следует из тех остатков старой римской дороги, которые время сохранило для нас; при этом надо принять в расчет длину трассы не непосредственно до Меца, а только до излома дороги в направлении Труа по левому берегу Мозеля. Полковник Gentil держал перед собой карту французского военного штаба; в своих размышлениях он следовал и ей и своим глазам, идя метр за метром по участкам дороги и методично отсчитывая расстояния, указанные в итинерарии. Те результаты, которые он получил, он принял за непреложные факты. В его видении Ibliodurum таким образом помещался вблизи реки Iron, что в общем совпадало с не раз высказанными догадками о тождестве этой станции с Hannonville-sur-Iron - те ученые как и Gentil строго отложили по карте мили итинерария - только полковник остановился на рядомстоящем Ville-sur-Iron, ибо там обнаружены руины зданий, относящихся к римскому периоду. Gentil скользит пальцем по карте штаба: от этих развалин до ранее отождествленного им Fines как раз шесть лье, и поэтому он подытоживает: "Il est probable, que la station d' Ibliodurum etait la" [16] (с. 203). Это один взгляд на вопрос, так или иначе объединяющий мнения половины исследователей, кредо которых - буквальное следование дорожнику. Другая половина, также наполненная внутри себя разноголосицей, исходит из ошибочности итинерария, в котором и в самом деле обнаружено много недочетов. Ведь в чем принципиально слабое место теорий, подобных Gentil ? Латинское слово "Fines" означает - тут ситуация значительно легче, чем в случае со смыслом "Ibliodurum" - "предел", "граница", "рубеж". Но там, где буквоеды отмечают Fines, на картах не проходила ни одна из границ древности. Единомышленники Gentil ссылаются на соседствующий с их призрачным Fines Marcheville, корень которого - "marche", то есть "марка", "пограничный район". Значит, говорят они, здесь все же проходила какая-то граница, хотя что она разделяла и когда была проложена - этого они сказать не могут. Но начнем с того, что название "Marcheville" происходит на самом деле от ;"Marcelli villa", то есть "вилла Марцеллуса" [17] и, следовательно, тают доказательства утверждений о том, что Fines, как его размещают те, кто во всем доверяет дорожнику Антонина, в этом случае находится там, где ему полагается в соответствии с его названием. А теперь познакомимся с другой плеядой исследователей. Эта история с Fines заставляет их усомниться в точности данных итинерария, ведь ещё раз повторю, по этим данным станция Fines оказывается расположенной там, где никакая граница не проходила. Искомый рубеж, говорит Daville, это разделительная линия Вердена и Меца, их городская черта. Таким образом Fines четко ложится на реку Senoda, ибо относительно межи этих городов согласны уже все. Так рушится теория Gentil. Fines оказывается расположен не в девяти, а в четырнадцати лье от Вердена. Но тогда - к этому я и вел - и злосчастный Ibliodurum должен быть расположен иначе. Для Daville он - это Saint-Marcel, также хранящий в себе развалины римских времен. При этом он приводит несколько доказательств, похожих скорее все-таки на оправдания - настолько они натянуты и неубедительны. Однако вся остальная половина ученых близка к нему в своих гипотезах, ибо их попытки отождествления топографически близки к Saint-Marcel. Итак, в современной науке есть два центра тяжести, вокруг которых группируются все мнения об Ibliodurum : одни тяготеют к Hannonville-sur-Iron, другие блуждают вокруг Saint-Marcel. Взгляда на карту достаточно, чтобы убедиться, что расстояние между этими версиями покрывает чуть ли не треть всего пути из Вердена в Мец. А сколько ещё натяжек существует, на которые некоторые уже даже не обращают внимания ? Ведь взять хотя бы тот факт, что в "Итинерарие Антонина" все длины даны в "милях плюс минус", таким образом внутренне в этот сбивчивый дорожник уже заложена мина для историка, грозящая подорвать и разнести любое его построение. Итак, существование Ibliodurum до сих пор было тайной, к разгадке которой, казалось, нам так и не суждено приблизиться. Что же, теперь исследователи смогут спать спокойно: Адсон в своем сочинении описывает то, каким образом ему удалось найти Ibliodurum, бывший, оказывается, весьма привлекательным местом для современников; просто никто как тогда, так и сегодня не смог допустить, что все на самом деле настолько парадоксально.
А сколько ещё событий и фактов, описанных Адсоном, либо находят себе объяснение, либо позволяют по новому взглянуть на себя ! Никто ведь никогда не задавался вопросом, чем объясняется в междуречье Мерта и Мозеля столь высокая плотность названий, в состав которых входит имя Карла Великого. Не задумывался об этом даже H.Lepage, дающий их свод в своем словаре [18].С другой стороны понятно, что в том топографическом хаосе, который ему пришлось упорядочивать, не всегда узришь удивительные закономерности, которые теперь уже с легкостью усматриваются нами. Все дело в том, в каком именно порядке следует расположить доступные нам названия с именем Карла Великого ( Charlemagne). Одно из них ville-de-Charlemagne - оказывается явно лишним, выходя далеко из области основной концентрации подобных имен (этот город находится в окружении Сарребурга), и поэтому мы его сразу отбрасываем. Но приглядимся ко всем остальным, и мы увидим странное, необъяснимое по-началу совпадение. Итак, пройдемся немного по старинной карте департамента Мерт-и-Мозель ( в скобках я буду давать латинские формы, если они известны [19]). Мы выйдем с вами из Bouxieres-aux-Dames ( Buxarias) и перейдем на левый берег реки Мерт. Вблизи деревни Champigneules (Campiniola) мы увидим дорогу "Карла Великого" (по-французски - "chemin de Charlemagne"). Но, оказывается, и в самой деревне есть улица с таким же названием. Мы проходим и по ней, выйдя затем к лесу Haye (Heis). Идя далее, мы опять встречаем дорогу "Карла Великого": она идет по лесу, проходя по территории деревни Maron. Мы следуем этому пути, который в конце концов выводит нас на опушку леса к селению Chavigny. Мы так утомились пока шли, и нас так замучила жажда, что теперь нам в самый раз придется вода из источника "Карла Великого", которая вернет нам прежнюю бодрость и позволит продолжать путь. Мы минуем долину "Карла Великого" и выходим в конце концов к реке Мозель. Перебравшись на противоположный берег вблизи Sexey (Sisseiacum) снова натыкаемся на дорогу, носящую имя "Карла Великого". Она начинается на пути из Вердена в Эпиналь, потом проходит через Bicqueley (Bucculiacum) и выводит нас, наконец, на трассу из Pierre (Petra) в Tull (Tullum). Мы с вами пришли. Пройдя все дороги с именем Карла Великого (заметьте, больше подобных названий, тем более в таком количестве, ни в этом департаменте, ни в соседних, нет ) мы с вами ненамеренно проделали обходной путь из Буссьера в Туль. Не удивительно ли это ? Не странно ли, что все отдельные дороги с именем Карла Великого, будучи сложенными вместе, по сути составляют единую трассу, позволяя нам, уклонившись от возможных препятствий, которые подстерегают нас на прямой дороге между этими городами, пройти при этом из одного в другой ? Благодарю Мачкову Н.Ш., превосходного картографа, за то, что она указала мне на подобное сочетание названий, которое служит блестящей, до предела наглядной иллюстрацией повести Адсона. Теперь-то мы знаем, что по той дороге, которой мы с вами прошли, в Х веке из Буссьера в Туль было пронесено тело Карла Великого, а в память об этом событии история (ибо я не знаю кто именно) окрестила весь путь именем перезахороненного императора. Понадобились столетия, чтобы остались лишь фрагменты этой прославленной дороги, разрозненные, ничего не говорящие уму названия; понадобилось ещё больше времени, чтобы мы смогли объединить всех их в своем сознании и увидеть, как несут из Буссьера в Туль саркофаг с прахом величайшего из королей.
Однако, не слишком ли я увлекся, перечисляя те открытия, которые сулит нам сочинение Адсона ? Я сейчас подумал о том, что при такой скрытности, в которую упряталась та далекая эпоха, при таком упорном молчании современников, при такой скудости и противоречивости источников практически любое событие, описанное Адсоном, вносит коррективы в наши представления о том времени. Поэтому, хотя и я и намеревался продолжать, но пора уже остановиться, ибо можно сколь угодно долго смаковать эту рукопись.
Теперь мне бы хотелось сделать короткий палеографический обзор манускрипта Адсона ( как и у Рихера он сохранился в автографе) - рукописи, которая, без сомнения, представляет большой интерес со стороны исследователей, историков письма, ибо она несколько выходит за столбцы каждой из таблиц, классифицирующих известные на сегодня науке так называемые "национальные" или "областные" типа шрифтов IX - X вв. Возьму на себя смелость охарактеризовать его как "люксейльский курсив" - такую структуру почерка, которая при всех метаморфозах обнаруживает, однако, генетическое единство с духовной родиной Адсона. Родство это особенно акцентировано в "а"-типе, то есть в своеобразной манере письма, в которой буква "а" принимает весьма характерный вид, походя на две левых угловых скобки . В любом случае рукопись Адсона стоит особняком и это кажется невероятным - от повсеместно победившего тогда "каролингского минускула", ставшего в эпоху Карла Великого детищем первого культурного ренессанса, в котором Европа одерживала победу над варварством, принесенным ей германскими королевскими династиями. Чтобы понять графическое своеобразие рукописи и попытаться осмыслить как его культурно-историческую основу, так и причины средостения, которое возникло между Адсоном и каролингским минускулом, то есть чтобы разглядеть истоки его вопиющего палеографического отщепенства, нам придется сделать небольшой исторический экскурс. В IV - V вв. в Италии развился и быстро вошел во всеобщее употребление новый тип письма прогрессивный, "минускульный" римский курсив, отличавшийся от старого "маюскульного" курсива рядом фундаментальных, переломных в истории почерка черт : во-первых - и это, собственно, отличает минускул от маюскула, буквы теперь укладывались в иное количество строк, которыми линовался пергамент, внутри уже не двух, а четырех горизонталей; проще говоря в книгах наряду с заглавными окончательно закрепились и строчные буквы, имеющие, подчас, крохотные, как у нот тельца и, как у них же, длинные оси (таковы d, p, b, q и т.д.) . Во-вторых, если раньше все литеры писались отдельно, а слова, наоборот, вплотную примыкали друг к другу, составляя "сплошное письмо", то отныне внутри каждой вокабулы буквы плотно вязались друг с другом вязью культивируемых петлей и перемычек, образовывая иногда диковиннейшие лигатуры. Наконец, ранее вертикальный или накрененный влево шрифт наметил прочную тенденцию к повороту вправо. Все эти революционные перемены, проистекавшие из целой совокупности факторов - смены орудия письма, замены самого материала письма ( папирус на пергамент), изменение угла поворота книги относительно скриптора - рождались в Римской Империи и прежде всего в её северо-апеннинских культурных очагах. Новый римский курсив, известный нам большей частью по образцам равеннских грамот, триумфально воцарился и на землях Галлии, утвердившись здесь вместе с новой королевской династией салических франков Меровингами. На все время их царствования он безраздельно господствовал в королевской канцелярии, словно на протяжении двух сотен лет один и тот же секретарь одним и тем же почерком писал их бесчисленные грамоты как один и тот же бесконечный, никогда не кончающийся указ. Но с курсивом при этом произошло одно решительное и чрезвычайно глубокое изменение : вместе с Меровингами он воспринял их зарейнское варварство и, сохранив тем не менее все дериваты своих форм, подернулся какой-то судорогой и, я бы сказал, агонией. Здесь повсюду пугающая крючкообразность, так разнящаяся с гештальтом равеннских грамот, являющихся далеким родственником олимпийски скульптурного рустичного письма. Буквы теперь то ежатся и корячатся, словно охваченные злым духом, то, как оплавленные, удлиняются, норовя стечь со строки.
У меня уже прозвучало сравнение буквы и ноты. И в самом деле, разве разлинованный, как нотоносец, пергамент по мере труда скриптора не становится похожим на партитуру ? Разве не начинаем мы слушать музыку рукописи, едва только откроем её, едва лишь увидим причудливейшую, подчас, криптографию её нотации, говорящей более слуху, чем глазам ? Вот "distinctio maxima" - точка, ставящаяся наверху строки и означающая окончание предложения. Разве эта не та же точка, что, наоборот, прибавляет ноте половину её длительности ? Вот змейка, в раннем средневековье обозначавшая собой тысячу. Но так же, только отраженное в каком-то духовном зеркале - speculum - группетто объединяет собою несколько нот. Их штили и поперечные ребра напоминают нам стержни букв, то ли соединенных между собою лигатурами, то ли покрытых сверху поперечной перекладиной - значком сжатия при контракции. Восьмушки нот - неправда ли красуются, как выпущенные петли минускульных "b" и "l". В аббревиатурах нотных записей знак % обозначает последующее многократное повторение коротких фигур, и как же перекликается это с таким же обозначением слова "est" ("существует", "совершается") в стенографии тиронской системы ! Посмотрите, с одной стороны, надписанные в контракции сверху "litteras suprascriptas" висят в партитурах придыханием форшлагов; с другой же перечеркнутые ноты, или "короткие форшлаги", перешли в рукописные книги, где в словах, подвергнутых суспензии, или сокращению, последние буквы оказываются тоже перечеркнутыми. Так же, подобно скрипичным ключам, в начале строк там стоят инициалы акростихов. Поэтому в рукописях, особенно в древних, слова всегда оживают и начинают источать музыку. И теперь я задаю себе вопрос : какой характер имеет произведение, которое "слышат" наши глаза, глядящие на королевские дипломы Меровингов, где коллапсирует новых римский курсив ? Если библиадность, барочность монументального письма рождает фрески, подобные Баху или Бетховену, то дрожь и испуганность меровингского курсива сродни атональной музыке "Лунного Пьеро" с семнадцатью буквами, "соотнесенными лишь между собой", а не с парадигмой ладов, структурирующих красоту. Как я сказал двести лет активности королевской канцелярии - это кажущееся корпение над одной и той же грамотой, тянущееся, как глиссандо. Здесь хаос выпущен на свободу, и извивающиеся червяки букв символизируют одно - "эмансипацию диссонанса". Таков меровингский стиль. И я подробно остановился на нем, потому что именно он в союзе с ирландским влиянием создал неповторимое "люксейльское письмо", то есть такой почерк, который зародился в родном для Адсона монастыре.
О происхождении "люксейльского минускульного письма" много спорят[20]. То объясняют его результатом влияния северо-итальянских школ, таких как Верона или Боббио, то задаются вопросом, почему этот стиль не унаследовал ни одной из черт, присущих книгам ирландцев - основателей монастыря. Я утверждаю, что он является плодом сочетания меровингского курсива и ирландского унциального письма. Ведь островитяне принесли в Люксейль не привычный им набор шрифтов, а собственное отношение к рукописному труду, свой пиетет к букве. Посмотрите, как любят они каждое слово в книге, как насыщают все буковки естественными красками живой природы, как разнообразно и от души расцвечивают они пергамент, на живом лугу которого буквы не жмутся и не томятся в плену двух или четырех линеечной темницы, а живут, растут подобно цветкам с готовыми вот-вот распуститься бутончиками на изгибающихся, как под действием ветра, украшенных лепестками и листьями стебельках. А какое радостное изумление приносит нам неожиданно, посреди фразы появившаяся буква-чаровница, облаченная по контуру в дрожь кокетливо желтых тычинок ! Влияние ирландцев в Люксейль заключается не в привнесении ими собственных островных традиций, которых справедливо и не находят, а в аккуратности и тщательности, с которыми они регуляризовали меровингское письмо, облагородив его, насытив любовью и четко локализовав, создав, по сути дела, каллиграфическую форму меровингского курсива. Но что такое меровингский стиль ? Мы ведь уже отмечали, что это римский курсив IV - V вв., только страшно запущенный, заглохший в сорняках новой варварской культуры. Поэтому не будет ничего удивительного, если мы сделаем первый важный вывод: когда удивительно живые ирландцы взялись в Люксейль за исправление и косметику меровингского стиля, оказалось, что перед нами предстал воскрешенный ими римский курсив, только приобретший равновесие, стоящий прямо, закованный в четкость и выверенность ирландского унциала. А сделав этот вывод, мы сделаем и второй, самый главный, к которому мы и шли так долго.
Смыслом всей жизни Адсона, его единственной мечтой было восстановление обновленной Священной Римской Империи. Этой идее он служил самоотверженно, будучи целиком поглощенный ею. Кроме неё в его жизни больше ничего не было. Он сознательно оградил себя от всего того, что не могло принести никакой пользы в деле её осуществления. Понятно, что при такой преданности своей мечте, при таком коленопреклонении перед величием когда-то давным-давно торжествовавшего римского могущества, он не мог не испытывать интереса ко всему, что являлось плодом выдающейся культуры величайшего из государств. Римский же курсив был одним из её отголосков, священным для Адсона наследием, принять которое он считал своим счастьем. Каролингский минускул, повсеместное распространение которого в эпоху Адсона общеизвестно, не повторял в себе ни одну из форм римского письма, являясь переработкой многих его образцов; в люксейльском же письме благодаря ирландцам вновь воскрес курсив равеннских грамот, умерший было в дипломах Меровингов. В этом и была причина принятия Адсоном именно его, причем он придал ему при этом более свободную, курсивную форму, и буквы опять наклонились вправо. Здесь "t" как и "e" почти всегда в лигатурах, из которых особенно замысловаты сочетания "ti" в форме перевернутой по своей оси греческой "бетта", "tr", "ts", "et" и особенно "ep", принимающее ни на что не похожий вид луковицеобразной макушки, насаженной на тонкий, изгибающийся к низу стебелек; "e" вообще почти всегда будто аннигилирована, съедена рядомстоящими буквами, когда её дуга является лишь продолжением удлиненного усика "r" или "t", а средняя перемычка, либо навершие вбрасывают ввысь лассо петли, которая, развязываясь, дает начало новой букве. Таким образом если в "люксейльском минускуле" "e" сильно стилизована, сворачиваясь в "восьмерку", то у Адсона - и это признак римского стиля - она скорее угадывается, чем опознается, по тем завязям, которые она образует, чтобы оплодотворить слово новым знаком. Такие литеры, как "i", "l", "x", "g" и, особенно, "c" всегда велики, то широко поднимаясь над своим рядом, свободнейшим росчерком дотягиваясь до вышестоящей строки, то, как у "x" и "g", пуская свои острые, жалящие хоботки в тельца букв, расцветших внизу. Своей нескромной развязностью они делают письмо ещё более минускульным, если так можно сказать, до предела увеличивая пропорции, в которых они соотносятся с "m", "u" и, в особенности, с "о", часто сжимающееся в крохотное, деклассированное, небрежно завязанное кольцо. Такие насыщенные биоритмы с могучими вздохами на одних буквах и выдохами на других являют тоже своеобразие равеннского курсива, отличая стиль Адсона от люксейльского. Но по ряду характерных черт нельзя не увидеть, что родился он в лоне именно люксейльского скриптория. Здесь большая регуляризованность, вышколенность шрифта. Утратив излишнюю вычурность и изломанность, письмо не потеряло однако строгость и изящество. Чувствуется аскетичность, подвижничество в отношении к письменному труду - вкус, который неизменно прививался монахам монастыря св. Колумбана. Некоторые особенности стиля, например клинообразная заостренность букв снизу ( они словно "забиты" в рукопись) при их дальнейшем, по мере роста, грациозном утолщении кверху, или, скажем, наличие в тексте капитальных букв - это прежде всего касается N, S и V - несомненно обличает специфику люксейльской школы с её ирландским "острым" и "унциальным" влиянием.
Если о характере этих признаков ещё можно спорить, то есть примета, по которой любой специалист узнает в письме Адсона ортодоксального люксейльца и которая, кроме того, даст нам дополнительное объяснение причины предпочтения им свободного люксейльского стиля каролингскому минускулу. В самом начале я уже упомянул, что люксейльский тип письма называют ещё "а"-типом, и что рукопись Адсона тоже принадлежит именно к "а"-типу. Что это значит ? Надо признать, что здесь он немного отступил от своей любви к римскому курсиву. В последнем "а" всегда писалось как наше "u" - либо стоя ровно в строе прочих рядовых букв, либо неожиданно взбираясь на самую вершину строки, туда, откуда она, едва видимая, сильно уменьшенная в размерах, камнем падала затем в изножье буквы-соседки - но форма её все равно сохранялась неизменной. Когда потом Меровинги взяли римский курсив за основу, то корявые, какие-то энцефалографические литеры претерпевали порой странные метаморфозы: внутри их канцелярии две составные части римского "а" были разъяты на половинки так, что состоять она стала уже из двух "с". В каллиграфии люксейльской лаборатории "сс" претерпела затем дальнейшую стилизацию, и их дуги заострились, превратившись в углы, дав букве "а" специфическое обозначение в виде двух угловых скобок [21]. Адсон воспринял "а"-тип. Воспринял, даже ещё более его усугубив, ещё острее и, как бы, решительнее заостряя скобки. Надо сказать, что из-за этого манускрипт выглядит весьма своеобразно. Он словно насыщен цитатами и прямой речью. Я бы даже сказал, что складывается такое впечатление, будто он так хочет высказаться, что постоянно, вновь и вновь, начинает свой рассказ заново. А закончить его не может - правых-то скобок нет. И рукопись действительно не закончена. Именно не утеряна частично, а не закончена, обрываясь на полуфразе. У каждого, наверное, возникнут свои предположения об этой какой-то чрезмерно акцентированной незаконченности, немыслимо усиливаемой при чтении рукописи левыми скобками "а". Но факт есть факт. И я предлагаю читателю ознакомиться с ней в том виде, в каком она есть, то есть без логичного её завершения. Ведь мне больше нечего ему предложить, я лишь могу постараться сгладить то чувство незавершенности, которое останется по прочтении в его душе.
Но теперь меня спросят: каким образом, собственно, рукопись Адсона оказалась в моем распоряжении, и почему до сих пор о ней не было ничего известно ? Ее история рассказана в мемуарах моего прадеда - в тех их страницах, которые не вошли в нынешнее издание. Однако, даже эти воспоминания не содержат в себе исчерпывающих сведений о, так сказать, "биографии" этой рукописи, которая сама по себе довольно занимательна, имея отчетливо выраженный "криминальный" характер. Многое станет понятным уже после того, как я скажу, что русский дипломат, секретарь посольства а Париже и основатель "депо манускриптов" в Императорской библиотеке ( ныне - Российская Национальная библиотека) Петр Дубровский является моим далеким предком. С того момента, как сразу после окончания Духовной Академии он появился во Франции, Дубровский не переставал быть комиссионером по скупке книг, которую он осуществлял на аукционах и у владельцев частных собраний, выполняя поручения самых высокопоставленных особ вплоть до императрицы Екатерины II . Начав свою деятельность по приобретению иностранных изданий с исполнения просьб графа А.Р. Воронцова, он со временем довольно близко познакомился со всеми библиофилами и коллекционерами в Париже, не только с легкостью посредничествуя в интересах своих комитентов в России, но и сам со временем став весьма заядлым и крупным собирателем. Н.М. Карамзин, посетив Париж, так коротко охарактеризовал моего пращура : "Он знаком со всеми здешними Библиотекарями и через них достает редкости за безделку, особливо в нынешнее смутное время" [22]. "Смутное время" здесь - это революционные события во Франции XVIII в., ибо Карамзин встречался с Дубровским в 1790 г. Именно на этот период выпадает серия крупных хищений из фондов французских библиотек, нанесших непоправимый ущерб их собраниям[23]. Десятки тысяч автографов бесследно исчезали, распродаваясь на аукционах и оседая в коллекциях любителей уникумов. Замечу, что перед революцией 1848г. общественность Франции вновь была взбудоражена захлестнувшей страну волной опустошения архивов и книгохранилищ. Но тогда виновный был найден. Им оказался генеральный инспектор библиотек, член Академии, известный ученый-математик и библиофил Г. Либри. Имея доступ ко всем книгохранилищам страны, он беззастенчиво обирал их, обкрадывая фонды как ради обогащения, так и для утоления своей страсти к коллекционированию. Что же касается хищений конца XVIII в. и самого знаменитого из них - кражи 1791 г. в крупнейшей библиотеке Франции, знаменитом собрании монастыря Сен-Жермен-де-Пре, то виновные до сих пор ещё не установлены, хотя по аналогии со скандальным процессом в отношении Либри ясно, что кража совершена не только знатоком раритетов, но и человеком, имевшим непосредственный доступ к фондам. Это удивительно, но в 1791 г. воры проявили поразительную избирательность, обкрадывая Сен-Жермен, действуя при этом настолько быстро, что очевидно было то, что хищение было спланировано заранее, являясь тщательно подготовленным. О превосходной организации кражи наглядно свидетельствует разборчивость воров: они не сметали все подряд, а в некоторых случаях изымали из рукописей лишь отдельные тетради и даже листы . Очевидно, перед ними был план, список рукописей, подлежащих изъятию, и тот человек, который составлял этот реестр, ясно представлял себе то, что он делает; злоумышленник досконально был знаком с составом и размещением фонда. В итоге труды монахов-бенедиктинцев и особенно ученых-мавристов, предпринимавших целенаправленные меры по систематическому обогащению фондов Сен-Жермен книгами монастырских и частных библиотек как Франции, так и иностранных государств, оказались во многом напрасными: самые ценные из приобретенных ими экземпляров были утрачены, причем судьба многих рукописей неизвестна до сих пор. Это настоящая удача для мировой культуры, что весомая часть украденных из Сен-Жермен книг была приобретена Петром Дубровским. Таким образом он спас для нас множество автографов, которые иначе могли быть поодиночке распроданы на аукционах, навсегда исчезнув в частных коллекциях. Дубровский же все те манускрипты, которые ему удалось вывести с собой из мятежного Парижа в 1792 г., передал затем Императорской библиотеке, не только дав начало отделу рукописей в ней, но и прославив её выдающейся ценностью своих раритетов. И до сего дня коллекция моего славного предка является самым прекрасным украшением рукописного фонда РНБ. Чего стоят одни только древнейшие корбийские рукописи, исследованные Добиаш-Рождественской , ведь библиотека Корби (кстати этот монастырь создан выходцами из Люксейль, родного монастыря Адсона, и оба аббатства находились друг с другом в теснейшей культурной связи) являлась одной из самых знаменитых в Европе. Однако эти заслуги Дубровского по сохранению рукописного достояния не только не признаны за рубежом, но и напротив при поддержке знаменитого Леопольда Делиля именно его стали считать организатором похищения в Сен-Жермен ! Интересно, если замысел преступления принадлежит нашему дипломату, как он допустил, что основная часть украденного так и не попала к нему в руки, ведь все признают, что Дубровский стал владельцем далеко не всех книг, утраченных Сен-Жермен ? Как бы то ни было я счастлив, что на долю моего предка выпала такая редкая удача, когда ему удалось практически за бесценок выкупить бесценные рукописные творения, среди которых было и сочинение Адсона. Последнее вошло в состав фонда Сен-Жермен вероятно в XVI в., так как онj носит на себе следы каталогизации, проведенной в монастыре в начале следующего столетия. Шифр, который едва сохранился на переплете, свидетельствует о большей методичности, с которой собрание было инвентаризировано тогда по сравнению с описями 1677 и 1740 гг. Судя по этому шифру, тогда всем книгам присваивались не только порядковые номера, но и буквенное обозначение раздела c указанием количества страниц в рукописи - Н-15-216. По всей вероятности все книги в то время были распределены по тематическим областям ("Н" - видимо - "Historia" ), в одной из которых рукопись Адсона с её 216 страницами шла под пятнадцатым номером. Впрочем, я не имею представления о характере катологизации начала XVII в. и поэтому мои предположения о дешифровке книги Адсона ( кроме числа страниц) основаны на допущениях. Рукопись поступила в Сен-Жермен от некоего графа Изембарда ( Isembardus), который по этому случаю сделал свою дарственную надпись - к сожалению без указания даты дарения. Интересно, что неся на себе следы первой инвентаризации, рукопись тем не менее не обнаруживает никаких свидетельств двух последующих рекаталогицазий в Сен-Жермен, которые были проведены, как уже отмечалось, в 1677 и в 1740 гг. На корешке переплета нет цифровых записей библиотекаря, производившего опись, из чего следует, что рукопись не попала в поле его зрения. Никаких следов шифра 1740 г. в рукописи также не присутствует. О чем это говорит ? О том, что во всяком случае в период с 1677 по 1740 годы её не было в составе библиотеки, и со всей вероятностью можно сказать, что в это время рукопись Адсона была собственностью либо хранителя фонда, либо одного из ученых-мавристов, участвующих в источниковедческой и издательской работе монастыря. Я предполагаю, что она временно перешла во владение либо Люка д'Ашери, либо его ученика Ж. Мабильона. На эти соображения меня наводит характер и собержание многочисленных маргинальных записей, сделанных в рукописи. В безупречной каллиграфии маргиналий обличается высокая грамотность их составителя; образованность подчеркнута в обилии тиронских значков, которые употреблены повсюду; те записи, которые все же удается прочесть, говорят о прекрасной учености того, кто делал эти замечания. Я чесно говоря не знаю, сохранились ли автографы д'Ашери, но во всяком случае без труда можно будет соопоставить эти заметки на полях с подчерком знаменитого Мабильона. Какая-то уверенность говорит мне о том, что один из них сделал рукопись Адсона своей личной собственностью. Почему же она не была ими издана ? Ответ очевиден. Причина, конечно же, не в том, что они не доверяли ей или считали подделкой. Для этого они были слишком выдающимися учеными. Мне представляется, что все дело в содержании рукописи; как раз по тому, что доверяли ей, и не стали её печатать. Меня не оставляет мысль, что они хотели осуществить задуманное Адсоном. Соблазн считать так достаточно велик. Очевидно, что тиражирование сочинения могло только помешать в выполнении этой задачи, а кроме того не каждый ведь хочет, чтобы его посчитали помешанным, как может произойти, если после огласки труда попытаться довести до конца "дело Адсона". Очевидно, во владельце рукописи - кто бы это ни был - жили опасения относительно здравости всех её идей ; но в то же время он, должно быть, задавался мыслью : "А вдруг то, что поведано Адсоном, истинно?" И он искал возможность для подтверждения или опровержения своих сомнений. Как бы то ни было в конце концов рукопись все же возвратилась обратно в Сен-Жермен, и судя по всему она уже безотлучно пребывала там вплоть до событий 1791г. Обстоятельства хищения в библиотеке монастыря раскрыты в мемуарах моего прадеда, но пока лишь коротко укажу на их суть. Виновником кражи явился, к глубочайшему его несчастью, друг Дубровского - бывший королевский библиотерарь, а ныне комиссар по охране общественных памятников, президент Парижского парламента и известный эллинист д'Ормессон де Нуазо. Как и в случае с итальянцем Либри, д'Ормессон пал жертвой своего служебного положения, которое сделало его доскональным знатоком коллекции Сен-Жермена. Он воспользовался рукописью Адсона, последние страницы которой пусты, ибо, как я предупреждал, автор не успел её закончить, чтобы составить там перечень книг, которые следовало похитить. Он подробно указал их размещение, изобразил план библиотеки, предназначая и список и карту для нанятых им воров, абсолютно не сведующих в рукописях. Выкупив часть похищеного, мой предок обнаружил в книге Адсона записи, сделанные его другом, рука которого подтверждалась его монограммой и адресом, по которому следовало отнести все награбленное. Как оказалось, воры решили сами извлечь выгоду из своего улова. Их глупость и непросвещенность были причиной того, по каким чудовищно низким ценам поспешили они реализовать похищенное, предпочтя выручку вознаграждению д'Ормессона. И тут безусловная удача, что Дубровский, благодаря своим многолетним связям, смог приобрести значительную часть рукописей. Однако, он был поражен, узнав, что организатором кражи был его близкий друг, который оставил при этом неопровержимые улики своей виновности. Д'Ормессон же ничего не получил. В принципе, желая присвоить себе наиболее драгоценные книги, он следовал не жажде наживы, а целям спасения рукописей от разграбления революционерами, которых он презирал, отчего и был казнен ими в 1794 г. за свои роялисткие убеждения. Но в итоге он явился причиной того, что многие из книг оказались безвозвратно утерянными, и, если бы не его друг, мы оказались бы лишены возможности исследовать ценнейшие памятники человеческой культуры. Ведь, как я уже отметил, в 1805 г. Дубровский продал свою бесценную коллекцию александру I, положив тем самым основание нынешнему отделу рукописей РНБ. Но он не передал императору рукопись Адсона, не внеся её в описи своего собрания, так как она была поистине бесчестием, несмываемым позором того, кто был его лучшим другом. Весь мир узнал бы имя негодяя, задумавшего эту громкую кражу, и проклял бы д'Ормессона, который был поставлен охранять сокровищницу нации, а в итоге стал причиной её разорения. Поэтому рукопись со списком книг Дубровский оставил при себе, и она стала передаваться у нас из поколения в поколение. Во-первых, мне нисколько не жаль злосчастного д'Ормессона, а во-вторых, уже двести с лишним лет отделяют нас от его преступления и поэтому я считаю, что уже нет необходимости скрывать те обстоятельства, по которым рукописи из Сен-Жермен, в том числе и сочинение Адсона, оказались в руках у Петра Дубровского, который все же поставил на последнем свой экслибрис : "Ex Musaeo Petri Dubrowsky.Parisiis 1792". Такова, вкратце, история рукописи Адсона, и остается только подивиться тому, как время и случай выбрали её из сонма других, как они донесли её до нас и как не спешили приобщать к её содержанию, хладнокровно выдерживая тысячелетнюю паузу.
Вот, пожалуй, в общих чертах и все, что мне хотелось бы сказать, предваряя публикацию сочинения Адсона. Я понимаю, сколько нареканий в некомпетентности могут они вызвать, ибо книга, повторюсь, совершенно не моего профиля; однако вовсе ничего не сказать перед изданием этой работы было бы ещё несправедливее. Мне остается только поблагодарить теперь всех, кто помог, наконец, книге Адсона увидеть свет. Как бы ни знал я латынь, мой перевод был бы неудачным без помощи Андрея Баранова. Благодарю также Елену Моисеенкову за предоставленные исторические консультации и ряд весьма ценных замечаний, сделанных ею в отношении некоторых событий, описанных в рукописи. Наконец, выражаю искреннюю признательность Бойкову Виктору Федоровичу, без финансового содействия которого сочинение Адсона могло пролежать в столе ещё одну тысячу лет.
[1] "довольно будет сказано об этом"
[2] об Адсоне см. например: E.Sackur,"Sibyllinische texte und Forschungen",Halle,1898; "Histoire litteraire de la France",Paris,t.6,1867; R.Konrad, "De ortu et tempore Antichristi",Munich,1964; D.Verhelst, "Adson de Montier-en-Der.De ortu et tempore Antichristi",Brepols,1976;он же "La prehistoire des conceptions d'Adson"// "Recherches de theologie ancienne et medievale";H.Taviani-Carozzi et C.Carozzi, "La fin de temps.Terreurs et prophetie au Moyen Age",Paris,1982; "Dictionnaire des lettres francaises.Le Moyen Age",Fayard,1992;А.Веселовский, "Опыты по истории христианской легенды"// "ЖМНП",ч.178(1875),ч.179(1875);В.Истрин, "Откровение Мефодия Патарского",Москва,1897
[3] "свет свечи на канделябре воздвигнутом"
[4] вся библиография Люксейль (Luxeuil) приведена в статье об этом монастыре в "Dictionnaire d'archeologie chretien et de liturgie",t.9,p.2
[5] "Essai historique sur la ville et l'abbaye de Luxeuil",Lure,1865,p.27
[6] ibid.,p.43
[7] в вопросе хронологии - очень важной здесь, т.к. становится видно, что епископат Туля сначала приобрел земли в Буссьер, и только потом уже добивался владения монастырем Монтьер-ен-Дер - я следую грамоте, по сей день хранящейся в архиве департамента Мерт-и-Мозель. Этот документ (архивный номер Н.3011) свидетельствует, что Буссьер уже в 932 г. принадлежал Тулю, т.к. он датирован десятым годом избрания Гозлина в епископы, которое состоялось в 922 г. см. "Inventaire sommaire des archives departementales.Meurthe-et-Moselle",t.5,1883,p.144
[8] "Gesta episcoporum tullensium"// "Monumenta Germaniae historica",t.8,p.639
[9] "Noctu inibi quam sepe divina luminaria splendere, et loca proxima sua claritate perfundere"//ibid.,p 639-640
[10] эти карты, до сих пор известные по одной лишь рукописи 1265 г., скорее всего, только в более раннем варианте, являются предметом рассмотрения Адсона во второй главе
[11] M.Bouquet, "Recueil des historiens de France",t.1,Paris,1738,p.106
[12] "Les noms de lieu romains en France"// "Memoires de la Societe d'Emulation du Doubs",ser.7,t.5,p.176
[13] "Etudes sur les voies romaines dans la region de Metz"// "Memoires de la Societe d'archeologie Lorraine",t.47,1897,p.178-232
[14] "Les toponymes gaulois en Meurthe-et-Moselle"// "Bulletin archeologique",1951-1952(1954),p.311
[15] "Nouvelles recherches sur la voie romaine de Metz a Verdun-sur-Meuse"// "Bulletin archeologique",1930-1931,p.475-489
[16] "Вероятно, это и есть Ibliodurum"
[17] F.Lienard, "Dictionnaire topographique de l'ancien departement de la Meuse",Paris,1872
[18] H.Lepage, "Dictionnaire topographique de l'ancien departement de la Meurthe, Paris,1862
[19] кстати, мне хотелось бы отметить некоторые особенности перевода сочинения Адсона, касающиеся географических имен. Чтобы не населять текст неизвестными читателю названиями, те из них, которые получили свои французские формы и могут быть найдены под таковыми в справочниках, я даю именно в французской форме. Например, в рукописи Адсона город Мец обозначается по-латыни как Divodurum. Но я даю его как Мец, ибо именно так читателю легче будет ориентироваться в пространстве. В случае же, когда история сохранила лишь латинское название города, реки и т.д., то я естественно вынужден использовать латинскую форму. Таков край Mediomatrici или тот же Ibliodurum
[20] см. например M.C.J.Putnam, "Evidence for the origin of the "Script of Luxeuil""//"Speculum",t.38,1963; E.A.Lowe, "The script of Luxeuil"// "Revue benedictine",t.65,1953
[21] Схему развития написания начальной буквы алфавита в её генезисе от изначальной формы до письма типа "люксейль" упрощенно можно представить таким образом: "а" - "u" - "cc" - " "
[22] H.M.Карамзин, "Письма русского путешественника", Москва,1801, ч.5,с.242
[23] см. L.Lalanne,H.Bordier, "Dictionnaire de pieces autographes volees aux bibliotheques publiques de la France",Paris,1853
ГЛАВА ПЕРВАЯ
год 925
Сладчайшие и любезнейшие братья мои ! Не переставая взываю я к Богу, дабы не презрели вы слов моих, и дабы никакие заботы о процветании славнейшего из монастырей, никакие хлопоты о собственной телесной немощи и никакие напасти, всегда грозящие нарушить вашу мирную жизнь, не отвлекли бы вас от чтения этого недостойного труда, сочиненного мною, Эрмерикусом, ничтожнейшим из людей настолько, что мне не удавалось ещё найти человека, который был бы более меня недостоин лицезреть лицо Господне и вкушать плоды от Его неиссякаемых милостей.
Волею Бога вынужденный покинуть место моего многолетнего поприща и приуготовляясь к отправлению в длительное и нелегкое паломничество к землям, где пролил свою кровь Господь - путь, из которого я, обремененный годами, не чаю уже и вернуться; находясь в стенах родного монастыря и памятуя о том, что из тех, кто благословенно приобщился великим, явленным Господом, свидетельствам последних лет, ныне в живых осталось только двое, а в скором сроке, велением времени, и их уже может не стать - решаюсь соделать вас сыновьями собственных знаний, избежав при этом, насколько возможно, приобщения к нищете моих помыслов. Делаю это со слезным упованием на то, чтобы, сами став сыновьями, наследовали вы затем собственным сыновьям, а, если понадобиться, и внукам - до тех пор, пока новому поколению наших потомков не станет возможно то, что ныне не удается сделать нам вследствие нашего бессилия или простодушия.
Все мы ежедневно омачиваем наши губы в вине, потому что, являя, с одной стороны, образ Крови Христовой, а с другой - плод садов, Им взращиваемых и вскармливаемых, мы насыщаем при этом не только свое тело, но и дух, крепчающий тем сильнее, чем слабее вино. Но, подаваемое в юстах, оно из одного сосуда питает сразу двух из нас, а то и более, не ставя границы между одним и другим, принадлежа одному в той же мере, в какой оно доступно также и другому. Не так ли и знание ? Оно не может быть собственностью одного из нас, братья, являясь всеобщим достоянием, сокровищем и наградой.
Но взглянем на знание ещё и по-другому. Как нечто, подлежащее приходящему миру, оно заключает в себе три ипостаси - мудрость, испытание и надежда. В то же время, открывая таковые нам, смертным, оно отражает и три неизъяснимых божественных свойства - милость, справедливость и терпение. Ибо по великой милости своей Господь дает нам мудрость, по безусловной справедливости отбирает Он её, являя нам испытания, равносильные, подчас, очищению; наконец, по непостижимому своему терпению дает осуществить Он наши надежды, порожденные знанием, ежели только будем следовать мы словам псалма, который читает каждый, вступая в монашество: "Жертва Богу - дух сокрушенный".
Отвергнем себя - и тогда обретем себя; победим мысль - осознаем Бога; ежели умрем духом - тогда только воскреснем телом. И разве смерть ради жизни не высшая цель в монашестве ? Да будет это так, и тот, кто ещё вчера был мертв, да воскреснет из праха своего, чтобы осуществилось провозглашенное пророками, воздаваемое людским стремлениям, подготовленное нашими тщаниями. ;"Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже..."
Как часто, друзья мои, к чистоте монашеской жизни приводит нас не алкание манны духовной, не горечь, с которой вдруг начинаем вкушать мы плоды мирской суетности, не потребность искупления как собственных грехов, так и множественных нечестий в изобилии вокруг нас каждодневно совершаемых - а стечение обстоятельств, череда иногда трагичнейших событий, не оставляющих нам более места в той прискорбной, насыщенной корыстолюбием и идолопоклонничеством жизни, которую каждый из нас имел когда-то по ту сторону монастыря. И, дабы придать рассказу слаженность, коротко, не злоупотребляя вашим вниманием, поведаю я вам сперва о начале моего послушничества, также происшедшего не из стремлений воспарившего горе сердца, а из перекрестий и развилок многочисленных путей мирских, богатством и мудростью которых поистине неисповедим Господь.
Много ли разве прошло времени с тех дней, когда я, будучи совсем юным, потерял и мать свою - Ирминеду и обоих своих братьев - Ирминфридуса и Вальдо ? С одной стороны те события отделены от меня целою моею жизнью, без малого семью десятками годов, с другой же - я как сейчас, с удивительной живостью возвращаюсь в тот ненастный осенний день, когда мы с отцом, единственные оставшиеся в роде, хоронили их на кладбище вблизи древнего аббатства Ремиремонт. Хмурая, по-сентябрьски мрачная непогодица с её низким, набухнувшим небом, жухлыми травами и нарастающими чувствами тоски и одиночества поначалу только подчеркивала ту опустошенность, которая воцарилась в моей душе, а потом и вовсе усилила её своим холодным ветром, пронизывавшим насквозь и досадливо срывавшим мою набрякшую шляпу, которую в конце концов все же сдернуло с головы и повлекло по уже начинавшей смерзаться земле, то и дело подбрасывая её между рядами унылых, просевших от времени надгробий. Неожиданно хлынул сильнейший дождь, смешиваясь со слезами на моем лице и превращая в болото кладбищенскую землю, ещё минуту назад костеневшую от стужи, с трудом проминавшуюся под ногами. Отяжелевшая от горя рука отца ещё сильнее стиснула мое плечо и я, подавшись чувству внезапной и глубокой привязанности, которую вдруг испытал к этому далекому, вечно занятому хозяйственными и военными хлопотами человеку, уткнулся ему в рубаху за занавесом его огромного, защищавшего от любой непогодицы плаща.
Они погибли на моих глазах, что делало боль потери ещё острее, приобщая меня к такому страшному явлению как смерть. Накануне в день праздника мы отправлялись на паломничество к святыням Ремиремонт. Отец, которого задержали дела, связанные с успехами его последних военных предприятий, должен был догнать нас по дороге. Предчувствуя, что он вот-вот к нам присоединится, мы остановили лошадей на поляне, откуда до окончания леса, который следовало пересечь, оставалось ещё около трети пути. Пока взрослые отдыхали и ухаживали за лошадьми, я и мой сверстник слуга прятались друг от друга среди стволов той дикой чащи, что обступала поляну, разлаписто укрывая от света, и без того скудного, нагромождения валежника, шуршащие от листьев лазы лесных тропок и изножья бородавчатых стволов, среди которых к баснословным столпам-гигантам примешивался нагой сухостой и лишаистый подлесок прогалин. Вдруг мы услышали топот коней, звон упряжи и беспорядочно смешавшиеся разгоряченные мужские голоса. Подумав, что приехал отец, мы кинулись на опушку, но тут же испуганно замерли, прячась уже по серьезному за кряжистый дуб и растерянно наблюдая за всем происходившим на поляне. Несколько всадников, беспрестанно кружась, сея панику, вскидывая то и дело лошадей на дыбы, осадили всех наших домашних и слуг. Радостно и возбужденно окрикивая друг друга, они пугали их своим тесно сплотившимся кольцом, беспорядочной ездой и брызжущей пеной загнанных лошадей, которым заложенный перед зубами мундштук, казалось, вот-вот разорвет десна. Среди этого дикого скопища, кружившего как саранча, сильно выделялся один всадник, своей одеждой, внешностью и манерой держать себя выказывавший благородное происхождение и ведомый ему, дошедший до пристрастия, вкус к аристократическому буянству, к замашкам и произволу зазнавшегося вельможи все вместе оправдывало надменность его взора и жесткие, непроницаемые черты лица. Волосы на его непокрытой голове были необычайно коротки, а на бритом, без следа бороды лице, вблизи левого уголка губ, чернело на подбородке трехпалое родимое пятно. Крупная фибула на правом плече, скрепляющая спадающий до высоких, сверкавших на солнце сапог, многоскладчатый плащ, окантованный золотой лентой, богато искрилась на солнце, переливаясь радугой своих драгоценных камней. Под седлом его, словно живая, извивалась распахнувшая пасть и шевелящая своим жалом змея. Искусно расшитая атласная попона, прикрывавшая мускулистые, лоснящиеся конские бока, бросалась в глаза своим ярким убранством, и прежде всего серебряным шитьем по фигурной, восточно-замысловатой канве. Под нею красовался конь, подобный выпущенному из адского вивариума бешеному зверю. Он яростно метался, взметывая пыль, фырчал накаленными как горн ноздрями, и демонстрировал не только свою строптивость, огнедышащую пасть и налитые кровью огромные глаза, безумные как от мандрагоровых яблок, но и впервые виденные мной подкованные копыта, нещадно терзавшие землю. Однако всадник, подобно античному бестиарию, укрощал и заставлял повиноваться себе этого неистового коня, полосуя его зубчатыми шпорами, треххвостым хлыстом и мощью своего ещё более ощутимого буйства.
Сделав три или четыре круга оно бросил своим : ;"Это безусловно они", а затем обратился к моей матери, по горящим от гнева глазам узнавая в ней первую среди пленников : ;"Я - Гилдуин Черный, владелец тех земель, которые на днях присвоил себе ваш супруг. Может быть он думал, что я давно уже мертв, или же стал не способен отстоять принадлежащее мне имущество, но я не намерен более терпеть никаких посягновений на земли, составляющие честь и славу моего рода. Узнайте же перед своей смертью, что, желая предупредить дальнейшие злодеяния, направленные против меня и против того, что мне принадлежит - со стороны любого, кто бы это ни был - я хочу истребить ваш род. Сейчас умрете вы, а вслед за вами отправится и ваш муж. Да прольется моя ярость на любого вора, и да не останется неотомщенным ни одно преступление против чести моих предков и наследников".
После этих слов всадники выхватили из ножен мечи и ножи и, набросившись на моих родных и их слуг, с большинством которых я тоже почти сроднился, без разбора, превращая братоубийство в разгульное пиршество, оргию, принялись сечь кричащих, метавшихся в панике пленников, напрасно стремившихся прорваться сквозь лошадиное кольцо. Со стороны тех, кто совершал это чудовищное избиение, ужасало их упоение хлещущей кровью, собственной безнаказанностью и беззащитностью несчастных, ни в чем не повинных людей, руками пытавшихся защитится от острых, наотмашь рубивших клинков. Когда стихли все крики, тот, кто назывался Гилдуином Черным, а был сейчас скорее Красным, Кроваво-Красным Гилдуином, в последний раз вздыбил свою лошадь, приложил два сомкнутых пальца к сердцу и воскликнул... Затем вся свора развернулась, ринулась к дороге и скоро исчезла, скрывшись в направлении Ремиремонт.
Легко понять мое состояние, с которым я наблюдал за этой вакханалией, и которое ещё больше овладело мной, когда я вышел на лужайку и увидел бездыханные тела тех, кто был мне дороже всего на свете, речи, лица, участие которых я слышал, видел и ощущал с самого своего рождения. Не буду также описывать и состояние моего бедного отца, в скором времени появившегося здесь. В сопровождении своих многочисленных слуг он тщался вот-вот догнать семью, а вместо этого должен был как вкопанный остановиться на поляне, где совершено было великое беззаконие. Его лицо страшно почернело и осунулось, а из глаз ( я впервые это увидел) потекли слезы, о существовании которых у него я и не подозревал.
Убитых слуг мы похоронили прямо на лужайке, а тела матери и братьев повезли с собою в Ремиремонт. Отец был буквально убит горем; его вмиг постаревшее лицо и в одночасье ссутулившееся и обмякшее тело - тело великана, не знавшее ни пределов выносливости, ни потребности в отдыхе - являло в эти часы величайшую скорбь. Однако, по пути нашего траурного шествия я все же осмелился нарушить воцарившееся молчание и спросил отца о том, кто же такой этот Гилдуин Черный. Отец скрежетнул зубами, глаза его загорелись гневом и после долгой паузы он ответил : ;"Гилдуин - наследник очень древнего и прославленного рода. Его дальние предки были салиями - франкскими вождями, пришедшими в Галлию вместе с Хлодвигом с правых берегов Рейна. Сопутствуя во всем ему, они дошли чуть ли не до побережья Средиземного моря, отвоевывая у римлян и у ариан земли по ту сторону Луары. В военных кампаниях их никогда не покидала ни удача, ни доблесть. Но точно также дикость, свирепость и жестокость были не в малой степени залогом их блестящих побед. Говорят, что они так и не приняли христианство, сохранив в своем роде языческие верования, как нельзя более подходящие их варварским нравам, не знающим и не желающим знать ни о смирении ни о прощении. Такое расхождение с официальной политикой королевского двора не помешало им ещё более возвыситься при Дагоберте и сохранять в соей власти многочисленные наследственные земли. Однако, с упадком Меровингов, торжеством христианнейших потомков Пипина и, особенно, с приходом Карла Великого, род Гилдуина сильно потерял свое влияние при короле. Вся аристократия, по крайней мере на словах, была уже христианской, и её вера, бывшая основой преданнейшего служения суверену, ни в чем не расходилась с верованием Рима. Проклятый же род Гилдуина в силу своей гордости никак не желал признавать уже повсюду торжествовавшей религии. Их пристрастие к идолопоклонничеству, заклейменному церковью, в конце концов сделало их изгоями при императорском дворе Карла. Тот перечеркнул для себя все их прошлые заслуги и лишил их не только всех высоких должностей, отняв и герцогства и графства, перестав допускать до двора, лишив возможности решать вместе с ним дела управления государством, но и изъял в свою пользу значительнейшую часть их земельных владений, которые составляли весьма обширный фонд, охватывая своей сетью практически все территории по левую сторону от Рейна. За это Карл стал их личным врагом и они поклялись извести со свету его самого и его потомков. Наследство Гилдуинов, однако, было настолько велико, что и поныне ещё многие земли по обе стороны от Луары принадлежат им. Но никто не может сказать сколько этих земель, и тем более никому не под силу сосчитать их по именам. Не знал и я к своему горю, что завоеванная мною крепость Роснай принадлежит к их владениям... Существование этого рода - словно бич Божий для Галлии. Раньше все их очень боялись и, засыпая, молились, чтобы ночью их отряды не напали на деревню или замок, не подпалили дома и не разорили хозяйство. Потом прошел слух, будто весь их род изведен самим Богом от одной смертельной болезни, которая их поразила, постигнув только их вследствие того замкнутого и нелюдимого образа жизни, который они ныне ведут. С того момента людям перестали видеться по ночам в окнах родных домов искрящиеся факелы в руках у дикой орды Гилдуина и его слуг. Сны их стали спокойными и не томимыми тревожными предчувствиями. Я говорю все время ;"Гилдуин" или "род Гилдуина", потому что вот уже много лет прямые наследники этой злосчастной семьи носят данное имя, предаваемое из поколения в поколение, последнее из которых, казалось, милостью Господней исчезло в небытие. Но видишь - они ещё существуют и пытаются делать вид, что по-прежнему сильны. Все, что я могу тебе сказать о Гилдуинах - это слухи, ибо они дьявольски неуязвимы. Никто не может похвастаться, что видел их, ибо каждая встреча с ними заканчивается смертью. Еще невероятнее будет, если кто-нибудь скажет, что встречал их логово, ибо никому ещё не удавалось проникнуть в их жилище, проклятое и Богом и людьми. Поэтому мы можем говорить только о слухах. Например, я слышал, что всякий раз, как им удается отомстить своему кровному врагу - а месть их всегда удивительно кровожадна... Так вот, каждый раз по этому случаю они произносят слова, украшающие их родовой щит - драгоценную реликвию, принесенную основателями их дома с правых берегов Рейна. Говорят также, что замок Гилдуинов, в котором они укрываются, представляет собой сооружение неслыханной роскоши и архитектуры, многократно превосходящее любой из замков, которые ты видел и вообще когда-либо увидишь. Но опять же: где он находится и как к нему пробраться этого не знает никто. Можно было бы сказать, что ужасные Гилдуины - это миф, если бы ... если бы не эта страшная реальность...".
Так говорил мой отец. И потом, стоя на кладбище и уткнувшись в его рубашку, стремясь спрятаться и от ненастья и от удивительно горького чувства одиночества, нахлынувшего на меня так, что я стал задыхаться от перехваченного им дыхания и жадно пытался схватывать, сглатывать холодный осенний воздух - я все ещё продолжал и видеть картину сотворенного насилия и слышать этот рассказ о чудовищном роде Гилдуинов, творящих беззакония, которые почему-то попущает Господь.
Потом мы сидели в гостинице аббатства, решив переждать непогодицу, прежде чем отправится домой. Точнее, я сидел и смотрел как отец ходит по залу, не присаживаясь ни на мгновение за те часы, которые мы там провели. Со стороны показалось бы, что он просто пытается согреться от той стужи, которая проникала в окна и с которой не справлялся разведенный в углу огонь. На самом же деле он обдумывал обстоятельства происшедшего и пытался предугадать те последствия, которые должны были за ними произойти. Наконец, он остановился и сказал : ;"Вот что, Адсон, твоя жизнь сейчас определенно находится в опасности. Моя - тоже, но это не важно. Имеющиеся у меня люди и средства, к сожалению, недостаточны для того, чтобы обеспечить твою неприкосновенность. Единственный способ уберечь тебя - это упрятать тебя в одном из монастырей, таком, который был бы не слишком крупным и достаточно непривлекательным, чтобы тебя не стали искать там. А искать тебя будут. Тебе придется стать монахом, но это лучше, чем быть убитым. Тебе придется жить особенной, отличной от моей жизнью, но это лучше, чем постоянно как сталкиваться с беззакониями, творящимися в этом мире, так и самому неминуемо их совершать. Твои мысли и стремления будут иными, чем у меня и у таких, как я, и это прекрасно. Это мое окончательное решение, Адсон. Собирайся. Приведи себя в порядок и умойся. Как только распогодится, мы выезжаем в Бриксию, где я представлю тебя местному аббату и где, я думаю, ты обретешь довольно надежное убежище".
Едва прекратился ливень, оставив в воздухе мелкую колючую морось, отец, поспешая, потребовал у коннетабля свою лошадь, посадил меня перед собой, и мы одни, без сопровождения слуг, поскакали по дороге, сквозь туман и сгущавшиеся сумерки уводившей в сторону далекого Безансонского диоцеза. Из луж и слякоти расквасившегося пути конь цеплял копытами сгустки грязи и швырял их в пелену обволакивающей нас тревожной неизвестности. От простиравшегося повсюду, сколько хватало глаз, безлюдья и запустения, мне становилось не по себе, и поэтому неудивительно, что когда, сначала вскарабкавшись на возвышенность с неприветливыми и будто вымершими деревушками Круазет и Шарриер, оставляя слева долину Отрон, чтобы пересечь потом другую мозельскую долину Ажоль, мы въехали в густой лес, ощерившийся от осенней непогоды, мне охватило жуткое ощущение, что он вот-вот набросится на нас, чтобы растерзать. Между тем день подходил к своему концу, и, когда мы выехали из леса, то по причине усиливавшейся темноты я уже с трудом разглядел дорожную развилку, дававшую жизнь ответвлению, уходившему вправо в направлении Лангра. А потом я не мог разглядеть уже ничего вокруг себя, безуспешно пытаясь высмотреть хоть что-нибудь в непролазной, объявшей все темноте. Но скоро, по тому, как лошадь стала сбавлять ход, я ощутил, что мы уже недалеки от цели. Отец неожиданно свернул куда-то с дороги, уверенно ориентируясь в полнейшем мраке, и через некоторое время перед нами вырос высокий частокол ограды, широко охватывающий внутреннюю территорию монастыря. Пренебрегая приличиями - была уже глубокая ночь - отец принялся стучать в запертую дверь кованной рукоятью своего хлыста, но, из-за позднего времени, ему долго никто не отвечал. Однако он продолжал тарабанить, сопровождая свои стуки громкими окриками и, наконец, изнутри задвинулся засов, дверь приоткрылась и в её проеме показалось настороженное и сильно заспанное лицо привратника. Только тогда отец слез с лошади и сказал : ;"Наконец-то. Я уже думал, что нам придется заночевать на улице. Я - граф Сегоберт, а это мой сын Адсон. Немедленно впустите нас. Позаботьтесь о моем коне и обязательно накормите его. Нас же самих проведите в гостиницу. И срочно вызовите аббата, если же он спит - разбудите. Мне надо с ним переговорить". Монах был несколько испуган и забыл даже проговорить приличествующее данному моменту "Benedicte", но затем засуетился, открыл ворота и впустил нас во двор.
Арульф - так звали привратника - провел нас потом к небольшой постройке, стоящей поодаль от всех остальных и представлявшей собой довольно убого и грубо сделанное помещение, специально предназначенное для приезжих. Здесь было, пожалуй, слишком холодно и сыро для того, чтобы ощущать себя в гостях. Поставленное недавно, судя по насыщенному запаху свежевыструганных половиц, оно было не только не обжито, но и лишено каких-либо бытовых деталей, которые сообщили бы ему удобство и простой, дешевый уют. Промокший до нитки во время столь дальнего пути, я чувствовал озноб, досадовал на невозможность переодеться или унять дрожь у жарко растопленного огня, и пытался согреть озябшие пальцы собственным дыханием, ещё сохранявшим способность приносить тепло. Наконец, заскрипела входная дверь и в комнату вошел невысокий, полноватый человек, обнаруживший, когда он снял капюшон выразительно-умные глаза и лицо, не лишенное благородства черт, улавливаемого и в бледности щек, впалых ровно настолько, чтобы указать на широкие, красивые скулы, в то же время не подчеркивая их, и в изгибе тонких губ, в котором присутствовал отблеск иронии, сопутствующей только характерам возвышенного склада. Человек, по-видимому бывший аббатом, в ночной покой которого столь бесцеремонно вмешался отец, ни в коей мере не олицетворял собой раздраженность или неприветливость, а, напротив, широко простер свои руки и с радостным видом обнял отца и поцеловал : ;"Любезнейший Сегоберт, верный друг мой, как я счастлив тебя видеть. Неожиданные визиты так часто преподносят отраду для моего сердца. Чем обязан твоему приезду в такой поздний час да ещё в столь сумрачную погоду ?" "Дорогой Одо, меня сюда привела, увы, не праздность и не потребность вкусить с тобой опять прекраснейших плодов интеллектуального труда, рождаемых всегда в душевном напряжении, на которое, в силу случившихся трагических обстоятельств, я не имею ни права, ни расположенности. Познакомься - это мой сын Адсон, единственный теперь отпрыск мой". ;"Как ?!" "Произошло нечто, по своей ужасности превосходящее все, что ты можешь вообразить. Горе мне, мой друг - моя жена и двое сыновей мертвы". Отец сорвался на слезы и, как я прятался ему под плащ, чтобы умерить собственную слабость, так и он теперь должен был искать утешения у Одо в скорбном сочувствие его речей : "Как, неужели же нет более на белом свете твоей Ирминеды, царевны среди всех дочерей земли, всегда исполненной гордой стати и столь глубоких дарований, что отличали её от иных женщин ? Неужели же только в памяти моей останется её живой взгляд, отражавший как красоту и целомудрие души её, так и умудренность ума, сообщавшего осмысленность и всему окружающему ?" Одо был растерян до такой степени, что - странное дело - как будто бы даже потерял самообладание, будучи впечатлен этим известием до чрезвычайности сильно, складывая при этом руки в молитвенном жесте и прислоняя их к дрогнувшим губам. Впрочем, секрет его ранимости разъяснился немедленно, когда отец, до сих пор словно ожидавший укоров и избегавший смотреть аббату в глаза, сказал, что теперь, наверное, он, Сегоберт, навлечет на себя со стороны Одо презрение и несмываемый гнев, ненависть, которую он ничем не сможет искупить. ;"И ты будешь сто раз прав, проклиная меня в своем уме", - сквозь зубы выговорил он, после чего, наконец, все же взглянул в глаза своего друга - так смело бросаются только в схватку с врагом, в битве с которым ты обречен заранее. "Видит Бог, Сегоберт, - ответил тот, - я и в мыслях не имею упрекать тебя за то, что ты не уберег её, но мне сейчас тоже очень больно. Прости мне неподобающую мне влагу на глазах моих". "Нет, это ты прости меня, Одо. Я ведь все знаю. Знаю, что ты стал монахом из-за того, что она предпочла меня тебе. Поэтому за неё я всегда был ответственен прежде всего перед тобой. Для меня она была слишком большим счастьем, испытывать которое я был чересчур недостоин, и - что я могу сказать, друг - видимо Бог посчитал, что она нужнее на Небесах, откуда её чистейшая душа сможет отвечать на молитвы каждого из нас. Крепись, Одо, и прости". Оба они ещё некоторое время пребывали в горестном молчании, пока отец не прервал давившую на всех тишину : ;"Не только это тяжелейшее известие привело меня к тебе, но и потребность, в память о наших многолетних отношениях, не раз проходивших проверку на прочность, просить тебя об одной более чем насущной помощи. Есть все основания подозревать, что дальнейшее пребывание Адсона в миру может быть чревато посягновением на его жизнь, рисковать которой было бы с моей стороны не меньшим преступлением. Одним словом, подобно тому, как ранее и я взял все бремя ответственности за дорогую нам обоим женщину на себя, и не вынес, к позору, этого испытания... Я прошу теперь тебя принять Адсона под свое покровительство, чтоб уберечь его, её сына, и, таким образом, сделать хоть отчасти то, что не удалось мне. Я прошу тебя причислить Адсона к числу ведомой тобою общины". Подобная просьба вызвала крайнее изумление у Одо : ;"Но помилуй, что такое ныне наша обитель, как не средоточие забвения и скудости ? Есть очень много монастырей, которые были бы достойны доблести твоего рода, и чье громкое имя сейчас поистине украшает строящееся здание христианского мира. У нас же все позади, да и какое возможно будущее после того, как обитель была превращена в публичный дом ? Мы разорены, мой друг. Я вынужден был даже упразднить должность хранителя вина, потому что у нас более нечего хранить мы не смогли собрать самый необходимый минимум винограда. А это решение вызвало в свою очередь радость эконома, потому что ему больше не придется выделять масла для лампы, что должна гореть в кладовой. В Клюни спят с зажженными свечками, а у нас свечек только-только, чтобы ставить их перед образами и сны мы проводим в окружении демонов. Для своих намерений ты выбран неподобающее место, друг." ;"Поверь, мое решение не безрассудно. Я осведомлен о твоих трудностях и намерен их решить. Ты же понимаешь, что лишившись супруги и отдавая своего последнего сына в монахи, я не имею возможности сохранить в потомстве свои земельные владения, и потому считаю необходимым передать твоему монастырю значительнейшую их часть. С моими землями ты ни в чем не будешь испытывать недостатка." ;"Но дело не только в нищете наших средств. Наш устав не позволяет нам принимать в свои ряды столь юных созданий. Ты знаешь, что наличие хотя бы полных семнадцати лет обязательно". ;"Да - для того чтобы стать монахом. Но пусть он первое время просто поживет у тебя, получит необходимое воспитание и образование. Ты мог бы пойти на уступки столь крупному пожертвователю как я". Губы Одо исказило некое подобие улыбки в которой отразилась та смесь забавности и унизительности, что заключалась в представлении старого друга как основного его жертвователя, но потом, немного помолчав, он ответил : ;"Хорошо. Можешь ныне не беспокоиться. Конечно, в силу собственной занятости, я не буду иметь возможности сам следить за возмужанием Адсона, но есть среди нас человек, попечению которого, не сомневаясь, можно отдавать и любимейшее свое детище. Монах Вирдо - один из самых умудренных наших собратьев, ведущий чистую жизнь, достойную истинного воспитателя. К тому же он и сам сейчас нуждается в помощи. Ведь его ведению препоручен сад с растениями, выращиваемыми для поддержания в каждом из нас надлежащего телесного здоровья, без которого невозможно вести борьбу и с душевными недугами. Врачеванию болезней у нас уделяется не меньше внимания, чем и исцелению духа, а потому кормление медицинского садика питанием добросовестного труда находится под мои личным вниманием. Я вижу, что Вирдо, отягощенному немалыми годами, уже не всегда бывает по силам выполнение этой задачи, требующей значительных физических усилий. Пусть будет отпрыск твой определен ему в ученики к обоюдной их пользе, и да не будешь ты печалиться о будущем своего сына !" Растроганный отец обнял плечи Одо и промолвил : ;"Благодарю тебя, верный друг мой. Твое сердце как всегда не знает ни черствости, ни лицемерия. Я знал, что ты сможешь выручить меня, и я не ошибся". Потом он обратился ко мне, приказав выйти за дверь, а им еще, видимо, было что сказать друг другу как мужчинам, как рыцарям, как пленникам чести.
Когда я вышел на улицу, мне показалось, что на открытом воздухе даже теплее, чем в этой промерзшей насквозь гостинице. Судя по тому, что звезд видно не было, небо по-прежнему затягивал густой покров облаков, целый день так неподвижно висевших над землей. Вдруг тихо, осторожно, словно бы на ощупь, боясь оступиться или же сбиться с пути в той глубине ночи, в которой каждый из нас становится слеп, опять пошел дождь, как будто бы целуясь с землей. Потом показалось, что именно он постучал в ворота монастыря, то ли просясь на ночлег, то ли в шутку, то ли потеряв самого себя. Откуда-то, ворчливо, опять появился привратник и с явным неудовольствием поспешил разузнать, кого это опять приволокла беспутица ночи. Я видел, как он беседовал с полуночными гостями и как потом он повел их куда-то в глубину монастыря, миновав, почему-то, гостиницу. Мне было очень грустно и одиноко. Я чувствовал, что моя старая жизнь уходит навсегда, и что в новой от неё уже не останется ничего. Я снова заплакал.
Мое прощание с отцом, который вскоре вышел на улицу, было очень тяжелым и исполненным непередаваемо горьких чувств. Но оно было коротким в той же мере, в какой являлось и не выносимым : отец не затягивал с расставанием, своей болезненностью тяготившего его нисколько не менее меня. И вот он уже вскочил на своего скакуна, немножко повременил, осаживая его и крутясь на месте, а потом рванулся вскачь, оставляя мне лишь слушать все более глохнувшие стуки копыт, которым я внимал очень долго, пока они не слились с шелестящими звуками падающего дождя.
...Я проснулся с несколько тяжелой головой, щурясь от яркого, такого неожиданного после многодневной облачности солнца, висевшего в окне прямо напротив меня. Внезапно оно исчезло, и вместо него я увидел лицо склонившегося ко мне аббата, уже давно безуспешно взывающего к пробуждению. Когда я с трудом поднялся, он повел меня из дому, ведя по наезженной слякоти монастырского двора: ограда, казавшаяся мне ночью непроходимой, была построена лишь на треть, и с восходом солнца крестьяне подвозили новые и новые бревна для того, чтобы продолжать строительство забора. Теперь мне смешно было думать, что отец так долго стучал в ворота, тогда как и справа и слева их можно было легко обойти. Я тер слезящиеся от света глаза и беспорядочно оглядывался по сторонам. Негромко и размеренно звонил колокол и под его позывные удары, подобрав полы длинных ряс, дабы уберечь их и не извозить в намешанной грязной жижице, монахи выходили из церкви и нестройной процессией, кто - перепрыгивая через лужи, кто - осторожно обходя совсем раскисшие места, направлялись к высокому строению , вкруг которого угнездились несколько обособленных домов. Если на них не было капюшонов, то можно было видеть, как некоторые из них радуются распогодившемуся утру, иногда подставляя ладони солнечным лучам и делая какие-то жесты своим спутникам, сопровождая эти причудливые телодвижения оживленной мимикой.
Как я потом уяснил, все торопились на обычные для первого часа собрание монастырского капитула. На нем Леотгар, занимавший должность старшего певчего, раскрыл на пюпитре принесенную с собой книгу и пригласил к её чтению монаха, в котором, в том числе и по его не выспавшемуся лицу, я узнал привратника Арульфа. Очевидно, что сегодняшние ночные и неоднократные гости бесили его тем сильнее, чем яснее для него был тот факт, что проход-то в монастырь был совершенно беспрепятственным. Зазвучавший голос его оказался не таким громким, как можно было бы заключить из того, как сильно он ругался накануне. Теперь же, торопливо, скороговоркой, то и дело сбиваясь, кивая головой в такт своим речам, словно отмечая пунктуацию, он едва слышно принялся перечитывать отмеченное Леотгаром место. Когда он закончил, в центр зала вышел аббат и произнес речь, в которой, кроме того, что он коснулся некоторых вопросов текущих будней киновийной жизни, Одо представил меня братии : ;"Перед вами отрок, который является сыном весьма славного человека, не только не запятнавшего себя ни одним из пороков, что процветают в миру к позору каждого из нас, ибо что мы сделали для того, чтобы мир стал лучше ? Но и всячески уважаемым и достохвальным за милосердие и благородство устремлений, которые никогда не покидают его. Отныне сие юное дитя прибудет среди нас для духовного питания и упрочения девственности его чистой души. Да не будем мы теми, у кого просят хлеба, а мы подаем ему камень, а Арульф, - тут Одо нашел глазами стушевавшегося и устыдившегося сторожа, - торопясь, прочел это место наоборот. Что же, Арульф, неужели мы на просьбу о камне должны подавать хлеба ? Так вот, поистине, если сумеем дать благие дары детям нашим, то и Отец наш небесный даст искупление наших грехов. Не без внутреннего треволнения за его судьбу вверяю я Адсона всегда присущему вам духу непорочности и любомудрия. Наипервейшим же из воспитателей его назначается Вирдо, наипаче почитаемый среди нас за святейшие качества своей души. Кроме того, собратья, в нашей общине ещё одно, более обширное пополнение. Сегодня ночью, пока вы отдыхали перед хвалитнами, нас удостоили своим посещением отцы из греческой земли. Воздадим им наш глубокий почет и неизмеримую радость, которую долженствует испытывать нам при встрече со столь именитыми гостями. В свою очередь, их посещение - это дань уважения истории нашей некогда величайшей обители. Сюда их привели паломнические стремления, достойность которых мы должны оправдать своими высокими нравами и красотой нашего внутримонастырского быта, лишенного безделья и его противоположности - суетливости. На время своего пребывания отцы будут споспешествовать нам не только в духовной жизни, но и в повседневных трудах. По собственному своему желанию, и я выражаю им особенную признательность, они будут следить за состоянием рыбных ресурсов в течении реки Брешиа, а за счет этого повысится и разнообразие яств на ваших столах".
Последнее замечание вызвало одобрительный гул в капитуле. Нашелся один из монахов, который стал пальцем тыкать в сторону присутствовавших на собрании греков, все же остальные совершили молчаливое ante et retro в знак почтительного приветствия. ;"А теперь об очень тяжелом и неприятном, - прервал всеобщее возбуждение аббат. - Вы знаете, что два дня назад исчез и с тех пор не давал о себе знать известный всем Стефан, работавший на нашей прачечной. Мой долг сообщить вам, что в результате расследования обстоятельств его исчезновения, я пришел к заключению, о котором, в тайниках своего смятения, думал, наверное, каждый из вас. Я мог бы промолчать, дабы не поощрять в вас смуты сердечной, не погружать вас в пучину уныния и не содействовать пристрастию к измышлениям, пагубным для ума. Но по всем соображениям Стефан пропал в районе у старого города, в месте, которое большинство из вас называет полем змея или же логовом змея". Присутствующие словно обмерли, а потом раздалось несколько испуганных восклицаний, и некоторые из монахов в ужасе закрыли лицо ладонями. Тот из них, который проявлял свою неуравновешенность, тыкая пальцем в греческих гостей, теперь вздернул этот палец в небо и воскричал : ;"Змей вернулся ! Крылатый зверь, исчадие бездны ! Он опять возвратился, чтобы всех нас пожрать, это ужасный коршун и аспид, рожденный от блуда саранчи и скорпиона. Это выкормыш геенны, где грешники кормят его своей печенью, и ими ему по-еврейски Аваддон. Сказано в старинных книгах : он будет иметь 10 тысяч голов и в каждой голове по 10 тысяч ртов, а в каждом рту по 10 тысяч языков, и каждый из этих языков 10 тысяч раз в секунду будет проклинать Господа". ;"Прекратить ! - Раздался гневный голос Одо. - Всем повелеваю приструнить свои языки, 10 тысяч раз извергающие безумные речи. Немедленно престать давать волю больному воображению, будоражащему сознание, и иллюзиям, цепенящим его. Да, мы после долгого времени опять столкнулись с подобным фактом, всецело вселяющем дрожь в ваши сердца и наполняющем потрясенные умы суеверием. Для меня тоже узнать об этом было все равно, что разбередить незаживающую рану. Но прошу вас не поддаваться панике, питомцы мои сердечные. Малодушный страх, обуяющий нас подчас, недостоин тех, кого Господь принял под крыло свое. Ну, что ты так хочешь сказать, Отрик ? Ладно уж, говори, ибо твоему мнению обычно сопутствует рассудительность. Но только не извлеки из уст своих мнения наивного и пустого". Из толчеи вышагнул щуплый монах, более всех других в монастыре известный своей ученостью и беспокойным умом, искавшим утешения в книгах. ;"Иона не прав, - сказал он, несколько приподнимая голову и оглядывая всех свысока, так как его тяжелые вежды от рождения не хотели открываться целиком и его взор видел мир лишь частично. - Не ангел бездны сошел нынче к нам. Ибо чем мы прославились, чтобы он посетил нас ? Какими своими подвигами разгневали мы его ? Наша жизнь, Иона, не так безупречна, чтобы навлечь на себя его гнев. Мы недостаточно самоистязаем свою плоть, а власяницы наши - как синдоны расшитые, рукава оторочены мехом. Мы камнями не побиваемы и в козьих шкурах не скитаемся по пустыням, в милоти облаченные да в струпья. Напротив, к туфлям каблуки подбиваем и у портных заказываем себе хитоны, облегающие ягодицы и делающие из нас скорее потаскух, чем монахов. О, дух Юберта тяжкий, не отпускающий нас даже из преисподней...". "Пожалуйста, покороче, Отрик, о нравах наших ещё будет досуг побеседовать." - заметил аббат. "Хорошо. Видели ли вы, братья, что на небе не стало заметно созвездия Дракона ? Уже несколько дней я не наблюдаю его среди всех остальных . Когда я услышал сейчас, что великая птица, питающаяся людьми, вновь появилась в наших краях, я понял, что она - не что иное, как дивное созвездие, ожившее и сошедшее на землю. Все происходит так, как написано в Сивиллиных книгах, в которых предсказывается, что перед концом света все созвездия сойдут со своих мест и воспрянут, принимая новые обличья. Вот стихи, которые я вычитал у Кассиодора : И оживут соцветья звезд. Псы Гончие сорвутся вдруг с цепей и вознесутся ввысь подобно птицам Феникс и Халкедрий. Они падут, пронзенные копьем, что было раньше кистью Живописца. Соединив Корму и Киль и Паруса и мачты перекрестья из Креста соделав, Часы исправив в компас, в пушку Телескоп, Волк в плаванье уйдет пиратом. Медведица в собачку вновь обратится, в Цефея - Андромеда, а Персей обличье примет страшного Кита, чей жертвой станет царь коварный, прикованный к скале Кассиопеей..." ;"Довольно. Спасибо, Отрик, и ступай на место. Твое мнение интересней, чем бессвязные речи Ионы. И, однако, братья, я вас ещё раз прошу не поддаваться никаким соблазнам, которые предоставляет фантазия. Сегодня ночью я ещё раз попытался для себя восстановить хронику тех потерь, которые мы понесли с того момента, как я возглавил монастырь, и которые, безусловно, должны были случаться и ранее. Нисколько не для того, чтобы упрочить сейчас ваши страхи, а ради отрезвления от всего, что представляется вашему уму, ради назидания и заключения правильных выводов, которые послужат дальнейшей безопасности каждого, я хотел бы напомнить об этих случаях, занесенных в анналы нашей обители. Итак, в 910 году принял я под свое попечение ваши души, возжелавшие духовной благодати. И уже через четыре месяца, в начале июня, мы потеряли одного из нас. Элизиус, о котором многие до сих пор не забыли, направлялся вместе с Фридерумом к северным виноградникам, ибо эти братья отвечали тогда за своевременно заготовление яства, произраставшего в те времена в изобилии, пока варвары не разорили все сады. Проходя стороной от старого города, Фридерум, предстоящий здесь и ныне, не заметил, как юный Элизиус, все время шедший позади, более уже не следовал за ним. Повсюду простиралось лишь ровное поле, трава которого слишком коротка, чтобы упрятать кого-либо. Хотя Фридерум и был весьма удручен, этому случаю не придали тогда такого значения, которым мы наделяем его ныне, ибо все посчитали, будто Элизиус нарочно покинул своего спутника, так как разочаровавшись в своей недолгой монашеской жизни, не отвечавшей его побуждениям, он решил таким образом оставить и самый монастырь. Когда в сентябре наш собрат и подвижник Артольд не вернулся в обитель после своей, надлежащей эконому, инспекции дальних мельниц, предположений о бегстве возникнуть уже явно не могло, ибо Артольд всегда отличался истинным усердием в молитвенном делании и был неотъемлемой частью нашей семьи, потерять которую было все равно, что лишиться руки. Никто тогда, разумеется, не принял в расчет, что маршрут его пути во многом совпадал с тем, который был у Элизиуса с Фридерумом, и, в сердцах погоревав, мы посчитали его убитым - простой ли вор напал на него, душегуб ли, отставший ли и бесчинствующий воин языческого племени. Глаза всем открыл вопиющий по своей наглядности случай, происшедший той же зимой в момент, когда снежное покрывало плотно укутывает землю и позволяет по оставленным следам проследить передвижения и зверя и человека..." ;"Это был Эббо! - воскликнул неутомимый Иона. - павшая с неба птица вцепилась в него когтями и вознесла высоко ввысь !" ;"Ты видел это ?" - спросил протиснувшийся к нему Арульф. ;"Нет, но святой Мартин открыл мне это во сне". ;"Ты видел святого Мартина ?" "Да. Вместе со святым Реми они несли коготь этой птицы, равнявшийся их восьмикратному росту". "Везет тебе, Иона. Во сне таких святых видишь. А я по ночам не сплю из-за того, что эти ворота повесили...". ;"Итак, - продолжал тем временем аббат. - Благочестивейший мирянин Эббо был послан нами к лесу, ибо вследствие усиливавшихся холодов нам не стало хватать того тепла, которое дарит горящее дерево. Заготовленные с осени, деревья нуждались только в перевозке, и к утру Эббо должен был возвратиться назад. Но этого не произошло. Более того, его лошадь, запряженная в телегу, в испарине примчалась в монастырь, свидетельствуя о том, что с её хозяином что-то случилось. Тут же я призвал к себе всех тех, кого не покинуло мужество и, мы ринулись в направлении леса, решив во что бы то ни стало защитить Эббо, если ему угрожала опасность, и только молили Бога, чтобы наша помощь не оказалась несвоевременной. Мы бросились вперед, торопясь по его следам, шедшими рядом с отпечатками, оставленными его конем и телегой. Вскоре мы заметили, что эти следы разминулись, и Эббо в одиночку свернул в сторону. Пройдя же ещё немного, мы увидели, что характер следов резко изменился. Складывалось полное впечатление, что в этом месте Эббо ползал на четвереньках, словно прячась или уклоняясь от чьей-то атаки. Однако, никаких иных отметин обнаружено не было. Более того, нам не удалось найти его ни живым, ни мертвым. В крайней озабоченности вернулись мы в монастырь, и с тех пор в общине появились разговоры о том, что, видимо, огромная птица, подобная змею летучему, нападает на тех, кто проходит лугами в левой стороне от старого города - разговоры, которые, к сожалению, потом ещё неоднократно находили себе пищу для дальнейших кривотолков, а иногда - немыслимого словоблудия. Уж сколько раз предупреждали об опасности тех мест, все равно находились те, кто либо не прислушивался к этим словам, либо, как последний безумец, искал лиха на свою голову. Потому в поле змея мы ещё не раз теряли людей, и это наполняло меня неизбываемым чувством вины за участь каждого из них. Что я могу сказать вам, и какие слова утешения мне подыскать ? Ясно, что тайная, не находящая никакого объяснения опасность, существует, но все же она много меньше тех угроз, которые исходят от полчищ норманнов и венгров, изрыгающих бедствия, не сравнимые ни с чем. Давайте же попробуем избыть весь страх, которым вместо покаяния наполнены у многих сосуды сердец. В каком-то смысле случившееся ещё раз разнит для нас монастырь и мир, лежащий во зле. Нам нечего бояться, пока мы за стенами родного нашего пристанища. Здесь Господь опекает нас и лелеет своей любовью. Здесь жизнь для нас - средоточие всего отдохновения, которого только может сподобиться душа. Выкорчеваем же из сердец все раболепие перед ужасными образами дьявольскими, рассчитанными на то, чтобы запугать нас и обильно с этой целью порождаемых. У меня все, братья." Монахи тихо перешептывались друг с другом, обменивались своими тревожными впечатлениями и предчувствиями. Не смотря на все увещания аббата, у каждого из них было свое толкование загадочных исчезновений, которыми они немедленно спешили поделиться с соседом.
Я же в это время оглядывался, пытаясь угадать, кто из столпившихся рядом монахов назначен моим наставником. Может, этот, с покрасневшими от бдения и нежными от недоедания веками, губы которого слегка шевелятся от чтения псалмов, непереставаемого все то время, что я за ним наблюдал. Но наверняка уж не тот, что стоит сейчас в некотором отдалении от всех остальных, прислонившись к стене, и, видимо - по темным теням, окружавшим мутноватые глаза, смотревшие вокруг безучастно, по изнуренному, сильно осунувшемуся лицу - точимого червем болезни. Когда он услышал о возможности увеличения монастырского меню, его губы растянулись хищноватой улыбкой, похожей на ухмылку, обнажив при этом подкосившиеся зубы, от вида которых мне стало не по себе. Вдруг кто-то больно ущипнул меня за локоть. Не успел я вскрикнуть, как услышал возле самого уха заговорщицки приглушенный голос : ;"Его здесь нет". Я оглянулся и увидел рядом с собой монаха, выражение лица которого - кстати, выглядевшего довольно неопрятно из-за того, что все братья не брились уже недели две, и это дало на их щеках и подбородках всходы иногда неприятнейшей щетины - было весьма довольным и хитрым. Он весело смотрел на меня и даже один раз подмигнул. Когда я спросил его, кого он имеет в виду, монах ещё раз наклонился, касаясь губами моего уха, словно дромадер склоняющийся к бедуину, и так же таинственно и тихо ответил : ;"Вирдо". Разогнувшись, он снова поглядел на меня радостно и чуть ли не с восхищением, а потом сунул руку в карман и сначала, не доставая целиком, показал мне краешек очень тонкого хлебца - облатки, которую он не съел ещё со вчерашней трапезы, а затем лукаво подмигнул и проговорил : "Смотри, что у меня есть. Ты хочешь ? Она такая вкусная." Монах быстро глянул по сторонам, наблюдая, не привлекает ли он внимания своих собратьев, а затем скинул капюшон и показал свои негустые волосы, обращая на них мой взгляд постукиванием пальца по темени. Столь же резво он вновь набросил свой огромный капюшон и сказал : "Ну как, видел ? Мои волосы почернели ! Только - тс-с-с, никому не говори. Еще вчера я был бел, как наш аббат, и даже сильнее его. Я замечал, что с такими седыми волосами людей часто уносят на кладбище, а я этого очень боюсь. Я долго его упрашивал, и Вирдо, наконец, приготовил мне мазь - ты представляешь - просто смешав воск с пеплом одной из трав, что растет у него на огороде. И все ! Он даже не колдовал над ней и не закапывал на ночь в землю как делала моя матушка. А вчера после полуночницы я намазал ею свои волосы, и ты видел эффект - они все почернели. И теперь слушай. Ты видел, что у меня в кармане ? Плюс ещё один хлебец ты сможешь получить после вечерней трапезы, но при этом должен помочь мне. Идет ? Я слышал, тс-с-с, что у него на огороде растет ещё более чудесная трава, которая способна уменьшать людские годы. Точно известно, что змеи молодеют от неё - это все знают. Но если такое происходит со змеями, то и на человека она тоже должна подействовать. Ведь разве человек не подобен во всем змее ? Господь сказал : Будьте как змии, а мы должны исполнять все, что Он открыл нам. Когда ты придешь в дом Вирдо, первым делом выпроси у него эту траву и разузнай секрет её приготовления, и Господь тебя возблагодарит. Да и я в долгу не останусь. Хорошо ?" "Киза ! - раздался вдруг зычный голос приора Сульпициуса, который, заняв на небольшом возвышении место аббата, давно уже о чем-то говорил. - Киза, подойди-ка ко мне, любезный брат." Мой собеседник тут же принял приличиствующе достойное, соседствовавшее, однако, с подобострастием выражение лица и чуть ли не бегом поспешил к центру зала. В его на удивление низком поклоне приору было бы нечто похвальное, если б своей преувеличенной почтительностью он не стремился заслужить право не снимать капюшон. Сульпициус тем временем продолжал : ;"Итак, сегодня утром во время богослужения произошел вопиющий по своей зловредности случай. Как только, проснувшись по утру в бодром расположении духа и возжелав без меры новых радостей душевных, наши братья, подобные овцам невинным, ведомым Небесным Пастырем, вошли в церковь и запели: ;"Господи, Боже мой ! Ты одеваешься светом как ризою", перед ними появился священник, риза которого со спины, да ещё и со стороны мягкого места, была так замарана большим черным пятном, что это вызвало крайне неуместный смех у тех, кто пришел туда ради приобщения духовных даров. Но что такое, Киза, почему ты не снимаешь свой капюшон ?" ;"На ночь я забыл запереть двери в церковь и мою голову сильно просквозило. Из-за этого она сокрушена как воинство Иавина - царя Ханаанского и боится любого дуновения". "Неуместно сравнение твое, Киза, ибо Иавин был врагом дома Израильского и, надеюсь, не таков светлый ум твой. Да излечит тебя Господь и сними немедленно капюшон." Незадачливому Кизе пришлось обнажить свою голову, и недоуменный ропот пронесся по залу. ;"Что с тобой случилось, милейший собрат ? Вчера кудри твои были подобны белизне снега ?" - вопросил нахмурившийся Сульпициус. ;"Я не могу понять. Когда я проснулся, то увидал, что волосы мои сравнились с углем древесным. Наверное, это какая-то заразная болезнь и, если позволите, Эмират поместит меня в свою лечебницу". ;"Хорошо ! Но только для того, чтобы сделать тебе обильное кровопускание, которое вернет тебе чистоту мыслей. Твой разум, должно быть, весьма замутнен. Волосы не могут сами собой почернеть и, очевидно, ты выпросил у Вирдо снадобье, которое способно перекрашивать людские локоны. Это весьма дурной поступок с твоей стороны, Киза, ибо ты сроднился с женщиной, ради обольщения, сулящего ей утехи прелюбодеяния, прибегающей к умащению лица и окраске волос в цвета, возбуждающие похоть !" ;"О нет, светлейший отец мой, я был ведом вовсе не желанием уподобиться столь низкому созданию, а стремлением точно следовать словам Священного Писания". ;"Что же такое написано в Библии, что может оправдать твою срамоту ?" ;"Много там есть глубочайших мест, призванных водить наш дух к истине, но я руководствовался шестой главой от Матфея: А ты, когда постишься, помажь голову твою". Киза умолк и ненадолго во всем зале воцарилась полная тишина. Сульпициус, лицо которого попеременно принимало выражение гнева, презрения и, наконец, крайне глубокой задумчивости, прервал её следующей речью : ;"Воистину недостойно, Киза, чтобы должность ризничего в монастыре с такими традициями, как наш, занимал человек со столь пустой головой, всячески измышляющий и превратно толкующий слова Писания на потребу нижайшему низкопоклонничеству перед самим собой.
Также и заботы Вирдо служат не удовлетворению наших паскудных желаний, а цели укрепления в нас подвижнической силы и святейшему долгу спасения человеческой жизни, чему и я ему бесконечно обязан. Выслушай же, Киза, ни тебя ни меня здесь ещё не было, когда Вирдо уже трудился здесь и однажды стал свидетелем чудного знамения, возвещавшего людям о грядущих несчастьях. В тот день среди дня, когда ветра не было и в помине, колокол сам зазвонил на нашей часовне. Как он рассказывает, сначала все подумали, что это волк, как в истории уже было не раз, пробрался в нее, закусил веревку и принялся трезвонить. Но потом оказалось, что знамение ещё страшнее, и что колокол сам зазвонил, словно указывая но то, что в скором времени не найдется никого, кто бы смог это сделать. Тогда началось великое бесплодие земли и голод такой, что посылается только за очень большие прегрешения. Многие из вас помнят или слышали от других, как вся долина Мозеля, ранее столь изобильная, и земли к югу от неё плоть до самых дальних отрогов Юры, были поражены бедствием поистине великим. Ниспосланная Богом засуха и страшное пекло выжигали и обращали в пепел все, что было взлелеяно кропотливым человеческим трудом. Принесенные землей плоды оказались столь ничтожны, что даже самые богатые фамилии, распродав свое имущество, не могли обеспечить себе пропитание, которое поддержало бы их жизнь. Многим показалось, что настал Ад на земле, ибо не счесть свидетелей того, как обезумевшие от нужды люди, пожрав всех ежей и филинов и гадов шипящих, стали убивать и поедать себе подобных, а кто не осмеливался убить, тот решался на ещё более страшные преступления, откапывая для съедения трупы умерших, погребенные в бездонных общих могилах. Поистине происходило все так, как открыто было Иеремие: И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего. Все помнят эти человекоубийства, плотоядия а также последовавшие за ним запустение сел и городов. Помнишь и ты, Киза, ибо в Писании, которое ты так хорошо знаешь, про это написано : И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и лешие будет перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою. И люди так сильно умоляли тогда о прекращении пламени, исторгаемого небесами над тлевшей землей, что сначала осенние дожди хлынули так сильно, что все дороги скрылись под водой, и люди на лодках ездили от деревни к деревне, а наступившая после ранняя зима сковала все настолько лютым морозом, что те, кому посчастливилось остаться в живых, ловили руками на льду и среди сугробов ослабевших от холода птиц. Вот что творилось, Киза. Конец света считали тогда очень близким. Наша семья, владевшая землями вблизи Меца, вымирала как и остальные в округе. Один за одним родные покидали этот мир, и не могу не сказать, что мы, живые, весьма завидовали им. Так как мои отец и мать тоже находились при смерти, я однажды собрался с силами и отправился в лес на охоту. Долго блуждал я, пока не увидел обессилевшую лань. Она уходила от меня медленнее, чем я шел за ней, а когда я схватил её, она упала и более уже не двигалась. Я обрадовался, что смог добыть пропитание, но вдруг от куда-то - мне показалось, что из чрева земли - вырос страшный всадник, подобный теням ночным. Он сам был огромного роста и конь его был громаден и поистине ужасен, ибо пасть его дышала огнем. Всадник держал в руке щит с изображением извивающейся змеи, а к его седлу была прицеплена змеиная голова, раскрывшая свою ядовитую пасть и рассеивающая горечь свою. Он ехал медленно и молча, казавшись мне, с одной стороны, хозяином этого леса, его привидением, его лешим, о торжестве которых говорит стих Исайи, а с другой стороны он являлся будто воплощение внушающего дрожь змея, упомянутого в этой же книге. Он не убил меня только потому, что в моих руках была лань, добычей которой он и довольствовался, вырвав её у меня, и так же тяжело и грозно уйдя прочь. Но я увлекся, живописуя подробности тех злоключений, свидетелем которых был в то время почти каждый из нас. Близость голодной смерти заставила меня оставить родной дом и отправиться по направлению к Провансу, об относительном благополучии которого я не раз слыхал. В дороге я питался только несколькими лепешками, слепленными пополам с белой глиной, от которой я в конце концов ощутил неминуемость скорой смерти. Я был живым трупом, уже не шедшим, а ползшим, когда на пути мне встретился дом, оказавшийся в последствии кельей на окраине монастыря. Еще немного и я был умер, но живший здесь монах оказался вдохновляемым Богом на творения чудотворных исцеляющих дел, которые, при посредстве взращиваемых в его саду трав он свершал в неизменном смирении сердца и уповании на помощь Господа нашего. Он выходил меня, и в благодарность Богу за дарованную мне жизнь я принял монашеский сан, а теперь, в меру возможностей, служу здесь помощником аббата. Как ты догадываешься, Киза, монаха-целителя звали Вирдо, и его умение, таким образом, на диво призвано спасать нас даже в тех случаях, когда кажется что ты уже не существуешь. Ты же столь безрассудно пользуешься его добродушием, дабы омолодиться и стать способным вызывать желание у женщин". Киза, внимавший речам Сульпициуса с открытым ртом, бросился ему в ноги : "Не отринь от млека своего духовного, ведь не ради вожделения чернил я голову свою, а страха ради смерти и старости. Повинуюсь тебе, отец мой, это я по помешательству своему испоганил ризу, случайно, без намерения ополоснув её красками !" Тут дверь в зал распахнулась и мирянин, прислуживавший в монастыре, осторожно прошел к аббату и стал ему что-то нашептывать. Одо, сильно посуровевший от выходки Кизы, слушал его с непроницаемым видом, сохраняя на лице мрачную маску - лишь брови его на мгновение оживились - а потом решительно выступил вперед, положив себе закончить затянувшееся собрание : "Вот что, собратья мои. Весьма тяжеловесно для сердца моего было слышать звучавшие речи, во многом рисующие упадок среди нас дисциплины и забвение предназначения монашества. Поэтому перед тем, как мы сейчас разойдемся, я хочу огласить те решения, которые созрели во мне ради остепенения некоторых из вас, нуждающихся в узде духовной. Во-первых, Арульф в течение и этой недели и последующей назначается чтецом книг о деяниях и подвижничестве святых отцов. Пусть он читает их по время каждой трапезы с тем подобающим благоговейным трепетом, который должны воспламенять в наших душах столь высокомудрые повести. До тех пор он будет лишен возможности присоединиться к питающимся собратьям, подкрепляясь по индивидуальному урезанному рациону, пока не научится произносить священные тексты проникновенно и с должной высокопарностью. Франко ( Одо имел в виду замеченного мной изможденного и болезненного вида монаха, стоящего у стены ) не отдает себе отчет о той высочайшей собранности и телесной крепости, с которыми следует подходить к тяжелотрудной работе скриптора. Как же ты собираешься держать ныне перо, Франко, если сам нуждаешься в том, чтобы стена подпирала тебя ? Неудивительно, что буквы мешаются у тебя в словах, вызывая у читателя соблазн и недоумение. Охлади-ка свой и телесный жар и писательский пыл в лазарете у Эмирата, и, Эмират, дай ему сегодня же мяса - пусть только попробует его не съесть. Что касается тебя, Киза, то твоя распущенность уже превысила максимум терпения, отпущенного каждому из нас. Раз ты так трепещешь смерти, то повелеваю тебе сегодня же вырыть на кладбище могилу самому себе. Возьмешь у Хартмана лопату и определись, где тебе следует быть похороненным после смерти. Чтобы уготовленное ложе не показалось тебе потом юдолью печали и скорби, точно соизмеряй размеры и место будущего успокоения со всеми протяженностями твоего тела. К вечерней трапезе могила должна быть готова, а после ты изготовишь табличку с собственным именем, которую поместишь там у изголовья. Повелеваю также каждую ночь после полунощницы приходить туда и созерцать это место, быть может тогда ты отучишься от страха перед смертью. Сейчас же собрание закончено, и напоминаю вам братья, что по выходе отсюда вам надлежит соблюдать молчание языков. Но не молчание умов, в глубинах сердца лицезреющих сияющее имя Господне".
Все, молясь, стали расходиться и зашаркали к выходу, а Одо, чем-то озадаченный и изменившийся в лице, увлек меня за собой, поспешая к уже знакомому мне зданию гостиницы. Там, сильно нервничая, его ждал человек, глаза которого, если бы они не так горели огнем и при этом спутанные волосы не так настойчиво стремились спрятать их под свисающими прядями, показались бы мне слишком знакомыми по, я бы сказал, энергично карей оболочке вокруг зрачков ( точно такие же глаза были у Одо ). Взволнованное лицо гостя кроме тревоги выражало ещё и сильное нетерпение. Его до навязчивости неаккуратный костюм был вымочен дорожной грязью, свидетельствуя о том бездорожье, которое ему пришлось спешно преодолевать. "Рожер ! - Воскликнул Одо. - Мой брат! Рад видеть тебя в полном здравии и свежести сил. Слава Богу, твои раны зажили !" "Дорогой Одо, с сожалению, сейчас не время расточать соболезнования и интересоваться здоровьем, - незнакомец говорил очень быстро и крайне эмоционально, отличаясь в этом от взвешенной рассудительности аббата. - Вмешательства врача оно более не требует, зато есть обстоятельства, которые требуют нашего вмешательства", тут он осекся, увидав в моем лице препятствие для продолжения разговора. Одо заметил его смущение и сделал успокоительный жест, указывая в мою сторону и словно представляя меня ему:"Не стесняйся продолжать. Перед тобою сын Сегоберта - Адсон. Наш друг отдал мне его на воспитание, и отрок сей вполне может быть допущен к нашей беседе." Бледное, собранное лицо Рожера на миг просветлело, когда он взглянул на меня, являя ко мне свою приветливость, проистекавшую из уважения к отцу, но тут же снова приняло озабоченное, сконцентрированное на внутренней тревоге выражение. "Ты ещё не знаешь об этом, - продолжил гость, - но ныне узнай : наш верный помощник, архиепископ Реймский Сеульф намедни скончался, и сегодня его прах погребен был в церкви святого Реми. Противник же общий - Хериберт, граф Вермандуа, пользуясь ослаблением нашего влияния и опираясь на авторитет некоторых примкнувших к нему епископов и собственников, захватил Реймскую кафедру и заставил и духовенство и мирян, подчиняясь его воле, избрать в архиепископы - ты не поверишь - своего пятилетнего сына Хугона. Представь ту ярость, которая мной овладела, и пойми, как же сильно я осознал при этом собственную беспомощность. Пастырский жезл в Реймской церкви несет ныне несмышленый птенец, выведенный Херибертом в его гнездовье в Сен-Кантьен. Какого дьявола ему позволили сделать это в тот момент, когда в его власти находится и единственный из царствующих Каролингов - Карл, воистину, не только по имени подобный своему предку. Даже трудно представить, каково ему приходится сейчас в Пероннском замке, ведь подобное унижение для наследника великой династии непостижимо умом !" ;"Почему же мы медлим, почему ты ничего не предпринимаешь, Рожер ? Время уходит и наши позиции ослабевают со скоростью большей, чем у Хериберта и иных они усиливаются. Разве у тебя не достаточно людей ?" ;"Да, Одо, на нашей стороне лишь правда, но сила, увы, пока что принадлежит не нам, и мы не в состоянии его освободить. Часть моих головорезов занята в Э, где они пытаются отстоять укрепления наших союзников - норманнов. Знаю, что ты меня в этом не поддерживаешь, но Карл не зря заключил с ними договор о мире и в последствии не раз ещё обращался к Роллону за помощью. В условиях, когда все вассалы предали своего короля, крещеные норманны - это едва ли не единственная крупная военная опора Каролингов. Я во всем доверяю и герцогу и его сыну; они - наша поддержка и пренебрегать их помощью это все равно что вообще отказаться от продолжения борьбы. Другая часть людей - и об этом больнее всего говорить подкуплена нашими противниками, ведь мы же не так богаты, как они. Все, что мы можем - это находиться в постоянной переписке с Карлом, а также, благодаря передаваемым тобою противоядиям, уберегать его от посягновения на его жизнь, сошедшего бы за естественную смерть. Но долго находиться в бездействии мы не можем, ибо, если Хериберт и герцог Гуго захотят убить Карла, они это сделают. Не вернуть же миру деятельного правителя, предназначенного к воссозданию Римской Империи, для нас означает умереть". "А ты в последнее время не стал сомневаться в способности Карла осуществить эту задачу ? Галлия сейчас не такова, какой она была во времена Пипина. На примере этого негодяя Хериберта ты видишь, как графы укрепляют свои позиции. Каждый из них в отдельности сильнее чем король, с волей которого они считаются лишь постольку, поскольку она отвечает их интересам. Вся страна поделена между ними, прибрана к их жадным рукам и это порождает и их безмерную заносчивость и вкус к властолюбию такой, который - я не могу не думать об этом - обуздать становится едва ли по силам". ;"Как бы то ни было, но фигуры равнозначной Карлу нет. Если он не сможет сплотить вокруг себя аристократию, значит, это никому не по силам. Дорогой Одо, ситуация в стране не оставляет нам права на сомнения. Да и не мы ли поклялись - и я, и ты, и наши друзья - отдать все силы на укрепление власти Карла. Да, сейчас он слаб, да его вассалы в своей гордыне сделались его сеньорами и играют его судьбой, как было уже с Хильдериком, последним из Меровингов. Но средства для объединения им общества есть. Они, прежде всего, в том, что он - наследник императора Карла, то есть не равен никому из своих вассалов, тогда как они все равны между собой. Убежден, что крупнейшие аристократы до единого смогут выступить на его стороне, если мы сможем освободить его и если удаться обнаружить и ликвидировать ту силу, которая стоит во главе антикаролингской оппозиции. Не имея крупного воинства для того, чтобы вызволить Карла, в качестве своего союзника мы должны призвать хитрость. Как я сказал, Хериберт овладел Реймской кафедрой, и ныне весьма авторитетное посольство направлено им в Рим, дабы добиться утверждения Папой его беззаконных намерений . Судя по составу делегации, Папа, сам опирающийся на своих сторонников в Галлии, будет склонен одобрить все, что бы они ему не предложили. Суди сам: к нему едут епископы Суассона, Шалона, Труа. Самозванец Рауль, также как и Гуго, сын убитого самозванца Роберта, также как и сам окаянный Хериберт - все те, кто ведет сегодня столь гибельную для Галлии политическую игру - отрядили вместе с ними людей из своего ближайшего окружения. Через несколько часов все они будут здесь. С ними имеется письмо, в котором Хугона просят утвердить в качестве главы Реймской церкви. Цель делегатов - передать его Папе, но сами они вряд ли смогу предстать перед ним, чтобы поговорить воочию, так как Иоанн сейчас находится в плену у мужа Мароции - Альберика. Каков мерзавец этот фаворит ! Ведь в свое время именно с согласия Иоанна он заменил Беренгара на посту главы коалиционного войска, созданного для разгрома сарацинов. Достаточно было одной победы - пусть и столь яркой, но ведь не ему же одному принадлежит эта заслуга - чтобы он возомнил себя первым лицом в государстве. Амбициозный выскочка, он всегда исподтишка строил козни против Беренгара, домогаясь титула патриция, и, между прочим, убийство императора совершено отнюдь не без его участия. С его смертью Альберик уже не постеснялся открыть свои истинные намерения и, добиваясь патрициата, вошел в конфликт с Иоанном. Не находя поддержки в народе и отвергнутый Папой, он призвал к себе орды безжалостных мадьяр, с их помощью овладев как Римом, так и долгожданным титулом, к которому, подстрекаемый супругою, он стремился целых десять лет. Изменнический поступок Альберика поверг всю Италию в анархию и кровавую смуту. Национальная партия пала, повсюду безначалие. Куда ни глянь безумствуют бесчеловечные полчища каннибальских мадьяр. Епископы в борьбе за власть не останавливаются перед тем, чтобы убивать своих соперников прямо у алтарей. Бесконечная цепь вендетт ежедневно порождает в Италии сотни жестоких убийств. Чудовищные кровопролития следуют одно за другим. Над все эти хохочут шлюхи, чтобы завтра тоже отправиться вслед за теми, кого они сегодня погубили, натравив на них своих любовников. Папа же, как я сказал, заперт Альбериком в одном из подземелий Рима, и тот не намерен освобождать его, пока Иоанн не признает полномочия этого изменника. В этих условиях ни о какой встрече Папы с делегацией быть не может, и все ограничится только передачей послания Хериберта. Теперь смотри: в моих руках другой документ, составленный в канцелярии графа Вермандуа тем же секретарем, что писал послание, доставляемое сейчас Иоанну. Не спрашивай, как мы заставили его это сделать. Важно, что не распечатывая его, никто не заподозрит в нем подделку и не отличит от подлинного письма. Смысл же его, разумеется, другой. Здесь от лица крупнейших королевских вассалов и епископов выражается признание как беззаконного того злодеяния, по которому Карл был беспричинно, в угоду отдельным зарвавшимся аристократам свергнут и заточен в темницу. При этом все выражают раскаяние и утверждают неправомочность фигуры названного короля Рауля, прося Папу своей апостольской властью приказать Хериберту освободить Карла и повелеть бургундцу, склонив голову перед полномочиями последнего, восстановить на троне действующего короля. Ежели же кто посмеет противиться предписанию Папы, тот будет подвергнут вечному отлучению, причем послание Иоанна должно быть направлено всем сеньорам как Галлии, так и Германии. Получив такой свиток от посольства, столь очевидно выражающего мнение и церковных и мирских властодержателей, Папа несомненно пойдет на поводу нашего подлога. Представляешь как мы потом посмеемся над кликой Хериберта, когда они собственными руками вручат наместнику Петра прошение о своем же ниспровержении! Остается лишь подменить грамоту, и у нас есть все возможности для того, чтобы сделать это. Ближе к вечеру посольство будет проезжать через твой монастырь, и ты любыми средствами уговори их остаться переночевать. Выбери им для ночного отдыха место такое, в которое можно было бы незаметно проникнуть и, пользуясь их сном, подменить письмо Хериберта. Если нам удаться осуществить задуманное - дай Бог - Папа нажмет на этого клятвопреступника и Карл будет не только выпущен на свободу, но и возвращен к власти. А уж тут предоставь мне воздействовать на его волю так, чтобы он вел и свою страну и всю Европу в целом к восстановлению обновленной и священной Римской Империи цветнику христианства, Граду Божьему, ставшему Царством Божьим на земле". Выслушав эти слова Одо погрузился в долгое раздумье, обмысливая шансы своих единомышленников и все возможные последствия задуманного предприятия. "Хорошо. В здании, где находится моя комната, все помещения на втором этаже соединены общим дымоходом. Я поселю их в этом доме. Через вытяжку можно беспрепятственно проникнуть в ту комнату, где будут хранится подарки Папе и ларец с письмом. Только... дымоход настолько тесен, что ни мне, ни тебе через него не пролезть". "И что же делать ?" В ответ на это Одо словно вспомнил о моем присутствии рядом с ними. Он многозначительно посмотрел на меня, а потом глазами указал Рожеру в мою сторону, и все стало ясно и без слов. "Ты поможешь нам, Адсон ?" - спросил аббат.
Я в этот момент, как вы понимаете, был потрясен всем тем, что мне довелось услышать. Тайный сговор, имеющий целью осуществить перестановку всех сил на политической сцене, моментальность, с которой на моих глазах принимались самые роковые решения, шокирующая авантюрность плана, предусматривающего виртуозную игру с ключевыми историческими личностями, из которых в одно мгновение одни должны были быть низвергнуты, а другие вознесены на вершины могущества - все это казалось мне невероятным и совершенно новым явлением для моего ума. Я привык, конечно, слышать сказочно прекрасные рассказы о королях, передававшиеся в народе устной традицией, постепенно перераставшей в легенды. В ней были и добрые и злые короли, но независимо от того, какие дела они вершили, все они, как и имена увековеченные в мифах, казались равно прекрасными, ибо и боги Олимпа - тоже хороши они или плохи - совершенны по своей красоте; к тому же короли всегда представлялись мне избранниками Небес, в роде античных героев только одной своей стороной принадлежа преходящему миру, другой же - к сонму бессмертных Небожителей, пирующих вкупе с богами. А сейчас я узнавал, что судьбою короля, может повелевать любой из смертных, его можно скинуть, а можно вновь назначить королем. Делается же это так прозаично и грязно, что я совсем по-иному посмотрел на сущность королевской власти. Получалось, что не Олимпийские Парки, а я, осуществив подлог, должен был перевернуть с ног на голову всю западно-франкскую элиту. Становилось ясно нечто совершенно поразительное: каждый человек и я в том числе имел возможность вмешиваться в ход истории и даже радикально менять его. Эта мысль потом прошла со мной через всю мою жизнь. С другой стороны было ещё нечто новое, что я услышал тогда, прельщающее своей грандиозностью не менее, чем своей же фантастичностью. Рожер говорил о восстановлении обновленной Римской Империи. Я многое, разумеется, слышал о самом огромном и могучем из царств, которое когда-либо было и которое охватило своими границами практически весь мир. Но я знал также, что оно давно уже не существует, развалившись на глазах современников под агрессией варварских племен. Поэтому слова Рожера показались мне совершенно неслыханными и, я вам скажу, они сразу же буквально заворожили меня. Таковы были мои переживания, когда я, охваченный смешанными чувствами волнения и недоумения кивнул в ответ на вопрос Одо. Да, я помогу им. После этого мы направились к дому, где находилась резиденция аббата и внимательно осмотрели то место, где нам предстояло погеройствовать нынешней ночью.
Затем Одо провел меня к келье, в которой жил садовник Вирдо. Она стояла на самой окраине монастыря и к ней примыкал большой, огороженный сплошной изгородью участок, отведенный под лекарственные растения, многообразие которых, как и обширный библиотечный фонд обители составляли нынешнюю славу монастыря. Вирдо был самым великовозрастным из монахов Люксейль, и его волосы были совершенно седы, но несмотря на годы он сохранял по-детски искреннюю и восприимчивую душу - редкостное качество, которое сразу же проявилось в том, с каким радушием он меня встретил, выразив тем более неожиданный восторг, чем сильнее я был убежден, будто в его-то годы человек уже точно никого не рад видеть. Он же был до крайности растроган и нисколько не скупился на обходительность, с первых же мгновений давая почувствовать свое хозяйство как мое собственное, так, что мне и привыкать не пришлось. Для начала он познакомил меня с собранием книг, так или иначе освещавших вопросы траволечения - качества целебных растений, их практического применения, культуры их выращивания и сбора. Вирдо очень гордился столь богатой коллекцией произведений самых разных имен. Когда-то давно все они составляли часть монастырской библиотеки, но потом медицинские трактаты были выделены из общего собрания и перемещены на полки шкафчиков Вирдо. Здесь можно было найти и Колумеллу и Палладия и Гаргилия Марциала. Даже Псевдо-Апулея с его "Гербарием". Тут соседствовали "Медицинская книга" миланца Бенедикта Криспа и её предшественник - целебные предписания Серена Самоника. Среди знаменитых сочинений особенно выделялись эксцерпты "Истории" Плиния, "Медицина" Корнелия Цельса и капитальнейший труд великого Диоскорида, собравшего всевозможные сведения о травах в поистине исполинские тома. Кроме различных бревиариев этих работ, вроде, например, "Плиния Валериана", здесь хранились и редчайшие труды Сервилия Дамократа, искусного компилятора Орибасия, Секста Плацита, а также поэма "О культуре садов", принадлежащая перу некоего Страбона, который по сравнению с римскими учеными мог бы быть назван нашим современником. Тут был древнейший Никандр из Колофона, в своей "Алексифармаке" исследовавший свойства как ядов так и противоядий; веронец Эмилий Мацер, так сильно подражавший ему в "Целебных травах", тоже нашел здесь достойное место; советами Марцелла Эмпирика из Бордо не мог пренебречь никто, кто решил всерьез заняться врачеванием, и потому здесь присутствовали и "Лекарства" и совсем крохотная (78 гекзаметров) поэма "О медицине", составленная им в лучших традициях дидактического стихосложения. Что говорить, если даже Луксорий со своим "Оагеевом садом" угодил в собрание Вирдо. Но особенно монах гордился книгой, о существовании где-либо хотя бы второго экземпляра которой не было известно ничего. Последнее содействовало распространению подозрений о её подложности, хотя сам Вирдо никогда не сомневался в подлинности этого труда от начала и до самого его конца. Речь шла о собрании описаний фармацевтических садов начиная с эпохи глубокой древности. Что касается моего мнения, то изображение колхидского сада колдуньи Медеи, право же, было плодом воображения составителя сборника. Но нельзя было полностью отвергнуть достоверность довольно правдоподобных систематических перечней культур, выращиваемых у афинского ботаника Феофраста, пергамского царя Аттала, у властителя Понта Митридата Евпатора , а также в каком-то безмерно далеком восточном саду, разведенном Арташесом из Армении. Заканчивался фолиант описанием римского садика Антония Кастора и небольшим экскурсом упомянутого Митридата, давшего разъяснения относительно свойств растительных соков - работой, ценной не сколько за знания, которые она сообщала (большинство из описанных царем растений Вирдо так и не удалось связать с энциклопедией Диоскорида), сколько за свою немыслимую архаичность, свидетельствующую о немалых традициях выращивания лекарственных трав и тысячелетнем доверии человека к целебной силе обычных, казалось бы, сорняков.
Перед кельей Вирдо находилось четыре ряда укрепленных на высоте широких досок, на которых по утрам, если погода была хорошей, он раскладывал корни трав, сушившиеся под солнцем три-четыре дня. Для высыхания надземной части растений была предусмотрена небольшая надстройка, в которую можно было подняться снаружи по приставной лестнице. Там находилось хорошо проветриваемое помещение с растянутыми на распорках тонкими тканями, по которым весной и летом раскладывались листья, стебли, цветки. На ночь окна здесь плотно закрывались, и кругом воцарялись темнота и бездвижность, но стоило утром их распахнуть, как полотнища начинали раскачиваться от гулявших под потолком сквозняков и яркий свет вычерчивал по углам колыхавшиеся паутинки. Наконец, в самой келье была печь, используемая для изготовления древесной коры, для сбора которой Вирдо ходил по весне в пробудившийся лес, где срубал молодые деревца, чьи стволы, казалось, гудели от гулявших в них закипающих соков, восходивших в головокружительную высь, где птицы пьянели от мартовской свежести и чистоты. Вирдо брал тогда с собой эконома Хартмана, без разрешения которого он не мог срубить ни единого деревца, и лесничего Экинере, круглый год следившего в том числе и за тем, чтобы посадкой новых саженцев восполнять неизбежно наносимый Вирдо ущерб. В лесу мой наставник собирал также ольховые шишечки, сосновый терпентин, выделяемый из надрезов, выполняемых и Вирдо и Экинере, шишкоягоды можжевельника, а также полузонтики душистых липовых соцветий с крупным прицветником. В этом ему способствовал иногда и Рагнерий - помощник Элиаса, смотрителя амбаров, а теперь должен был содействовать и я.
Вирдо сразу же разъяснил мне, что как один человек силен умом, другой превосходит всех красотой сердца, третий же так физически крепок, что может не есть и не спать несколько суток кряду, так и сила растений поделена между ними, приходясь у одних на листья, у иных - на цветки, а у прочих, как у скляреги или маратра - на их корни и корневища. И если назидания Вирдо относительно правильного сбора надземных частей я уяснял, так сказать впрок, на будущее, ибо урожай этого года был уже собран, то особенности заготовления корней я постигал уже на практике, ибо собираются они осенью, когда все растение начинает желтеть и увядать, и они перестают отдавать стеблям и листьям ту живительную силу, которая делает их незаменимыми в медицине.
Итак, утро в тот день на радость распогодилось, и потоки света смывали с лиц монахов и крестьян унылые выражения, ещё вчера, не сомневаюсь, достаточно хмурые и поблекшие, чтобы выразить всеобщую усталость от затяжных дождей. Мы вышли в сад, который сейчас уже был наполовину гол. Вирдо присел на большой камень, вкопанный у самой кельи, и под его руководством я осторожно окапывал растения так, чтобы не задеть разветвленную систему корней, а затем аккуратно подсекал раскаченный пласт. Накопав таким образом несколько растений, я относил их садовнику, который отряхивал их от земли, отрезал надземную часть и промывал затем корни родниковой водой, вытекавшей из источника невдалеке от камня. Я был рад этому труду, ибо он помог притупить во мне страх от происшедшего на моих глазах убийства, чувство одиночества, брошенности, даже обиды на отца, а также множество смутных и сложных впечатлений, заронившихся внутри меня после собрания капитула и встречи с Рожером.
Между тем, часть корней, с восходом солнца разложенных под навесом, уже высохла - они с треском ломались в руках, и теперь я упрятывал их в мешочки, прикрепляя ярлычки с названием травы и датой сбора. Эти упаковочки мы понесли в кладовую, где хранилось все то, что удалось заготовить и, когда я увидел кладези произведенных Вирдо запасов, то обомлел от такого богатства. Садовник подтрунил над моим замешательством перед пугающим множеством ярлыков и сказал: "Ты только не теряйся. Их не так много на самом деле. Но сила каждого из снадобий никогда не повторяет другое. Смотри: все ярлычки одного цвета и все мешочки одинаковы, не разнясь ничем. Но если содержимое одного из них часто дает жизнь, то в другом, соседнем, может таиться смерть. Поэтому ты должен быть осторожен. Давай я буду тебе рассказывать о травах, а ты слушай и запоминай. Во-первых, необходимо понимать, что, как излагал Клавдий Гален, сами травы нуждаются в том, чтобы мы помогли им обрести исцеляющую силу. Если ты им не поможешь, они не помогут тебе. Поэтому травы всегда надо соединять с другими стихиями - водой, вином или иными веществами, которые сами по себе не обладают лечебными свойствами, но в совокупности с растениями позволяют получить из них чародейственные экстракты. Вот перед тобою кресс. Вместе с уксусом он помогает селезенке, с медом же спасает от лишаев. Примешаешь дрожжей - и излечишь от добрых язв. Соединишь с гусиным соком - и получишь такую мазь, что изгонит паршу, ежели, не ленясь, будешь втирать его в голову. Попробуй-ка эруку принять с бычьим салом - это избавляет кожу от черных пятен. В то же время случаются у людей постыдные отметины, проступающие на лицах летом и по весне; эрука, приготовленная с медом, очистит от них всецело. Кстати, греки не зря называют эту траву "приятный запах", ибо она на самом деле дюже ароматная приправа к еде. За свои свойства многие из растений связаны с именами римских богов и доблестных героев. Возьми, например, мак. Ведь это же цветок Деметры, облегчивший её страдания, вызванные похищением Прозерпины! А артемизия, мать трав ? Хоть Плиний и связывает её название с именем жены Мавзола, но я чаще встречал такое мнение, будто открыт сей цветок был богиней Дианой. Тысячелистник настолько превосходит все кровоостанавливающие средства, что Ахилл, герой троянской войны, применял её для заживления ран, отчего она и называется Achillea. Действие всех трав, которые ты видишь, открыто так давно, как ветхи мифы о легендарных мужах и божках-истуканах. Между прочим, превозносились эти природные сокровища подчас не менее эллинских кумиров. Возьми сельдерей. Что ты думаешь ? Это не просто трава, её вручали как награду победителям Немейских игр, проходивших дважды, пока не истекал Олимпийский цикл. А вот это - полынь. Свойствами она так прославлена, что первому при состязаниях квадриг вручали у Капитолия чашу с её настоем. И сам суди, насколько превосходит она лучший из призов : не возвращает ли она зоркость глазам ? Не побуждает ли к аппетиту в соединении с ракитником ? С галльским нардом не излечивает ли печень ? Наконец, после тяжелого дня, когда неспокоен ум, не дает ли она желанного усыпления, будучи положенной под подушку ? Но и это не все. Есть у нас скриптор Отрик, который часто заходит ко мне за ней. Он знает, что примешав полынь к чернилам, напишешь такую книгу, которая сохранится вовек. Нет напасти, которую нельзя было бы свести при помощи одной из трав. К примеру, для лечения зубной боли нет равного пастернаку. Если тело снедает священный огонь, распаляя все члены жаром поистине невыносимым, смело используй силу батуса. Для изведения канкрозных язв применяют крапиву; ожоги заживляют овечьим языком; от боли в голове влей в уши соки порея. Есть всем недугам недуг - слоновья болезнь, истощающая тело в ужаснейших муках. В этом случае, говорят, помогает кошачья мята, стоит лишь смешать её с вином. Для желудка используй полей вместе с поской. От лисьей болезни, когда волосы теряются безмерно, хороши сразу несколько трав: горчица, альга, вонючая роза; особенно же славен авелланский орех из Кампани. Я не раз уж просил, чтобы мне доставили его в мою аптеку. Для очищения ран я обычно бегу алтей с медовой водой. Куколь поистине хорош от исхиаса. "Борода Юпитера" бесподобно способствует слуху, а глаза, если пелена их застилает, обретают способность видеть от сока маратра. Латук же наоборот способен отнять зрение, если неумеренно крепить им свой желудок. Да и вообще, каждая из трав начинает приносить зло, лишь начнешь перенасыщать себя их волшебными силами. Разве любимица римлян полынь не помутняет рассудок, вызывая неестественные видения пред очами и заставляя грезить посредине дня ? Выделив из мака опий, обретешь долгожданный сон, но превысив всякую меру, обратишь лекарство в зловредное зелье, повергнувшись в летаргию, если и вовсе не потеряв жизнь. Или возьми руту. Сама по себе она ядовита для организма, как например, копытень, но в то же время она является настолько мощным противоядием, что была ингредиентом утреннего меню Митридата Евпатора, закалявшего свое тело к воздействию отрав так усиленно, что когда он в итоге замыслил отравиться, то не смог уже этого сделать и ему пришлось умереть от меча. Кстати, у Плиния Валериана есть ещё один антидот на основе руты диапиганон, включающий также перец и тмин. Много есть полезнейших свойств у трав, собираемых мною. Не прививают они только страха Божьего и доброты, а гвоздичник, хоть он и укрепляет память, все же при этом не научает уму. Для души и рассудка - самые насущные лекарства, и, я думаю, ты уже заметил, что они многим здесь нужны. Но увы. Даже если бы они существовали, то монахи все равно приходили б скорее за травой, закаляющей тело к ударам, словно они мальчики, кувыркающиеся в палестрах". ;"Или бы за краской для волос", добавил я вспоминая Кизу. "Да. Это ведь для них важнее. Свои суеверия и чревоугодие они тоже готовы оставить при себе. Если б отыскалась в мире такая трава, что изгоняла бы напрочь подобные слабости, я не спал бы, возделывая её. Я засадил бы ею все Марсово поле". "Марсово поле ?" ;"Есть такое. Его ещё полем дракона вроде бы, называют. Видишь ли, много столетий назад здесь был крупный римский город, а все города в имперской провинции строились тогда по образцу самого Рима. Но я отвлекся. Итак, от всяческих пороков исцеляет только всеблагой Бог. А вот, кстати, так называемое "Божье дерево". Его очень любил Карл император, заботясь о том, чтобы оно неизменно выращивалось в каждом поместье. И в самом деле, есть за что его ценить. Оно смиряет одышку, усыпляет подагру, с котонейскими яблоками сводит глазные воспаления, унимает лихорадку и кашель. Вонючую розу, о которой я уже упоминал, Пифагор смешивал с кориандром, исцеляя при этом желтуху. Лилия на диво сглаживает морщины лица, портулак же закаляет голову к воздействию летнего зноя. Знаменитый Орибасий такую сообщает примету о вербене : если тяжело больной, держа её в руках, в ответ на вопрос о самочувствие скажет, мол, "хорошо" - значит, скорее всего, он выздоровеет. Ежели ответит, что "плохо" - тогда, видимо, он безнадежен, и его вряд ли удаться поставить на ноги. Вот здесь - чабер. Он весьма превосходен по своим качествам. Бывает такой сон пагубный, в котором человек проводит времени больше чем наяву. От этой летаргии он неизменно спасает, если согревать голову смесью его и уксуса. Разведенный в вине он не только отводит тошноту, но и сильнейшим образом возбуждает любовь. Нет, не любовь к Богу, а то чувство, которое соединяет мужчину и женщину. Если же в раствор этот добавить меда и перца, то любовь воспламеняется с такой неуемностью, что мужчина становится подобным сатиру, почему, кстати, римляне и назвали его "сатурейя". Впрочем, монаху об этом ведать не надобно, ибо подобное чувство для него воспретительно. Мы все любим - и миряне и монахи, только любовь наша разнится как яд и его противоядие Ну а вот здесь - черная буквица. Когда она зацветает, то имеет собранные в колосья светло-пурпуровые цветки и плоды в виде четырех орешков, выделяя запах резкий и довольно неприятный. Несмотря на отталкивающий аромат, все полезные свойства её исчислить сложновато. Хоть она густо произрастает на том самом Марсовом поле, ходить туда опасно, и я обычно развожу её именно у себя, причем в больших количествах, ибо она весьма часто надобится Эмирату. Взять хотя бы то, что от болезней краски лица сменяются на мертвенные восковые и свинцовые оттенки; буквица же вместе с вином возвращает человеку вид цветущий и здоровый. Но есть и ещё одно интереснейшее свойство, примеченное у данной травы. Как не раз сообщают сведущие авторы, растение это способно укрощать змей своей силой, для этого их надо только окружить гирляндой из буквицы. Смотри, об этом есть подтверждение у Плиния: В замкнутом её кольце змеи убиваю сами себя ударом хвоста..."
В это время громко ударили в колокола, чей звон показался оглушительным, закладывающим уши набатом после тех, словно нехотя издаваемых звуков, которыми с утра монахов призывали на общее собрание. Звонили часто, и не в один, а в два, может даже в три колокола, тараторя вразнобой и несогласно друг с другом, словно кто-то запутался в вервиях, прободающих мочки колокольных языков. Вирдо и я заторопились во двор, испуганные столь отчаянным трезвоном, внушавшим более тревогу, нежели благоговение, и заставлявшим душу уходить не в небо, а в пятки. Но если звонари, будто пытавшиеся вырвать языки из медных глоток шарахавшихся колоколов, и произвели во мне чувство страха, то ненамеренно, а из своего искреннего стремления воздать должную славу въехавшим в монастырь гостям. Очевидно, эта многоликая толпа всадников и была ожидаемой Рожером делегацией Хериберта. Более всего среди них было верховых в высоких шапках. Они, как завзятые головорезы, увешаны были самыми разнообразными оружиями, среди которых меч позванивал о молот не хуже чем проржавленный колокольчик нашего ризничего. Огниво и кремень, нанизанные на пояс, бешено бились друг о друга, высекая искры, от которых, казалось, вот-вот возьмутся огнем оперения стрел, чьим множеством ломились колчаны. Плащи, развевавшиеся на скаку, открывали кольчуги, из под которых виднелись длинные, доходящие до ступней штанины. Суровости облику этих солдат добавляли их напряженные, сосредоточенные лица, выражавшие закаленность к батальным и походным тяготам, неусыпность их осторожной внимательности и взвинченность, состоящую в постоянной готовности дать отпор в случае нападения на тех титулованных особ, которых они конвоировали. Последние отличались совсем иным расположением духа, приемлющим и острый язык и ярый, доходящий до ржания гогот. Кроме того, в их настроении показно соседствовали щепетильность их привилегированности, галантность обхождения друг с другом, доходящая до слащавости, и чопорность в отношении с подчиненными, доходящая до третирования. Одежда этих всадников отличалась, конечно, большей пышностью и разнообразием, чем у вояк : у одних из них от колен спускались роскошные узорчатые обмотки, у других от обшитых золотом башмаков поднимались шелковые, переплетающие голени шнурки. Все равно, надеты ли были льняные штаны или набедренники - все они были изготовлены весьма искусно, с шитьем, богатством которого сеньоры щеголяли между собой. Впрочем, в их костюмах не было ни единой детали, в которой каждый не стремился бы подчеркнуть не столько собственную индивидуальность, сколько свое же пустое чванство и напыщенную спесь. Особенно изощрялись они в отделке мечей, бряцающих на драгоценных перевязях. Сами перевязи были расшиты слепящими око камнями, оружия же на некоторых рукоятках представали инкрустированными крестами, также состоящими из драгоценностей. По сравнению со столь повапленными вельможами епископы казались нищими паломниками. Широкополая шляпа с закругленным верхом, надетая поверх капюшона и покоробленная непогодицей, съежившаяся и замызганная - тогда как каски великосветских владетелей по начищенности и ажурности пытались уподобиться шлему Паллады. Перчатки на руках - в противовес обнаженным белоснежным пальчикам, усеянным перстнями, превосходившим у некоторых количество зубов. Рясы, единственным украшением которых была засохшая грязь - вместо обшитых мехом плащей. Сандалии вместо чудо-ботинок, в которых сеньоры брезговали ступить в монастырскую слякоть. Ну а вместо мечей...что ? зачехленные восковые таблички, свисавшие у них по бокам. Церы, исписанные текстами, это ведь тоже своего рода оружие, и часто они становятся документами удивительнейших событий, как произошло это уже ближайшей ночью; в таких случаях навощенные дощечки могут поведать о том, что иному покажется совершенно невероятным.
Итак, появление столь представительных гостей, да ещё и в количестве, превышавшем, пожалуй, численность самой обители, произвело в монастыре беспорядочные хлопоты, всеобщую суматоху и головную боль аббата, который во что бы то ни стало должен был угодить столь разборчивым и кичливым посетителям. Нужно было решать вопрос с их размещением, и поэтому приор Сульпициус срочно предпринимал меры по уплотнению общины, отчего монахи, собрав свои пожитки, вынуждены были переселяться к соседу, если их собственный дом был отобран приором для побывки приезжих. Критерий для распределения келий был довольно бесхитростным: щелеватость, промозглость, зловонность, удушающая задымленность предопределяли, что здесь заночуют монахи; утепленные же кельи, обустроенные, застекленные однозначно переходили во временное распоряжение гостей. На скорую руку придумывали и бросали в ход любые средства, которые превратили бы проезжих делегатов в постояльцев. Около банного домика давно уже пылали костры, подогревавшие огромные чаны с водой, которой, по замыслу Одо, должно было хватить всем для принятия горячих ванн. Часть уже оструганных кольев, приготовленных для наращивания ограды, пришлось пустить на съедение огню, то и дело стрелявшему искрами и придававшему своим фейерверком некоторую праздничность всему событию. Из свинарника тайком повыдворяли всех свиней вкупе с жившими там крестьянами и теперь пытались выдать этот насквозь прохрюканный хлев за конюшню; туда и в единственную настоящую конюшню один за другим завозились новые запасы трав и овса, общипывая до нитки соседнюю деревню. От амбаров к кухне словно муравьи сновали люди с корзинками, поднося без устали трудившимся поварам из еды - бобы, капусту, яйца; из зелени латук, кервель, петрушку; из фруктов - яблоки, иргу, орехи и винные ягоды. Это было настоящее разорение для неимущего монастыря, не всегда имевшего возможность накормить собственных бедняков. Самая же главная проблема для Одо была в том, где достать рыбы для утоления позывов чрева высокородных гостей. Судя по тому, что выгнанные задним двором свиньи затем бесследно пропали, а к трапезе на столах у вельмож появились и голавль и барвена и даже спартанец лобан, не смаргивая смотревший и тогда, когда ему отрезали голову, аббату удалось выменять поросят на рыбу, правда в весьма ограниченном количестве, так, что монахам Люксейль иногда доставался один хвост на двоих.
Итак, ворота церкви распахнулись, и стройной процессией, облаченные в безупречные мантии, монахи двинулись к гостям, сохраняя на лицах смешанные выражения восторга, почтения и трепетания. Хоть свечки, несомые в начале шествия, и задуло разом дыханием ветра, появившегося вместе с делегацией, их все равно несли торжественно, нисколько не сомневаясь в том, что они горят пуще прежнего. В начале хода шел и келарь Йоханнес, размахивая кадилом и чадя каким-то подозрительно едким воскурением, а также Фридерум, смотритель трапезной, который сжимал в руках солидный, весьма тяжелый крест, каковой нести было весьма нелегким испытанием. Подойдя к гостям, Киза принялся кропить или, скорее, поливать епископов святой водой, которую он черпал из сосуда, несомого Леотгаром. "Вот посылаю ангела Моего...", - заголосил Элиас и, жмурящиеся от обильных возлияний Кизы, спешившиеся епископы принялись целоваться с радушным Одо, чей благолепный облик был вполне величаво-парадным. Поприветствовав епископов, он сказал: ;"Душа моя несказанно вострепетала, лишь только узнал я о намерении посетить нашу обитель теми, с кем неразлучно пребывает благодать Божьей любви и святомудрия. От святого Колумбана идет слава нашего монастыря, который долгое время был крупнейшей в Европе и всеруководствующей обителью, кузницей образованности, гимнасией нравов, стадионом подвижничества. Тогда Люксейль являл собой пример служения Богу в деле пламенного освещения как в Галлии, так и за её пределами болот заблуждений, чащоб идолослужения, распутий неграмотности и его воспитанники посылаемы были в самые потаенные и неизведанные её глубины, дабы проповедовать там, вести церковное строительство и улучшать повсеместно грубые нравы и кельтов и франков и римлян. Тогда посетить Люксейль с визитом, потчуясь его высокой культурой, было стремлением всех архипастырей, тех, в чьей руце почивают души верующих; обрести здесь внимание к себе и пристанище являло неустанную цель их забот. Пчелы несут мед, чтобы отложить его в сотах улья, предоставляя нам лакомство для тела, а прибывая сюда епископы были подобны пчелам, посещающих улей с яствами для души, и отсюда, из Люксейль разносили мед мудрости своему клиру. Здесь они поистине забывали всякое изнурение духа, изживали его сомнения, и восполняли пробелы в ведении премудрости Господней. Не таково ныне. Из-за недостойности нашей оставила нас щедрость Его благорасположения, и величина сегодняшней нужды и упадка равняется только степени прошлого процветания. Репей и терния увядшего, быльем поросшего величия - вот чем сегодня представляется наш скромный монастырь, заглохшее от небрежения становище святого апостола из Ирландии. Теперь уже мы жаждем внимания тех, чей разум - это просвещающая сила Господня; ныне уже мы молимся, как бы сподобили нас посещением те, кто не перестает возводить к истине заблудшие сердца и осыпать их пригоршнями духовных радостей. Вящее благоволение, живущее с вами, извлекает прекрасные звуки на лирах наших сердец и на цевницах нашего рассудка, и потому, в надежде на сладость вашего присутствия дерзну упросить вас отдохнуть в этом монастыре перед столь трудной и дальней дорогой, которая вам предстоит". Одо, нарочно решившийся на унижение, превознося гостей, чтобы наоборот, умолить безмерно собственную обитель, ещё раз склонился перед епископами, в которых знаки такой признательности вызвали чувство приятного удовлетворения. В то же время один из сеньоров, услышав эти слова, гневно сплюнул и не замедлил предъявить свои претензии аббату : ;"Ну вот как ты смеешь предлагать нам остановиться среди этого болота ! Посмотри на меня : я что похож на свинью ? Ты же развел у себя грязь по колено, и ещё настолько глуп, чтобы просить нас тут ночевать. Да у меня скотный двор чище, чем твой монастырь, и лучше уж в отхожем месте ночевать, чем..." ;"Заткнись ! - прокричал побагровевший от ярости епископ, которого я позже узнал как Бовона Шалонского. - Твой рот это и есть отхожее место, скопище нечистот. Закрой его и более не распространяй смрад свой, Ренье ! Не гневай меня более. Тебе же предстоит предстать перед Папой. И что ? Перед ним ты тоже будешь распускать свой язык ?" ;"Он спросит Папу, - встрял тут кто-то, - с кем он провел ночь сегодня, с Феодорой, не стыдящейся памяти своего мужа, или же с её прелестной дочуркой. Может быть, поинтересуется также, где Папа вычитал о том, что пастырский жезл можно подменять детородным органом". "В самом деле, - оправдывался Ренье, - что такое нынешний Папа, как не игрушка в руках у проститутки ? Может, нам сразу обратиться к ней, ведь она же все решает на самом деле. Паллиумы ныне раздает Мессалина, так давайте сразу к ней прямиком, только, увы, не сможет она прочитать наше письмо, так как грамотности не обучена". ;"Что ?! - взревел Бовон, тогда как остальные епископы только сурово покачивали головами, - ах ты псина неугомонная, да я не знаю женщины, которая бы не забрюхатела от тебя. Правда, что ты не свинья, ибо от тебя только свиньи не поросятся, а ты что-то смеешь говорить об Иоанне ?" Несколько мгновений он молча и злобно глядел на графа стиснув кулаки и удерживаясь от того, чтобы не ударить его при всех, но потом взял себя в руки и уже более спокойно сказал : ;"Феодора как и Мароция - это не Мессалина и не Агриппина. Обе они по своему разуму и мужеству превосходят многих из вас, будучи подобными во всем Семирамиде, а не падшим созданиям, которых подобает презирать. Ты, Ренье, можешь навести порядок только на своем скотном дворе на большее не способен - а они, благодаря своей воле долгое время сохраняли стабильность во всей Италии. В том числе и на престоле апостольском, да, но если от этого факта кто-то краснеет, кто-то сально шутит, кто-то злорадствует, а кое-кто оказывается взбешен, то лично я этому событию рад. Каким бы способом Иоанн не воссел на кафедру, он, безусловно достоин её более, чем кто-либо другой и доказал это всем, став первым человеком своего времени. Забыли вы разве о бесчинствах гарильянских сарацинов, упразднивших повсюду в Италии императорскую власть ? Уже не помните о тех опустошениях, которые они ежедневно учиняли в каждой провинции, в каждом городе, в каждом замке, в каждом аббатстве Италии, повсеместно надсмехаясь над христианской верой и оплевывая её ? Не один пилигрим не мог попасть в Рим из-за кольца неверных, осадивших столицу мира. Разве не было такого, что повсюду на Апеннинах в пыль истаптывались святыни христианской земли, предаваясь огню и осквернению, а на пепелище выжженных аббатств сарацины распивали кровь из черепов защитников нашей веры ? И вот, пока ты, Ренье, обустраивал свое отхожее место, Иоанн освободил Италию от варваров, свергнул иго неверных. В тот момент, когда все было попираемо язычниками, он объединил лучшие силы общества, создав войско, вступить в которое каждый итальянец считал своей честью. Кстати, возглавил армию новоявленный Сципион - Альберик, муж Мароции, о которой вы все так сквернословите. ;"Опять фаворит" - скажете вы, однако именно он вместе с Иоанном выбил сарацинов из их стана при Гарильяно, положив конец проклятиям целых десятилетий. Побед равных этой немного в летописях
христианского мира, половина которого до сих пор находится в ярме у мусульман. Бремя неверных, поработивших чуть ли не большинство земель Римской Империи, это позор каждого из нас. Что сделал ты, Ренье, чтобы снять этот гнет язычников, освободить Империю от их бесчинств и возвратить христианскому миру Гроб Господень и все святыни Иерусалима ? А Иоанн внес свой вклад в это святейшее дело и очистил Италию от сарацинов. Но вот ты даже не стыдишься от этих моих слов, Ренье. Каким ты негодяем был, таким же и останешься". Бовон ещё раз яростно стрельнул на него глазами, а потом обратился к аббату, сразу переменившись в лице и став воплощением доброжелательности. "Простите их, сказал он Одо, пораженному такой распоясанностью вельмож, - они привыкли распускать себя без меры. В своей черствости они устоят перед любой любезностью. Война их испортила. Простите ещё раз, мой друг, и давайте вернемся к вашим превосходным речам. Их учтивость такова, что вряд ли может оставить равнодушной. В нашем черством мире, где брань, бахвальство, пустословие и злоречие заполонили все, подобные слова все равно что свежесть утренней росы, смывающей нечистоты вечера. Я ценю ваше предложение, так как оно подтверждает ваше постоянное расположение к нам, что, поверьте, для нас чрезвычайно лестно. Но, конечно, и речи быть не может, чтобы мы задержались здесь. Во-первых, мы очень спешим, потому что события в Италии начинают развиваться не так, как нам хотелось бы - всякая смута вокруг папского престола подкашивает и королевские троны. Но даже не в этом дело, ибо мы продолжаем надеяться, что народ Италии уже получил вкус к свободе и в своем стремлении к национальной независимости не потерпит власти диктатора, опирающегося на иноземцев, которые к тому же являются сущим бедствием для христиан. Главное препятствие в том, что... всем известно, что обитель сия, хоть и всячески достославная в прошлом, представляет многие опасности для человека, подвергая его жизнь постоянным угрозам. Поймите меня правильно: я вовсе не боюсь за свою участь, но я должен выполнить миссию, с которой отправляюсь в Италию по поручению нашего государя и...его окружения. За исполнение её я клялся головой и, честно говоря, беспокоюсь весьма пресильно. Не за собственную голову, конечно, а за будущее Франции, которое теперь во многом поставлено на карту". Одо сделал озадаченный вид и спросил : "Позволяет ли недостаточная конфиденциальность вашего поручения говорить мне о его сути ? Если так, я был бы очень признателен, если бы вы мне поведали..." ;"Позволяет, - вполголоса, однако же, сказал Бовон и, взяв Одо под руку, увлек его в сторону от нетерпеливо переминавшихся и судачивших о принцессах Рима сеньоров, оградив себя также от ушей монахов, среди которых, как он считал, вполне могли быть проходимцы, готовые использовать любой секрет в своих интересах. - Вы ещё не знаете об этом, но Реймская кафедра опустела". "Да что вы говорите ?" ;"Увы, блаженнейший Сеульф на днях предал Богу душу свою, и теперь вокруг его кафедры идет немыслимая возня, переходящая в свару. Мы не должны допустить игры случая там, где важны наши целенаправленные усилия, то есть там, где речь идет о ключах ко всему государству - Реймском архиепископстве. Истинное сердце Франции - Реймс. Тот, кто владеет им, балансирует между своим королем и монархом Германии. Игрушка в чьих-нибудь руках он склоняется в ту или иную сторону, и именно это всегда определяет политическую ситуацию во Франции. Поэтому для того, чтобы упрочить порядок в стране, кафедра Реймса должна принадлежать стороннику бургундского либо нейстрийского дома, который был бы противником реставрации Каролингов, сошедших со сцены - хотелось бы верить навсегда. Такой кандидатурой на наш взгляд является сын графа Вермандуа, пленением Карла более кого-либо другого доказавшего свои антикаролингские позиции. Ныне мы везем письмо к Иоанну, дабы утвердить Хугона на этом посту и если так случиться - целостность Франции будет сохранена; если же мы не проявим достаточной решимости и будем ждать, пока жребий укажет, кто выиграл в подковерной борьбе за Реймс, это архиепископство может получить прокаролингски настроенный ретроград, что сразу вызовет раскол в верхушке аристократии вместо того, чтобы сплотить ее". ;"Означают ли ваши слова, - спросил удивленный Одо, - что избрание Хугона не является результатом переломившей ситуацию воли Хериберта, и новый архиепископ оказывается ставленником всей антикаролингской партии ?" ;"Уверяю вас, Хериберт даже не знал, что Сеульф умер. Он был в тот день на охоте и потешался, подстреливая рябчиков. К нему просто приехали и сказали : "Твоего сына хотят видеть во главе Реймса". Да он и не так выжил из ума, чтобы осмелится всем остальным противопоставить пятилетнего сосунка, отстаивая его на виду у всех, думающих, что он рехнулся. Граф Вермандуа для этого недостаточно силен и недостаточно безумен". ;"Кто же оказался так безумен, что ему пришла в голову подобная мысль ?" ;"Тут уже сыграли свою роль могущественные покровители Робертинов и царствующего дома. Они не стали ждать развития ситуации и моментально решили все именно так, как наиболее выгодно является теперь для государства. Столь же стремительно должны действовать и мы, хотя, повторяю, это не главная причина того, почему мы не можем воспользоваться гостеприимством вашего монастыря". ;"Тогда я не совсем понимаю, какого рода угрозу вы имеете в виду, остерегаясь наших стен ? Какую опасность для жизни узрели вы в этой обители?" ;"Видите ли..., - Бовон увлек Одо ещё далее, стремясь сделать разговор абсолютно секретным, - вы на самом деле все прекрасно понимаете и беспокоитесь не менее меня, ведь волк постоянно тягает ваших ягнят. Будете ли вы скрывать, что в вашей округе хозяйничает непрошеный гость, по своей кровожадности подобный Бегемоту, а по неотвратимости несчастий, которые он приносит, схожий с предсказанными Иеремией василисками, от которых нет ни амулета ни заклинания ? Что вы так удивились ? Думаете никто не знает о птице, похищающей ваших людей ? Увы, но именно такова нынешняя слава здешних мест, отчего пастыри оберегают своих чад от паломничества к Люксейль, и все тропы к вам зарастают бурьяном. Ваш монастырь и, например, корбийский разделяют многие сутки пути, однако и там, как и во всех иных аббатствах не сходят с уст разговоры о крылатом ящере, терзающем здешнюю паству. Вы разве не знали об этих слухах ? Перебежчики, стремглав пустившиеся от вашего попечения, способствовали наводнению умов представлениями, превосходящими все ночные ужасы Навуходоносора. Что-то гнало их очевидно, раз оставив вас поспешно и не захватив даже собственного скарба, они доходили до Арморики или Испанской марки, моля о приюте, а пятки этих босяков едва не дымились от их скоропоспешности. Как вы объясните тот факт, что все остальные монастыри растут, словно сады виноградные, а ваша община не только не прибавляет в числе, но и истаивает на глазах, подобно снегу весеннему ? Поверьте, в отношении вас никто не осмеливается злословить и не ехидничает вовсе по поводу степени упадка ранее сиявшего на весь мир монастыря. Беды Люксейль не связаны с вашим неумением руководить и вы никак не виновны в его разорении. Наоборот, все повсеместно прославляют качества вашей души и считают, что только вам по силам укротить свирепствующего демона и пресечь несчастья, которыми вы ныне заклеймены. Признаться, из соболезнования к вам - нашему верному стороннику - и чтобы поддержать вас, зная как тяжело сейчас приходится, наметил я путь через этот монастырь. Но остаться здесь, тем более на ночь, когда хозяйничает дух злобы ? Нет, я не могу рисковать своими людьми." ;"Дражайший отец, - вторя приглушенным интонациям епископа, сказал пораженный Одо, - то, что вы сказали безгранично изумило мой ум. Я ещё в силах понять многих монахов, чей разум, не получив должного воспитания и от того не расположенный к здравым рассуждениям, является пристанищем самых возмутительных предрассудков. Эти люди не образованы, и сердца их открыты ко всякого рода страхам и суевериям. Но как В ы можете об этом говорить ? Неужто вы всерьез верите в птицу, нападающую на людей и на столько большую, что она способна похищать их ?" ;"Дорого Одо, слишком много фактов свидетельствует об этом. Ваши люди бесследно исчезают, и не находится ни их тел, ни жалких останков, которые можно было бы предать погребению, и которые указали бы либо на злодеяния разбойника, либо на вылазки лесного хищника. Какое объяснение этому находите вы сами ? Затрудняетесь, не так ли ? Я буду с вами откровенен: как бы ни исхитрялись вы, не предавая события огласке, все они давно сделались общеизвестными фактами, и нет аббата, который для своих монахов не сделал бы жупела из вашего монастыря. Вы прекрасно знаете, что явления подобных монстров предсказано в книгах Священного Писания. Иеремия сначала говорит о льве из леса, о волке пустынном, о барсе, подстерегающем у городов; затем он добавляет ещё и змеев, уязвлениям которых не воспрепятствует никакая ворожба. Но потом Бог говорит через него о граде своем избранном - а что мешает нам предположить, что Люксейль, светоч всей Европы, был возлюбленнейшим Его детищем во всей Галлии - И пошлю на них четыре рода казней: меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, чтобы пожирать и истреблять. Если меч - это знак войн и внутренних усобиц, а псы являют диких варваров с головами косматыми, как у собак, то птицы небесные - это весьма недвусмысленнейший образ. Иезекиль обетует, что не останется втуне никакое видение пророческое, и не одно предвещание не будет ложным. При этом через него глаголет Господь : Ты упадешь на открытом поле и отдам тебя на съедение птицам небесным. И речь здесь идет отнюдь не о шакальничании над трупом, а о преследовании живых. Но эмоциональнее всех о небесном чудовище высказался Исайя. Ведь что он имеет в виду, когда говорит: И придет на тебя бедствие: ты не знаешь откуда оно поднимется; и нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить; и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Это пророчество и есть разъяснение тех странных слов, которые он изрек чуть выше : Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал и сделаю.
Так записал Исайя слова, сообщенные ему Богом, и что может быть красноречивее и очевиднее этих слов ? Мой друг, появление в качестве воздаяния небесных чудищ предсказано в Откровении, и мы не должны скрывать это от себя и придумывать утешающие нас предположения, которые увлекли бы нас от истинного характера вещей. Наша Галлия по испорченности нравов и величине забвения христианских истин достойна этого глумления над собой, и потому, как всегда, слова пророков сбываются... Однако же, вы прекрасно держитесь и просто на зависть холоднокровны. Примите ещё раз комплименты в ваш адрес и я вам искренне желаю устоять против жестокости этого хищника. Вам ведь известна и другая библейская истина: против Голиафа всегда находится свой Давид." С этими словами Бовон вернулся к делегации, не оставляя Одо возможности переубедить его. Аббат был очень сильно сокрушен и объят печалью, в которую его повергла не только категоричность епископа, с которой тот отвергал все просьбы остаться здесь на ночлег - в запасе у Одо были уловки, использовав которые он рассчитывал добиться все же своей цели - но прежде всего нарисованная Бовоном картина тех зловещих представлений о Люксейль, которые господствовали, оказывается во всей Франции. Погруженный в столь неприятные раздумья, он призвал к себе Сульпициуса, в руках которого было нечто большое и прямоугольное, завернутое в светлую ткань с изображениями четырех животных Апокалипсиса. ;"Готовясь к приезду досточтимых гостей, - начал он, преодолевая дух своего смятения, - искал я подношение, хоть отчасти могущее выразить величину моего почтения к ним и то восхищение, которого я исполнен. Много подарков перебрал я в своем уме, но все они оказывались не в достаточной степени подобающими. Так бы и не смог я в должной мере вам угодить, если бы наш библиотекарь Вергилий не подсказал мне, что в фонде монастыря имеется книга, написанная известным Седулием Суассонским. Как все знают, этот блестящий по своей многоталантливости монах, ирландец по происхождению, долгое время подвизался в стенах суассонской обители, где он совершил большую часть своих прославленных дел, как воспламеняя собратьев к алканию бесконечной благости, научая их примером собственного опыта, так и, являясь переписчиком, вдохновляя всех на неустанные труды в деле приумножения того богатства, которое содержат в себе многие из сочинений. За долгие годы его работы не счесть рукописей, удвоенных его усердием, не измерить того рвения и ту одаренность, которую он вложил в каждую из них. На закате же своей жизни он трудился в Люксейль, превозмогая бремя старости и неустанно являя пример воплощенного долга перед вековой письменной культурой, а прежде всего - перед скрижалями Господних откровений. И вот сегодня я счастлив поднести вам его жемчужину многоценную, велепрекрасное Евангелие, превосходящее многие другие своей красотою и тщательностью. Посмотрите, как каждая буква здесь по своему роскошному убранству пытается уподобиться богатству смысла, реченному чрез нее. Аббон, любимый мной пастырь славнейшего Суассона, не премини принять от меня в дар этот поистине бесценный труд, подписанный именем Седулия. Я считаю, что достойно будет придти сей работе в монастырь, где живы до сих пор благодарения в честь этого человека. Прими эту книгу в знак признания твоих заслуг и не презри общую просьбу почтить нас своим присутствием до завтрашнего утра". ;"Боже мой, какая немыслимая щедрость с вашей стороны, Одо ! расчувствовался Аббон, говоря не без замирания в голосе. - Это дар, за который потомки не раз ещё воздадут вам свою хвалу. Посмотрите-ка, - продолжал он, рассматривая книгу и обращаясь к своей свите, - в каком единстве этот стиль находится с нашим Сакраментарием и Лексионарием, только он все же превосходит их своей монументальностью. Рука Седулия, нет сомнений. Те же орнаменты из переплетающихся рыб, змеек, гиппокамфов; птичьи головки с глазками, мелькающими среди затейливой плетенки из прутьев и ремней..." Пока Аббон любовался Евангелием, я успел краешком глаза увидеть восхитительные страницы рукописи, в которых из-за чрезмерной нарядности и праздничности стиля я не мог ничего разобрать, ибо все буквы, виртуозно-вычурные, торжественно-величавые, создавались здесь не из каллиграфических образцов, а из живого воображения Седулия, напоминающего скорее художника, задумавшего создать мерило радости от лицезрения Господнего. Так все буквы здесь замысловато переплетались друг с другом и через это изъяснялось всеобщее взаимопроникновение, отсутствие вещественных и душевных границ, полагаемых в преходящем мире самости; перед Богом каждый мог принять в себя душу другого, испытать ощущения другого, зажить его впечатлениями, и это создавало бесконечные оттенки духовного насыщения, о неисчислимости которых давала свое предвосхищение также и тонкая, столь богатая нюансами, палитра, которой раскрашивались все изысканные извивы букв. Буквы же сами никогда не повторяли себя, являясь во все новых формах , через которые ирландец хотел показать безграничное многообразие духа, оживленного и напоенного Богом. Очертания их были гладкими и неизломанными, в то же время изобилуя изгибами, которые были всегда изящны; стебли букв утолщались к краям, украшенными усиками, которые напоминали почки деревьев или бутоны цветков, и , таким образом, казалось, будто из одной буквы вот-вот произойдет другая, что вновь олицетворяло всеобщую динамичность и пластику в области духовной жизни, где душа, пресыщаясь радостью боговидения, каждый миг оплодотворяется новыми оттенками радости, находя неповторимые выражения для славословия во имя Господа. Аббон был настолько растроган, что немедленно заявил о своем желании вдоволь насладится обществом Одо и водвориться в Люксейль до завтрашнего утра. ;"Хоть до полуночи ещё далеко, - говорил он, - и предполагали мы остановиться в иных стенах, но - я думаю, все меня поддержат мы вряд ли найдем более приветливый ночлег, где нас до такой же степени рады были бы видеть". Этому, как следовало ожидать, энергично воспротивился Бовон : ;"Аббон, одумайтесь ! Мы не только не думали здесь задерживаться, но лишь по моему настоянию уклонились от пути, чтобы посетить обитель достойного Одо". ;"Прекрасно, - невозмутимо отвечал Аббон, продолжая услаждать свой взор красотами Евангелия. - Я очень рад, что вам пришла в голову такая замечательная идея. Я и не знал, что здесь с такой любовью встречают гостей. По-моему, будет превосходно, если мы передохнем здесь". ;"А как же, - злился Бовон, - все разговоры о чудищах и ужасных отродьях, блуждающих вкруг стен этого монастыря ? Ведь о них вы сами мне не раз твердили по дороге ! Неужто они перестали устрашать вас ?" ;"Ну так они же в о к р у г стен. Судя же по миролюбию, которыми все исходит в н у т р и их, нас вряд ли что-либо потревожит ночью и, я думаю, во всем окруженные благожелательностью, мы поднимемся с утра в самом хорошем расположении духа". Аббону вторил и епископ Труа, никогда бы не осмелившийся возразить Бовону без поддержки епископа Суассона. Несмотря на все старания разубедить их со стороны шалонского иерарха, прилюдно теперь извлекавшего на свет свои страхи, которыми до этого он лишь наедине делился с Одо, остальные настаивали на отдыхе, особенно кстати приходившемуся грузному епископу Труа, полноте которого необходим был покой. Таким образом большинство прелатов, впечатленных гостеприимством монастыря, высказывалось за то, чтобы провести ночь в этих стенах : пусть здесь и не так уютно, но нигде ещё известие об их приезде не вызывало подобного воодушевления. Бовон заскрипел зубами, но вынужден был согласиться. В ответ на это Одо кивнул Кизе, Киза дал условный знак звонарям, и те, уже не так нервничая, забили в колокола, под согласную песнь которых праздничная процессия, беспрерывно молитвословя и сопровождаясь псалмодией, вошла в церковь. Так, тонко сыграв на том, что великолепная книга в те времена, да ещё и до сих пор, оказывается ценнее многих алмазов и золотых побрякушек, пожертвовав подлинным достоянием своей библиотечной сокровищницы, Одо заманил их всех в свою с Рожером ловушку. Я вернулся к Вирдо, будучи, с одной стороны, довольным уловкой аббата, с другой же объятый волнением, проистекавшим от того, что ночь неумолимо приближалась, а, значит, становился все ближе и час, когда я должен был либо помочь своему благодетелю и его брату, либо, если мне не повезет, провалить блестяще задуманный план и поставить этим под угрозу жизнь короля Карла, находящегося в заточении. Я пытался вернуть себе собранность , возвратившись к изучению трав, чьи названия я перебирал словно четки: пиретрум и тмин, зедоар и бриония, змей-трава, бузина и цикута. Жабрица, жеруха, шарлот. Какое изобилие! Это что ? Шпажник. Это ? Гелио...Гелиотроп. Господи ! Какое-то медвежий корень, богородичная трава, дубровник, паслен, чемерица. Сколько же их здесь ? Калган и иссоп, козлиный рог и колуфер, переступень и эстрагон. Да... Что болезнь ? Сама смерть перед лицом такого множества трав уже не казалась неизбежной. Что если она вот-вот отступит перед армией этих трав, получивших свою силу у природы, всегда сохраняющей способность к перерождению ?
Наступила ночь. Я лежал на кровати, сложив руки под головой, не замечая непривычной жесткости одра, твердости набитой соломой подушки и тонкости прохудившегося суконного одеяла, под которым в такой холод можно было спать только одетым. Я думал о том, что сумбурные, во многом противоречивые впечатления истекающих суток значительно притупили во мне те ощущения, с которыми я въезжал сюда прошлой ночью, и которые усилились при расставании с отцом, надламывая мою душу, нещадно надрывая её. Несмотря на тяжесть обстоятельств, приведших меня сюда, несмотря на их исключительную трагичность, все вчерашнее каким-то образом уже отошло на второй план, а перед глазами теперь сменяли друг друга картины монашеского быта и калейдоскоп ярких личностей с их идеями, надеждами и удивительным образом мыслей, подчас ничтожным и бренным, подчас - пафосно целеустремленным. Монашество казалось мне сейчас смесью глубочайшего невежества и каждодневного страха, к которому, кроме естественного ужаса перед набегами язычников, примешивался ещё и трепет перед дикими созданиями собственного, погрязшего в заблуждениях ума. Из монахов кроме Одо и Вирдо я пока не встретил никого, кто бы восхитил меня, не оттолкнув либо самолюбием, либо двуличием, либо низостью побуждений, либо непроходимой глупостью. Не может быть, чтобы иночество существовало для того, чтобы быть пристанищем пороков и скопищем злоупотреблений, уподабливая обители зоопаркам, в которых животные в перерывах между справлением надобностей и поглощением пищи гримасничают, являя неразвитость пустопорожнего ума. Но для чего тогда оно было придумано, все расширяясь и плодя повсюду один монастырь за другим ? Я где-то слышал, что обители должны быть "lumen lucernae super statuam candelabri", светочем в мире нравственных изъязвлений, и - странное совпадение - в названии "Luxovius" присутсвовало слово "lux", то есть "свет". Они должны одарять мир знанием, возводить к духовности, очищать и преображать его косность светом своего несотворенного сияния, становясь краеугольным камнем пресуществленного духовностью царства. Получается же наоборот: они лишь культивируют все людские недостатки, содержа притоны всяческих несовершенств, оказываясь самым полным сводом того, что препятствует прогрессу человечества. Получалось, что прорыв к жизни, в которой осуществились бы евангельские чаяния, должен был наступить не отсюда, где новозаветный свет почти потух, и сознание, погрязшее в извращениях духа, лишь отягощает собою бытие, а из другой, может даже противоположной среды. Откуда ? Я ещё слишком мал, чтобы это понимать, но из головы не выходили идеи Рожера. Некий монарх, достаточно влиятельный, чтобы сплотить общество вокруг себя и достаточно прогрессивный, чтобы вынашивать самые возвышенные идеалы - он может быть способен объединить под своим скипетром территорию всего мира, восстановив Империю, а затем, господствуя над ней вседержавно, из присущего ему благодатного духа возвести на земле царство незыблемого благочестия, в котором бы уже не было места ничему кроме совершенства. Но где отыскать такого правителя ? Рожер с уверенностью говорит о Карле, наследнике Карла Великого, и, значит, следовало сделать все, чтобы возвратить его к власти. Возможно это и так.
Отзвучали гимны и уроки полунощницы, и, точно также, как Вирдо, кряхтя, возлег на свою постель, все монахи разошлись по кельям, чтобы продолжить прерванный сон. Наступало время действовать. Как я заметил, дверь у нас была слишком скрипучая и, не желая привлечь к своим действиям внимание садовника, я выбрался через окно. Идя на всякий случай в тенях строений, выросших от полной луны, я, перебегая от кельи к келье, стремился незаметно проскользнуть к дому аббата. Один раз, проходя вблизи кладбища и оскальзываясь в грязище, я оступился и уже хотел расчертыхаться, но увидел заворожившую меня картину: под ярким лунным светом, вытягивавшим все тени так, что они вот-вот разорвутся, склонившись над свежевырытой могилой, недвижно, походя на собственное надгробье, стоял ризничий Киза, избывая наложенную епитимью. Он едва слышно бормотал время от времени, глубоко и горестно вздыхал и подбрасывал иногда в яму комочки земли, словно репетируя прощанье с самим собой. Пригнувшись, я обошел его и, миновав ещё пару келий, добрался, наконец, до резиденции Одо. Он и его брат нетерпеливо ждали меня и, дав ещё раз необходимые наставления, подсадили меня к дымоходу, проведенному под самым потолком. Кроме того, что он был чрезвычайно узким, походя на кротовью нору, меня постоянно пробирало на то, чтобы чихнуть что есть силы - так я навдыхался поднявшейся копоти - и я с трудом удерживался, стараясь дышать ртом, словно рыба. Наконец, разобравшись в сплетении дымоходов, я протиснулся к той комнате, которая отведена была аббатом для размещения вещей делегации. Я слышал храп, прерываемый бессвязным лепетом, вызванным ночными наваждениями, но едва только собрался выбраться из своего дупла, как лестница заскрипела под чьими-то шагами и в дверь тихо, но требовательно постучали. Потом ещё и ещё раз до тех пор, пока храп не прекратился, и, спавший как младенец человек, не поднялся и не пошел встречать
полночного гостя. Наконец, засов открылся, дверь распахнулась, и какая-то тень прошмыгнула в комнату. "Ты откуда взялся ?" - раздался удивленный голос разбуженного, в котором я сразу узнал Бовона Шалонского. "Тс-с-с. Ты один ? Наверное, я здесь не случайно и не появился б не будь на то оснований, заставивших меня мчаться за вами посреди ночи. Те известия, которые я получил, заставили меня срочно броситься вскачь". "Что опять случилось ?" ;"Пока, слава Богу, ничего, но могло бы, когда некто, не посоветовавшись, начал принимать скоропалительные решения. Скажи, кто придумал ехать через Люксейль ?" ;"Я. Но что в конце концов происходит ?" ;"А ты громче не можешь говорить ? Аббат этого монастыря является сообщником наших врагов, быть может даже их вдохновителем. Я узнал об этом сегодня благодаря чистой случайности". ;"Одо ? Не может быть ! Он всегда нам помогал и его голос никогда не звучал против наших намерений". ;"Так думал и я, но он оказался хитрой лисицей, только по видимости сочувствуя нам, на поверку же строя козни вместе со своим братцем". "Но я только сегодня беседовал с ним и поведал ему все наши планы..." "Как ?!" "...и он не возражал мне, никаким образом не выказывая себя несогласным". ;"Ты ему все рассказал ! Черт тебя возьми, ты просто тупица, Бовон. Теперь нам нужно землю грызть, чтобы выбраться от сюда. Сегодня днем мне здорово повезло - удалось расправиться с мерзавцем Сегобертом. Это тот, который отнял у меня недавно замок Роснай. Вчера он поплатился за это жизнью собственной семьи, а сегодня и сам отправился к праотцам. У него остался ещё один малец, но я и его обязательно найду, чтобы растерзать в клочья, ведь ты не представляешь, как сильно Сегоберт вывел меня из себя ! Так вот, у этого пса при себе было занимательное письмецо. На-ка, почитай. Да не зажигай свет ! Прочти у окна". Мое сердце лихорадочно забилось, словно птица в силках, и мне показалось, что его громкий стук сейчас станет слышен в комнате : ночной гость оказался Гилдуином ! С самого начала в голосе незнакомца я улавливал, пусть и безотчетно, знакомые тона, и теперь было ясно, где я мог их слышать. После упоминания имени моего отца я ужаснулся догадке о том, что сам изверг был сейчас рядом со мной. Он убил мою мать и братьев, а теперь меня потрясла весть о смерти ещё и отца. Мой папа, на которого обратилась теперь вся моя сыновья любовь и который ещё вчера был рядом со мной, теперь был так же мертв, а его убийца, не угомонившийся и на этом, этот непримиримый палач был сейчас так близко, да ещё и похвалялся своим преступлением. Я тихо заплакал...Бовон стоял у окна, подставляя письмо лунному свету, едва читая спросонья. "Это ужасно ! вымолвил он наконец, сворачивая его в глубокой задумчивости. - Сегоберт просит аббата простить ему смерть своей жены. Видимо, Одо был сильно влюблен в нее. Ты что ли её убил ?" "При чем здесь это, какая там ещё жена. Мне наплевать, ты дочитай до конца". "Да дочитал я. Рожер - брат Одо от конкубины. Это весьма неожиданная новость". ;"Теперь ты понимаешь, какой опасности ты здесь подвергаешься ? Они вдвоем наверняка задумали убить тебя или взять в заложники или что-либо еще, лишь бы не допустить делегацию к Папе". ;"Не думай о людях по себе, - не без брезгливости проговорил Бовон. - Одо не из тех, кто считает оружие сильнее слова Божьего". "Как ты можешь так думать ? Теперь ! Когда ты все знаешь! Одо и граф Лана - в сговоре. Тебе письмо разве не открыло глаза ? Одо принял пострижение не потому, что он безупречен, а от того, что подлец Сегоберт отбил у него девку. Внутренне же он нисколько не изменился и, я тебя уверяю, действует сейчас заодно с Рожером, который теперь тоже наверняка здесь, вместе с ним. Вы все здесь в ловушке. Вас приманили, завлекли как крысу в мышеловку". "Все-таки ты в словах будь поосторожнее, Гилдуин, ведь если я крыса, то ты - настоящая випера". "Да...да как ты смеешь ? Ух ты какой, Бовон, оказывается. Я вижу, что ты забыл, как ты стал епископом. Так я напомню, сколько людей полегло тогда у твоей кафедры". ;"Но все, все. Все. Хватит. Говори, зачем ты приехал и чего хочешь". ;"Значит так, делегация должна немедленно уезжать отсюда. Все, что вы везете, должно быть в целостности и сохранности. Папа должен получить свои дары, а Хугон - взять взамен архиепископство. И вам следует поторопиться, ибо весьма дрянные новости доходят из Италии. Говорят, Мароция захватила Папу в плен и измывается теперь над ним, требуя титула для своего муженька. Какова Мегера ! Нужно успеть воспользоваться лояльностью Иоанна, а его тяжелое положение - как раз нам подмога, ибо он выполнит все, чтобы мы его вызволили. Поэтому езжайте немедля, если не хотите, чтобы шайка Рожера отправила вас сейчас в объятья к Феодоре. А это осиное гнездо...Я его беру на себя". Тут Гилдуин снял огромный рог, висевший у него на груди, высунулся в выходящее на задворки окно и тихо протрубил - звучание у рога было очень низким и гулким - давая условный знак. Через некоторое время в комнату поднялся ещё один сорвиголова из его окружения. "Это Бенвенуто, - представил Гилдуин. - Мы с ним проникли сюда, дабы изучить ситуацию. У меня много людей, которые ждут сейчас у леса. Бенвенуто, скачи немедленно к ним и скажи, что можно начинать. Держи давай мой рог, и когда подъедите к монастырю обязательно дай мне знать, дважды протрубив в него. Если что-то будет не в порядке - труби один раз. Ты, Бовон, скажешь всем своим, чтобы оставались на местах и не попали случаем под горячую руку моих молодцов, которые быстро очистят монастырь от заговорщиков. Они устроили ловушку для нас, а мы выкопаем могилу для них. Хитрость всегда сильнее. Давай, Бенвенуто, живо". Разбойник вновь скрылся за дверью, а Гилдуин с Бовоном остались в комнате, собирая вещи на вынос.
Представьте же мои чувства, которые я испытывал, становясь свидетелем этого разговора ! Я не только не был в силах выполнить возложенное на меня поручение, не только был поглощен страшным известием о гибели отца, но и узнавал вдобавок, что орда не знающих меры человекоубийцев вот-вот ворвется в монастырь, чтобы сеять повсюду смерть и разрушение. Я уже начал тужиться, чтобы пропихнуться обратно, желая предупредить Одо об опасности, но тут началось такое...Дело в том, что бедняга Киза, в стенании созерцавший собственную могилу, стал невольным соглядатаем приезда Гилдуина в монастырь. Тот, конечно, и предположить не мог, что кто-то будет бодрствовать в столь поздний час, да ещё и выстаивать при этом на кладбище. Поэтому, спешившись и привязав своего коня к одному из надгробий, Гилдуин смело направился к кельям, дабы рыскать там в поисках Бовона. Киза видел и его и Бенвенуто, оставшегося в стороне и все ещё не слезавшего с лошади. Ризничий проследил путь подозрительного незнакомца и, чуя, что дело неладное, немедленно пробрался к аббату и сообщил ему обо всем. Далее и Одо и Рожер мыслили с молниеносной быстротой. Сами отпетые интриганы, они учуяли нависшую над ними угрозу и выскользнули к амбару, стоявшему позади кладбища, чтобы следить оттуда за вторым из непрошеных гостей. Когда в ответ на позывной Гилдуина Бенвенуто отправился к резиденции, Одо уже хотел задержать его, но Рожер сделал знак повременить, ибо он смекнул, что если они остановят его сейчас, то тогда ничего не узнают, а если же они не тронут юношу, то он скорее всего возвратится с ценными сведениями. Так и случилось. И, когда, позванивая шпорами, Бенвенуто поспешил обратно, на него внезапно обрушились два здоровенных детины, которых представляли собой мой благодетель и его брат. Они буквально выбили из него признания и, подивившись чудовищности задуманного злодеяния, решили, что действовать надо немедленно, ибо, хотя им и удалось прервать сообщение Гилдуина со своей сворой, Бовон уже начинал готовиться к отъезду и вот-вот должен был покинуть дом аббата вместе со шкатулкой, содержавшей заветное послание Папе. Не долго думая, Рожер схватил под уздцы коня Бенвенуто и приказал брату запалить его попону. Лошадь неистово заржала и в безумной скачке бросилась во двор, так как она постепенно умирала и пыталась убежать от охватившего её огня. В этот момент Гилдуин и епископ как раз готовились к сборам. Услышав очумелое ржание, в одно мгновение поднявшее на ноги весь монастырь, они бросили все и выбежали во двор, думая, что на обитель напали люди Рожера, которым теперь нужно было противостоять. "Быстро собери всех воинов и приготовь их к отпору. Одо все-таки оказался первее нас. Смотри, они убили Бенвенуто!" Какая паника началась в монастыре ! Особенно больший ужас испытывали монахи. Они босиком, с подвернувшимися полами ряс, шлепали по двору, без толку причитали и хватались за головы, словно их волосы сейчас тоже начнут гореть, как огонь с попоны перешел на лошадиную гриву. Окруженная огненным ореолом, погибавшая в страшных мучениях лошадь, ничего не видя перед собой, кидалась на ограду, сшибала и переламывала кости любому, кто попадался ей на пути. Солдаты, сопутствовавшие делегации, проявляли меньше суматохи, нежели монахи, и, увещеваемые призывами Бовона и Гилдуина, которого они знать не знали, но, почему-то, слушались, выстраивались и вооружались, готовые противостоять невидимому врагу. В это время лошадь издохла и с тяжким вздохом рухнула посреди двора, на глазах у всех обугливаясь огнем и исходя зловонием. Я же, едва придя в себя, воспользовался ситуацией, спрыгнул в комнату, нашел ларец, который я хорошо представлял по описанию Рожера и поменял одно письмо на другое. Потом я подбежал к окну, к которое трубил Гилдуин и, не задумываясь, полетел вниз. Через некоторое время Бовон и его спутники выяснили, что никто на них не нападает и следует, не теряя, однако, бдительности, попытаться разобраться в происшедшем. Гилдуин втянул в сговор Шалонского епископа, ведь у того теперь были все основания для обвинения Одо в убийстве. Труп Бенвенуто они найти не смогли, так как Рожер спихнул его в отхожую яму, но само преступление налицо. Итак, Одо должен был быть пленен и взят ими с собою в Рим, где он предстанет перед папским судом и будет приговорен к смерти - отличный способ спокойно устранить своего противника. Через полчаса все было готово для того, чтобы предъявить аббату обвинения. За этот срок все делегаты успели успокоиться и собраться в дорогу, чтобы прежде времени покинуть этот монастырь, от которого они ожидали все-таки большего уюта. Теперь они жалели, что остановились здесь, а не в каком-нибудь ином монастыре, где никакие кошмары, никакие горящие лошади не поднимают людей среди ночи. Краткое заседание проводилось прямо во дворе возле лошадиного трупа. Разочарованный Аббон переменил милость к аббату на гнев, и теперь все три епископа чинно и с суровейшим видом воссели на принесенным из скриптория стульях. Позади толпились чертыхавшиеся сеньоры и солдаты, не прекращавшие нервно озираться. Секретари ловко орудовали стилями, занося в епископские церы протоколы этого знаменитого суда. Была ещё глубокая ночь, которая, несмотря на полнолуние, создавала впечатление, будто действо происходит в зале, где погасший свет свидетельствует о запрещенности собрания. "Итак, - начал чрезвычайно гневный Бовон, - я знал, что нам не следует здесь оставаться на ночь. Этот монастырь поистине пристанище бесов, где воплощаются видения больного рассудка. Ну как, Аббон, неужто ты хорошо отдохнул нынешней ночью ? Я тебя уверяю, теперь эта ночь сама будет сниться по ночам. Итак, к глубочайшему прискорбию, среди нас есть волк, на пагубу души поставленный во главе смиренного стада Христова, - он обратил свой взгляд на Одо, стоявшего перед судом со связанными руками, - убийца и клятвопреступник. Человеконенавистник. Каждый из нас знает, что зло должно быть наказано, но этот человек - это просто воплощение зла. Он нарушил все законы, установленные и Богом и людьми. Сегодня, когда каждый из нас придавался сну, он, исходя из цели запугать нас и не дать продолжить свой путь, убил нашего верного воина и позорнейшим образом умертвил его лошадь В виду неслыханности содеянного им, считаю, что нет необходимости ждать решения епископа Безансона и, заключив Одо под стражу, мы должны привлечь его к папскому суду для проведения показательного процесса по искоренению зла среди прелатов и очистке садов, возделываемых духовенством, от пагубных сорняков. Все согласны ?" ;"Все ! - выкрикнул Одо прежде всех. - Я за то, чтобы в церкви не было места никакого рода нечестию, но прежде, чем вы повезете меня в Рим, я осмелился бы спросить, какие доказательства моей вины вы видите в случившемся происшествии ?" ;"Все доказательства я оставляю при себе и намерен предъявить их лично Папе". ;"А, ну что ж, придется...Киза, где ты ? Придется тебе отправляться в Рим вместе с Бовоном. Монастырю, конечно, будет тебя не хватать, но..." Лицо Бовона выразило недоумение : "Для чего нам этот монах, запуганный как мышь ?" ;"Дело в том, почтенный епископ, что он видел, как именно все произошло. Эта ужасная драма разыгралась прямо на его глазах". Бовон растерянно уставился на Кизу, стушевавшаяся фигурка которого в самом деле выражала робость и замешательство. Потом он понял, что показания ризничего являются лишь уловкой аббата, призванной отвратить обвинения, и поэтому он решительно покачал головой: ;"Как он может свидетельствовать об обратном тому, что для меня яснее Божьего дня ! Я не стал бы обвинять Одо, если бы не знал наверняка, что именно он совершил это преступление. Попытка утвердить противоположное равносильна стремлению оклеветать меня и признать лжецом. Все, что на уме у этого человека, может быть только от лукавого и поэтому слово мы ему давать не будем". Но тут остальные епископы, тихо переговаривавшиеся друг с другом, посчитали нужным воспротивиться мнению Бовона. Аббон Суассонский, который без поддержки епископа Труа никогда бы не решился противоречить епископу Шалона, высказал такое рассуждение : ;"В самом деле, Бовон, у нас нет никаких оснований не доверять вам, и если вы сказали, что уверены в виновности Одо, значит такая убежденность небезосновательна. Я не знаю, что заставляет вас утаивать сейчас известные вам подробности, но не напрасно, видать, тати прибегают к помощи ночи, потому что её чернота многое скрывает от нас, наполняя сознание двусмысленностями. Кто-то увидит волка, а другой в этом же узрит человека. Поэтому, я думаю, что чем более у нас соглядатаев, тем сильнее можем мы быть уверены в том, что возмездие будет совершено по заслугам. Наше мнение - Киза должен говорить. Хоть лицо у него и не выглядит облагороженным честностью, но оно выражает столь сильное простодушие, что мне не представляется, будто можно было бы подозревать его в сознательном вранье". Если бы не темень, всем, я думаю, открылось бы, как Бовон побагровел от ярости, но он усмирил свой гнев и дозволил говорить монаху. Киза, откашлявшись, начал : "По епитимье, которая наложена была нашим настоятелем, о здравии которого молим Бога деннонощно, по наказанию, которое искупило бы мои проступки и преследовало единственную цель исцеления моей души, я не ложился спать после полунощницы, пребывая на кладбище и тогда, когда остальные уже возвратились к своему сну. Все братья подтвердят, что таковое воздаяние в самом деле было мне присуждено минувшим днем". В толпе монахов раздались многочисленные одобрительные возгласы. "Так вот, долгое время я мог беседовать только со звездами и с самим собой - вокруг стояла полная тишина и всеобщий покой. Как вдруг.." ;"Что ?" - нетерпеливо перебил Бовон. ;"Вдруг страшное и причудливое видение представилось моим глазам. Откуда-то с неба ринулся к земле и воспарил над нею, повергая все в коленоприкновение, ужасный орел, равный по величине сотне лун и тысячам звезд. Его крылья - словно ангельский меч, что отделяет небо от земли на всем пути от Восхода до Заката, от Аквилона до Септентриона. Из пасти его вырывался огонь ядовитый, и в отблеске этого огня я увидел всадника, ехавшего там, где стоит город Юлия Цезаря. Огромная птица взмахнула своими крылами, метнулась вниз и, схватив путника, вознесла его вместе с собою в глубину ночи. На чудо такое взирал я с содрогновением великим, немало поколебавшись в своем уме. Многие рассказывали о птице, похищающей людей, но никому ещё не удавалось видеть её. Я же узрел все ныне собственными очами и немало перетрусил при этом в душе. Господи, это такой кошмар..." Речи Кизы вызвали великое волнение у всех, присутствовавших на суде. Особенно впечатлительными были монахи, из которых одни закрестились, другие завопили, а иные заплакали. Снова раздались возгласы об исчадии ада, рожденного в немыслимом блуде, и среди подобного смятения даже бывалым воинам, не раз рисковавшим жизнью, стало не по себе. Я хлопал глазами : какой ещё орел, ведь Бенвенуто убили ? Но тут же сообразил, что рассказ Кизы сполна является выдумкой Одо, который таким образом воспользовался всеобщими домыслами, в реальности которых не сомневался никто. Епископы Труа и Суассона закивали головами, находя подтверждение рассказам, которые давно уже были в ходу и теперь снова сбывались. Даже Бовон прикусил язык. Не он ли уверял Одо в убежденности в том, что подобная птица на самом деле существует? Он знал, что речи Кизы лживы, но придраться к ним, объявить вымыслом не мог, сам защищая реальность чудища. Все, что он мог сказать теперь, он в итоге и сказал : "Дела дьявола так черны и так многочисленны, что на него можно списать любое человеческое злодеяние. Чем докажете, что видение не померещилось возбужденному уму или, что ещё хуже, не измышлено намеренно, дабы обелить запятнавшего себя аббата ?" ;"Я, - сказал Одо, - мог бы подождать до встречи с Папой, но я не хочу один на один говорить то, что нет смысла скрывать перед всеми. Расскажи, Киза, что ты нашел на том месте, где погиб несчастный всадник". ;"Я увидел там коготь этой птицы. Может, его откусил тот, кто стал её жертвой, может, он просто обломался при схватке. Посмотрите, на нем видна запекшаяся кровь". С этими словами ризничий представил поразившимся взорам большой рог, который Гилдуин передал Бенвенуто, и идея представить все таким образом пришла в голову именно Кизе, который неожиданно вспомнил, как Ионе пригрезились святой Реми и святой Мартин. Все зароптали, дивясь находке, столь непреложно иллюстрировавшей картину, обрисованную Кизой. Бовон же понимал, что его хитроумно провели и теперь ему не удаться склонить собрание в свою пользу. Поэтому он пылал самой лютой злостью и проклинал Гилдуина, надоумившего его затеять этот самосуд, выставивший на посмешище самого епископа. Рассказать же правду он не мог, ибо этим навеки очернил бы себя, так как ему пришлось бы прилюдно поведать о своей связи с Гилдуином Черным. "Вот почему воспылала лошадь, - воскликнул кто-то, по-моему, Иона. - Огонь дыхания, что истекает из уст ящера, объял её и изжег заживо". Затравленность и забитость монахов, чье душевное состояние вызывало истую жалость, трудно передать. Если бы не необходимость отстоять свою жизнь, Одо вряд ли бы пошел на то, чтобы воссоздать идола, прельщавшего умы, но теперь он сказал : ;"Ну что же, Бовон, я вынужден признать вашу правоту. К несчастию ваши опасения относительно существования чудовищного хищника самым прискорбным образом подтвердились, и эти события отчетливо подчеркнули теперь верность гипотезы, которой я всегда отказывал в здравомыслии. Вы, как всегда, превзошли всех своей мудростью, святейший отец". Одо поклонился Бовону, тот же поднялся и сказал : "У нас больше нет времени здесь задерживаться. Впереди у делегации очень длинный путь. К тому же нам не следует находиться там, где хозяйничает прародитель зла. Поэтому всем по коням. Мы отправляемся в дорогу немедленно". Солдаты, унизанные всевозможными атрибутами головорезов; сеньоры, чьи мечи редко вынимались из ножен, но зато были инкрустированы драгоценными камнями; епископы, походящие на нищих паломников, с восковыми табличками по бокам, исписанными протоколами суда, получившего потом всеобщую известность - вся делегация продолжила свой путь, покидая монастырь через южные ворота, распахнутые Арульфом, который на этот раз с удовольствием поспешил их растворить. Взлелеявшие беспокойство монахи расходились по кельям, немолчно взывая к Божьему имени. Несколько мирян повлекли лошадиный труп в выгребную яму за пределы обители. Двор был переполнен гарью и вызывающим рвоту смрадным душком. Часть ограды, зажженная обезумевшим, слепо бросившимся на неё скакуном, все ещё курилась едким дымом, хотя вся вода из чанов, оставшаяся в них после омовения, была вычерпана для погашения пожара. Торжествующий, но уставший аббат повел меня в свою резиденцию, где его ждали поздравления брата. С легким чувством я передал тому письмо, из-за которого и произошел весь этот сыр-бор. Довольный Рожер нетерпеливо распечатал его и быстро пробежал глазами, убеждаясь, что это именно то, что нужно. "Молодец ! - похвалил он меня, хотя мои заслуги в этой истории были наименьшими. - Смотри, Одо, как беззастенчиво они лгут самому Папе, выдавая желаемое за действительное : отпрыск Хериберта, оказывается, был избран беспрекословно и единогласно. Я-то точно знаю, что они брешут, ибо был в тот день в Реймсе и видел, как его улицы и площади казались словно запруженными конницей графа и примкнувших к нему сторонников. Стращая своей силой, они вынуждали иереев подчиниться их воле, а теперь вытянутое таким образом согласие выдают за всеобщее волеизъявление. Опять же завышают возраст Хугона : ему, видите ли, не пять лет, а все десять. Чтобы ввести в заблуждение бедного Папу они не гнушаются ни какими ухищрениями. А вот это что ? Смотри-ка что они пишут : В качестве доказательства нашего могущества и в знак того, что силе и власти короля Рауля Вы можете доверять, ни в чем не сомневаясь, посылаем Вам, блаженнейший отец, сей предмет, запрятанный в письме. Вы узреете его - и уже не будете ведать ни каких колебаний." Прочитав эти строки, Рожер задумался, на всякий случай взглянул на оборотную сторону письма, разумеется, чистую и недоуменно пожал плечами : "Интересно, что за предмет они имеют в виду. Припомни-ка , Адсон, кроме письма в шкатулке ничего больше не было ? А к письму ничего не было привязано, прилеплено ? Это очень важно. Поклянись, что ты ничего не находил...Ладно, мы это упустили, потому что не знали об этом. Как бы то ни было, дело сделано. Теперь остается ждать, пока Папа не пришлет нам ключи от темницы Карла". Рожер ещё раз поблагодарил нас, крепко обнял брата и стремительно вышмыгнул из дома так же незаметно, как он всегда куда-либо входил или выходил. Так как в дальнейшем я уже не намерен возвращаться к этому эпизоду, то сразу скажу, что задуманная им хитрость, эта головокружительная авантюра, сработала, и Иоанн послал всем сеньорам и епископам призыв освободить Карла и признать его власть. Под напором всеобщего мнения и боясь отлучения от церкви Хериберт вынужден был выпустить своего порфироносного пленника. Правда, вернуть Карлу полноценную власть все-таки не удалось - это объяснялось сменой Папы - и через некоторое время злосчастный монарх опять был возвращен в темницу, где он и умер в 929 году в полной нужде и безнадежности.
Заплетаясь от утомления, я направился к келье Вирдо. Я не торопился. Мне хотелось насладиться свежестью ночного ветра, откуда-то издали доносившего запах увядшей и прелой, слежавшейся листвы. Где-то в глухих балках сырой лист уже скопился целыми залежами и ждет, когда же, припорошенный снегом, он сможет незаметно исчезнуть, окончательно слиться с землей. Осень делает всех нищими, отбирая у каждого его богатство и нагие, обобранные стужей ветви, трепещут, объятые унынием. Я вдыхал этот приносимый издали запах сырости и уныния, а когда сунул продрогшие руки в карманы, то в левом из них нащупал что-то маленькое, похожее на камушек. Вынув это, я обомлел : в руке у меня был отнюдь не камушек, а изысканный перстень, камни которого причудливо играли, отражая полуночный звездный свет. Это ж то, что искал Рожер, исходя из неясного намека в письме ! Но я не обманывал его, нет, я и предполагать не мог ни о каком перстне. Должно быть, он был упрятан внутри свернутого в трубку письма, а, когда я нырнул в окно, бухнувшись затем на землю, он выскользнул из складок пергамента и осел у меня в кармане. Я пристально осмотрел его и, к ужасу, понял, что это был перстень самого Карла, находившегося ныне в заточении, ибо по ободу кольца, была выгравирована надпись : Король Лотарингии Карл. Рожер был уже далеко и, поддавшись этой успокоительной мысли, я сунул перстень обратно в карман. Такая реликвия...И потом, как знать, быть может она мне ещё пригодится.
Пока же я залез в холодную кровать и ещё долго не мог уснуть, наполненный впечатлениями. Я все ворочался с боку на бок, но потом вспомнил наставления Вирдо, сбегал в кладовку за травой полыни и положил её себе под подушку садовник сказал, что от этого приходит сон, долгожданное и сладкое беспамятство. И я уснул.
год 1917
Однажды хмурым осенним утром, что случаются в конце сентября, я сидел на веранде своей дачи в Вырице, пригороде Петрограда, мерно покачиваясь в скрипучем плетеном кресле, кутая зябнущие ноги в широченный плед и любуясь живописнейшей картиной природного бесчинства, развернувшегося прямо за палисадником - красотой то подслеповатой, то слепящей седины триумфально умирающего леса. Где-то в глухих балках и промоинах источался, пронырливал и мучил всю округу терпкий, крепко настоенный аромат промозглой прелости. Из ополосков луж омытым сизарем взмывало ввысь супившееся небо. Оставляя в лесу обширные редины, березки сгрудивались у деревни, расхаживали почтальоншами и в виде палой листвы разбрасывали письма, газеты, и телеграммы всем тем, кто подписался на известие о том, что природа сошла с ума. Над ними, как опивки вчерашних ливней, кружило густое сеево мокряди. Глядя на все на это я радостно поеживался, потуже запахивая полы моей теплой фуфайки и с наслаждением попыхивая трубкой. Надежно отделенный от осенней кутерьмы наглухо задраенной оконницей, куржавившейся моросью, я размягченно предался зрелищу природных сатурналий: и огненному монисто хохочущих, рыжеволосых крон, и перекати-полю вороха взбалмошной листвы, и редким просветам мрачнеющего, но свищеватого неба, и всей этой вообще толчее, грозившей ворваться в мой уютный дом праздничной, святочной толпой с вертепом. Правда, чем больше я упивался картиной стихии, тем сильнее мое внимание привлекала береза, стоявшая особняком от всеобщего буйства, скромно и женственно грустно склонившаяся у ограды соседнего дома. В её облике, бежавшем развязности, в её осанке, в которой податливость сосуществовала с достоинством, мне виделись черты моей милой жены, которая вот уже несколько дней как уехала в город. Знакомые глаза, знакомые волосы и губы были скрыты в ветвях, словно старые надписи палимпсеста. Но я угадывал их и бережно для себя восстанавливал, складывая из шелестящих листьев, как из камушков смальты, мозаичное панно с образом дорогого мне человека. Картина упрямо не желала заканчиваться !
Пока я тешился этим занятием, наступил полдень, и тихий, осторожный удар ходиков отвлек меня от стариковски пустой, но приятной затеи. Еще раз прочувствовав свою полную защищенность от всех невзгод окружающего мира, предвидя день, наполненный праздностью и истомой, я оправился в кресле, раскурил потухшую трубку и решил заняться изучением городских газет. Примерно в течении часа я был погружен в тягостное чтение, озабоченно, с глубокой грустью узнавая последние новости из революционного Петрограда, сообщавшие о роковом крушении последней христианской империи - третьего Рима, этом заключительном, репризном глиссандо всемирной исторической какофонии, последнем, давно предрешенном акте самой полной и окончательной уже апостасии. "Et cum cessaverit imperium Romanum, tunc revelabitur manifeste Antichristus et sedebit in domo Domini in Jerusalem". Кто это сказал однажды ? Я глубоко задумался, пытаясь вспомнить, где я мог прочитать или услышать неожиданно пришедшую мне на ум цитату. И что-то глубоко запятое в моей заросшей, как перелог памяти, дало о себе знать, отозвавшись тупой, кургузой болью, саднившей нутро, словно слеза зажатая в ладони.
Однако, все более холодало. Я размял лубенеющее лицо, и, кряхтя, с неудовольствием поднялся, чтобы подбросить дров в топку камина. Из зева печи дыхнуло дурманящим, слезящим глаза жаром. Языки огня весело набросились на подкинутые поленья, обращая их в струпья черной коросты, подпекая мои ладони, как и осень румянит листья кущ, наливая их, словно яблоки. Нежась у очага, я подумал о том, как это будет хорошо, если эту зиму мы с женой проведем не в городе, как обычно, а здесь, на даче, где невероятно уютно и далеко от всех этих кровавых вакханалий, разыгрывавшихся теперь в Петрограде, где сын ныне вставал на отца, где царило безумие, и где - именно по этим причинам - мы с женой решили съехать со своей квартиры, окна которой багровели по ночам от уличных костров, полыхавших, как жаровни для грешников. "Et non erit qui inimicis resistat, quia tunc Dominus erit iratus in terra. Roma in persecutione et gladio expugnabitur et erit deprehensa in manu ipsius regis". Все-таки, где же я это читал ?
Между тем, вспомнив о своем городском жилье, я решил вернуться к газетам, чтобы поискать в них объявления о желании найма или покупки квартиры. Бегло я пробегал куцые модули и столбцы сообщений, пока вдруг глаза не прочли следующий текст : Ищу книгу "Новые записки о галлах", после которого курсивно выделенный адрес сообщал, что податель этого необыкновенного объявления какой-то торговец москателью - обитал в одном из домов на Бармалеевой улице. Точно в тот момент, когда мой взгляд заворожили эти строки, кем-то, как мой камин, растопленная осень, яростно зашлась в своем буйстве: мне в окно коротко, как междометие, ударило крошевом дождевых градин, и вслед за этим сильнейший, неумолимый как сель дождь начал спринцевать землю. Все во мне перевернулось, как песочные часы, как реки, обращенные вспять, как смерть, обернувшаяся жизнью. "Aquarum cursus et ordinem converti, aera ventis et commotionibus multis agitari et cetera innumerabilia et stupenda, mortuos etiam in conspectu hominum resuscitari..." Память моя свербела и распиралась глубоко вытаенными на её дне зажорами, и вот уже мысли дико заныли, когда я провалился в одну из них, и всего меня обдало оторопью и невыносимо жарким холодом немого, слепого ужаса. Сердце так больно кольнуло, и я словно бы поперхнулся воспоминаниями, от которых заняло мой дух. Вскочив с кресла, я принялся вышагивать по комнате. Боже мой, я метался так бестолково, словно птица в клетке. "Это она ! Она...Господи, этого не может быть. Это она. Такое объявление могла дать только она, хотя текст и подписан мужским именем.Что это за тип ? Да ч-ч-черт, какое значение это имеет в конце концов ? Боже...был ли день, когда я не думал бы об этой женщине; была ли ночь, когда бы она мне не снилась ? Разве сто, тысячу раз вопрошая о том, ради чего я живу, я не отвечал что для нее, хотя не видел её уже три десятка лет ? Когда мои цели были бесконечно далеки, но я все же достигал их - это ведь ради нее; когда смерть, напротив, была так близка, дыша мне в лицо, но я преодолевал все, чтобы жить это делал я только ради нее. Только ради нее. Что заставляло меня жить все это время, что понуждало стремиться к чему-то, каждый час, каждый миг побеждая себя в жажде самосовершенствования - не лги себе, ведь ты давно ответил на этот вопрос: не дети, не жена, не коллеги, не тяга к тщеславию и не менее пустое честолюбие. Только её образ, только её взгляд, только её голос, только моя любовь к ней. Любовь всей моей жизни. Ее истинная цель. Ее единственная мечта. Господи, что же так сильно больно сердцу ? Откуда такая пронзительная резь, словно меня кромсают на кусочки ? Подожди-ка, подожди. Подожди, подожди... Разве ты не чувствовал, разве ты не ждал этого объявления ? Столько лет прошло. Казалось, все забылось, изгладилось, схватилось льдом. Ты давным-давно привык, что её нет рядом. И не может быть. Что в комнате только жена, только мальчишки. Ты уже отвык вздрагивать при каждом звонке в дверь. Ты совершенно смирился - не так ли - что все, что у тебя осталось - это только твоя любовь, и больше ничего кроме нее. Разве тебе сейчас нужно хоть что-нибудь, кроме того, чтобы видеть её ? Разве тебе вообще в жизни хоть что-либо ещё нужно было кроме этого, кроме того, чтобы вдыхать её запах, глядеть как она говорит, слышать, как она дышит ? Ты умрешь, любя, как и прожил ты весь свой век только любя. Даже...странно, но кажется, что и вошел ты в мир, любя её. Мне и вправду мнится, что она - мое самое раннее воспоминание. Хм, она как-то сразу все предопределила в этой жизни - от начала и до конца. Так разве ты не предчувствовал это объявление, когда почти уже целый месяц тебе настойчиво снится один и тот же сон, в котором нет ничего от сновидения с его вымыслами, а есть только лишь память, возвращающая меня к истокам моей жизни, на шесть десятков лет назад, когда она впервые вошла в мою жизнь, когда мы были ещё так малы, но когда, несмотря на возраст, все равно все уже было по серьезному ? По ночам ты теперь все время видишь эту зиму, сибирскую зиму, это бесконечно далекое село Покровское, где мы выросли. Село на берегу реки Лена. И точно также звали её, любовь к которой не может пройти, как и река с её именем не может иссохнуть и остановить свое течение - она слишком велика для этого. Сколько же лет нам было ? Девять ? Десять ? Та зима была слишком холодна. Вспоминая те морозы, я замерзаю во сне и просыпаюсь весь продрогший, с насквозь проиндевевшими руками. На самом деле так всегда в Сибири: природа, оказавшись во власти широко и плавно ниспавшей стужи, промерзает так, что деревья кажутся высеченными изо льда - так они недвижны, так тихи и так хрупки, когда с легким звоном ломаются их веточки при малейшем соприкосновении. Ты помнишь эти картины , ставшие чертогом твоего чувства, его альковом, его осторожным соглядатаем ? Еще бы ! Леса вмерзают в молочно-стеклянную твердь неба и, едва укутанные малоснежием, нежно одуваются тончайшими оттенками зорь, редкими мерцающими сполохами, да целой палитрой играющего многоцветия, распустившегося там, где в матовом своде заковано солнце - тусклое и красное. Ты и сейчас представляешь этот сон природы, эту её полнейшую тишину, когда безветрие и мороз таковы, что дым жилищ и животная испарина тут же замерзают, превращаясь в мельчайшие кристаллики, что висят недвижно в нескольких метрах над землей. Не только земля, но даже и воздух запаян льдом. Я и она и Андрей - волею судьбы, так как оба они сироты, у нас один воспитатель, одна няня; мой отец призрел их и поселил в нашем доме, который ему предоставили как практикующему врачу; сейчас он уехал в Петербург, где у него есть возможность получить хорошую должность - едем в санях по замерзшему руслу Лены, вдоль её то скалистых, щекастых склонов, то - там река расширяется просторным плесом - низменных, поросших чахлым древостоем берегов. Хоть везет нас Макар (пожилой селянин, разуверившийся раскольник, ещё в молодости сосланный в Сибирь за свое церковное бунтарство) и он вовсе не намерен при этом сдавать кому-нибудь свои полномочия, я и Андрей почему-то не на шутку спорим друг с другом, выясняя кто из нас двоих повезет сейчас Лену. Каждый из нас добивался права перенять у Макара поводья и править далее, заставляя лошадей вести нашу красавицу. Мы так разбуянились, исчерпав всякие доводы, что старику уже приходиться оборачиваться, чтобы пожурить нас и урезонить. Лена же смотрит на наш раздор молча, хоть и с большим любопытством. Наконец, видя, что выиграть спор криком ни одному не удается, мы принялись за тумаки, своими маленькими кулачками на славу тузя друг друга, подсматривая между делом, не переживает ли она за одного из нас. В узких санях мы не могли разойтись вволю и, сцепившись в мятущийся клубок, перевалились через низкие бока, шлепнувшись в пушистое покрывало, которым одета была река. Макар остановил лошадей и, преодолевая одышку, бросился разнимать нас, дерущихся изо всех сил. У Андрея из носа шла кровь, а я чувствовал, как солоно у меня становится во рту из-за разбитой губы. Когда Макару все же удалось развести нас, каждый все равно норовил поддать другому и пылал к нему самой лютой ненавистью. Вдруг - я никогда этого не забуду - смерзшаяся, превратившаяся в безжизненную глыбу земля, стала трескаться от мороза, посылая проклятья небесам. Вокруг раздался шум, похожий на беспорядочную оружейную пальбу, сопровождаемую раскатистым гулом. Кони заржали и бросились вскачь, взбудораженные салютом этих залпов. Обернувшись, я увидел её испуганное лицо, ибо она, оставшаяся в санях, уносилась от всех нас прочь, жалобно протягивая руки - мне, конечно же мне она протягивала их. Макар весь изошелся, причитая: "Ох, горе-то. Вот несчастье". То и дело хватаясь за голову и теребя густейшую бороду он смотрел вокруг, ориентируясь, а потом заковылял к ближайшему наслегу за подмогой, зазывая нас за собой. Но мы не послушали старика, так как каждый принял решение бежать за ней, потеря которой нас, нещадно дубасивших друг друга, неожиданно сплотила и примирила. Мы тотчас бросились вдогонку за лошадьми, уже исчезнувшими там, где река, прячась, ныряет за возвышенность, распушившую словно дикобраз иглы редких деревьев, облазивших её скалистый горб. Мы бежали, преодолевая сопротивление снежного покрова, исподтишка продавливавшегося под нами и заставлявшего нас падать и наглатываться колючих хлопьев, тут же таявших во рту пресным киселем. И снова мы вырывались из этих капканов и кидались вперед, заново намертво увязая в снегу. Моя шуба расстегнулась, и шарф развевался на лету, словно свесившийся от усталости язык. Шапку ловко подобрал гардеробщик мороз, раздевавший меня по дороге, будто я пришел к нему в гости. Для того, чтобы понять, как я выгляжу сейчас, я взглянул на Андрея. Значит и у меня такие же взмокшие волосы, такое же раскрасневшееся лицо, такое же настойчивое упрямство в глазах. Мы торопились, обгоняя друг друга; то я уходил в отрыв, то он пробегал рядом, обрызгивая снегом меня, опрокинутого с ног подсечкой сугроба. Заваленные этой трясиной, мы вновь и вновь подымались, ожидая, кто из нас сдастся первым, и однажды Андрей, бессильно простеревшись на снегу, не смог уже подняться, провожая меня, не надолго остановившегося, чтобы отдышаться, каким-то бессмысленным, остекленевшим взглядом. Видя, что он сник, я побрел дальше небрежной развалочкой, бездумно следуя взглядом за двоящимися следами полозьев; казалось, я засыпал на ходу, понурив голову и перестав сопротивляться стремлению век сомкнуться и погрузить меня в забытье. Дрема одолевала меня, и я валился с ног от усталости. Но вот мою рассеянность и полусон сняло как рукой: я увидел лошадей. Они смирно стояли, как ни в чем не бывало, иногда отмахиваясь от чего-то головой и тихо беседуя между собою. Я доплелся до саней и увидел её, сладко спящую. Теплый шарф, перед выездом повязанный нам всем вокруг рта, сполз, обнажив полураскрытые губы. Из-за множества напяленных рубашек и свитеров, руки её не лежали вдоль тела, а были трогательно разведены по сторонам, словно олицетворяя беззащитность и беспомощность. Я долго смотрел на нее, а потом нагнулся и поцеловал, чего взрослые никогда не позволяли нам делать. От моего прикосновения она очнулась и в первое мгновение в её глазах был испуг, сменившийся потом облегченным вздохом. "Я уже подумала, что это та старуха". "Какая ещё старуха ?" - спросил я недоуменно, не понимая, как в мире может быть ещё кто-нибудь кроме нас двоих. Она указала в сторону, и я, обернувшись, увидел среди деревьев накренившуюся хижину, просевшую от гнилости и убогости. Это был домик прокаженной, выгнанной когда-то людьми и поселенной в этой наспех построенной лачуге. "Она меня так напугала, когда вышла от туда, что я заснула". "То есть потеряла сознание, - подумал я. - Ах ты, бедненькая моя. Как смеет кто-то тревожить тебя, внушать тебе страх. Ты такое очарование и прелесть, что всякая печаль должна обходить тебя стороной". Только я это подумал, как дверь хибары заскрипела и из темноты показалась сгорбленная, обернутая в лохмотья фигурка. Эта прохудевшая карга опиралась на шелудивый посох и взирала на нас студенившимися глазками, сразу под которыми была повязана полинявшая ткань, колыхавшаяся от дыхания. Ветошь, окутывавшая её, так истончалась, что я невольно обратил внимание на её слизистые, в струпьях ноги. Довершали картину выбившиеся из-под колпака жуткие патлы с прожелтью, свисавшие, словно нити разорванной паутины. Лена в ужасе схватилась за меня, прося защитить её от этого видения, но меня тоже подташнивало и было не по себе. Словно боясь спугнуть старуху, я медленно сел в сани, обнял Лену, потом оледеневшей рукой нащупал поводья и потянул их на себя. Лошади ожили и, зазвенев бубенцами, стали послушно разворачиваться в обратный путь. Прильнувшая ко мне Лена стучала зубами, то ли от мороза, то ли от испуга, и я чувствовал себя избавителем, уберегшим её как от стужи, так и от вмешательства злых духов, так некстати выросших там, где рождалась моя любовь. Понукая коней и свысока подергивая вожжами, я был счастлив, что лошади так покорно слушаются, прыткой рысью отвечая на мои понуждения. Она приникла ко мне, положив голову на мое плечо, и я, довольный её доверием и её благодарностью, стремился удерживать это плечо недвижным, избавляя от тряски мою принцессу, которая в моих глазах настрадалась сегодня на всю жизнь, и отныне, я был уверен в этом, каждый человек в мире каждое мгновение должен был предпринимать все усилия для того, чтобы в её памяти забылся и этот лошадиный гон, унесший её от нас подобно волшебному вихрю, и ведьма той сказочной страны, в которой она так негаданно очутилась. Осмелившийся поцеловать её тогда, когда она спала, теперь я не решался ни дотронуться до нее, ни даже заговорить с ней, считая себя недостойным этого. Я только наслаждался ощущением собственной силы, которую она сейчас умиротворенно созерцала. Неожиданно раздался голос: "Постойте-ка. Эй ! Я здесь !" Я удивленно глянул в сторону : рядом с расселиной, сидя на валуне, нас ждал оправившийся Андрей. Он вычерпывал из сапог размокшие комья снега и отряхивал воротник от наледи. "Тпру !" остановил я коней и подождал, пока, прихорошившись, тот вскочил с камня и побежал к саням, тоже взбодрившийся и довольный. "Мне кажется, - сказал он, у меня в голове один снег. Как только вернемся, я суну её в камин и, растопив лед, солью его через уши". Мы засмеялись. "А я думаю, что мои ноги это и есть ледышки, и если их разогреть как следует, они растают и исчезнут". "Мальчишки, вы такие молодцы, так отважно бросились вслед за мной. Вот и закончился ваш спор о том, кто повезет меня. Надеюсь, вы уже помирились ?" "Разумеется восторженно сказал я, поводя лошадьми, которые украдкой прислушивались к нашему гвалту. Потом оглянулся на Андрея. - А ты ?" Тот немножко нахохлился, зябко поеживаясь и чувствуя себя лишним. Он глядел по сторонам и пытался что-то насвистывать. Услышав мой вопрос, Андрей простосердечно взглянул на меня : "Конечно. Забыли. Тем более, что я-то почистил свои перышки, а ты, наверное, насквозь проиндевел. О, а вот и дядя Макар едет !" И впрямь, вовсю поспешая, перепуганный старик гнался нам на подмогу, изо всех сил подстегивая добытых им кобыл. Завидев нас, он с явным облегчением перенял дух, и тут же принялся честить обоих, давая волю своим переживаниям. А потом у растопленной печи мы, зевая, оттаивали и травили, не стесняясь, перед Макаром байки об увиденных нами колдуньях, посылавших заклятья нам в след. С наших носков и шаровар стекали растаявшие льдинки, образовывая лужицы у табуреток : сначала все большие, а потом все убывавшие, ибо они постепенно испарялись жаром. И скоро мы уже дрыхали, заботливо укутанные умиленным Макаром. Так все это было. Разве не вспоминаешь ты по ночам об этом ? Разве не видишь каждый раз, как, бредя по целине заснеженной реки, ты находишь её и выцарапываешь затем из власти прокаженной старухи, способной повелевать всеми злыми духами ? Да, последний месяц эти воспоминания стали слишком навязчивы. И вот тебе пожалуйста - это объявление в газете. Ее объявление. Ее обращение ко мне. Она хочет меня видеть. Она ! Которой я грежу наяву, непрестанно проговаривая её имя, как монах беспрерывно твердит Иисусову молитву. Конечно, ведь только я и она знали название этой книги. Мы его придумали вдвоем, спустя много лет, когда мы были уже совсем взрослыми. Да, да, эта рукопись была без названия, она была не закончена, и мы окрестили её по аналогии с "Записками" Юлия Цезаря. Ха-ха, забавно. Но как же давно это было ? Я уже много-много лет не знаю ни где она, ни жива ли она. Не мог никак связаться с ней, ибо она не оставила мне своего нового адреса, а через Академию отыскать её оказалось невозможным. Она ушла оттуда и стала членом Археографического общества Лотарингии, пока я шастал по Египту, исследуя тексты Пирамид. Боже мой, что же за штука это такая - память ? Она живет как бы отдельно от нас, вмешиваясь в нашу жизнь сообразно только ей известным планам. Как она причудливо чутка ! Ведь ещё не прочитав объявления в газете, мои губы невольно стали произносить давным-давно зазубренные цитаты. Ну да ! Теперь-то я ясно представлял, что означала каждая из них. Как же я сразу не понял ! Первые две были отрывками из толкования Сивиллой сна ста римских сенаторов, сделанного ею на Авентинской горе, последняя же принадлежит тому самому Адсону, который высказал её в своем послании к королеве Герберге. Оракулы той, которую по-гречески называли Тибуртиной, а по-латыни именовали Абульнеей, составляли предмет рассмотрения "Записок о галлах", письмо же Адсона во многом являлось связанным со смыслом этих пророчеств. И то и другое мы обсуждали с ней вдвоем во время нашей последней встречи - сколько ? - тридцать лет назад. Да, это сочинение такое необычное. И мы назвали его "Новые записки о галлах". Кто предложил это ? Не помню. Да какая сейчас разница. Важно, что кроме меня только она знает о нем, и вот теперь она дает объявление в газете, понимая, что всем за исключением меня оно ровным счетом ничего не говорит. Господи, она просто хочет меня видеть, хочет чтобы я пришел к ней. Неужели же это возможно ?" В висках у меня стучало, и я ощущал собственную разбитость и дряхлость. Как странна эта встреча с любимой на склоне лет. Что она может дать обоим ? Но поменьше слов. Я вдруг сильно ощутил до какой степени я хочу её увидеть. Более того, я понял, что если не увижу её теперь, то умру. Она для меня - все.
Так все неожиданно изменилось в моей жизни теперь, когда, казалось, уже не должно было что-либо меняться. Еще полчаса назад я вкушал удовольствие от своей устроенности и полной защищенности от всяческих перипетий - природных и человеческих, а теперь я ясно понимал, что должен был бросить все - зашторить окна, залить водой камин, спешно одеться и, взапуски с ненастьем, рьяно выезжать в город по адресу в газете, туда, куда приглашал меня к себе автор объявления. Я вышел на улицу. Дождь поливал ливмя, по-летнему сильно. Холодный сивер глодал деревья словно хрущ, дождь же рядился с ним, но получал лишь оборыши палой листвы, вгрызаясь в неё своими бесчисленными зубками. У отекшего неба от холода сводило скулы туч, и оно застыло в неподвижности, безучастно взирая на весь этот разбой. Однако, только сейчас я подумал о той безрадостной перспективе, которая предстояла передо мной : поезда сейчас не ходили, и добраться до города я мог только пробравшись в соседнюю деревню, где была лошадиная подстава, и где я надеялся найти бричку или пролетку. Я шагнул вперед, и земля сочно зашамкала грязью под моими быстрыми, припадающими на рытвинах шагами. И затем я долго шел, проходя то густыми урочищами, то замшелым полесьем, наискось срезая путь, запинаясь в валежнике, цепляя целые клочья размокшей и чмокающей земли. Перелески сменяли большаки, просеки и поляны березовых куртин, а потом опять я лез в дебри крепей, как какой-то помешанный вламываясь в чащи, пугая все и прежде всего себя резким перещелком, трескотней растоптанных мной веток бурелома и едва защищаясь от лишаистых ветвей, наотмашь бивших по лицу и норовивших попасть прямо в глаза. Взметывая сувои листьев, навьюченные по буеракам, я пару раз падал, поскальзываясь на осклизлой листве. Однажды мне показалось, что я сбился с пути и, свернув на удачу, я крепко увяз в месиве трясины, из которой смог выбраться, только черпанув полные сапоги жижи и потеряв свою вислоухую от дождя шляпу. Тогда, пока, стремясь сократить путь, я крался по мочажине, перелезал через гниющие кокоры и тыкался в культи дохлых, обломанных сучков, смурый лес представлялся мне образом моей заглохшей и заболоченной памяти, в которой точно также я продирался теперь по торной, топкой как гать тропе, навстречу с неожиданно разбуженными во мне воспоминаниями, которые, как смутное осеннее солнце, вставали где-то далеко, далеко вдали. Несколько раз я останавливался, переводя дыхание и ослабляя хватку воротника, мучительно стягивавшего горло, а затем, держась за смолистый, шершавый ствол дерева, вскидывал голову и вглядывался в каркающую высь. Поразительно, как просто все было теперь, так же просто, как эта горькая тоска деревьев по небу, гудевшая в их стволах, словно в трубах могучего органа. Ведь я просто любил её, ту, которая должна была стать моей женой, но которую я потерял однажды, потому что чем-то задел её или оскорбил. Мне невозможно представить, как иные живут только для себя, только потакая себе. Я же каждый свой вздох посвящал ей и предпосылал. Был ли вообще я, или же только она во мне ?
Но, наконец, спустившись с обсаженного шелюгой увала, я вышел на окраину того села, в котором ожидал найти оказию. Это место, славившееся своей кузницей, швальней и фабрикой мануфактуры, было с одной стороны местом скуксившегося и полпивного быта, а с другой - крупной станцией на пути к городу с движением сильным, оживленным, ворочавшимся в этом быте мощным жерновом в поставе. Здесь вспоминался наш сибирский ям, куда безвременье было сослано ссыльнопоселенцем, а время со всей своей новизной проезжим купцом, быстро перекладываясь тут же, всегда устремлялось куда-то в другие края. Несмотря на обилие снующих туда-сюда подвод, мне никак не удавалось выбраться оттуда - все это были спецповозки, набитые разохотившимися маркитантами от революции, этими бородатыми сорвиголовами, суровыми снабженцами скудных пролетарских нужд, обдававших мою сомнительную личность едкой, как дым крестьянского самосада, ненавистью - меня не хотели брать с собою, и под стук тех телег, "подвозящих хлеб человечеству", я нетерпеливо рыскал по деревне в поисках попутки, пока не узнал, что хозяин местного трактира намеревается ехать в Питер на собственных лошадях. Он согласился взять меня с собой, и, ожидая чуть ли не до подвечерья его сборов, я , чтобы не слоняться по мокряди, коротал время в его заведении, сидя на залавке у шкафчика маркетри и взглядом своим, словно шенкелем, торопя стрелки часов. Но, пока огонь в муравленой печи пожирал все новые порции швырка, время, казалось, с издевкой табанило, прядало назад, если и не разворачиваясь вовсе, то останавливаясь, бесцельно кружа на месте.
Мы выехали лишь часам к семи, когда вновь обрушившийся дождь - такой по-летнему сильный - зарядил ещё сильнее и яростней. Под его второе пришествие создавалась новая земля, припадавшая к нему, как к сосцам небесного вымени, и стали снова воскресать мертвые - в саркофаге моей души. Капли ливня казались мне падающими звездами, под которые я бормотал единственное свое желание побыстрее добраться до Питера, миновав череду контрольных постов, нарастающую утомительность ожидания и боль окрестных полей, истошно хлюпавших сплошной грязевой раной.
Оказавшись, наконец, в столице, я долго колесил по стогнам этого мятежного града, пока не добрался до вконец раскисших мостовых Бармалеевой. Меся жижицу в заневестившимся сумраке, я ходил от дома к дому, тщась определить их номера в яловой, без зачатков света темноте - голодной и алчной, быстро поевший весь город, будто брашно. Все, что у меня было - это жалкое кресало, при помощи которого я запаливал куски прихваченной с собой газеты с адресом. Я поджигал их, и в недолгом свете взметнувшегося огонька пытался прочитать номера домов. Наконец, когда, прикрываемый рукой, с шипением загорелся последний обрывок газеты, в неровном отблеске на миг загоревшегося, тут же сметенного ветром пламени, я узрел большие, чернью нарисованные на стене цифры, совпадавшие с адресом, указанным в газете. Сердце заколотилось во мне, словно птица в силках, и подкатившая дурнота едва не свалила с ног своей подсечкой. Однако, я не заметил на фасаде здания ни следа от парадного входа. Пришлось обходить его в надежде не поскользнуться на помоях, выплеснутых наружу прямо из окон. Я обошел дом со двора, и, когда, замкнув периметр, вновь вышел на улицу, суеверный ужас обдал меня: я не обнаружил входной двери ! Попятившись, я ещё раз взглянул на этот дом, такой же безжизненный, как и все жилища вокруг, такой же мрачный и затаившийся. Только в одном окошке рдело что-то подобное на отблеск свечи или, скорее, лампады - настолько слаб был свет. Что же, если глаза мои не смогли разглядеть входа, надо было попробовать найти его хотя бы ощупью. Я вновь приблизился к стене и, шаря по ней руками, двинулся вперед, обходя здание по кругу. Стена была сильно замызгана, и я не без брезгливости обследовал её ладонями, ругая темноту. И вот, в тот момент, когда я в последний раз, прежде чем снова выйти на улицу, свернул за угол, где-то вдали раздались выстрелы и нечеловеческий вопль. В этот момент я оступился на выбоине, крепко подался вперед и, словно исчезнув в расселине, нырнул в какую-то пустоту внутри кладки. В этом доме - скорее могильном склепе, чем доме - я вошел - скорее все-таки ввалился, чем вошел - в эту дверь - скорее уж лазейку. Все нормально, я попал во внутрь, просто вход был неприметен и совсем неразличим снаружи. Свыкнувшись с темнотой и осмотревшись, я разглядел рядом аляповатые очертания лестничных балясин, исчезавших где-то наверху в непролазном уже мраке; подался к ним - и невольно поморщился от резкого, ехидного скрипа половиц под ногами. В волнении я остановился и задумался. Как сходны казались обстоятельства нынешнего дня и утра из того далекого детства, которое неотвязчиво грезится мне каждую ночь, преследуя меня своими беспокойными образами. Тогда, как и сегодня, я шел напролом, преодолевая все тяготы пути. И сегодня, как и тогда, я рвался к ней, жаждал её видеть. А эти выстрелы ? Они - словно вновь вспыхнувшая пальба, которая разразилась из чрева лопавшейся земли, вызвав у лошадей их трусливый испуг и панический бег, увлекающий от меня Лену. Этот момент разрыва, эти протянутые ко мне руки я все время переживаю очень тяжело. Теперь во многих обстоятельствах нынешнего дня я усматривал явление и той встречи наших глаз и того расставания и тех почти молитвенно простертых её рук. Все уже случившееся заставляло меня и далее ожидать таких же навязчивых соответствий между тем, что было, и тем что есть теперь. Надо же, думал я, время и жизнь, точно также как и люди, склонны впадать в dementia praecox. Хватаясь за отсыревшие перила, я преодолевал пролеты, выглядывая на этажах нужную мне квартиру. Когда по подволока оставался всего один марш, я увидел эту дверь: невесть от куда пробившийся призрачный луч света выпростал из ночной наволочи тусклую табличку с надписью: Ш.Сутеев. Москательщик. Именно так именовал себя таинственный автор объявления. Окстясь у заветной притолоки с отливавшей прозеленью дощечкой, я замешкался: что за человек явиться сейчас мне ? Что за известия он принесет ? Что сообщит о самом сокровенном, самом важном для меня в этой жизни ? Образы минувшего снова заколобродили во мне, и, трепетно, мягко, внимающе чутко, как по плессиметру, я постучал по двери козонками. Нервничая и переминаясь, я вслушивался в упрямо молчавшую пустоту за порогом - из-за позднего часа долго никто не открывал. Но вот тишина исподволь зашаркала, завозилась и грузно закряхтела. Что-то в квартире подалось навстречу моему нетерпению. Вот звякнул и задвигался засов, вот сипя и с невнятным брюзжанием кто-то потянул дверь на себя и... Dementia praecox. Я и раньше знал, что жизнь - это одно лишь прошлое, где будущее возвращается под видом настоящего. Что такое бытие, как не вечное узнавание, вечное воспоминание, многообразие ликов единственного события. Шикарный, но однообразный бред. Время - это вечность. Вечность одной только истины. Бесконечно являющийся крест Константина Великого. И больше нет ничего кроме этого. Ныне и присно. Такие мысли пронеслись у меня в голове, лишь оглядел я стоящего в дверном проеме человека. Это был очень сильно и, возможно, безвременно одряхлевший - старик не старик - межеумок. Скореее не москательщик, как это следовало из таблички на двери, а прожженый шинкарь, или тот старьевщик, который так скверно закончил свои дни в романе Диккенса "Холодный дом", сей человечишко имел вид последка по-гоголевски далекого захолустья, чудом, как редкость в кунсткамере, сохранившего свое отщепенство в самом центре мятежного града. Вверх от его надбровья был повязан немного сбившийся клетчатый платок, защищавший голову своего хозяина от постоянных сквозняков, гулявших по щелеватому дому. Глухо запахнутый, слежалый, бесхазовый шлафрок укутывал его искашлявшееся тельце, бахромой достигая бесформенных отопок. Правый обшлаг халата был испачкан воском свечи, теплившейся в его масластой руке, и в метавшемся свете и без того отвратительное лицо становилось ещё страшнее. Это было брыластое рыло, отвислые щеки которого поросли сивой стерней щетины, усадившей как мощную нижнюю челюсть, так и мешковидную шею, начинавшуюся прямо от подбородка. Через ощелевшийся рот с сипом, продираясь из глубины перелуженой сивухой глотки, вырывалось натужное дыхание. Под выбившимися из-под платка прядями, в глубине зловеще бровастых глазниц на меня смотрели жухленькие зенки, в сонной мути которых нехотя, как фитиль в жирнике, плавал безразличный ко всему взгляд. Увидев эту образину, я оттступил назад и в мыслях своих воззвал к Божьему имени, но, пообвыкнувшись, приступил к тому делу, которое привело меня сюда:
- Добрый вечер. Я пришел по объявлению в газете по поводу покупки книги. Мне нужен некто Сутеев, москательщик.
При этих словах незнакомец, до этого безучастно ждавший объяснения моего позднего визита, ещё более часто и сильно засипел своей надсаженной грудью и, подняв свечку, приблизил её к моему опешившему лицу. В глазах его, неожиданно оживших в прищуре старого плута, блеснула усмешка, и натруженным голосом он произнес:
- Что же вы испугались, любезнейший ? Сутеев это я. Проходите за мной.
Еще раз обласкав меня своим взглядом, в котором преобладало какое-то хищническое любопытство, это достойный человек развернулся и направился в комнаты, на ходу так свистя легкими, как разоткнутая резиновая игрушка. Мгновение помедлив, я последовал за ним, находясь в сильном замешательстве: таким ли я представлял себе таинственного автора объявления, человека, посвященного в драгоценные, интимнейшие тайны моей жизни ? Кто он был, как не воссозданный образ ужасной прокаженной старухи, которая повстречалась нам вверх по реке ? Пройдя тесным, угловато-захламленным коридором, мы вошли в погруженную во тьму комнатку, в которой огонь внесенной свечи, словно кисть живописца вырисовывал как бы уснувшие, палеонтологические предметы её скудной обстановки.
- Вот что, почтеннейший. Я вижу, вы сильно притомились. И то верно, времена сейчас не легкие. Присаживайтесь, а я пока приготовлю вам чаю, - этот человек не мог не заметить мои частые покашливания, вызванные тем, что я, должно быть, начинал заболевать, простудившись от дождя и продувного ветра, насквозь пронизавшего меня по дороге. - Похлебаете горяченького, и мы приступим к тем делам, которые интересны для нас обоих.
- Хорошо, хорошо, - проговорил я, тронутый его внимательностью. - Впрочем, если для вас затруднительно, то можно и без чаю. С другой стороны я был бы очень признателен за горячее. Очень уж, извините, вымок.
Когда старик вышел, я сел в предложенное кресло и, достав из футляра очки - в последнее время я без них никуда - с интересом осматривался по сторонам. По всей видимости пианола. Представляю в каком разбитом состоянии находится её механика. Мне кажется, что медленные мелодии на ней должны исполняться с особенной заунывностью, а быстрые, наоборот, дадут такого стрекоча, что клавиши накалятся под резким и жестким туше. Повсюду фотографии. Столько отблесков заиграло на их остекленных рамах, в которые сердечко огня вселялось и оживляло тем самым застывшие снимки, заставляя лица запечатленных персонажей неуловимо менять свою мимику в тонкой игре полутеней. Я так увлекся просмотром портретов - их было множество, словно ремесло фотографа есть неотъемлемое приложение работы москательщика - что не заметил, как Сутеев, однако, без чая в руках, вновь оказался рядом со мной. Я вспомнил о нем лишь когда вблизи раздался его голос, в котором сип смешивался теперь с шипением:
- Фотографиями интересуетесь ? А я думал книгами.
- Ах, конечно, - виноват ответствовал я, избавляясь от очков. - Простите, я немножко забылся, увлекшись фотографиями. Они сделаны не без таланта. Мастерски. Это вы изготовляете ?
Сутеев с трудом, с мучительным выражением уселся на диван напротив меня, откинулся на его спинку, выдохнул, превозмогая свою боль, затем как бы вспомнил мой вопрос и ответил:
- Папаша...Оставим, однако, его в покое. Хоть он и так покойник. И давайте поговорим о цели вашего посещения. Итак, чем обязан ?
- Ну как..., - замялся я, толком не зная, как начать. - Вы хотите приобрести известную книгу...
- Помилуйте, милейший, мне вовсе не нужна никакая книга, - подчеркнуто сухо возразил мой собеседник, постукивая пальцами по подлокотнику и осматривая меня с какой-то наглой развязностью. Из-за тесноты помещения он сидел всего метрах в полутора и неотрывно, пристально изучал мое лицо, в то время как я избегал глядеть на него.
- То есть... я, конечно, понимаю, что речь не идет собственно о покупке книги. Вы, очевидно, желали меня видеть, дабы сообщить какие-либо известия относительно некой особы, которая...как мне представляется... и побудила вас искать меня, воспользовавшись упоминанием той книги, которая...которая, как вы отметили, вас совершенно не интересует, - путался я, подавленный свирепым взглядом обращенных на меня глаз. Теряясь, я намеренно делал длинные паузы в надежде на то, что Сутеев прервет меня, избавив таким образом от объяснений, которые казались совершенно излишними. Но он, наоборот, с яростной выдержанностью внимал моим длиннотам, а когда я закончил, то некоторое время молчал, ожидая, не скажу ли я ещё чего.
- Мне кажется, мы с вами зря теряем время, - выдал он наконец. - Не вы с меня, а я с вас должен спрашивать. Вижу, что вы просто в неведении.
Он вынужден был привстать и залезть в шкатулку, стоявшую на невысоком буфете. Старик изъял от туда конверт и бросил его мне:
- Ознакомьтесь с эти документом. Посмотрим, что вы скажете после этого.
Мне опять пришлось вооружиться очками, и я с любопытством оглядел почтовый пакет. Держа письмо, я пальцами чувствовал, кто является его адресантом. Очень бережно я провел по нему своей ладонью, потом трепетными руками достал из конверта сложенный вдвое лист бумаги, раскрыл его и прочитал.
"Уважаемый г-н Сутеев ! Извините мое обращение к Вам, может быть излишнее, может быть бестактное. Хотя оно вполне может не застать Вас в городе, ведь судя по Вашим объявлениям, Вы крупный и весьма предприимчивый коммерсант. Точно так же оно может и не дойти до Вас из-за последних событий в Петрограде. Что ж, тогда это просто судьба, и я вряд ли буду предпринимать какие-либо ещё попытки, кому-либо ещё писать. Нет, не беспокойтесь, напрягая свою память: мы с Вами не знакомы, и мое письмо к Вам, это не более чем игра случая, просьба может быть нелепая - обращенная к случайному человеку, который вполне волен отказать мне в ней. Дело в том, что мне необходимо дать объявление в столичной газете, но возможности добраться до Петрограда, обратиться непосредственно в редакцию я не имею. Единственным вариантом для меня было выбрать из номера один из адресов в разделе рекламы и, положившись на расположение судьбы, обратиться по нему, вслепую ища человека, который смог бы помочь мне в моих обстоятельствах - увы, во сем городе у меня не осталось ни одного знакомого. Раскрыв сегодняшнюю газету, я наугад выбрала адрес одного из предпринимателей, и им оказались вы ! Сердечно прошу Вас проявить свое великодушие и помочь мне, тем более, что ответ на мое обращение не потребует от Вас излишних усилий. Суть же моей просьбы предельно проста. В следующий раз, когда Вы отправитесь в редакцию, опубликуйте заодно такое объявление: Ищу книгу "Новые записки о галлах" , подписав его собственным именем. Я очень рассчитываю на то, что на него откликнется один человек: пожилой, интеллигентный. Если я не ошибаюсь, он щедро вознаградит Вас за Ваши старания, и таким образом все расходы, связанные с публикацией, будут Вам непременно компенсированы. Я надеюсь, что он все же объявится, хотя честно говоря не знаю, жив ли он, не ведаю, не увяло ли его сердце, не поселилось ли в нем немое равнодушие, склоняющее души к обреченности. Надеясь на Ваше благородство, я скажу, что Вы поймете меня, если представите, что такое настоящее одиночество, беспросветное, тягостное, крайне жестокое. Если судьба смилуется, и этот человек придет к Вам, все что нужно это сообщить ему мой адрес и сказать, что я хочу его видеть. Вы были весьма любезны, дочитав это письмо до конца. Я благодарю Вас уже хотя бы за это. Ну вот, а ещё горевала, что у меня нет знакомых в городе ! По-моему, Вы очень милы ! Я Вам весьма обязана...извините, это просто капнувшая слеза. Так редко можно найти взаимопонимание, так трудно найти в ком-то опору.
С глубочайшей признательностью, Елена Степановна Багирова".
И далее был указан её адрес. Я сложил письмо и глубоко задумался, ещё и ещё раз проглаживая сгиб листа. Откашлявшийся Сутеев вывел меня из столбняка:
- Я не понимаю, вы ли тот, о ком писала эта женщина ?
Я ничего не ответил, только молча кивнул головой.
- Тогда вы по всей видимости не умеете читать. Какой же вы интеллигент после этого ? Видите, что здесь написано: "щедрое вознаграждение". Понимаете ? - продолжил он, мусоля перед глазами пальцами. - Щедрое, щедрое !
- Да..., - спохватился я, доставая портмоне и прихватывая пальцами несколько купюр. - Конечно, э-э...сколько ?
Тут этот "крупный коммерсант" проявил свою деловую смекалку и назвал такую сумму, которая, наверное, позволила бы ему начать новое дело. Но я безропотно отсчитал всю потребованные им деньги, протянув их ему, пораженному такой сговорчивостью. "Все равно ведь пропьет, - подумал я, поднимаясь и направляясь к выходу. - Хотя мне деньги уже не нужны. Теперь у меня есть её адрес. Все, что мне надо - это пасть перед ней на колени и боготворить её. Мы ещё можем быть вместе. Брось... Хотя, почему бы и нет ?"
Мне показалось, что на улице стало ещё ветреней и холодней. Всему виной была моя промокшая одежда, причиняющая столь сильный озноб. Я огляделся. Слава Богу, хоть с ночлегом не было проблем. То-то удивится Марья, увидев меня. Подняв воротник и картинно ссутулясь, я направился к дому, где жила моя жена.
ГЛАВА ВТОРАЯ
год 925
Мои первые месяцы в монастыре, в отличие от первого дня в нем, исполненного пугающих образов и душевной подавленности, вызывают в моей памяти только самые светлые воспоминания. С одной стороны в характере монастырской жизни все таки преобладали созерцательность и тишина, что в сочетании с постоянной занятостью, что владела мной, дабы содержать в порядке и участок Вирдо и его чудодейственную аптеку, как нельзя лучше и безболезненней врачевали раны моей души, так незаметно рубцующиеся в атмосфере заботливости, которая окружала меня, и которая прежде всего исходила от аббата, сердечности которого я поистине обязан. С другой стороны, как бы не казалась жизнь монахов костной и скупой, почти вовсе лишенной экстаза перед явлением Божьего духа, почти отвердевающей в рутине, в которой сказывались скорее их тщедушие и непросвещенность, нежели блаженство одухотворенности и ведение замыслов Господних - как бы бедна и однообразна ни была она, все же в этой среде во многом забывались мирские хлопоты, целиком возложенные на крестьян, и среди немолчного псалмопения, внимая сакральной глубине литургии, испробывая умом смысл Священного Писания, наполненного прозрениями, воззваниями, примерами исступленности открытых пред Богом сердец, я все более терялся в путанице собственных духовных впечатлений, и сердце мое просто погибало от тех неожиданных, щемящих ощущений, которые изжигали мое нутро, взывая к брачному союзу с истиной. Первоначально чуждый монашеству, оказавшийся в Люксейль случайно, по воле, как казалось, злой судьбы, я постепенно приобщался к размышлениям о Боге, об истоках несправедливости, вообще о месте о роли человека в этом мире, своей сложностью заставлявшим смолкать ум. Нельзя сказать, что я раньше не думал об этом, но теперь я хотел пойти до конца, разрешить сполна те вопросы, которыми я все чаще задавался, наблюдая за повседневной жизнью монахов и внемля словам проповедей, кои пытался постигнуть их малограмотный ум. И тут мне в значительнейшей степени способствовал Вирдо, который являлся не только прекрасным садовником и врачом, но и мудрым и терпеливым учителем. В какой-то мере его преданность физическому врачеванию была отображением его умения исцелять потребности и замешательства духа. Я так и не понял - я ли был его помощником, или же он моим.
Постепенно и незаметно наступила зима. Увядшая природа тихо облачилась в белый саван, зная, что это не надолго, что умирание для земли точно также является предвестием возрождения, как и для человека смерть не оказывается концом его существования. Как я неоднократно от всех слышал, смерть непреложна, но, сначала в законах природы, а потом в христианском Откровении человеку дано понять, что точно также непреложно и грядущее воскрешение. Было начало декабря. Проснувшись, я выглянул в окно и увидел, как крупными хлопьями неспешно падает снег. Возможно, он шел всю ночь и повсюду теперь намело пушистый, такой хрустящий покров, теплыми шапками одев крыши келий и опоясав оконницы слепяще-белой бахромой. Через двор - свидетельство ночных и утренних богослужений - тянулись многочисленные следы, перераставшие в тропки перед входом в церковь. Если кто-то из монахов проходил за окном, он плотно укутывал руки в рукавах и жался от холода, передвигаясь не так неспешно, как обычно, а с особенной живостью, к которой так забавно подстрекает мороз.
Уже с ноября, когда практически никаких хлопот, связанных с заготовкой трав мы не имели, Вирдо большинство времени в занятиях со мной уделял собеседованиям на книги Писания и на сочинения учителей Церкви, чьи изречения были достаточно пресными, чтобы на них откликнулся мой неопытный рассудок. Сегодняшний день как раз вполне располагал к затворничеству и самоуглублению этому он помогал своей тишиной и - ведь ветра не было вовсе - абсолютной недвижимостью, на фоне которой падающий снег казался временем, иссякавшим за пазухой у бесконечности. Я твердо решил для себя, что после занятий с Вирдо отпрошусь у него, чтобы познакомиться с библиотекой и скрипторием монастыря, о свойствах которых все отзывались в высшей степени восторженно, и потом...я не мог более побороть в себе искушения побывать в древнем галло-римском городе, на обочине которого и был построен Люксейль. Останки его некогда блестящих сооружений, ныне словно задрапированные снегом, а ещё ранее втихомолку схороненные временем, я видел каждый день, так как они находились в непосредственной близости от монастыря, скрываясь за рядом, видимо, искусственных насыпей, которые единственно отделяли их от обители. Для того, чтобы в предостаточной степени напитать нетерпение, стремившееся увлечь меня к руинам античного города, который собственно и назывался "Люксейль", или, как говорил мой отец "Бриксия" ( то было другое его название ) - я слишком часто слышал о нем и от Кизы и от Арульфа и от самого Вирдо, немало поведавших мне о его глубочайшей древности, на много веков превзошедшей предания об ужасном Аттиле, ставшего могильщиком этого великолепного города. При этом меня не пугали никакие легенды, о которых я уже рассказывал; они лишь волновали мое воображение, испытывая степень моей рассудительности. Правда, я вовсе не был уверен, что Вирдо отпустит меня туда.
А пока мы начали наши традиционные занятия, проходившие в келье по утрам. Если Вирдо сидел за столом, чтобы при свете лампы читать мне книги, смысл которых он позже разъяснял, то я лежал на своей постели, где теперь, вследствие похолодания, суконное одеяло было заменено теплым покровом из овечьих шкур, и, заложив руки за голову, лежа на спине сосредоточенно вслушивался в речи наставника. Сегодня он читал мне Евангелие от Матфея. Когда Вирдо дошел до пятой главы, где Спаситель истолковывает и переосмысливает ряд ветхозаветных предначертаний, то ближе к её концу я стал испытывать некоторые сложности в уразумении. Мне показалось, что слова Иисуса противоречат здесь тому, что я читал накануне у апостола Иоанна. Я все хотел прервать монотонную декламацию Вирдо, но не осмеливался. Однако, когда он дошел до слов : Любите врагов ваших и т.д. я, наконец, не выдержал, перевернулся на бок и сказал : "Подожди, Вирдо. Пока не продолжай. Извини, что я тебя перебиваю, но...есть вещи, которые я не могу понять. Ни разумом, ни сердцем". Я вновь лег на спину и продолжал, глядя в потолок : "Ты, наверное, слышал, каким образом я очутился здесь. Произошли события, которые изменили все в моей судьбе. И ты знаешь - у меня есть личный враг, которого я ненавижу. Это Гилдуин Черный. Он отнял у меня все то, что составляло мою прошлую жизнь. Не удержался даже от того, чтобы заколоть сыновей на глазах у их матери. А сколько ещё зверств он совершил, совершает или ещё только задумывает осуществить? Я вглядываюсь в свое сердце и не нахожу к этому человеку ничего, кроме желания зла, кроме побуждения отомстить ему, дабы зло не думало, что оно всесильно и ненаказуемо. А если этого не сделаю я, то буду умолять Бога, чтобы Он Сам совершил возмездие и покарал Гилдуина, который отверг законы нравственности и потому должен быть судим по законам справедливости. Я не могу его полюбить. Сердце мое не желает ему добра и не молится за него. Да и как же можем мы не противостоять злу, давая ему беспрепятственно торжествовать и упиваться безнаказанностью ? Не будет ли это ещё большим злом с нашей стороны ? Не будем ли мы ещё большими грешниками, если будем попустительствовать злой воле, не знающей никакого снисхождения ? Между тем ты прочел только что : Не противься злому и я ...я ...в общем, я не могу этого понять". ;"Видишь ли, Адсон, очень много вещей остаются непонятными, пока не уяснишь, что в мире борются не добро со злом, а Бог с дьяволом. Это вносит много поправок в наши с тобой рассуждения. Я прекрасно понимаю те чувства, которые ты испытываешь к Гилдуину, и прозвание "Черный" дано ему не случайно, ибо сердце его обиталище демонов и ангелы никогда не нисходят к нему. Язвы души его растравлены силами, размножающимися под скипетром самого зачинателя зла, и если покарать Гилдуина, ты не отведешь от мира прилепленных к нему прельстителей и совратителей. Недосягаемые для всякого вещественного орудия они, если погибнет Гилдуин, своим сосудом изберут душу другого и будут лукаво искушать её и склонять под действие своих зловредных сил, пока, наконец, не овладеют сполна её помыслами, дабы являть чрез них свое тлетворное коварство. Погубишь этого - они воздвигнут ещё сотни других, каждый раз суля искушаемым все более сладострастия, все более ужасающими обличьями поражая их воображение и повелевая сердцами несчастных со страстью, превосходящей всяческие представления о зле. Что толку сокрушать себе на погибель, преступая через заповедь любви, эти сердца, и без того уже сокрушенные пред Богом, предавшие забвению действия нравственных сил и исторгнутые бесами на недозволенное в отношение нашего живота и ради ослабления нашей стойкости в истине ? Ведь при этом ты не только не вредишь тем, кто возбуждает человека на злодеяния, но и подпитываешь, раззадориваешь и от блуда своей души плодишь вновь и вновь тех, кто смог подвигнуть тебя на преступление главнейшей среди всех заповедей любви ? Каждый раз отмщая беззакония, отвечая гневом на гнев, яростью на ярость, ненавистью на ненависть, ты приумножаешь зло вместо того, чтобы изживать его, превозмогая страстотерпием. Посему наши враги не люди, а бесы, снаряжающие их на брань против нашей крепости в духе. Так говорит Павел : мы должны выходить на бой, препоясав чресла свои истиной, облекшись в броню праведности, а оружие наше суть щит веры, шлем спасения и меч духовный, который есть слово Божье. Поэтому пересиль свой ропот против Гилдуина, как бы ни был он виноват перед твоим родом. Оставь его, чтобы спросить с того, кто наущает и помыкает им". ;"Но, Вирдо, прости мне мою непонятливость, ведь наш Спаситель, будучи всячески поносим иудеями, осмеян ими, ударяем, терпел эти унижения, не противился их злу, а в итоге оказался побежден, и зло восторжествовало в этом мире". ;"Наоборот ! Иудеи были воздвигнуты нечистым, дабы принудить Христа отвратиться от любви, отвернуться от заповеди всепрощения и отречься от тех слов, которые он нес в мир примером Своего благого духа. Ненависть иудеев лакомейшая приманка - это четвертое, самое сильное искушение Иисуса, ибо если бы Он преступил через проповедь любви, как бы мы, во всем Ему подражая, могли требовать жертвовательной любви и от себя и от других ? Но Он устоял в Истине, тем самым утвердив любовь до скончания времен как зиждительную силу, через которую претворяется в чистоту всякая несправедливость мира. Поэтому-то Он не был побежден, а, напротив, Своим видимым поражением победил всю державу тьмы, благостью низвергая отца злобы. И точно также и мы не должны испытывать к человеку ничего, кроме любви, всю ненависть обращая на прелукавого. Укоряющих благословлять, гонящих терпеть, хулящих вразумлять, злословящих благодушно сносить, ненавидящим благодетельствовать, оплакивать их и молиться за выкуп их душ из ярма прельстителя - это и есть противление злу, потому что только тогда ты одолеваешь его, и нечистые духи перестают истачивать души червоточием своих искушений". Воодушевляясь страстностью проповедничества Вирдо, я силился представить, как изъявляю перед Богом свои мольбы за спасение Гилдуина, помышляя о благах, которыми бы Господь одарил его в щедрости Своего благоволения и...никак не мог этого сделать. "Все-таки, Вирдо, все Евангелия рассказывают о том, как, войдя в Иерусалим и найдя, что во храмах торговцы ведут свои дела, и разменивают деньги меновщики, Иисус выгонял их от туда, рассыпывал деньги, опрокидывал скамейки и столы. В особенности у Иоанна есть такая подробность, что Иисус сделал Себе при этом бич из веревок. Значит, Он не просто выгонял торгашей и менял, Он, по всей видимости, хлестал их, настигая плетью их раздобревшие тела. Да и в самом деле, разве могли они иначе подчиниться тому, кто был ими же всячески поруган и предан осмеянию. Согласись, что речь здесь идет о противлении злу прямою силою, не о нравственном противодействие, а о насилии над естеством". "Да, здесь действительно применена сила, но что ты собственно хочешь от меня услышать ? Одобрение сопротивлению злу насилием ? Так это, между прочим, совсем иной вопрос, чем занимающие тебя планы отмщения Гилдуину или замыслы всеобщего искоренения зла. Повсюду сейчас орды кочевников, так мало напоминающие людей, пиратские банды и шайки разбойников бесчинствуют, во вседозволенности опустошая наши края и не давая ни на день привыкнуть к тому, что нет ни войны, ни разбоя, ни кровопролития. Ты спрашиваешь, оправдано ли пред Небесами противостоять им натиском силы, и я отвечу : истинное подвижничество пред Богом оборонять христианские земли от осквернения и жизни других людей от посягновения злодеев, чья кровожадность делает их сродни волкам. Уберечь царство христиан от аппетита хищников, что тщатся в пустыню обратить прекрасноцветные оазисы духа - что благолепнее может быть перед видом очей Господних. И если доведется вознести над врагом оружие праведное - твоя рука не должна затрепетать при этом. Ты только учти, что Бог не зря попустительствует свыше этим вероотступникам и одичавшим варварам, походящим на тварей, выбравшихся из бездн морских: каждый раз, когда их факелы пламенеют в ночи, они являются как возмездие за наши собственные прегрешения, во искупление сластолюбия, вещелюбия, всякой разнузданности и тщеты существования, которыми мы поистине исполнены в душах своих. Тех бесов, что правят их конями и их клинками, мы наплодили сами, потворствуя их искушающей силе, в забытье повергая явленное через Христа высокое предназначение человека. Поэтому как быть нам ? Мы безусловно должны защитить град Христианский от уничтожающего действия ненависти, но это, как я уже говорил, мера лишь отчасти полезная, ибо она не пресекает ни существование бесов, ни их намерений. Наоборот - распаляет их пыл, наращивая их кишение повсюду. Поэтому восставая против людей силою и с Божьей помощью одолевая их, ты должен понимать, что лишь отсрочиваешь тем самым исполнение приговора за прелюбодейства своей души и берешь у Бога время взаймы, дабы отныне очиститься духом подвижничества и мобилизовать все свое помышление на дело исповедания любви. Если это случится, если ты возродишь в сердце свет самоотречения и милосердия, потушив снедающее пламя воспаленных страстей, то тем самым отвратишь от себя наказание, которое ты на время отвел грубою силою. Итак, как видишь, сопротивление злу не только не отменяет любви и противления нравственного, но только их и подразумевает, только ими и оправдано в грядущем. Это во-первых, а во-вторых, если в часы великой опасности для государства приходиться злоумышлять против его врагов и воздевать над ними нетрепещущий меч, делать это следует с великим сокрушением своего сердца, в чрезвычайной горести ума, тяготящегося этим принуждением к братоубийству, ибо всякое поражение врага - это прежде всего твое собственное поражение. Помни, что путь после этого один - тяжкая дорога искупления. Ежели же по-прежнему будут терзать тебя сомнения - доверься своему сердцу : имеющий искреннюю веру в Бога не нуждается ни в каких вразумлениях и наставлениях". ;"Имеющий веру в Бога..., - повторил я. - Ты знаешь, Вирдо, вера-то моя не настолько сильна, чтобы сдвинуть скалу или как там говорится. Во мне преобладают более сомнения, чем уверенность, да и кажется, что слишком многое в этом мире заставляет человека сомневаться. Вот скажи : должно же быть доказательство существования Бога, можно же дать человеку почувствовать, что Он и в самом деле есть ? Ты в силах сделать это, не прибегая к изощренной логике, опираясь на простое здравомыслие ? Я тебя прошу." ;"Ты ?" ;"Да, я". "Скажи ещё раз : я тебя прошу". "Я тебя прошу". "И вот ты только что доказал существование Бога". Я повернулся на бок, чтобы взглянуть на Вирдо, думая, что он хитрит или и вовсе посмеивается надо мной : "Это каким же образом ?" ;"Все очень просто, Адсон. Все дело в том, как смело ты определяешь свое собственное "я". Вот ты сейчас юн, и пусть у тебя достаточно пылкий и восприимчивый ум, но ты ещё малосведущ в Писании, не религиозен, не намерен посвятить себя монашеству. Лет десять назад ты знал и умел ещё менее, чем сейчас, глядя на мир совершенно по-другому, так как был ты дитем ещё ничего не ведавшим в этой жизни. А теперь представь : допустим, отпущено тебе Богом дожить до восьмидесяти лет. Вообрази, как разительно ты будешь тогда отличаться от того, каков ты сейчас и каким ты был ещё ранее : тобой будут владеть неведомые помыслы, неизвестные склонности определят твой характер ; мировоззрение, знания, круг общения, местопребывание, внешность - все в тебе переменится, камня на камне не оставляя от нынешних твоих свойств. Но разве перед закатом своего существования, вспоминая, быть может, сегодняшний разговор, ты не скажешь, что это именно ты беседовал со мной, разве, возвращаясь мысленно в свое детство, ты усомнишься, что именно ты идешь со своей матерью, которая называет тебе имена окружающих тебя вещей ? А теперь скажи, по какому праву ты это сделаешь ? Исходя их чего ты отождествишь себя с этими образами, оставшимися так далеко во времени, ведь в тебе уже ничего не унаследуется от них, и душа твоя пременит все то, что ныне определяет её ? С таким же успехом ты мог бы смешать себя со мной ! Молчишь, а я тебе скажу : именно потому ты в силах подняться над временем и, одолев его, собрать воедино все зримые памятью образы твоего прошлого, что сердцевину души твоей составляет великий, пребывающий над всем преходящим, неиссякающий свет Божий, образ Божий в тебе. Им крепится единство твоего сознания, и от этого, утверждая непреложность "я", заявляя о себе с несомненностью, в достоверности которой усомниться невозможно, ты каждый раз доказываешь существование Бога. Ты просто не смог бы существовать, если бы Он не царил в тайниках твоего духа". Я слушал это, не зная, что возразить, хотя заранее был настроен придраться к любому из его аргументов, вовлечь в спор, доказавший бы обоснованность моих сомнений. Но я должен был согласиться с доводами Вирдо, так как иначе и в самом деле невозможно было бы объяснить способность человека торжествовать над временем и от рождения до смерти ощущать целостность своей личности, обобщая до предела разнящиеся, иногда совершенно противоположные эманации индивидуума, роящиеся вокруг его предвечной субстанциональности. Мне даже показалось, что такой способ рассуждения вообще вводил размышляющего в область постижения тайны ипостасности, где разноименное оказывается единосущным. Несмотря на мое восхищение учителем, в запасе у меня было соображение, ответить на вызов которого ему будет не так то просто, и я не без язвительности сказал : "Что же, допустим, Вирдо, что я неверующий человек и в качестве объяснения своего безбожия привожу то положение, что не могу примирить с идеей существования Бога факт преобладания зла. О Боге говорят как о всеблагом и всемилосердном, но как постижимо умом, чтобы в мире, созданным всеблагим Творцом множественность горя и страдания превосходила бы доброту и любовь, которые встречаются поистине редко ? Засилие зла в мире, созданном Богом, мне очень трудно объяснить себе". ;"Совершенно верно. А я тебе скажу, что это и невозможно сделать. Многие даже вообще бояться ставить перед собой подобный вопрос. Иногда пытаются говорить, что так называемое зло это лишь споспешествование в триумфе добра и что добро, когда оно побеждает, якобы обязано участию злых сил. На самом деле ни болезни, ни войны, ни страдания нисколько не способствуют в осуществлении добра. Источник добра лишь в добре, лишь в благодати Господней. Поэтому эти мнения несостоятельны. Но я скажу тебе, что я думаю по этому вопросу. Я считаю, что существование зла невозможно было бы примирить с благостью Бога, и поэтому я пришел к выводу, что... зла нет. Да подожди ты, дослушай до конца. Понятие зла мы сами создаем в своем воображении, и я убежден, что оно коренится в нашей эгоистической ограниченности. Зло - то, что вредит нам. Допустим, мне причинили боль, и этот поступок того, кто против меня зловредничал, мы называем проявлением зла. Но заметь, если тот же урон нанести злодействующему против меня, мы уже не считаем это злом, называя справедливым воздаянием. А он напротив : собственную беду считает злом, а мою таковой не называет, злорадствуя по поводу этого события. Итак, я уяснил для себя, что закон существования зла человек вывел из того, что он испытывает препятствия на пути торжествования собственных эгоистических побуждений. Да, Адсон, для меня это совершенно очевидно : понятие зла зиждется на эгоизме, телесной и душевной ограниченности человека, всякое вторжения в которую он клеймит стигматом злодеяния. Соответственно понятие мирового зла рождается из обобщения на всех людей тех свершений, которые породили зло индивидуальное. До тех пор мы будем зреть зло повсюду, пока мы отделены от остальных собственной замкнутостью, пока не в состоянии открыть свою душу к пониманию и принятию помыслов и надежд других людей. В природе постоянно одна стихия вмешивается в другую, но эта череда их явлений посылает нам лишь восторг перед величием замысла Господнего. Посмотри: осень обокрала все богатства природы, которые затем зима похоронила в мавзолее своего белоснежия, но мы не называем это злом; мы срываем виноград с ветвей, потом давим ягоды, чтобы получить из них вино, могущее премениться в Кровь Христову - разве же это зло ? Да дай же мне досказать ! Приглядись: ты увидишь в природе все те явления - молния зажигает дерево, стужа сковывает реку, жар испаряет воду - которые будучи переложенными в область человеческих отношений, где происходит точно такое же круговращение, тут же нарекаются злом, но почему-то созерцая их в природе, мы исполняемся какими угодно чувствами, только не безумным роптанием против Бога. Почему поле не ропщет, когда плуг вспахивает его ? Почему дерево не злится, когда мы валим его с целью использовать в своем хозяйстве ? Но почему вмешательство в интересы человека вызывает к жизни идола зла ? Только в сознании самого индивидуума существует зло, только в его собственном рассудке. Есть то, что все-таки может быть названо злом, но при этом оно стоит в стороне от всякой этики. То, что я сейчас скажу - это очень важно. Зло представляется мне не нарушением каких-либо нравственных норм или заповедей. Вопрос о нем - это чисто религиозный вопрос, вопрос принятия или непринятия веры. Злой поступок совершает тот, кто отрекается от Бога и не принимает Его. Неверие в Бога это и есть путь зла, но за это зло нельзя обвинять всеблагого Создателя, ибо Он дал человеку свободную волю, и ты можешь почитать Его, а можешь и хулить. При этом человек неверующий, богохульник и язычник, может быть высоконравственным человеком, и все его поступки могут быть свидетельством его полного самоотречения и забвения самой сути самолюбия. Он живет только во имя других, и сердце его плодовито добротой. Но он виновен пред Богом, ибо он на пути зла, так как не признает Создателя или подменяет Его истуканами. Я надеюсь, ты не думаешь, что я защищаю то, что в обыденной жизни называется злом ? Боже тебя упаси - это грехи и грехи, подчас, ужаснейшие. Но в умозрении моем это не есть злое начало, исходя из которого можно было бы утверждать абсурдность всесовершенного Творца. Зло - и за него не может быть ответственен Бог - это стоящий вне всех категорий морали вопрос о самоопределении человека по отношению к Богу. И я готов привести тебе доказательства, которые тебе убедительно это удостоверят. Ты знаешь Ипполита, епископа Римского ? Иоанн Златоуст именовал его сладчайшим учителем, и дело не только в многомудрии и великолепном слоге его сочинений. Ипполит был учеником Иринея Лионского, а тот в свою очередь воспринял свои знания от Поликарпа, наставлявшегося непосредственно апостолами. Можем ли мы сомневаться, что апостольские беседы, наверняка таившие и многое из того, что лучше скрыть от большинства верующих, были доступны Ипполиту через Иринея от Поликарпа ? И вот смотри. У него есть превосходное сочинение "Об Антихристе", где он много говорит о свойствах его личности. Казалось бы Антихрист, как воплощение всех свойств отца тьмы должен явиться знаменованием того, что обычно называется злом, то есть наивысшим из злодеев. Но Ипполит говорит совсем обратное : душа-то Антихриста как раз будет олицетворением чистоты. Послушай, как это у него сказано: Во-первых он явится кроток, тих, любезен, благоговеен, миротворив, ненавидящий неправду, презирающий мзду, отвращающийся идолослужения, писания любя, священников стыдящийся, седины почитающий, не приемлющий блуда, прелюбодейства гнушающийся, не внимающий оболганию, страннолюбив, нищелюбив, милостив, также и чудеса сотворяющий, прокаженных очищающий, расслабленных воздвигающий, вдовицам помогающий. И когда увидят это люди, такие добродетели его, такие его силы, все вместе единым разумом соберуться, чтобы сотворить его царем. Таким образом ты видишь, что зло - настоящее "философское" зло - это не безнравственность, а богоборчество. И сам рассуди: каким образом Антихрист смог бы прельстить избранных, если бы он был гневлив, злоречив, чревоугодлив и т.д.? Скажи теперь, будешь ли ты защищать мнение неверующих, основываясь на ложном зле, которое его существованию нисколько не противоречит, как безумием было бы восстать против Бога, ссылаясь на то, что дрова уничтожаются огнем, ртуть переплавляется в золото, а тигр поедает лань ? А вот рядом с истинным злом - неверием - Бога помыслить можно, ибо оно происходит из свободы, которую Бог помыслил о человеке. Ну что, надеюсь, я тебя не запутал ?" "А ты как думаешь ? У меня просто голова кругом идет. Только что я думал, что надо отомстить Гилдуину, что существование Бога под вопросом, торжество же зла, напротив, повсеместно. Теперь же все, что ты мне сказал обращает мои мысли в ничто, и мне следует побыть одному, чтобы разобраться в самом себе. Для начала же - просто отвлечься от всего этого. Послушай, Вирдо, я ведь тебе сейчас не нужен. Отпусти меня в библиотеку. Больно уж хочется познакомиться с Вергилием и со знаменитой коллекцией книг, которую он охраняет". ;"Что ж, это дело доброе. Видно, приспела твоя пора и того, кто так тянется к знаниям, не оставишь в неведении. Иди, время тебе от трудов тела переходить к трудам духа". Я радостно вскочил с каким-то мальчишеским озорством, прихлопнул в ладоши и даже задул лампу Вирдо, оставив его в потемках, так как утренний мрак, усиливаемый серым, тяжелым небом, не слишком спешил уступать место свету, накладывая повсюду хмурые тени. Но во мне играл юношеский азарт, жаждавший свободы и новых впечатлений. Я словно соскучился по миру и упивался предвосхищениями бесчисленных познаний и радостей, которые он на самом деле таит за этими хмурыми утренними тенями. Я выбежал на улицу, увязая в глубоком снегу и хватая губами такие крупные хлопья, которые, иногда попадая в глаза, застилали мне зрение, тая между ресниц. Тяжелый разговор с Вирдо не оставил в моей душе никакого груза, так как я слишком легкомысленно к нему отнесся, и оттого сейчас во мне не было ничего кроме задора и баловства. С таким же поверхностным интересом, который я испытывал, споря с моим наставником, я ждал теперь встречи с Вергилием, который возглавлял библиотеку и скрипторий монастыря. И, вдоволь насладясь податливостью сугробов, в пух и прах разлетавшихся под моими пинками, накидав по воображаемым мишеням, населявшим стрехи, изгородь и стены келий массу снежков, я рванулся к высокому зданию рядом с капитулом, взвихривая снег и запутываясь в полах своей длинной одежды.
Вергилий оказался щупленьким, очень худосочным монахом, сильно близорукие глаза которого вечно щурились и напрягались, чтобы разглядеть что-либо, особенно если речь шла о тексте в книгах. Я удивился, насколько худым было его зрение: Вергилий буквально соприкасался лицом с рукописью, когда он хотел прочитать её. Странно, до какой степени он не берег себя. Зная, что его глаза больны, он совсем не заботился о них, отчего они у него все время были покрасневшими с розовыми кругами в глазницах. По-началу мне показалось удивительным, как Одо вообще допускал Вергилия до работы с книгами, ведь тот запросто мог ослепнуть, а так как возраст его был невелик, большой остаток жизни он должен был провести потом беспомощным калекой. Кстати, уже через много лет я узнал, что в Люксейль коротает свои дни один слепец. Тогда я попытался узнать его имя, и к чрезвычайному своему горю услышал, что это тот самый Вергилий, проводивший для меня экскурсию по своим достопримечательным владениям, ознакомление с которыми принесло мне столько много глубоких впечатлений. С другой стороны - он сам весьма беспощадно эксплуатировал свое затухающее зрение, и это его отношение к собственному здоровью вряд ли стало бы более щадящим, огради его аббат от обременительных хлопот, связанных с его должностью. Этот человек самоубийственно стремился к чтению, как тот тяжелобольной, который растравливает свои зудящие раны, или потребляет воду, когда лекарь напрочь запретил ему смачивать горло. Когда глаза Вергилия болели, слезились от чрезмерного сосредоточения, он ругал их и тер, словно они от этого станут зорче видеть, закапывал в них какую-то гадость, которая только ускоряла приближение его слепоты. В общем, не будь он библиотекарем, а по совместительству и директором скриптория, это бы нисколько не помогло сберечь его зрение - Вергилий слишком себя для этого не ценил. Зато никто в монастыре так не любил книги, даже Отрик, никто так не знал их, никто - разве что единственный Вирдо - не обладал столь всесторонними представлениями о мире. Вергилий принял меня с любезностю, охотно вызываясь проводить меня по скрипторию и библиотеке. Из его рассказов, которые я привожу ниже в безличной форме, я узнал много занимательного об их истории, устройстве, порядке работы в них. Известно, что ранее библиотека и скрипторий были расположены в разных зданиях, но после того, как большая часть монастыря выгорела от пожаров, учиненных венграми, всем членам обители пришлось потесниться, и в результате проведенного уплотнения и скрипторий и библиотека объединились, заняв соответственно первый и второй этажи старой резиденции аббата. Конечно, в скриптории уже не было такого количества рабочих мест , как ранее, но зато в своем устройстве он сохранил множество традиций, в разное время определявших стиль работы переписчиков. Так, здесь был специальный стол для работы с папирусами. Как известно, работа с папирусами затруднена не только потому, что невозможно делать сверки, но даже выписки из них древние ученые делали лишь по памяти, что было причиной многих погрешностей : стоит отпустить правую руку, как свиток предательски сворачивался, скрывая от глаз свое содержание. Наш же столик представлял собой специально оборудованный станок, где при помощи двух рычажков можно было закрепить часть папируса объемом до шестидесяти унциальных строк, и после этого спокойно работать с материалом. Впрочем, подобных свитков в библиотеке было немного - в основном это были картулярии меровингских времен - и я редко видел, чтобы за этим столиком кто-нибудь сидел. Еще восемь мест в скриптории предназначались для работы с кодексами и один - для ведения нотариальных работ. В свою очередь первые восемь делились поровну, исходя из удобства труда переписчиков : часть монахов, привыкшая к классической традиции, писала на коленях, другие же воскладывали свой пергамент на стол. Для первых предусмотрены были одиночные скамеечки, на которые по желанию монах мог подложить квадратные подушки, выдаваемые Вергилием. Далее скриптор выбирал себе табурет, который он ставил себе под ноги. В углу помещения находился громоздкий шкаф, в отличие от всех остальных, никогда не запиравшийся. Он был всегда легко доступен потому, что в нем хранились не работы монахов, не чистые листы пергамента, а небольшой арсенал вещей, необходимых для удобства труда, в том числе и табуреты, из которых, как я сказал, в начале дня монах выбирал наиболее подходящий ему по высоте. Восседая на скамье, уперев ноги в такую вот подставку, переписчик, приверженный прежним традициям, писал у себя на коленях, сжимая левой рукой уже исписанные страницы. Перед его глазами на пюпитре возложена была книга, которую он тщался скопировать. Пюпитр при этом тоже был сделан не без удобства. С одной стороны это был обыкновенный треножник, но с другой - угол наклона дощечки, поддерживающей книгу, можно было легко регулировать скрывавшимся под нею винтом. Если монах не хотел писать на коленях - это было подавляющее большинство тех, кто приходил сюда трудиться из других монастырей - то он просто выбирал себе другой стол. Как правило, за ним уже стояла не скамейка с табуретом, а стул или же кресло с закругленной спинкой. Переписчик усаживался за стол, открывал простой замочек, ключ от которого всегда висел рядом и - такого я больше нигде не видел упрятанная под верхней дощечкой, выкатывалась другая, заключавшая в себе принадлежности для письма. Здесь был пенал, в котором монах мог взять на выбор либо перо, либо калам, который некоторые называли также "arundo". В пенале находились ещё ножик для заточки орудий письма и баночка с красными чернилами, к которым приходилось прибегать по крайней мере не реже, чем начинать новый абзац. Но в пенале не было предметов, при помощи которых можно было бы внести исправления в рукопись, если ошибка все же была обнаружена. Кисти, губки, которыми смывался текст, или же скребок с пемзой, которыми он соскабливался все эти вещи находились у Вергилия под строгим контролем. Ведь что если монах, вооружать самомнением, узрит ложную ошибку в оригинале и, не испытав свою мысль советом, использует пемзу для правки померещившейся ошибки, часто внося в переписываемую книгу хаос собственного ума, а не безупречность познаний, которые должны быть особенно безукоризненны там, где речь идет о текстах, составленных на благо души? Поэтому все принадлежности для исправления книг Вергилий хранил в ларце, ключ от которого всегда позвякивал у него в кармане. Если случалось, что монах досадливо обнаруживал собственный ляпсус, Вергилий приносил ему пемзу, либо что-нибудь иное, и горе-мастер в его присутствии искоренял и буквально "сводил на нет" промах, впоследствии могший отозваться в том, что читатель, идя на поводу у непреднамеренного упущения, вместо того, чтобы приблизиться к знанию, мог навредить уму, засадив цветник разума сорняками заблуждений. Кстати, если возникало подозрение, что испорчен оригинал, то дело уже не ограничивалось скороспешным исправлением. Вергилий был ответственен за каждую букву в каждой книге ; по его глубокому убеждению даже единая из них, по злоумышлению ли угнездившаяся в тексте, либо по недобросовестности, могла содействовать тому, что мрак неведения обуяет душу; и, как у некоего переписчика на посмертном его суде тяжесть совершенных грехов едва уравновешивалась томами переписанных им книг, и только одна лишь буква соделала все же, что книги перевесили чашу проступков, так и здесь одна единственная литера легко могла пересилить все накопленное рассудком на долгих путях его умудрения, на этот раз приведя уже не к спасению, а к погибели души. Поэтому когда сверщик или переписчик давал волю своим сомнениям, Вергилий обычно помечал подозрительную строчку знаком "r" на полях, что означало "require", "искать". Так же он вкладывал в рукопись закладку и сам впоследствии занимался поиском другого экземпляра этой же книги (иногда на это могли уходить месяца и годы), пока рукопись с аналогичным сочинением не снимала все опасения или не подтверждала их. И вот тут только в ход шла пемза; либо же, если место было несоразмерно, Вергилий отчеркивал ложные строки ( часто изобилующие не столько описками, сколько лакунами) и наводнял поле выписками, которые теперь без искажений могли донести читателю авторскую мысль. Кстати, подобные выдержки он делал часто в тиронских знаках, систему которых он знал назубок подобно лучшему секретарю достойнейшей из канцелярий. Но я остановился на описании стола, конструкция которого предусматривала наибольшую полезность для эффективного, максимально производительного труда: копируемый кодекс лежал на верхней дощечке, придерживаемый левой рукой, дабы избежать случайного перелистывания страниц и для отслеживания указательным пальцем текущего переносимого в тетрадь места; последняя в свою очередь лежала на нижней дощечке, так плавно выскальзывающей из под верхней. Что касается чернил, то они заполняли обычные, всем известные рожки, укрепленные на углах стола, либо же не пюпитре. Стоит лишь добавить, что одна из таких чернильниц была заменена теперь на огромный рог Гилдуина, выданный Кизой за коготь громадной птицы. Этот рог, до краев заполненный чернилами, был установлен на столе у Рагинарда - известного, досточтимого всеми мастера-переписчика, которому сейчас было уже около восьмидесяти лет, но который, казалось, никогда не покидал своего кресла, склонившись над рукописью. Светило ли летнее солнце, падал ли снег, стучал ли в окно осенний дождь, Рагинард неизменно пребывал в своем усердии, ибо перестать выводить бесконечную вереницу букв для него было равносильно тому, как если б он перестал дышать. Казалось, если он уберет в пенал все писчие принадлежности и задвинет обратно нижнюю дощечку, то он сразу умрет. Что в конце концов и произошло : он подписал рукопись собственным именем, щелкнул замочком, запирающим стол, положил голову на книгу, которую он только что закончил, и умер. Но это произошло через несколько лет, а пока что он беспрерывно трудился, стремясь осуществить ту цель, которую он поставил перед собой, будучи ещё отроком, в первый раз увидевшим монастырский скрипторий и людей, ссутулившихся над рукописями в полнейшей тишине, в которой слышен был только скрип перьев, неспешно свершавших свою длительную работу. Он замыслил тогда двадцать раз переписать Библию и не знать ничего, кроме этого дела, оградив себя от всего остального. Тогда он в первый раз взялся за перо и принялся за свой удивительный труд. Вот ему двадцать лет. Он красив и румян, вдохновлен поставленной перед собой грандиозной задачей. Он постоянно скользит глазами от Библии, подаренной ему отцом, к своему пергаменту. А вот ему восемьдесят, немощному старцу, согбенному от однообразной работы. Теперь ему даже не приходится читать текст, чтобы переписать его. Он помнить все наизусть и только водит пером, но левой рукой все равно для чего-то переворачивает страницы той же самой отцовской Библии. Ему и поставили этот "коготь птицы", рог Гилдуина, да лучше и быть не могло, чтобы предмет, настолько окутанный суеверием, а, с другой стороны, собственность такого исчадия зла как Гилдуин, служил теперь столь благородной цели, как содержать чернила для написания священнейшей книги. Ну а когда Рагинард закончил двадцатую Библию, он, как я сказал, тут же умер. Вообще, его жизнь стала для меня примером самоотверженного, до полного самозабвения служения выношенной сердцем, возлюбленной Богом, воспетой людьми идеальной цели, прекрасной задаче. Надо сказать, что когда Рагинард умер, его место уже никто не занимал. Продолжая говорить об устройстве скриптория, отмечу, что по углам его стояли четыре одинаковых с виду шкафчика. В одном из них, как я уже упоминал, составлялись разнокалиберные подставки для ног, а также ряд иных аксессуаров, которые не требовали контроля со стороны директора скриптория. Все же остальные шкафы запирались на замок и их содержание являлось для Вергилия предметом, требовавшим неусыпной бдительности. Так в одном их них по окончании рабочего дня заключались все лампы, которые в его начале разбирались монахами, дабы сделать более светлыми свои рабочие места, ведь сам по себе скрипторий был довольно темным помещением. Раньше это здание служило для совсем иных целей ; оно целиком принадлежало аббату, и нижняя зала предназначалась, в основном, для встреч высоких гостей, где в былые времена подавались изысканнейшие угощения. В монастыре тогда всегда присутствовал мирянин, отличавшийся строгостью и важностью, по своим обязанностям схожий с таковыми вилика или как его ещё называют, мейера. Практически это был представитель царского двора в монастыре, а ещё более приближенно к реальности - надзиратель за деятельностью эконома. У него было своеобразное представление об аббатстве ; под тем углом, под которым он на него смотрел, обитель казалась ему королевской виллой или даже палляцием. И никто не разубеждал его, так как подобный взгляд был явно на пользу Люксейль. Ведь хозяйство монастыря с точки зрения этого старосты должно было быть бессбойный механизмом для утоления, доходящего до пресыщения, самых разнообразных потребностей суверена. Поэтому в то время к столу всегда могли быть поданы не только утки и куропатки, но и горлицы, фазаны и даже павлины, для содержания которых выделывались специальные золоченые клетки. Исчислить принадлежащее тогда монастырю число хлевов с коровами, свиньями, овцами и козами было такой же невозможностью, как, по распространенному в то время присловью, сыскать где-либо рогатого коня или найти болтливую улитку. Что говорить, если в каждой деревне, включенной в Люксейльский полиптих, как минимум сотня кур по первому зову готова была обеспечить монастырь своими яйцами. В амбарах обители всегда было с избытком меда с многочисленных пасек, мяса - и вяленого и свежепросольного; вина самого разнообразного - ягодного, виноградного, вареного и так называемого "herbatum" - вина, обогащенного силой целебных трав. Были также рыбные консервы, угождавшие самому избалованному желудку : здесь всегда могли подать карпа, лосося, форель, миногу, моллюска и т.д. Кроме того, в Люксейль всегда содержали и холили двух откормленных, валящихся от обжорства быков и трех до смерти упитанных баранов. Эти малоподвижные туши, раздувшиеся как от водянки, присутствовали здесь только для того, чтобы в любой момент, когда это потребуется, на славу послужить чревоугодию гостей своим отменнейшим салом. Леса, простиравшиеся без конца, поистине превращены были в заповедники. Здесь и флору и фауну не только постоянно оберегали от браконьеров и разбойников, но и создавали райские условия тем животным, что так любы сеньору в тот час, когда ему восхочется потешить себя охотничьими забавами. Для этих же целей в чащобах холили всеми силами соколов и ястребов, коих блюли для пущего охотничьего азарта. С целью угодить этим высококровным склонностям в монастыре специально кормился человек, который кроме исполнения прочих надобностей умел споро и сноровисто сплетать тенета для охоты и сети для рыбной ловли и уловления птиц. Да, к приезду самых высоких и развращенных гостей здесь всегда были готовы, поэтому нижняя зала в прежней аббатской резиденции - нынешний скрипторий - никогда не пустовала и всегда была наполнена вздохами изнеженности, досужими сплетнями и икотой. Гости - в том числе и короли и архиепископы - оценивали по достоинству помпезное гостеприимство Люксейль, по всем статьям обетовавшее им упоительнейшие часы досуга. Но это было давно, ещё до взятия Парижа норманнами, ныне же тлен и запустение - спутники сарацинов и венгров - были единственными гостями обители, прежний блеск которой сполна успел всеми позабыться, уподобясь нищете Шимпзе. Поэтому все лампы в скриптории, содержащие дефицитное масло и сами по себе бывшие дорогостоящим инвентарем, хранились под замком, надежность которого всегда удостоверялась Вергилием. Монахи затепливали лампы и, рассеивая утренний мрак, языки света, как кисточки, вырисовывали по стенам таблицы с надписями, посвященными нелегкому труду переписчиков. Эти дощечки, подчас, имели довольно солидный возраст, потемнев частью от времени, частью от пожара, уничтожившего предыдущий скрипторий, украшением которого они служили. Здесь можно было прочесть : ;"Хотя перо держится всего тремя пальцами - трудится при этом все тело и вся душа". Или : "Как больной желает обрести здоровье, так скриптор жаждет приближения конца книги". Здесь вообще было много записей, воздающих должное тяжести труда переписчика, для многих превосходящего самую искупительную и покаянную работу, а для тех, кто не лишен поэтического мышления, походящего по своим чувствам на томительные ощущения навигатора, снедаемого тоской по берегу и так же ликующего при входе в порт, как радуется измученный долгим корпением скриптор, подводящий конец своей книге. Кроме того лампы выхватывали из темноты картину, висевшую над столом Вергилия и по своему сюжету и характеру переносящей труд переписывания книг в сферу религиозного делания, где монах начинал, свершал и заканчивал свою работу по благословению свыше и только при помощи призываемого устами святого, нашептывающего об ошибках в письме и придающего телу ту крепость, что позволяет исполнить до конца аскезу скриптора. В самом деле, каждую книгу монах посвящал святому, на подмогу которого он истово уповал, и с тех пор, вплоть до "входа в порт", с губ его не сходило движение, в котором я думал угадать неслышное проговаривание текста книги, но которое на самом деле было непрерывным взыванием к заступничеству небесных праведников, внимающим славе Господней. Итог и смысл деятельности каждого и выражала эта картина : упавший на колени монах протягивает святому завершенную им рукопись, даже не покушаясь назвать её плодом собственного труда, в котором его тело было лишь пером, оживляемым вышним благоволением. В третьем из четырех шкафчиков хранились так называемые церы или навощенные таблички, традиции использования которых моложе только лишь папируса. Как велит все нам устав, каждый из монахов носит при себе подобные скрепленные ремнями диптихи и стили, один конец которых вычерчивает, а другой заглаживает написанное. Но если наши складни вмещают только восемь стихов, то в этом шкафу можно было найти таблички, связанные в увесистые книги по 8, 10 и даже 12 крупноформатных цер. Такие многотомники, из которых некоторые напрочь забыли о скромности отделки и упаковывались при этом не в обычные "saccus" - эти власяницы для бесхитростных монашьих ежедневников - а в лакированные футляры, иногда расписанные на диво. Подобные церы и впрямь служили иным задачам. Во-первых их брали в дорогу паломники, намеревающиеся проделать весьма длительный маршрут иногда по неизведанным территориям: тогда таблички служили путевыми дневниками, куда стремились вписать свежие впечатления, зачастую не обходившиеся без активности фантазии, обращающей некоторые подробности в сказочные, подобные Шахерезаде явления. При этом чем более дальней и туманней была цель путешествия - будь то страна рабов, Танаис, дельта Нила или пурпуро-хризоцветная Индия - тем сильнее работало воображение, окончательно все запутывая, и тем менее церы служили своей задаче - являться своего рода географическими штудиями и словесными картами. Наши путешественники все понятия и образы неизменно превращали в глоссы, наводняя церы обитателями паноптикумов и инфернариев. Тогда, когда я ещё не родился, жил в Люксейль чудаковатый монах Хардрад, имевший ненасытимую страсть к путешествиям и часто надолго отлучавшийся из монастыря. Предметом его "peregrenatio" по началу были лишь отдаленные галльские обители, прославленные своими обычаями и небесным заступничеством. Но затем он стал отлучаться в мир на все более долгие сроки так, что иногда никто уже и не верил, что он вернется назад. Хардрад был в Риме, видел Константинополь, побывал даже в Вавилоне Египетском, но он все время возвращался обратно, говоря о своей давнишней мечте - увидеть заветное место, где небо прилежит земле, и где, как он слышал, звездный свод покоится на железных столпах - то есть Индию. Несмотря на то, что все его отговаривали, он был настолько неуемен, что однажды ещё до зари, взяв с собой самую громоздкую связку цер, он отправился в неведомую даль, откуда солнце начинает являть себя миру. Его не было пять лет. За это время варварские племена сожгли Люксейль, одних взяв в плен, а иных лишив жизни ; и те, кому удалось избежать напасти и думать уже не думали о получокнутом, беспокойном пилигриме, давным-давно отправившимся на изучение запредельных земель, дающих приют солнцу. Но Хардрад и на этот раз вернулся - сильно изможденный, страшно постаревший, но веселый, изведавший вкус раскрытия тайн, наполняющих монашеские представления о мире. При этом он демонстрировал драгоценные кольца и ожерелья из жемчугов с сапфирами, которыми полна Индия, чьи сокровища разметаны по земле, как у нас пыль, и алмазы там растут на деревьях, словно виноградины. Все были ослеплены тогда этим его скарбом и представляли себе неисчерпаемость индийских богатств. Итак, все его церы были исписаны частоколом мелких, походящих на пиктограммы буковок, в которых он пытался заворожить и замуровать свои впечатления от встречи с пленительным местом сказочного средостения Урана и Геи, от союза которых произошли светила, ветра и бесчисленные Океаниды. И что же ? Его рассказ нисколько не развеял Эреба и Гипноса мифологических представлений об окраинных царствах. Наоборот - темень ещё более сгустилась. Если путь его через Персию изобиловал только опасностями, но отнюдь не чудесами, то, когда он вступил в Индию, неслыханные видения принялись ежечасно наполнять его взор. То он взошел на гору, в ущельях которой иссякал солнечный свет, ибо она была приютом аспидов и василисков, которым светило отказывается цедить свое жизнедающее сияние. Злые змеи, извивавшиеся среди скал, поземкой скользившие по холодным камням, загромождавшим разверзшийся оскал горной седловины, свистели так сильно, что Хардрад не мог выносить подобных звуков и в очумелости бежал с горы, перестав слышать ужасный свист лишь тогда, когда залепил уши воском. В другом месте увидел он дерево сильно красное своими плодами, так благовонно струящими легкие, как эфир ароматы, сладостно раздражающие обоняние. Хардрад уже потянулся было к ним, дабы унять свой голод, но тут же заметил, что дерево то усеяно птицами, говорящими человеческими голосами, обращающимися к Богу с просьбой помиловать их и обратить из птиц обратно в людей. Их щебетание было настолько безрадостным и заунывным, что в крайнем испуге бежал Хардрад оттуда, долго без устали идя, пока не набрел на селение "песьих голов" - так он их называл. Это вроде бы были люди, но видом - обрюзгшие, чумазые, кудлатые, пупырчатобрюхие, злобно урчащие, исподлобья глядящие - сильно похожие на животных. Они жили в гнездах, разведенных прямо на валунах, и ко всякому чужестранцу были настроены весьма агрессивно, скалясь на него и истекая слюнями. И оттуда бежал наш испуганный монах, спиной вперед, лицом оборотившись к выводкам этих отребий. Снова брел он не зная пути, пока на границе между светом и тьмою не встретил он столп, поставленный в незапамятное время царем греческим Александром Македонским. На столбе, унизанным богатой резьбой, прочел Хардрад следующую надпись, выгравированную так, что верхние буквы были крупнее нижних, отчего все они казались равноразмерными: ;"Сей столп воздвигнут Александром, царем Македонским от Халкидона, победителем персов. Сие есть граница его владений, за которой ни один человек уже не может обрести власть. Да наречется это место "тьма". Ибо когда победил Александр Дария Мидийского и Пора Индийского, продолжил он двигаться в солнечную страну, встретив там нечистых сыновей из племени Иафетова. И были они явлением всякой гнусности, так как потребляли зловонную тварь и разных скотов омерзительных комаров, мышей, кошек и змей. Мертвых же не хоронили, часто питаясь собственными детьми. И видел Александр подобную скверну и возбоялся вельми, чтобы не достигли эти племена чистых и святых земель, не осквернили бы их своим смердящим духом. И помолился Богу зело и погнал все народы дикие к краю земли, за границу этого столпа, а, когда вытеснил их, помолился ещё раз со страхом великим, и две горы, стоявшие там незыблемо, сошлись друг с другом, заключая в себе сии нечистые созданья. Заковал Александр те горы вратами железными, а швы их замазал суньклитом, дабы никакой меч, никакой огонь вовеки не распечатали входа, и племена не обрели б свободу, наводняя поднебесные континенты. Называются же горы Гог и Магог, а ворота - Дербентской стеной. Во скончании же веков повелением Божьим разомкнутся они, и, равные приумноженным людским прегрешениям, выплеснутся на волю бесчисленные отродья Иафета, нанося разорение и ужас христианским государствам". Так глаголил Хардрад. Вразумлял также и тем, будто померещилось ему, когда смотрелся он в мрак, сгущавшийся за столпом, что и впрямь возносится там две величайшие горы, вершин которых не видно, но что ворота, сковывающие их, сдернуты с петель, и чрево, поглотившее некогда дикие народы, опустело, зияя голой чернотой, струящейся из жерловины, подобно дыму пепелищ. Так вещал Хардрад, уподобленный одновременно и Гомеру по своей велеречивости, и его герою Одиссею, изведавшему все превратности долгого странствия. Премного же он поразился рассказам очевидцев об опустошительном нашествии венгров в его отсутствие и, услыхав от отвратительных их наружностях и скверных повадках, заключил выспренно, воздевая палец к небесам : "Истинно, то были Гог и Магог, и те кочевники, что пленены были Александром, вышли днесь из развилок ущелий, опорожнив темницу свою. Покайтесь же, братья ! Несть числа народам, закованным Александром в Тартаре, что стоит у пределов земли. Превзойдут ныне бедствия людские все, что было ранее, и не престанут теперь язычники стращать народ христианский своими пакостными нравами, юлящими хвостами, шкурами своими всклоченными, покрытые колтунами, словно брадавицами". Так он говорил, а мне рассказывали о сем те, кто слышал эти его беседы и молитвословия. Так и неизвестно, где был Хардрад все эти пять лет и откуда воспринял он эти диковинные рассказы. Но многие доверились тогда им. Слова "Дербентская стена ниспала" стали расхожим присловьем, в истинности которого убеждались тем незыблемей, чем страшнее становились почти каждодневные бедствия, приносимые в Галлию и венграми и норманнами. Что же касается путевых цер Хардрада, то они были сохранены в Люксейль как памятник, содержащий знаковые и достопамятные видения, и потому их тщательно оберегали от стиля. Да, в этом шкафу, где хранились навощенные таблички всех сортов, тех цер не было - они сразу же перенесены были в библиотеку. Но здесь сложенным являлось множество иных самых разнообразных "tabula rasa", назначение которых зачастую было куда выспренней, чем служить путевым заметкам праздношатающегося географа и землепроходца. Часто их брал с собой аббат, если его призывал на совет епископ. Нотарий в таком случае тоже был обязательным его спутником. Он стенографировал при помощи тиронского шрифта все то, что изрекал в проповедях глава диоцеза, или протоколировал съезды, учащавшиеся во времена обострения реформаторского чутья тех, кто должен был доказывать правомочность ношения ниспосланного Папой паллиума. На таких собраниях, напоминавших часто беспокойно роящийся улей или оживленные споры Ареопага, нотарий усаживался у стоп аббата, означая его неподражаемое превосходство, и кропотливо изрезывал податливый воск, упаковывая слова в косноязычие иероглифических значков, расшифровав которые по возвращению в монастырь, он уже не спеша, стройным каллиграфическим строем увековечивал съезд на папирусном свитке или в пергаментном кодексе. Практически всегда подобного рода внеурочные созывы киновийной иерархии вызывались стремлением осудить нравственную скудость и непостоянство духа монахов, каковые свойства как чума для здоровья или варварские нашествия для материального имущества церкви, были истинным опустошением сознания тех, кто только по имени являлся христианином. В качестве ужасающего примера крайней развращенности и низменных побуждений, в которые претворилась высокая ответственность монаха перед Богом и людьми, настойчивей всего приводился монастырь из соседнего диоцеза - погрязший в извращенности духа Монтьер-ан-Дер. О том, что там вытворялось, бесстрастно свидетельствует наш папирусный свиток, составленный нотарием в прошлом году, и, кстати, нельзя сказать, что никто в Люксейль не почувствовал собственной вины за происходившее в Дер, так как обитель эта была возведена в седьмом веке воспитанником нашего монастыря святым Беркарием. Уже тот факт, что этот благодатьнейший апостол был убит в стенах Дер рукою своего же крестника как бы надолго определил грядущие беспорядки, которые омерзением наполнили это святое место, где монахи стали походить, по ещё одному господствующему присловью того времени, на "оленя, пресмыкающегося во прахе" - противоположность, заявившая там о себе с жуткой непреложностью. Я читал этот папирус. Аббат Бенцо, не имея и следа малодушия перед Богом усеивал сердца кающихся ядовитыми плевелами неверия, позволяя себе открыто богохульствовать и распевать в святые праздники пьяные песнопения, по своему содержанию совершенно противоположные литургическому действу. Подменяя набожность разгульным дебошем, он "причащал" себя и своих гостей крепчайшим вином, распоясывавшим все нравственные узы души и устремляющим побуждения ума к грехомыслию. Надо сказать, что описание творившихся в Монтьер-ан-Дер оргий и вакханалий в папирусе изобиловало самыми изощренными подробностями, самым недвусмысленным образом вводя читателя в пинакотеку отъявленнейшего блуда. "Он, - записал нотарий свидетельство о Бенцо, - заселил кельи монашеские скоморохами бритолицыми, а также всякого рода срама не имущими и ходящими без страха перед Богом шутами, жонглерами и гистрионами, взбирающимися на ходули бесовские, чтобы достать рукой до неба и грозить там ангелам и пресветлым мужам. Заперевшись в своем дворце, Бенцо творил беззакония, которых не было от начала мира: завлекая к себе подвластных крестьян, он примешивал отца с дочерью, сына с матерью, брата с сестрою, хотящих и не хотящих. Ежели боялись и отрекались, то немедленно присуждалися к смерти. Также спрягал бесстыдник чернеца с черницами, да и сам охотно соединялся с дочерьми своими, да сестрами. И творил одержимый Бенцо блудные дни и гусли и плясания и песни сатанины и поругания всяческие, бросая в небеса камни на вызов Богу и оскверняя в праздники грязью святые алтари". И т.д. и т.д. Когда читаешь подобные свидетельства, то переполняешься страхом неизъяснимым не столько даже перед тем, что подобное чудище носит на себе земля, сколько прежде всего перед участью, которая ожидает душу подобного нечестивца после смерти. Так я писал о наследнике Алардия на посту главы Дер в своей книге об этом монастыре: "succesit lues tantae perversitatis domnus Benzo, juste ab ipso deturbatus Coenobio" В конце люксейльского папируса приписывалось, что голова святой императрицы Елены-"beate Elene, inventricis crucis Salvatoris nostri Domini Ihu Xristi" - находящаяся там, с величайшим гневом взирает на эти приступы сатириаза и мании святотатца. Чудо оберегает от осквернения такую реликвию, как голова той, которая родила миру непревзойденного в качествах святого Константина, и кажется - так сообщает папирус - что её очи иногда отверзаются и испепеляют ненавистью прелюбодеев и вероотступников монастыря Монтьер-ан-Дер. Итак, подобного рода папирусы составлялись на основе криптографии восковых табличек, которые выбирал себе в этом шкафчике нотарий монастыря. Наконец, четвертый из шкафов скриптория отведен был под хранение пергамента. При этом верхние полки являли собой хранилище запасов новой, ещё не исписанной мембраны, тогда как внизу накапливались текущие труды, выполняемые переписчиками. Надо сказать, что только единый Рагинард выполнял копирование в высоком своем одиночестве, как, по свидетельству многих, все Рифейские горы низменны, а одна, стоящая особняком, возносит вершину за пределы даже и звездных сфер. Каждая работа по переписыванию, чтобы ускорить темпы труда, делилась внутри коллектива из нескольких, обычно трех или четырех исполнителей. Мастерская Люксейль в ту эпоху, которой я был современен, редко служила нуждам самого монастыря, книжное богатство которого даже при том, что многие обители стремительно восполняли прорехи в своих фондах и уже даже начинали превосходить Люксейль, было одним из крупнейших, исчисляясь пятью сотнями экземпляров. При этом, например, число требников и псалтырей, ранее с избытком запасенных, ныне оказывалось совершенно непропорциональным величине общины, явно поубывшей в количестве. Поэтому скрипторий обычно был наводнен монахами других монастырей, иногда даже другой конгрегации, иногда даже и вовсе иностранных - ходатаи их библиотек весьма были обеспокоены недостатком или испорченностью иногда важнейших, а иногда второстепеннейших трудов. И если, как известно, монастыри часто обменивались книгами, одалживая их, беря в залог подобный по своей весомости труд, то многие из рукописей Люксейль, накопленных в те времена, когда большинство из обителей могло похвастаться только парой Библий и отрывком из Августина, превосходили все по своей ценности и не измерялись ни какими, даже самыми ценными залогами. Поэтому переписчики сами издали приходили сюда, чтобы вершить свою работу именно здесь, под всевидящим взглядом Вергилия, который даже повернувшись спиной или исчезнув в библиотеке следил каким-нибудь своим двадцатым чувством за тем, что делает каждый их скрипторов. Когда в Люксейль приходила делегаты из другого монастыря, они свидетельствовали возложенное на них поручение письмом, в котором их аббат, изливаясь в любезностях и надеясь на милость и добросердечие, просил Вергилия выдать монахам для копирования необходимый его обители труд, восполнивший бы духовную нишу в здании, возводимым там во славу разума, смиренно склонившегося перед Премудростью Божией. Тогда Вергилий расплетал требуемый кодекс, разделяя его на части, и распределял все тетради между сотрудниками, подписав каждую именем переписчика. Таким образом каждый из пришлых монахов корпел над своей частью книги, и общая работа подвигалась довольно быстротечно. По окончании дня Вергилий собирал все эти тетради и складывал их в тот шкафчик, о котором я вам сейчас рассказываю. Утром же, сообразно подписанным именам, он вновь раздавал их. Также здесь запирались рукописи, приготовлявшиеся с особенной пышностью, в листах которой переписчик оставлял многочисленные пробелы, которые впоследствии предстояло заполнить иллюминатору с арсеналом его изобразительных средств и всеоружием вящего мастерства. Наконец, на верхних полках, как я упоминал, хранился ещё не тронутый чернилами пергамент, в том числе и исключительного качества кожи из оленя и антилопы. Хотя, как сказал Вергилий, в этом шкафу полно было и козлят и овец и ягнят и ланей и жеребцов и телят и даже зайцев. Не было только шкур ослов, на которых поистине грешно писать священные книги. На первый взгляд определить из кожи какого животного произведен пергамент почти невозможно. Чаще всего использовали шкуру овцы, телячий же пергамент, который много тверже овечьего, ценен прежде всего для переплетчика. Кроме отделки поверхности - разной для письма и для миниатюр качество его во многом возрастает с уменьшением толщины, которая, как мне объяснили, тем тоньше, чем моложе кожа, из которой произведена была выделка. Я пробовал на ощупь различные листы и одни были грубыми, ороговевшими, плотными, какими-то твердыми и даже лохматыми, а иные - они сложены были отдельно находил так отличительно тонкими и эластичными, очень гладкими, и было даже трудно отличить мясную и мездровую стороны этой мембраны. ;"Где изготовляется этот восхитительный пергамент ? - спросил я Вергилия и тот, обычно всезнающий, оконфузился тем, что его застали врасплох за неведением. "Этот ? Мы получили его только один раз и стараемся беречь, не расходуя понапрасну. Местонахождение мастерской, изготовляющей пергамент столь превосходного сорта, держится в тайне. Ведь если бы оно стало известно, тотчас распространился б рецепт его изготовления, а это бы наплодило новые мастерские и снизило на него цену, которая сейчас непомерно высока, приходясь нам не по карману". Я созерцал содержимое этого шкафчика, а потом, наконец, пошел в зал, с интересом наблюдая , как работают мастера. Сегодня трое скрипторов из Сент-Аманд составили воедино три скамеечки, соединили свои столы и утроено переписывали "De divisione naturae" Иоанна Скотта. От вида такого усердия у меня, видно, загорелись глаза, и я сам захотел испытать себя в подобном труде, но Вергилий уловил мое желание и непреклонно покачал головой : "Воспрещено в силу недостаточности возраста. Ты ещё слишком юн". В ответ на эти слова один из монахов приподнял голову и предположил, что Вергилий в данном случае излишне строг : "Иногда не следует стесняться быть снисходительным, не переходя, однако, грань попустительства. Когда-то наш монастырь прославил своим присутствием внук Пипина Иероним. И что вы думаете: ему было всего лишь девять лет, когда он скопировал житие своего праотца святого Арнуля - прообраза душевных свойств великого Карла". "Я слышал, - сказал другой, - что и в Санкт-Галлене дозволяют писать юношам. Так что я не стал бы противиться в случае, когда у отрока есть потребность в преумножении книг". Но, конечно, это никакого воздействия на Вергилия не возымело. Зато он решил поближе познакомить меня с библиотекой. Я ещё раз оглядел скрипторий - утренний мрак постепенно рассеивался, заставляя мастеров гасить свои лампы, вырисовывая на дверцах шкафчиков инкрустированных рыб, птиц и фигурки самых разнообразных, чуть ли не сказочных животных, давая также видеть как дыхание монахов превращается в пар на этом морозе, который господствовал в скриптории несмотря на разведенный в камине огонь.
Итак книги размещались на втором этаже. Надо сказать, что в то время библиотечный фонд Люксейль оставался одним из важнейших в Галлии, если не превосходя все прочие собрания числом своих книг, то намного опережая их кругозором тех знаний и мыслей, что были здесь накоплены. В самом деле, фонды Санкт-Галлена содержали тогда сорок томов Августина, в Мюрбахе августиниада исчислялась более, чем пятьюдесятью книгами, Лорш же и вовсе накопил их более ста, запасая часто множество совершенно одинаковых работ. Люксейль же поражал той широтой, с которой он смог охватить все разнообразие поисков и раздумий, которые человек на протяжении веков доверял рукописям. Другой характерной чертой его коллекции была её несравненная древность: большинство из пятисот томов относились к седьмому веку. Если иные монастыри стремились приобретать древние манускрипты, то случалось это уже в период Карла Великого и его наследников - таковы были Камбре, Сент-Дени, Сент-Мартен-де-Тур, Флери-сюр-Луар и иные. Люксейль же с того момента, как его основал святой Колумбан, был крупнейшим европейским монастырем, стремившимся воспринять не только безгрешность помышлений, но и сокровищницу человеческого опыта в деле познания законов природы вкупе с плодами трудов, являвшихся как результат поэтической и интеллектуальной напряженности ума. Сейчас, в тридцатые годы десятого века, повсюду была неслыханная "внешняя" активность монастырей по пополнению своих библиотек; по всей стране из обители в обитель ходили переписчики, направляемые своими аббатами; повсюду шел обмен книгами, для получения которых часто не жалели никаких средств. Эта поразительная жажда познаний, вдохновленная во всех Алкуином, сопутствовала устремлениям монахов Люксейль задолго до духовного сподвижника Карла Великого, являя здесь великую потребность духа с самого начала существования монастыря. Этим и объяснялось то, что наш монастырь до сих пор оставался владельцем, во-первых, самых древних фондов, а во-вторых, самых крупных по отображению всего разнообразия интеллектуального делания. Знающий все это как же я был удивлен, увидав, что представляет собой знаменитая если не на весь мир, то на все Европу библиотека Люксейль ! Смарагд в своих комментариях называет хранилище книг "cellula" "каморка", "клетушка", келья такая же крохотная как чердачок. И в самом деле, когда я все увидел, то поразился тому, как по своей сути она соответствует человеческому мозгу, содержащему неисчислимые знания и память в своем непропорционально миниатюрном объеме. Вергилий, казалось мне, скорее должен был называться "arcarius", чем "armarius", то есть охранитель сундуков, а не шкафов: вся библиотека состояла из двух небольших комнат, разумеется запираемых на увесистые замки. Пятьсот томов коллекции укладывались здесь в двадцать окованных железом сундуков, стоящих по десять в каждой из комнат. Эти "arca" ("сундуки", "ковчеги") нагромождались друг на друга, компактно в итоге размещая все книги хваленого собрания в помещение, равное по размеру домику, в котором разводят голубей ( остальная часть второго этажа была отдана для нотариальных работ, а более всего для перевода многочисленных греческих книг, богатство которых составляло особенно славнейшее достояние Люксейль). Видя мое изумление, Вергилий сказал мне, что такой способ хранения является на его взгляд самым рациональным. Он предпочел бы его даже если б отыскалось аналогичное другим монастырям помещение, огромность которого позволила бы свободно разложить тома по пятиполочным шкафчикам. "Ты бы согласился со мной, Адсон, если бы видел, как все здесь горело дотла, когда эти демоны - мадьяры с пылающими как и их собственные факелы глазами, налетели на наш монастырь словно стая затмившей небо саранчи. Они хохотали и визжали от радости, подпаливая дома и обращая все в пепел. Тогда только благодаря этим кованным сундукам нам удалось уберечь рукописи от тлена. Многие монахи на редкость самоотверженно лезли в пекло, выжегшее прежнюю библиотеку, и, прикрываясь от огня руками, хватали уже накаленные ручки сундуков, покрывавшие потом ладони волдырями. Один за одним ящики извлекались из пламени, в то время, как некоторые из монахов навсегда остались в той горловине ужаса. Бывало, вытащенный сундук весь дымился, исходя по граням своим клочками пламени, пытавшегося добраться до его содержимого, но ни одна из книг так и не пострадала, кроме тех, которые хранились в монашеских кельях. Почти ничего тогда не удалось сохранить из зданий - по сути монастырь пришлось выстраивать заново - но если бы погибло это...Это невозможно было бы восстановить. А так мы по прежнему можем гордиться - без преувеличения могу сказать - самой драгоценной и богатой коллекцией книг в Европе. Пусть ты видишь здесь несусветное нагромождение сундуков, но найти любую книгу тут отнюдь не составляет труда". И Вергилий стал мне рассказывать об устройстве и богатстве вверенных ему фондов. Все ларцы, в общем-то схожие друг с другом, были пронумерованы и содержали систематизированную по разделам литературу. Библиотекарь показал мне свои каталоги, содержащиеся им вместе со списками книг, находящихся в чтении среди монахов и раздаваемых им на Пасху, а также вкупе с расписками о заимствовании наших кодексов другими монастырями. Для того, чтобы описать великолепие библиотеки Люксейль, мне не хватило бы моей книги, которую я начал с совсем иными целями, но все же я думаю, что я нисколько не отклонюсь от своей задачи, посвятив им несколько страниц, ибо некоторые из рукописей, как я сейчас вижу, напрямую соотносятся со всем, что произошло спустя многие годы, являясь отчасти обоснованием моих поступков, а, иногда, просто верными помощниками и в прямом смысле гидами, позволявшими мне не потеряться в головокружительных обстоятельствах последнего времени, когда сейчас я уже могу об этом говорить - я не утерял ни разума, ни твердости воли, ни верности и своей родине, и своему государю. Я и сейчас думаю о том, что до сих пор над моею судьбою продолжается таинственная власть этих книг, словно предписавших все как в моей жизни, так, может быть, и в моей смерти.
Итак, видимо нет нужды говорить о том, что сочинения, посвященные путям человеческого подвижничества и всесовершенствованию ума, преображающемуся в лучах сладчайшего света всякий раз, когда он пребывает в лоне библейской Премудрости - присносущие, подобные жемчугам, плавающим в золоте, омывающем берега наших душ, схожие по красоте речей со словами, что изрекает Давид перед лицом и во славу Господа - творения Августина, Иеронима, Амброзия, Григория Великого и многих иных исповедников слова Христова занимали первостепенное место и в каталоге и в помышлениях Вергилия, со страстью, которая многим показалась бы невероятной, оборонявшим их сочинения от всего того, что несло бы в себе хоть каплю тлетворного духа. Это при том, что творения этих св. отцов, в изречениях которых нам предстоит молчание Бога, составляли основную часть всех прочих библиотек, иногда и преобладая там без крайности. Но Вергилию казалось, что всякий раз, когда он открывает Августина, его очи перестают видеть, язык немеет, не в силах говорить, слух же перестает воспринимать любые звуки - все у него оказывается насыщено медом и мякотью фруктов, что взрастают на ветвях Дерева Жизни, плодоносящего перед стопами Господа. И потом, какой из монастырей мог похвастаться его "Христианской наукой" аж пятого века ! А кто мог собрать все двадцать два тома "Града Божьего", довольствуясь в лучшем случае лишь половиной из них ? Богословы и избранные чада Господни, удостоенные лицезреть ангельское чиноначалие, были авторами, которым уделялась наибольшая порция заботливого усердия, которым так изобиловал Вергилий. Вместе с тем, подобный многим детям своего времени, он пестовал в себе уважение и к великим авторам античного мира, воспитывая и в себе и в других неисчерпаемый вкус к поэзии, истории и научному корпению в деле уразумения риторики, грамматики, математики, географии. Он не смог, например, уместить в один сундук собранные в разное время исторические сочинения, где к плеяде древних эрудитов скромно присоединялись первые современные историки. Так с одной стороны Вергилий превозносил Валерия Максима, Катилину, "Деяния Александра" Квинта Курса, "Деяния римлян" Секста Руфия, бессмертные цезаревы "Записки о Галльской войне", но с другой - пусть робко, но идет вперед и новая историческая наука, находящая этому поприщу таких энтузиастов, как сенатор Кассиодор с его двенадцатью томами "Historia Gothica" (Вергилий очень гордился этой рукописью, оберегая её в вершинах выспренности своих побуждений), как, разумеется, Григорий Турский с первейшей среди всех "Historia Francorum", или тот же Алькуин, который составил "Историю Карла Великого" так безупречно, что превзошел по красоте слога самого Эйнхарда. Отдельно были сложены труды по общей истории Церкви, отдельно - по истории местных церквей, а отдельно - жития святых, всевозможнейшие "Gesta" и "Acta" и "Vita". Целый сундук был отведен под грамматику, где господствовали Проб, Фока, Донат, Присциан и Консенциус. "А вот здесь, - указывал мне Вергилий, - самое большое сейчас в Европе собрание географических сочинений. К сожалению, они не пользуются популярностью среди наших монахов, да и в других монастырях редко кто-нибудь оказывается ими заинтересован. А между прочим зря. Если бы почаще обращались к этим книгам, то знали бы, например, что Африка это не только местность в Шомонтуа, но и целый большой континент, быть может даже равный Европе. Что ты так удивляешься ? Африка - это большущий остров, и знающие люди сообщают, что когда стоишь в Марселе, то на другом берегу Средиземного моря видишь североафриканские маяки. Мир гораздо больше, чем многие из нам привыкли представлять, и лишь одна только Римская Империя смогла объединить его весь". "Даже Индию ?" - спросил я, вспоминая его чудесный рассказ о монахе, отправившемся к столбу Александра Македонского. "В мечтах даже Индию, - серьезно ответил Вергилий . - Эх, давно я не открывал этого сундука. А ведь это в какой-то мере кощунство - иметь подобное богатство и вовсе не распоряжаться им". Библиотекарь принялся отпирать этот ящик, который показался таким запыленным и заброшенным, что напомнил мне другое значение слова "arca" - гроб. Когда же он отомкнул его, моим глазам предстало множество томов, разнившихся убранством, форматами и толщиной переплетов. В этом ящике было все - от Страбона с Птолемеем до Авиены и псевдо-Плутарха с его "Реками". Крупные сочинения, которым посвящались целые книги - таковы были Саллюстий, Иосиф, Тит Ливий и Тацит в их географических эксцерптах - чередовались со сборниками всякого рода, иногда объединяя авторов, на первый взгляд преданных музам иным ( так здесь были и поэты и ораторы), но которые в некоторых из сочинений были все же полезны для прилежания в деле познания мироустройства. Я выудил из сундука первый попавшийся экземпляр, на переплете которого было написано: "Собрание всякого рода итинерариев" и сразу же обратился к Вергилию с просьбой разъяснить, что обозначает "итинерарий". "Это - дорожники, описания, подчас крайне лапидарные, путей, соединяющих города, реки, области, по суше ли были проложены эти маршруты, или по морю. Если по земле - тогда речь идет исключительно о римских дорогах, которыми мы пользуемся по преимуществу. Никакие варварские дороги, проложенные кельтами в эти описания не вошли. Да и из римских путей здесь зафиксированы только основные, так сказать "военные" дороги, по которым от города к городу передвигалась императорская армия, следуя к окраинам государства, чтобы все далее отодвигать его рубежи, колонизируя варварские территории. Второстепенные же дороги дороги посыльных, прокураторов, оседлых галло-римских аристократов - пометить никто не удосужился, тем более так называемые diverticulum". "А это ещё что ?" "Это ещё более мелкие трассы, иногда скорее похожие на тропки. Они могли соединять второстепенные дороги между собой или отыскивали в лесах расплодившиеся виллы и оппидиумы". Я раскрыл эту книгу и с интересом изучал её, замечая, что тетради, составлявшие кодекс, написаны множеством рук, так как рукописи, подшивавшиеся сюда, хронологически иногда весьма отстояли друг от друга. Первое из сочинений называлось "Итинерарий Антонина императора, прозванного Каракаллой". Здесь исчислялись все военные дороги Римской Империи, охватывающие своими решительно прямыми, пренебрегающими почти всевозможными препятствиями, радиусами всю сферу мироздания вплоть до отдаленнейших его уголков. При этом описание было лишено всякой наглядности, представая в виде сухого перечня городов, расстояния между которыми измерялись протяженностью путей до промежуточных станций - mutatio или же mansio - пунктов, служивших целям перекладки лошадей или же ночного отдыха. Перелистывая этот однообразный реестр маршрутов, дававший бы гораздо больше уму, будь он лишь приложением к картографии территории Империи, где бы все эти дороги были проложены, усиливая впечатление непревзойденного могущества Римского государства, я заметил, что один из этих путей выделен кем-то грубой рамкой, вычерченной чернилами, судя по оттенку напоминающими "кровь дракона", или камедь. Это была одна из дорог Австразии или Лотарингии, соединяющая собою Реймс и Мец через Верден. На пути её следования располагались Basilia, Axuena, Virodunum (Верден), Fines и Ibliodurum, в общей сложности составляя дорогу протяженностью в шестьдесят две мили. Не знаю, чем привлекло неведомого читателя это место итинерария, но он не только выделил рамкой эту дорогу, но ещё и поставил вопросительный знак напротив станции Ibliodurum. "Где-то здесь" - подписал он при этом, оставляя в моем уме загадку относительно проблемы, которая его занимала так, что он даже решился испортить рукопись. Я показал этот лист Вергилию, и он сурово покачал головой, посетовав на подобное невежественное обращение с текстом: "Полистай дальше, может быть ещё обнаружишь такие художества. Как так можно, подобно вандалу, малевать в книге себе на потребу, словно она - авторская цера, предназначенная для редактирования. К счастью, эдакие nota bene легко поддаются изничтожению. Тем более сподручно это будет сделать сегодня, ведь скоро придет Мефодий. Ты слышал о нем ? Осенью он пришел к нам с группой греческих паломников, кстати, в тот самый день, когда и ты появился у нас: я прекрасно помню, как Одо представлял нам в первый раз и тебя и греков. Если его спутники занялись хозяйственными вопросами, то Мефодий предложил мне услуги по излечению рукописей, которые болеют точно также, как и люди. Этот монах и в самом деле обладает прекрасным умением реставрировать пергаментные книги. Сейчас я покажу тебе результат его искусных деяний - рукопись, которую на днях он практически заново вернул к жизни". Вергилий занялся поисками исцеленного Мефодием кодекса, а я продолжал листать сборник старинных итинерариев. Если маршруты Антонина были чисто текстовыми, то следующая тетрадь, напротив, состояла из одних лишь карт, но каких удивительных, похожих на аллегорию или изображение несуществующего, фантастического мира ! Это было несколько узких, но чрезвычайно длинных, сложенных в гармошку листов, каждый из которых пытался изобразить одну из частей Римской Империи. "Orbis pictus" так назывался этот необычный по исполнению многоцветный атлас, словно специально стилизовавшийся под непосредственность детского рисунка. Все реки текли здесь параллельно друг другу, все горы были одинаково высоки, все города равно изображались в виде двух игрушечных домиков с востроконечными крышами. Уродливо смешным здесь было не только сжатое по вертикали и безмерно раскинувшееся вширь сплющенное изображение мира, настолько длинное, что карту без труда можно было обернуть вокруг пояса, но и навязчивая, какая-то бредовая путаница из названий, бросающаяся в глаза даже малосведущему в географии человеку. В том аттракционе универсума, который здесь изображался, все имена съехали со своих мест и паризии помещены были над дорогой вдоль Рейна, венеды же и вовсе отнесены к устью Сены. Русло Луары смело было проложено между Осером и Лангром, чтобы сначала по воле картографа-демиурга пересечь Шарт и Париж, а потом броситься в итоге в море в окружении городов Ван и Ренн. Автор слишком творчески подошел к своей работе, создавая новую вселенную, виду которой я отнюдь не сочувствовал. Ах ! Ну ты посмотри ! Нет, одно-то из названий скорее всего стояло на своем месте. В краю Mediomatrici, к западу от Меца той же драконовой кровью было надписано "Ibliodurum", почерком своим легко сближаясь с надписями в итинерарии Антонина. Тот же читатель, что интересовался там дорогой из Вердена в Мец, здесь наносил на карту одну из станций, которая так сильно его заинтересовала. "Какое ж бесстыдство так беззастенчиво дополнять рукопись, потакая собственным интересам," - подумал я, и тут же услышал голос Вергилия, заметившего с каким удивлением я рассматриваю эти необыкновенные карты : "Перед тобой не что иное, как копия рисунка Агриппы, выполненного им на портике своей сестры Паулы. Впервые среди всех он задумал дать изображение всех земель, что подвластны Империи Рима. Он сделал это неловко, но довольно объективно, хотя, так как длина и высота портика несоразмерны, рисунок оказался пародийным, спрессованным по полюсам. Ту мешанину, которую ты видишь, устроил вовсе не Агриппа, добросовестно подошедший к своему делу. Просто в его рисунке не было изображения дорог, опоясывавший империю, и когда на "Orbis pictus" решили нанести крупнейшие дороги, редакторы нисколько не малодушествуя стирали все названия, которые попадались на прокладываемых ими путях и переносили их на первое попавшееся свободное место. Так и повернулось все вверх дном". Между тем я продолжал изучать эту книгу, становящуюся все более занимательной. Следующая тетрадь состояла из двух работ, переписанных одной рукой : "Итинерарий из Бордо в Иерусалим" и "Кругосветное плавание Скилакса из Карианда". Первая опять таки была бесконечной цепочной незнакомых названий с приписанными к ним иногда обозначениями "castellum" или "civitas" . Правда, на этот раз автор удосужился проиллюстрировать свой дорожник весьма, правда, схематичной картой, дававшей общее представление о характере маршрута. С первого же взгляда он поражал своей извилистостью, вынуждено мельтеша между отрогов или резко сменяя направление перед непроходимыми цепями хребтов. Так от Бордо путь устремлялся к северо-востоку Пиренеев, но затем он опять возносился на север, через Оранж пробираясь к Валенсии, чтобы, преодолев все козни Апеннин, проложить далее серпантины дорог к Турину. Перед лицом такого изобилия препятствий, что обещает паломнику сухопутная трасса, я подумал, не проще ли было бы достичь Иерусалима морем, и вот как раз следующим сочинением и было сделанное Скилаксом описание морского путешествия. В принципе оно принадлежало к составу обширного греческого фонда Люксейль, но при этом содержало в себе комментарий беззвестного латинского эрудита, без помощи которого весь труд казался б набором значков. Латинянин же каждый раз давал транскрипцию греческих словес и идентифицировал чуждую нам топонимику с точки зрения собственных познаний в географии. Если бы не он, я не узнал бы, что греческий "??????" это наша Корсика, а "??????" суть не что иное, как Испания. Однако, чем далее уходил мореплаватель от Гибралтарского пролива, тем большим сомнениям подвергал комментатор те соответствия, которые он, впрочем, все реже и реже находил. И его и нас от засилья сплошных греческих глоссов спасло то, что рукопись Скилакса внезапно обрывалась на сорок восьмой главе, посвященной описанию каких-то "Киклад" , видимо, находящихся в Средиземном море. К этому времени переводчик давно уже опустил руки, и когда список Киклад закончился названием "Астипалея", он откровенно написал : "Я не знаю, где это находится". "Вергилий, а где находится Астипалея ?" - с хитринкой спросил я библиотекаря, и он, стремясь показаться всеведущим, посмотрел на заглавие той тетради, что я изучал, и ответил : "Астипалея находиться по пути в Иерусалим". Между тем, я был поражен одной деталью, присутствовавшей в рукописи Скилакса: среди описания Сицилии в третий раз появилась нахальная "драконья кровь", и, отчеркнув один из пунктов этого острова, написала рядом ;"Ibliodurum". А здесь-то с какой стати затесалось это название, головоломно соединяя Сицилию с Австразией ? Странные поиски, которые вел этот читатель, казались мне пусть необъяснимыми, но интригующими, и я отчасти нашел на них ответ, когда открыл последнюю из тетрадей, составлявших книгу итинерариев. Это было описание римских дорог в области Mediomatrici , ещё точнее - паутины трасс, сотканной римлянами вокруг столицы Лотарингии - Меца, и первое, что поразило меня - это явное сходство почерка, которым была выполнена рукопись, с каллиграфическими особенностями всех тех приписок, на которые я ранее неоднократно досадовал. Вот он - автор этих надписей, проявлявший такой повышенный интерес к названию одной из станций, поставленных некогда на пути из Вердена в Мец. Теперь он подробно исследовал хитросплетения артерий, окольцовывавших Мец ажурной вязью дорожного лабиринта. Для начала он проложил все основные пути, особенно подчеркивая не заявленную более нигде дорогу к Люневилю и жертвеннику Дианы, проходящую через какой-то Буссьер там, где Мозель и Мерт сливаются воедино. Открытием этой трассы он в какой-то степени посрамлял старинные дорожники, чьи своды маршрутов, полосовавших своими траекториями императорские владения, всегда были далеко не полны, хотя и претендовали на роль исчерпывающего руководства. По этой дороге, свидетельствовал автор, которую так упорно не замечал любой, пусть самый скрупулезный итинерарий, любил путешествовать Карл Великий, который редкие дни своего отдыха все чаще предпочитал проводить в живописных уголках того междуречья, что опоясывает многополезный для охотника лес Хайе. Здесь, находясь вдали от политического центра своей державы, он по-настоящему отрешался от страстей и забот, что всечасно окутывали его беспокойный ум, и эта открытая автором дорога позволяла Карлу молниеносно достигать своей охотничьей виллы в Буссьер - сведения вполне согласные с жизнеописанием императора сделанным упомянутым Алькуином. С систематичностью, достойной лучших похвал, автор исследовал и все остальные магистрали, соединявшие Мец с такими крупными городами, как Реймс, Трир, Страсбург и Туль. Акцентировав первостепенные или "милитаристкие" дороги, он переходил потом к рассмотрению все перипетий, ткавших кружево вспомогательных путей, в итоге вырисовывая сетку, по своей вычурности схожей с рисунком тенет, предназначенных для ловли зверей. Мне все эти развилки, перекрестки и тернии ландшафта ровным счетом ничего не говорили, потому что я никогда не был в Mediomatrici, но то, что возбуждало мое любопытство - это внимание не автора, а переписчика рукописи к участку дороги между Мецем и Верденом. Он явно выискивал точное местонахождение привлекавшего его Ibliodurum, основываясь на данных, приведенных у Антонина - от станции Ibliodurum до Меца восемь миль плюс минус. Ни один из пунктов, нанесенных на карту, не носил этого имени и не сближался с ним, а потому мой таинственный исследователь делал попытки отождествить латинское название с одним из галльских. Если он полагал милю равной по своей величине миле римской, то вроде бы таковым был Бевиль, если же прировнять милю итинерария к галльскому лье, то как будто бы получался Ханнонвиль. Так или иначе, но недоразумение оставалось неразрешенным, и намерение прояснить гипотезу о расположении загадочного Ibliodurum очевидно не привело к заключению однозначных выводов. Даже завершающая работу "Заметка об Ibliodurum" никак не проясняла ситуацию, хотя можно предположить, что именно к ней было привлечено все любопытство переписчика. В заметке в сжатом виде приводился анекдот об устройстве новой дорожной станции. Когда римляне, приближаясь к Мецу, искали возможность для закладки лагеря, один из них, будучи по происхождению греком, заметил, что данное место весьма схоже с известным ему сицилийским городком Гиблой. Посмеявшись, воины скорее в шутку, чем всерьез, окрестили местность "Крепостью Гиблы", то есть Ibliodurum, и отныне именно здесь римляне меняли своих лошадей. На этой аналогии их становища с селением в отрогах Этны завершалась вся книга и, как я считал, таяли все чаяния скриптора успешно разрешить свои изыски. Кто же этот таинственный переписчик ? Судя по обилию маргинальных записей - это ирландец, привыкший на полях испробовать свое перо по всякому случаю, занося туда свои мысли и обращая рукопись в подобие дневника. В самом деле, все пестрело его начертаниями, иногда отличавшимися самыми живыми подробностями. Так, я читал в них: "Лампа дает такой скудный свет". Или : "Как этот пергамент лохмат". Затем следовало : "Сегодня так холодно. Но это естественно, ведь наступила зима". А вот маргиналия, которая поразила мой ум : "Вчера ещё один из нас сгинул там. Птица не оставляет нас в покое". Я захлопнул книгу и возбужденно обдумывал прочитанное. Потом обратился к Вергилию : "Ты не знаешь, что такое Ibliodurum ?" Он весело засмеялся и махнул рукой, дескать, враки все это : "Я думаю, что все это - сказка". "Что именно ?" "Да этот самый Ibliodurum. Просто чья-то выдумка. Он вряд ли существовал когда-либо, а если все-таки и был в каком-нибудь втором веке, то все, что о нем напридумывали - это фантазия, сбившая с толку немало людей. Записки Марка Аврелия сообщали, что под Ibliodurum пропал крупный отряд римских воинов, перевозивших из колоний золото в таком количестве, к потере которого империя не могла быть равнодушна. Отряд, видите ли, точно вышел из Divodurum, то есть Меца, а в Fines, находившийся тогда на берегу Сеньоли, так и не пришел. Схватились за голову: как мог бесследно исчезнуть столь многочисленный отряд. Бросились на поиски и выяснили, что до Ibliodurum все его видели, а после него - нет. Что за чертовщина, подумали, кругом болота, топь, никаких дорог. Ни тебе тел, ни тебе золота. Марк Аврелий был взбешен, но все расследования ни к чему не привели, и драгоценности так и канули в Лету. Вообразить, что солдаты утонули в болоте, но зачем ? Почему ? Бежать с данью такого масштаба, конечно, соблазнительно, но каким путем, в таком случае они исчезли из-под наблюдения - это осталось загадкой. Кто-то вычитал это место у Аврелия и похвалялся найти утраченное золото, но почти никто не принимал этот рассказ всерьез. Поначалу все вообще считали записки Аврелия вымыслом, а в существование Ibliodurum никто не верил. Да и в самом деле, по дороге из Меца и Верден это название не встречается. А потом был открыт итинерарий Антонина, который ты смотрел, и там яснее ясного написано, что такая станция действительно была, да ещё и указано её расстояние от Меца. Тут уж всех захватила золотая лихорадка, и немало людей, превращаясь в сумасшедших, пытались найти гиблое место, сами норовя лишиться жизни, ведь не счесть тех безумцев, которых поглотила трясина болот. Однако, есть в итинерарии одна загвоздка, которая сильно всех запутала : непонятно, как именно следует отсчитывать расстояние от Меца. Дорожник говорит о милях. Но о каких именно ? Если о римских, тогда трасса превосходила те шестьдесят две мили, которыми отсчитана общая протяженность от Меца до Вердена, с галльскими же милями путь напротив оказывался короче. Одним словом, путаница объявлялась изрядная, однако ряды искателей загадочного Ibliodurum постоянно пополнялись, снаряжая все новых авантюристов. К их числу примыкали иногда и виднейшие люди, блиставшие разумением, но подпавшие под власть золотого блеска. Был среди них и Седулий Суассонский, знаменитый скриптор из Ирландии. Ты, наверное, слышал о нем, так как недавно наш Одо передал суассонскому епископу роскошное Евангелие, выполненное Седулием в наших стенах. Томимый алчностью, он изыскивал способы напасть на следы пропавшего сокровища. Заказал даже из Горце книгу о дорогах Австразии, которую здесь же и переписал". "Так значит, указал я на рукопись, - это руке Седулия принадлежит труд о Меце, который я сейчас читал, и именно он вносил все эти поправки, на которые ты злился ?" "Да, к несчастью он долго занимался всей этой мистификацией, во многих возбудившей корыстолюбие. Трудно поверить, что практически на глазах мог пропасть огромный отряд с золотом". "Кстати, о пропажах, - переменил я разговор под впечатлением маргиналии, составленной Седулием, - а что ты думаешь по поводу птицы, похищающей людей у старого города ?" "О, на этот вопрос ответить не менее сложно. Возможно, если бы мы не так боялись этого места, то могли бы, изведав его, выяснить истинные причины происходивших трагедий. Лично я отношусь к тем, кто как Вирдо или аббат считает, что никакие дьявольские образы здесь не причем. Откуда возник миф о птице? Оттого, что не находили трупов или каких-нибудь останков, которые бы свидетельствовали о том, что несчастных растерзал волк, или же на них напали разбойники. Вообще никаких следов. Вот и предположили, что люди уносились птицей. Но.." "Что?" "Точно также можно предположить, что они исчезали под землю". Я расхохотался : "Земля что ли разверзалась у них под ногами ? Нет, это кажется ещё большей фантазией. Мудрее уж думать, что это кара небесная". Вергилий же как будто обиделся: "Ты зря так смеешься. Ты когда-нибудь был в библиотеке Люксейль ?" Я недоуменно пожал плечами : "Так... я же здесь". "Да нет ! Я говорю о библиотеке античного города. Она находится в сохранившемся здании терм. Никаких книг ты там, разумеется, не найдешь. Но там есть схема города". "И что ?" ;"Я был там и видел эту схему. Больно много я не смог в ней понять. Я советую тебе взглянуть на нее. Только ни в коем случае не говори Вирдо, что это я надоумил тебя. И, Адсон, прошу тебя, если ты решишь посетить старый город, то, пожалуйста, будь очень, очень осторожен". "Я постараюсь". "Оставим, однако, всю эту чепуху, и взгляни, наконец, как мастерски Мефодий умеет восстанавливать пергамент, - тут Вергилий показал мне кодекс, чей переплет своей скромностью, отринувшей напыщенность, свидетельствовал о том, что рукопись была скорее произведением частного автора, а не мастерской письма. - Это - один из старейших наших манускриптов, создатель которого не позаботился о том, чтобы использовать для своего сочинения хорошую мембрану. Обычно материал начинает портиться через три столетия, но этот пергамент истлевал прямо на глазах: съеживался, отвердевал, слипался в монолитную массу. Мне казалось, что он обречен и уже не подлежит восстановлению. Но на нашу удачу Мефодий прекрасно знает науку превращения веществ или, как он говорит, "химию". Ты когда-нибудь слышал это слово ? Он может брать у природы её элементы, преобразовывать их и получать в результате осуществляемых им метаморфоз удивительные вещества, способные в том числе оживлять испорченные пергаменты. Посмотри, каким гладким и мягким он вновь стал, страницы не склеиваются друг с другом. Для меня нет более важной заботы, чем беспокоиться о сохранении книг и, хотя Мефодий склонен держать все в секрете, я надеюсь выведать у него хотя бы часть рецептов". Я перелистывал страницы и удивлялся тому, что мембрана и самом деле как новая; здесь не было и следа того, что ещё недавно она буквально разлагалась на глазах. Название рукописи показалось мне непонятным: "Трифоновы разыскания о возвращающемся императоре", и я спросил у библиотекаря: "Что это за книга ?" "О, - восхищенно отозвался он. - Это весьма и весьма ценная рукопись. Во-первых, она довольно стара - самое начало восьмого века. Во-вторых, судя по всему она вышла из-под пера самого автора, а не является плодом работы переписчика. Ну а в-третьих...в-третьих содержание её чрезвычайно занимательно, много пищи давая уму, хотя...она может способствовать повержению разума в соблазны столь же призрачные, как колдовская дымка этого Ibliodurum. Кстати, ты вполне можешь почитать её, а я тем временем буду готовиться к приходу Мефодия". И Вергилий оставил меня наедине с этим сочинением некоего безвестного Трифона.
Кажется, я и сейчас сжимаю в руках эту книгу, ставшую самой драгоценной для меня после, разумеется, книг Священного Писания. Ничья воля, ничьи познания не довлели так надо мной, как она; никто не смог так, как она, настолько предопределяюще воздействовать на все мои побуждения; никакой силе я не стал так подвластен, как тем намерениям, которые она умела внушить. Итак, Трифон был сыном богатых родителей, и, владея крупным состоянием, как и имея презрение ко всем превратностям, которые ниспосылает его время путешественникам, он много колесил по миру. Однажды, находясь в Константинополе и посетив усыпальницу св. Константина, он увидел, что на гробе с прахом этого христианнейшего императора написаны буквы, смысла которых он не мог понять - тут Трифон приводит всю надпись целиком: ? ?? ? ??? ? ??? ? ??? ? и т.д. Словно завороженный ею и досконально переписав её в свои дневники, он захотел узнать тот смысл который она в себе содержала и обратился за помощью к человеку, который охранял этот мавзолей, но который скорее напоминал древнего оракула. Тот рассказал Трифону, что буквы сии начертаны мудрецами и провидцами и являются они ничем иным, как пророчеством о последних судьбах мира и о возвращающемся императоре, которого ниспошлет Бог, дабы пресечь страдания христианских народов от язычников. "Перед концом мира, - сказал он Трифону, всячески угнетаема будет Византия от Измаильтян. Те утеснят род христианский, ниспровергнут династию Богом венчанных царей, овладеют седмихолмной столицей государства. Нанесут они множество бед, порабощая своих врагов, унижая и изводя всех христиан, беря их в плен, обладая ими, возносясь над ними премного, умучивая и истребляя. Тогда не будет ни у кого защитника и примутся искать и не обрящут заступника и отвратителя ига, которое проистечет от неверных. Но тогда воскреснет тот, кто был мертв и печален - славнейший собиратель и суровое воздаяние незаконности. Этот мертвец, которого никто не узнает, весьма знаменит, хотя никто его не видел. Словно очнувшись от похмелья, внезапно овладеет властью нашего царства. И столб появится тогда в небе, и незримый глашатай трижды громко возгласит: Спешите к западной части Седмихолмного. Там отыщите мужа невредимого, верного Мне. Приведите его в царский дворец - мудрого, спокойного, кроткого, от рождения величественного и он снова овладеет тобой, Седмихолмный ! Так вострубит глашатай, и станет править тот, кто был словно мертв. Ниспровергнет он Измаильтян и рассеет их в пустыне, восславляя во всем мире христианский народ. Явит он избавление от всякого гнета и отведет любое несчастье, утвердив на земле радость и изобилие, которых не было от начала времен". Так поведал толкователь и опекун гробницы Константиновой. Поразился Трифон этому смыслу и пожелал узнать, основывается ли таковое провидение на какой-либо из святых книг или писаний христианских мудрецов. И указано ему было на слово св. Мефодия Патарского, с каковым сочинением он познакомился тут же, в Константинополе. Премудрый Мефодий поведал в начальных главах о всех временах от сотворения мира, а затем летописал ужаснейшие катаклизмы заключительного века. Иссякнет тогда добродетель в сердцах христиан, и посягнет человек на истину, во всем давая укрепиться пороку. Ославлено будет благочестие, и не прейдет нечестие духа. Женщины преложат свой образ в мужской, и наоборот - облекутся мужи в любодейных жен, надевая блудные ризы их, возгараясь страстью к равным себе. Будут соединяться с одною женщиной как муж, так и её сын. На едином ложе брат возляжет с сестрой, отец с дочерью. Также дочь предаст отца, как и он её. Тогда брат обманет брата, сын восстанет против матери, и все посрамят себя всяческими пороками, заживо увязая в трясине беззакония. Если раб возомнит против владыки, то свободная женщина, напротив, станет рабой своего раба. Молодые будут вершить судьбы пожилых, слуга оклеветает господина и приведет его на суд. И Господь предаст за это народ христианский на заклание племенам от семени Измаила, и будут они поражать его острием меча, язвой пагубы и тленом рассеяния. Станут изнывать под их ярмом и люди и скоты и птицы; даже воды морские повинуются им. Овдовеет тогда земля от рода христианского и будет он ниспровергнут в чрево её. Истребуют сыновья Измаиливы и Агарины дань с мертвых, как с живых, с вдов - как с замужних и потребят всячески своих врагов. Перейдет к ним каждое брашно и снедь, и несть долготы их могуществу. Будет путь их от моря до моря, от пределов северных до эфиопских пустынь. И умалится человечество перед лицом своего ярма и упрячется от него в пустошах, расселинах и в берлогах медвежьих. Отнимут Измаильтяне младенцев у матери, заколят иереев стенах святых и возлягут с женами убиенных у церковных алтарей, растлению предаваясь у икон и мозаик. Они изымут из земли прах праведных и развеют его по ветру, прободая копьями сердца верных Господу. Так они изблюют свою желчь против народа Божьего, пронеся окровавленные пики от востока до запада. Кто уцелеет от их оружия, тот все равно падет от голода, ибо все богатство почвы оставит её, и земля отвернется от своих сыновей. Станут люди искать онагра и крысу, чтобы поглотить их, но даже тех не обретут. И вот, когда так изрыгнут свою горечь и природа и племена Измаильские, внезапно восстанет царь греческий с яростью великой, пробудившись, словно бы от вина. Его же люди мнили мертвым, а он изыдет к ним на спасение. Воздвигнет оружие этот царь на отечество Агарино и пожнет серпом гнева и жен их и чад, все опустошая пагубой и смертью. Седмикратно превзойдет он Измаильтян в своем отмщении и отторгнет навеки скорбь от рода христианского. Будет страна его от северного ветра до южного. Всякое поморье, пустыни и грады наполнятся вновь племенами крещеными и умирится земля, возвращая сторицею плод свой; и завеселится человек в мире и в счастии, трудолюбиво обновляя грады свои. Воцарится же ликование такое, что не избудет изгонять от сердца и тьму и печаль. На Трифона повесть Мефодия произвела огромное впечатление. Вот он каков, оказывается, этот возвращающийся от забытья царь - избавитель, своей праведностью искупающий множество грехов и тем самым исторгающий весь род христианский из ига святотатцев. На нем почивает любовь Божья и сам он воплощенное мужество и исповедание всех надежд человеческих. Я же, читая книгу Трифона, тоже все более и более радовался прозрениям о его грядущем, ниспровергающем идолов торжестве. Однако, замечал автор, повесть Мефодия на этом не заканчивалась. Благолепнейший кесарь оказывался не только избавителем и устроителем христианского царства, но он также являлся и последним земным владыкой, предшествуя скончанию времен. Точнее - почти последним, ибо по пресечении его могущества мир предавался надругательству Антихриста, который также получал мировую корону. Подобное свидетельство, говорит Мефодий, знаменовано апостолом Павлом в его послании к Фессалоникийцам. В нем сказал духовидец, что беззаконие, коим нарекается Антихрист, не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Но что означает "удерживающий" ? Что за имя именуется в нем - средостение незыблемое, препятствующее манифестации злобы через узурпирование Антихристом мирового престола ? Единственная противостоящая сила, которую может представить ум крепость славы, форт веры, оплот прощения, замок твердости, стража мудрости, стена заповеди, бастион милосердия - это христианское государство с верой достаточно искренней, чтобы устоять перед дьявольскими призраками и мощью достаточно прочной, дабы сдержать всесокрушающее явление окаянных сил супостата. Таковым государством и будет царство возвратившегося императора. Оно как алмаз объемлет своими гранями все средоточие крещенного мира, христианскую же науку возведет при этом к вершинам процветания. Но что же это за царство такое, и какое название дано ему в Книге Судеб ? Ведение об этом являет пророк Даниил в лицезрении четырех фантастических животных, описующих театр мировых держав. Если первое из них есть Вавилон, сухожильными крыльями воспаряющий к высотам суетномудрия, то второе казует чрез медведицу империю персов, многочисленных, как песок пустыни; если третий из зверей в облике барса представляет чучело царства эллинов - государства, единство которого было посрамлено временем, а сила увяла перед властолюбием наследников Александра, то четвертый - "весьма сильный" - хищник, настолько противоречивый, что разноликость его непостижима, животное, все попирающее стопами своими, зверье, рык которого проникает до сердца земли и в прах обращает всякое неповиновение - это изъявление Римской Империи, владычество которой не унаследует уже никто, ибо по её скончании все времена пременятся и, как небо смешается с землей, так божественное соединится с человеческим. Итак - Римская Империя, да, она ! Ее власть будет последней из всех, и скипетр царства удержит возвращающийся император. Он будет так сподобен от Бога, что деревья станут склоняться перед ним, а там, где он пройдет, зародятся цветы невиданного благоухания. Но лишь иссякнут дни этого кесаря - а годы его не могут быть сочтены людьми - Империя утратит все свое величие; возьмется таким образом удерживающий от среды, и мир заполонит когорта Антихристова воинства, чьи спутники - волхвы, кудесники, чародеи и звездочеты. Коловращение их обладания станет роковым для судеб земли, ибо история закончится тогда, и Сын Божий рукоположится Ветхим Днями на вечное и непреходящее господство.
Итак, воскресший император, августейший венценосец и помазанник, возродит из брения останков достославный монумент Римской Империи, сбросит иго неверных, посохом правды повергая их, изглаживая капища с лица земли, но уже в его время отверзнутся устья поношения и поругания, ибо разомкнутся ворота Гог и Магог, словно ложесна печальные, и изыдут из их теней преисподних орды ужасных язычников, со страхом колебающих землю. Эти племена сохранялись в забвении от давних времен, а отныне дана будет им власть разорять христианские земли, одним своим обликом подвигая людей к устрашению. Таковы будут народы Гог и Магог : горнило скорби, волчцы бед, точило горя, жернова испытаний, ристалище бесов. Они пьют кровь, словно воду, всему предпочитая регулы и мертвечину; едят кротов и тушканчиков, скорпионов и нетопырей. Повсюду будет плач и зарницы пожарищ. В тот же час в безвестности, в колыбели Хоразина, зародится сын погибели Антихрист ; в тот миг закачается его люлька греха, когда небо заплачет звездами, хвосты комет повиснут, как междометия, и в кровоизлиянии вселенной ночь заполонит ум младенца. Он вскормлен будет в Вифсаиде, воспитание получит в Капернауме, но прежде, чем воссесть на седалище власти, дождется прекращения срока возвратившегося царя. Придет наш император в Иерусалим, взойдет на окропленную Спасителем Голгофу и снимет там свою диадему, воскладывая её на навершие Креста Господня, простирая длани в небеса и душу свою слезоточивую передавая Богу, царство же - Сыну Человеческому. И поднимется крест с диадемою в аер, и воспримет царский венец Искупитель Небесный, и приблизятся к людям грядущие Паруссия и Пакибытие. На земле же наступит анархия Антихриста, в беззаконии своем посягающего на всякий устрояющий закон. Далее Мефодий красноречиво предвосхищал картину его губительного царства, последующий приход пророков, посланных ему на обличение, и, наконец, явление на облаках Сына Небесного, убивающего Антихриста духом уст Своих. Такова была фреска, созданная Мефодием, и Трифон неизгладимо переполнился обличиями так красочно возвещенного конца веков. Пуще же всего поглотило его пророчество о том, как взятый ото сна, либо же от смерти земной владыка, возлюбленный и восславленный Богом царь, исполать божья, воплощенное очищение от всякого пресмыкания перед грехами плоти, душистость миро и аромат ладана, возымеет мощь воскресить вместе с собою и бесподобное среди всех царство Римское, империю от края и до края, где есть всяческое благорастворение и изобилие, добромыслие и добродеяние, неисчислимые милости Бога и услада земли - ибо он предотвратит вторжение полчищ злобы и снимет вретище с дщерей земных, повсюду изводя вервь разорения. И до тех пор, пока не предаст он скипетр свой Богу, будет противостоять держава христианская воинству Отступления, и будет на земле мир и благопроцветание.
Озадачен был Трифон. Не единично ли подобное мнение Мефодия, не поругано ли оно иными отцами, не причислено ли ими к апокрифическим, сиречь лживым измышлениям ? "Есть ли подобные свидетельства у других учителей ?" - вопрошал он нетщетно, и ему показали писания Кефтского епископа Пизунтия, мужа просветленного светом добродетелей и во всем руководствующегося указующим перстом Премудрости. В его письме было многое из того, о чем прорицал святой муж Патарский, хоть личность последнего царя и не представала столь же выразительной. Однако, он подробнейше зато описывал заключительное деяние этого владыки, ещё тщательнее обставляя его кончину и передачу Богу бразд своего правления. Этот римский царь - писал Пизунтий - будет восприемником справедливости. Однажды же он войдет в Иерусалим и поднимется в церковь Воскрешения. Там он падет ниц перед Распятием и Гробницей нашего Спасителя, а потом повелит отслужить мессу и причастится вместе со всем своим воинством. Вкусив преображенную Плоть Христову и через то осветлив собственный дух, царь снимет корону, украшающую его алебастровое чело, и возложит её вместе с распятием на алтарь, простираясь ниц и предавая душу в руки Бога Живого. Господь милосердно воспримет его целомудренный дух, помещая его на скамью славы и престол почести, а затем вознесет алтарь к небесам под всеобщими взорами беря в обладание и крест и корону мироправления. Далее, говорит провозвестник, демоны исходят из своих темниц, и происходит то, что предсказано Мефодием вслед за прекращением Римской Империи. Вновь подивился Трифон совпадению пророчеств о последнем императоре и опять пожелал он найти новое провидение об этом царе, чтобы убедиться в истинности подобных прорицаний. И некто указал ему на светоч Климента Александрийского, чьи провозвестия имениты точно так же, как и слава его подвижничества. И прочитал Трифон в его тетрадях, что в час умножения злых годин и порабощения народа христианского, в момент отвержения им всяких нравственных уз через отречение от упряжи заповедей, в пору чересполосицы тягот и напастей, межа которых гнев и воздаяние Господне, сбудется открытое Сыном Божиим : "Но Я явлю земле Мое благорасположение. И восставлю я львенка, который изгонит всех поработителей, разбивая их, так как я дам ему всемогущество. Таков будет этот львенок: словно человек, пробуждающийся ото сна". А ранее Он говорил: "Когда придет маленький лев и обернется вокруг себя - знай, что последнее время приблизилось". Далее этот очнувшийся скимен оказывался тем самым благодатным царем-устроителем и освободителем, который повергнет в трепет и дрожь всех врагов, то есть тех, кто с мечом придет против Империи, и создаст царство от востока до запада, объединяя земли под своей христианнейшей рукой. Все разрушенное восстановит, все обескровленное возродит, в руины повергая жертвенники идолов. В правлении его воссияет великая радость и сердца людей очистятся от всякого зла, озаряясь любовью. Вместе с тем - такова воля Господня - оно будет последним из земных государств, потому что Климент также истолковывает видение Даниила и тоже видит в их прообразах лик заключительного из царств - Римскую Империю, после которой сбудется один только Суд Божий.
Трифон леейно лобзал умом сокровищницу этих пророчеств, все более упрочиваясь в глубине их истинности, но возжелал же однако, ежели таковое имеется, найти исконный оракул, которым либо вдохновлялись святые отцы, либо, неизвестный им или независимо произошедший, он своей самостоятельностью являл бы лишь сугубое подтверждение их слов. Хотел он усладить созерцание самым первым пророчеством о последнем императоре, исходящего из небытия смерти, боговенчанном и непобедимом . И ему сказали : ступай в Рим, на Авентинский холм; быть может там ты узришь начало этих предвосхищений. Прибыл Трифон с столицу мира и молил показать ему свидетельства очевидцев о последних временах. И открыли ему книгу Абульнеи - Сивиллы из Тибура. Не зря же он искал её ! Ведь в прозрениях Сивиллы, песни которой были записаны в четвертом веке, с ясностью увидел Трифон прототип всех пророчеств Мефодия. В обоих случаях авторы сначала коротко излагали всю предыдущую историю человечества, только Сивилла обнажила одну лишь нравственную подоплеку всей исторической мистерии от начала времен, когда, взяв за основу халдейскую образность, изобразила в девяти солнцах вехи духовной эпопеи человечества. Так же, словно сродни друг другу, оба в одинаковой манере пророчествовали о будущих потрясениях. О чем же пела Абульнея в одержимости своего ясновидения ? Народы востока - сарацины жестоко завоюют христианские города, и никто не сможет воспротивиться оккупантам, так как это ангел гнева изольет на людей чашу немилости Господней. Зрелище сонма губительнейших бедствий откроется тому, кто взглянет на мрачную панораму той эпохи. В те дни брат предаст брата, а отец обречет на смерть собственного сына; брат соединится с сестрой, старцы возлягут вместе с девами, нечистые же, подобные гадким лягвам, священники введут юных дочерей в соблазны сладострастия. Пруги и трусы сокрушат хижины людей и казавшиеся неприступными ограды городов. С площадей и улиц уберется нега и веселие, вместо этого нечистоты запрудят их, словно котлованы озер. Утерявшие стыд низложат дары безгрешной жизни, и люди будут бранчливы, любострастны, злонравны, христопродавцы, алчны, двуличны, лицеприятны, клятвопреступники и клеветники. За это преданы они будут разорению и плену. Житницы их будут сожжены, пажити истоптаны, хлева оскудеют. Одинокий вол будет ходить от края и до края, и никто не запряжет его. Тогда начнутся несчастья, которых не было от начала времен. Глады и роптания восторжествуют на стогнах. Рим будет подавляем преследованием и мечом; он падет от руки собственного короля. "Тогда восстанет царь греческий именем Констант. Он будет царем римлян и греков. И скажется велик ростом и в раменах широк, прекрасен видом, великолепен ликом, стройно сложен во всем теле. Продлится царство его сто двенадцать лет. Тогда объявится множество богатств, так как земля в изобилии явит плоды свои. Государь этот будут держать перед глазами то, что возвещено: Rex Romanorum omne sibi vindicet regnum christianorum то есть Властелин Рима защитит все царство христианское. Он опустошит все края и города язычников, разрушая повсюду храмы неверных. Он призовет их всех к крещению и над каждым из храмов будет водружено распятие". В то время - продолжала Сивилла - родится Антихрист и изойдут запертые Александром народы Гог и Магог числом в двадцать два племени, при этом неисчислимые, словно песок морской. Но римский царь объединит своих воинов на сражение против этих варваров и разобьет их до полного уничтожения. По прошествии этого придет он в Иерусалим и там, сняв с головы диадему, передаст царство христианское Богу Отцу и Сыну Его. В тот же час Римская Империя прекратит свое существование и Антихрист открыто воссядет на троне Иерусалимского храма. Так будет до тех времен, покуда не смилуется Господь и не пошлет Архистратига Михаила и тот не поразит беззаконника на Масличной горе. Такова была вкратце история, поведанная Абульнеей. Песня эта так перекликалась со словом Мефодия и с сочинениями Климента и Пизунтия, что у Трифона не оставалось никакого сомнения - это одно и то же пророчество, явленное в зеркалах разноименных душ, отражающих Промысел Господень. Своими расхождениями они только подкрепляли верность друг друга, ибо означали независимость своего предания, явленного Богом в разное время разным людям. Пусть в каждом из них не доставало отдельных фрагментов, опадала часть картины, как часто, от небрежения ли, либо от времени, портится рукотворное создание, например, икона, но последняя не перестает быть при этом печатью и образом нетленного мира; пусть кому-то одно было яснее, чем другое; что же, если в каком-то из сочинений определенные детали могли утаится, почти полностью ускользая от внимания, чтобы подробно и явственно вплоть до физического ощущения предстать при этом в откровении ином. Общая картина все равно складывалась вполне однозначно: калейдоскоп человеческих прегрешений накликал стихию божественного гнева, отмщение которого суть природные бедствия и иго восточных племен. На апогее кошмара и террора тех веков из забытья - то ли от сна, то ли от смерти - пробудится "чудо мира", "возвращающийся император", и он силой данной ему от Бога отведет пропасть бед от христианского народа, восстанавливая мировую Империю Рима. В его правлении на земле наступает что-то очень похожее на "золотой век", "рай", "Царство Божье". Однако, в конце концов все дни обновленной Римской Империи оказываются сочтены, царь умирает и посылается заключительное испытание людям обаятельная прелесть Антихриста, примыкающая к концу исторической драмы. Так Трифон делился с читателем своими мыслями, и я, изучая его книгу, не мог не сочувствовать его увлеченности.
Но не таков был этот муж, чтобы остановиться на достигнутом, успокоиться, возымев только лишь часть от познаний. Он чувствовал, что прорицание о возвращающемся императоре уходит своими истоками вглубь ещё более древнюю, чем грань языческой и христианской эпохи. При этом в Трифоне говорили не одно лишь предчувствие, но и убежденность, исходящая из одной фразы сивиллиной книги: "Государь этот будут держать перед глазами то, что возвещено: Rex Romanorum omne sibi vindicet regnum christianorum" . Значит, заключал он, существовало ещё более раннее провозвестие, быть может выходящее даже вне христианства, предшествующее ему. Одним словом, Трифону посоветовали побеседовать с иудейскими мудрецами, и вскоре уже наш герой был в Испании, число иудеев в которой было достаточно велико, чтобы плодотворно вести там свои изыскания. Подробно описывал он, как долгое время путешествовал из города в город в поиске самых глубоких и эрудированных мудрецов, в совершенстве знающих еврейское предание. И, наконец, его привели к раввинам, умы которых были хранилищем всей иудейской премудрости - в разговоре с ними ему посчастливилось участвовать, ибо и сам Трифон был евреем, хотя и не иудеем. Они сидели в темной зале, и лица раввинов были сокрыты от его глаз. Он слышал только их голоса, голоса неторопливые, когда каждый мог высказаться сполна, и никто не перебивал друг друга. Трифон задал вопрос о сроках прихода Мессии и о свойствах его личности. Повисшую тишину, наконец, нарушил один из них: "Время прихода Мессии - время скорби и печали. Страдания народа, порабощенного язычниками, достигнут своего предела, ибо чужеземцы будут всевластны над ними. Пора бесчинств идолопоклонников и крайнего угнетения евреев - это и есть срок пришествия сына Давида". Снова наступило молчание, и кто-то другой дополнил эти речи: "Иго чужеземцев не зря будет ниспослано Богом. И разорение, которое постигнет нас - ещё большее, чем теперь - это воздаяние за наше преступления перед Ним. В последнее время грехи народа возрастут ещё более. Так сказано в Мишне: Перед приходом Мессии возвеличится преступная дерзость. Так же и дороговизна достигнет своей высшей степени. Виноградники дадут свои плоды, и в то же время вино будет очень дорогим. Повсюду распространится ересь иудео-христиан, и она не будет исправлена, так как школы станут служить только деградации и упадку. Галилея обратится в руины, ведь иностранцы пройдут от города в город, не имея никакого сострадания. Мудрость книжников будет пользоваться поистине дурной репутацией, и тот, кто не станет грешить, будет всячески презираем, а правда - потеснена. Старцы окажутся принужденными стоять перед собственными детьми, и сын опозорит своего отца, дочь выступит против матери, невестка - против свекрови. Человек сделает врагов из собственных домочадцев, и сын не покраснеет перед лицом своего отца. Лицо того поколения словно морда собаки," - горестно сказал раввин. Другой же заметил, что не только нравственные язвы, забвение закона и меч язычников будут приметами тех времен. Природа тоже словно отвернется от евреев, и земля не даст им своих плодов : "Симон бен Йохай сказал : В первый год исполнится то, что предсказано Амосом - "Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя". Во второй - извлечены и выпущены будут стрелы голода. В третий год будет большой недостаток в еде; мужчины, женщины, дети станут изнемогать от отсутствия пищи, умирая один за одним. Людей набожных и преданных благотворительности станет мало тогда, и закон забудется теми, кто его изучал. В четвертый год будет достаток без изобилия, а в пятый - большое, очень больше изобилие, и тогда будут есть и пить, веселясь такому плодородию. И закон возвратится вновь. В шестой год распространится шум и гул, в седьмой - войны, а в конце седьмого года явится сын Давида". Раввин умолк, и Трифон услышал, как все принялись молиться. Потом долго никто не перебивал воцарившегося молчания и, спустя длительную паузу, один из учителей сказал : "Как бы трудно нам ни было, времена прихода Мессии ещё не настали, хотя он уже рядом, быть может. Рабби Иоса бен Халафта предупреждал, что мы не должны считать дни его прихода. Мессия явится неожиданно, словно бы мертвый, как скорпион, жалящий внезапно, или подобно сокровищу, случайно открытому". Когда голос молк, Трифон попросил разъяснить : что означают слова "Мессия явится словно бы мертвый", и поначалу он подумал, что его слов никто не услышал, ибо слишком долгое время господствовала поистине "гробовая" тишина. Один из уже знакомых голосов первым ответил ему : "Все предсуществует в уме Божьем. Так образ скинии, всегда пребывавшем в нем, однажды был явлен Моисею, и по этому образу он соорудил святилище земное. Таким образом мы понимаем слова о том, что семь вещей были созданы до сотворения мира : Закон, Покаяние, Рай, Ад, Трон славы, Святилище и имя Мессии. В уме Бога он пребывает всегда, и поэтому сказано у Михея : Происхождение его из начала, от дней вечных. Поистине имя Мессии произнесено прежде сотворения". Другой поправил : "Все души людей созданы в тот момент, когда Бог произвел этот мир из Своего замысла о нем. Мессия не явится, покуда не оскудеет это вместилище душ, ожидающих своего воплощения. Вместе с тем и его душа - там же, перед духом Божиим, и поэтому он есть, и его нет одновременно. Он мертв, так как ещё не родился, но существует, так как душа его пребывает во вместилище". "Тогда, - возразил другой, - о каждом из нас можно было бы сказать точно то же, что о Мессии. Но Иоса именно о нем говорит, что он придет, словно бы мертвый. Очевидно, имеется в виду, что сын Давида уже родился, но сокрыт от людей, потому что его время ещё не пришло. Мессия среди нас, но он таится и ждет сроков, когда бы он смог выполнить свое предназначение. Поэтому его как будто бы нет, и он словно бы мертв". "Самуэль прав, - сказал тот, кто высказывался о пребывающем от создании мира имени Мессии. - Сказано: При сотворении мира был рожден Мессия. Точнее - вместе с появлением человека он уже появился, не исполняя свой долг и не становясь Мессией. Сын Давида уже рожден". Трифон заметил, как все раввины согласно закивали головами, принимая то, что грядущий спаситель уже находится среди людей. Но дальнейшая дискуссия показала. Что мало кто считает, будто Мессия родился так давно. Большинство посчитало его ниспосланным в день разрушения Храма. Один из них привел в пример слова Иуды, которые тот изрек от имени своего учителя Айбо : "В тот день, когда родился Мессия, то есть в тот день, когда был разрушен Храм, он пришел к одному еврею под видом одной из его коров. Когда рядом проходил араб, он услышал мычание этой коровы и сказал: Еврей, сын еврея ! Распряги своих коров и отцепи плуг, ведь Храм разрушен. Корова замычала ещё раз, араб сказал : Еврей, сын еврея, запряги коров и прицепи плуг, так как Мессия родился." Все раввины с радостью слушали эти слова и согласно кивали, внимая из прекрасному смыслу. "В самом деле, - сказал другой из них, называемый Даниэлем. - Учитель Буни комментирует стихи Исайи: И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемогущего. И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произойдет от корня его. Что за ветвь сопутствует падению Ливана ? Очевидно, Исайя говорит о том, что падение Храма будет возмещено рождением Мессии, потомка Давида. Так говорит Иерусалимский Талмуд". Самуэль же испросил у Даниэля других, кроме этого стиха Исайи доказательств мнения, с которым все были так согласны. И Даниэль ответил : "Сын Нахмана, тоже, кстати, Самуэль, приводит ещё одни слова у Исайи : Еще не мучалась родами, а родила; прежде, нежели наступили боли её, разрешилась сыном. Что это означает, как не рождение Мессии в тот момент, когда иудеи оплакивали руины Храма ? С того часа он есть и старится, не становясь Мессией. Бог прячет его, скрывает среди племен, отсрочивая тот момент, когда он сможет проявить себя". "Каким образом он пребывает ? - спросил Самуэль. - Он ходит среди живых, или же лежит в могиле, дабы пробудиться в нужную пору ?" "Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но на этот счет известен рассказ Самуэля бен Нахмана, с мнением которого, правда, не все согласны. Позвольте мне напомнить его вам. Однажды, в тот самый день, когда был разрушен Храм, Илия, прогуливаясь, услышал голос чудесный, который сказал ему, что только что Храм был сокрушен. Илия подумал тогда, что Бог, обратив Свой гнев против евреев, не только воздвиг врагов на разрушение святилища, но и решил предать Своих сыновей плену и рассеянию среди всех наций мира. Но голос, вновь чудесно появившийся, сообщил ему: "Оставь свое горе, ибо спаситель Израиля родился". "Где он?" вопросил Илия, и услышал : "В Вифлееме Иудейском". Он пошел туда и узрел женщину, сидящую перед входом в дом, а перед ней, простертый на земле и испачканный кровью лежал её сын. Это была та самая женщина, которая родила нашего спасителя. На вопрос о том, почему мальчик так перепачкан и недвижим, она ответила : "О, это большое несчастье ! Ведь в тот день, когда он родился, был разрушен Храм". "Дочь моя ! - сказал Илия. - Не печалься по этому поводу, ибо спасение наше придет к нам через него". И она перестала горевать. Илия оставил её и не видел в течении пяти лет. Потом захотелось ему вновь повидать спасителя Израиля - возмужавшего и окрепшего, и он возвратился к той женщине, и она снова печально сидела перед дверью в свой дом. Он вопросил её : "Дочь моя, как поживает твой сын ?", и она сказала: "Ох, рабби, не я ли тебе говорила, что несчастен будет он, родившийся в столь тяжелый миг, как разрушение Храма ? И вот он был болен. Он имел ноги и не ходил. Имел глаза и не видел. Имел уши и не слышал. Имел уста и не говорил. Он лежал подобно камню, словно бы мертвый. Появившийся на свет в час сокрушения Храма не может быть ни весел, ни здоров. А после над ним поднялся ветер с четырех сторон земли и унес моего сына в море". Илия ужаснулся этому и стал причитать : "О, горе ! Надежда Израиля погибла !" Но тот же голос, что обращался к нему ранее, вновь успокоил его : "Не тревожься, Илия. Все не так, как ты думаешь. Мессия жив. В течении четырех сотен лет он будет жить в море; затем, в течении ещё восьмидесяти лет он пребудет у Дымящейся горы, а после весь остаток времени до того, как ему объявиться, будет находиться у ворот Рима". Так сказал Самуэль бен Нахман". Вновь воцарилась тишина, и после этого один из раввинов заключил : "Возможно, так и есть, и сын Давида, рожденный в час, когда Храм обращен был в руины, безмолвен и неподвижен, подобно уснувшему сном, или умершему. Как бы то ни было, но Бог прячет его тело, замыслив явить его миру лишь тогда, когда придет время Мессии. Не будем сравнивать время Мессии с нынешней эпохой, ибо наши страдания ещё не
так велики, какими тяжелыми они будут тогда. Тогда забудется закон, и всеобщее нечестие поразит всех подобно рже. Пороки и безбожие превзойдут всякие границы, и Бог явит нам Свой гнев, ещё более немилосердный, чем ныне. Никакого попущения не будет нам от язычников, ни малейшего снисхождения от них. Небо, люди, земля - все отвернется от нас и не будем мы вкушать ни плодов почвы, ни яств милосердия. Вот тогда пробудится наш Мессия, словно бы мертвый, и снимет с нас заклятие ига, печати наказаний. Отмстит неверным, обратит на нас милосердие Бога; и вернет нам небо свое расположение, и земля расцветет на утешение нам, и будут повсюду радость от свержение бремени скорби и умиление от всеобщего благоденствия". И они снова принялись молиться. Трифон же вышел от них совершенно пораженный услышанным. Нет необходимости объяснять, что в словах иудейских мудрецов он увидел то же самое пророчество, что в христианском мире шло от Сивиллы к Мефодию. Изменились лишь имена и народы, а облик царя претерпел изменение, но нисколько не менялся замысел Господень. Для спасения и избавления правоверных, идущих за Ним племен, припас Он находящегося в неизвестности, словно бы мертвого царя. Тот, вняв Божественной воле, восславит его Имя по всей вселенной и уберет горечь с лица земли. Но где же хоронится этот избранник небес и как его имя ?
И вот, наконец, предстояло Трифону приблизиться к разгадке того пророчества, которое он впервые узрел начертанным таинственными письменами на Константиновом гробе. Путь его лежал теперь в Египет, где он и встретил рождение легенды о возвращающемся царе, прототип всех позднейших о нем возвещений. Благо, как я говорил, Трифон был человеком довольно состоятельным и праздным, поэтому он мог себе позволить совершить столь дальнее и длительное путешествие. Весь путь его от Константинополя - начала странствия Трифона - до Саккары - места завершения его настойчивых поисков - занял на самом деле много лет, значительно превосходя число страниц, которые я отвел для того, чтобы познакомить вас с его во всех отношениях выдающимся сочинением. По сути, он обошел всю территорию бывшей Римской Империи, а с другой стороны - совершил паломничество к истокам цивилизации и к началу человеческих надежд. Этот путь всегда долог, утомителен, но светел, благодаря тем истинам, которые озаряют начало человечества, и которые достоверно уверяют, что Бог пребывал с людьми всегда, а не так, как подразумевают некоторые, будто бы до Рождества Христова вся жизнь людей была только мрак и грех, не имея никаких Божьих откровений. Однако - вот же оно, одно из таких свидетельств, которое Бог обетовал за тысячелетия до воплощения Своего Сына, и в истинности которого Он потом ещё не раз и не раз убеждал от видений еврейских пророков до вознесения св. Мефодия.
Итак, наш целеустремленный герой прибыл в египетскую Саккару и там, вблизи гробниц величественных фараонов, жрец огласил ему свиток, содержание которого было настолько древним, что текст этот когда-то был даже утерян в Египте, но оказался сохранен на табличках такого ярого библиофила, как Ассурбанипал, не щадившего никаких средств для коллекционирования старинных изречений, записанных на священных языках. С этих двуязычных дощечек, которые хранились во дворце знаменитого ассирийца, текст был заново скопирован на папирус и возвращен на свою родину - Египет. Итак, сочинение, с которым Трифон ознакомился в Саккаре, принадлежало к эпохе так называемого "Древнего царства", то есть к четвертому тысячелетию до Рождества нашего Спасителя. В правление царя Снофру один жрец Озириса - знатный, пользовавшийся большим уважением человек, вдруг отказался от всех тех благ, которые ниспосылает его высокое положение в обществе и, ни дать ни взять - чистейшее оскорбление божества - заместо совершения возлияний и жертв принялся за плебейство гончарного ремесла. Дело о его нечестии дошло до Снофру, который счел его безумцем, но призвал к себе во дворец, чтобы выслушать его оправдания. То, что начал изрекать гончар, настолько поразило ум царя, что он немедленно приказал своему "священному писцу" записать слова обвиняемого. Что же говорил гончар в своей оправдательной речи ? Он рассказал, что во время одного из богослужений, Изида поведала ему о грядущих судьбах Египта. Займись, - указала она ему обжиганием глины, ибо вскоре уже некому будет этим заниматься, и все печи будут охлаждены ветром, и пустота поселится в них. С гневом взирают боги на распущенность и попранье норм приличия, которые были установлены её братом и мужем Озирисом. Почему старики не уважаются детьми, которые жаждут побыстрее свести их в могилу ? Почему мужчина, пренебрегая женщиной, страждет соединиться с себе подобным перед глазами у возмущенных богов ? Почему к государю не имеют такого уважения, которое заслуживает наместник Изиды ? Почему раб осмеливается восставать против своего господина ? Боги изольют на землю чашу того ужаса, который они испытывают, глядя на преступления египтян. Поражение народа будет двойным : свои удары нанесут природа и кочевые племена Азии. В скором времени обнажаться речные русла, и реки можно будет перейти пешком; вода повсюду уйдет в песок и там, где шумели водовороты, где пенились и бушевали пороги речные, воды станет ровно столько, чтобы зачерпнуть пригоршню. Птицам размером с ладонь не будет хватать влаги, чтобы напиться, и горсть воды станет лучшим подарком возлюбленных друг другу. В окнах домов будут видны морды зверей, и вместо человеческой речи внутри стен станут раздаваться блеяние и мычание. Ибо животные и птицы и скот заселят хижины людей и будут обитать в них подобно бывшим хозяевам - вот образ раба, свергающего господина; волы и коровы будут спать на их кроватях, чавкать за их столами, жевать жвачку у их печей. Люди же, напротив, станут как животные и будут пресмыкаться в пустыне в поиски корней, которые они бы могли поглотить. Но земля уберет весь свой плод, и единственное, чем смогут они упиться - это собственными слезами; единственное, что смогут съесть - собственные языки и носы. Итак, за то, что угрызали других, отныне станут потреблять сами себя. В их же селениях будут слоняться крокодилы и гиппопотамы. Тогда придет беда с востока, кочевники Азии смешают прах людей с песком пустыни, и ветра будут гонять их пепел, словно черный снег. За то, что соединялись с мужчинами, будет вам ущемление от мужей их. Букетами плетей будут прельщать вас и укрощать; дарованием своих подачек - они будут швырять вам обглоданные кости - станут ухаживать за вами и презирать вас; беспощадностью своего всевластия будут верховодить над вами, как муж помыкает женой. Вот же вам радость брачных игр и горечь обручения с нечестивцами ! Но Изида пошлет мужа прославленного, который ей одновременно сын, брат и муж. Он рожден богами и потому его уста - уста молочного теленка в день, когда родила его мать его; по этой же причине сон и усталость - это ужас и отвращение для него. Он будет благ и решителен, отмщая племенам, и оттого город опоясанных запустеет, как опустела печь гончара вследствие тех беззаконий, которые кочевники сотворили в Египте; по той же причине все святыни, выкраденные из Египта, будут возвращены обратно. Станет он царствовать пятьдесят пять лет, этот податель благ, поставленный на царство Изидой. И при нем природа возвратит свое плодородие, и земли откроют свои клады, схороненные в них. Как раньше живые мечтали прийти к мертвым, так ныне они будут взывать мертвецов восстать из праха, чтобы принять участие в их блаженстве. Обмелевший Нил вновь наполнится водой, вновь запустив жернова своих водоворотов. Снег станет как раньше бел, а волы сами впрягутся в плуг, чтобы служить людям. Во время владычества исчадий ада солнце затмилось, теперь же оно воссияет, обжигая глину без помощи людей. А Египет..." И тут, согласно свитку, Изида прекращала пророчествовать через гончара, и тот падал, умерщвленный озарениями, свидетельствуя о неложности своего вдохновения. Он был в дальнейшем похоронен со всеми почестями, а книга его помещена в священном архиве царя. Таков был текст, услышанный Трифоном в Саккаре. И он спросил мудреца : "Что значит: муж Изиды, а одновременно и её брат и её сын ?" И жрец ответил : "Это - Озирис, воскресший от своей смерти". Затем по требованию нашего путешественника он рассказал печальную историю этого бога. Коротко о ней можно поведать так. Озирис - это отчасти эллинский Прометей, обустроивший землю и научивший людей во время своего царствования извлекать пользу из их труда, для эффективности которого этот царь-устроитель сообщил им множество знаний, способных приручать стихию природы. Но он был предательски убит собственным братом Сетом, который хитростью живьем заковал его в саркофаге и выбросил в море. Там, в водной пучине, гроб с умершим Озирисом плавал много-много лет, пока, наконец, не приткнулся он к берегу, будучи выброшен волной в гущу зарослей тамариска. В этой поросли Божьего дерева (так в Европе называют тамариск ) обрела Изида тело своего брата и мужа. Она открыла саркофаг и увидела лик своего любимого, тело которого оказалось не тронутым тленом. Магическим образом ей удалось воскресить Озириса и тот, кто был мертв и кто казался спящим - так миновал его тлен - восстал из гробницы своей, вновь получив корону Египта к удовлетворению богов. В то же время он и сын Изиды, так как зачатый от него Гор есть лишь ипостась Озириса, его земное обличие, ибо сам бог предпочел править в царстве мертвых.
Таково было содержание мифа и я легко себе представил все ощущения Трифона. Ведь вот она - заветная цель его странствий, и отныне вся история пророчества о возвращающемся царе была ему ясна, нужно было только последовать в обратном порядке: от защитительной речи гончара к мессианским ожиданиям иудеев, а затем к современным пророчествам крещеного мира. Языческие, иудейские и христианские прорицания об Озирисе, о сыне Давида и возвращающемся императоре были, безусловно, одним и тем же данным Богом провозвестием. Еще глубже - и предание об Озирисе легко угадывалось в культе воспроизводительных сил природы, о цикле которой - умирание ради воскрешения - я размышлял сегодня утром, глядя в окно. В законах природы - от осени к осени - вот уже когда Бог предначертал древнейшим людям указание на оживающего царя. Так они сначала восславили воскрешенного Озириса, который вновь возвратил изобилие и веселие людям после голода и уныния зимы. Предуказанное в этих символах природы поистине все Образ Божий - пророчество по-новому открылось в ожиданиях Мессии, сыне Давида, который так же должен был находится в забытьи, но его явление, обетованное иудеям, было перечеркнуто их жестоковыйностью и неправоверностью. Мессия, как Озирис, тоже словно оживал от забвения, и, подобно лету, отвергал все бесчинства зимы. Приходя на пике несчастий, он со славою низвергал их в небытие, являясь точно таким же подателем благ, как Озирис, или как возродившееся лето. Наконец, в четвертый раз откровение было дано в облике пророчества о возвращающемся императоре. И здесь неизвестный царь точно также возвращался от смерти, и здесь точно таким же образом он со славой противостоял всяческому злу. Итак, предсказание о нем - это древнейшее среди всех предсказаний. И оставалось только всем сердцем довериться ему, веря в то, что, может быть, где-то рядом спит этот великий монарх, словно отдыхая перед той несравненной миссией, которая ему предстоит - возвратить земле милость Господню и открыть сердца людей к той любви, что превозмогает всяческое зло.
Но и на этом книга Трифона не заканчивалась. Ему оставалось поведать о самом сокровенном - об обряде воскрешения императора, который, не колеблясь, следовало совершить, если тело его будет обнаружено. "Я потратил на это всю жизнь, - писал Трифон, - и заклинаю тебя, читатель, кто бы ты ни был, воспользуйся теми знаниями, которые мне удалось собрать по милости Божией. Сейчас я опишу ритуал пробуждения царя, которого Господь помазал и благословил на возрождение Римской Империя и её обновление в духе благочестия и в свете Премудрости Господней. Слава этой Империи не прейдет вовек. Никогда не было под солнцем государства, равного не только по могуществу, но - прежде всего по чистоте сияющих в нем добродетелей и умиления всеми плодами любви. Пусть не смутится твое сердце задаваясь вопросом : по воле Бога или же человека должен он быть воскрешен ? Отвечаю тебе: если ты найдешь этого царя, то такова будет воля Бога, чтобы через твою волю поднять из небытия святейшего из императоров. Не имей никаких сомнений, ибо, как я показал, Бог говорил об этом монархе от начала времен, предупреждая о нем все народы. Этот праведник объединит всех нас в едином стремлении: изгнать из мира всякую печаль и не знать ничего, кроме свершения любви, кроме упоения богообщением, кроме вдохновения сердцем на подвижничество в деле непреходящего добротворения. Итак, если отыщешь случайно его тело, поступай следующим образом..."
И что я вам скажу ? Рукопись на этом обрывалась ! На самом главном ! Как же досадно, коварно, и изменнически всегда прерываются старинные манускрипты ! Словно кто-то нарочно вырывает заключительные страницы или не дает автору дописать свою книгу ! Надеюсь, подобная участь избегнет мое сочинение, и, волею Бога, я смогу довести его до конца. Но здесь...Весь труд Трифона оказывался напрасным и мы при всем желании не могли осуществить мечту всей его жизни. Потому что не знали, как это сделать. Точнее, рукопись все-таки продолжалась, но со следующей страницы шел, записанный уже другой рукой, Иосиф Флавий с его "Иудейской войной". Кто и зачем подшил эти листы, подменяя оригинал Трифона - сказать было невозможно, но ясно было, что интереснейшие, имеющие огромную ценность сведения, являлись утраченными. "Впрочем, стоит ли жалеть об этом ? - подумал я захлопывая книгу. - Не лживо ли её содержание ? Не смехотворно ли ? Не является ли она результатом курьезного совпадения беспочвенных и надуманных повестей, к тому же вольно сопоставленных автором ?" С другой стороны надо признать, что при различие подробностей, все рассказы совпадали друг с другом в своем сюжете и особенно в ключевой его детали обретении словно бы мертвого человека. Имена святых отцов при этом свидетельствовали о непреложности предания. Между тем, мне вдруг пришли мысли о поразительном сходстве эпохи, которой я был современен, с картинами, изображенными Мефодием Патарским. Разве большая часть Римской Империи не была ныне в порабощении у арабов, везде утверждавших собственную религию - это то самое иго Измаильтян ? Вспоминая рассказ Вергилия о чудовищном Бенцо из Монтьер-ан-Дер и являясь свидетелем повсеместного упадка нравов, разве не мог я невольно находить соответствия всеобщей безнравственности и того морального и религиозного вырождения, которое так ярко описало перо Мефодия ? Кем ещё был дерский Бенцо, как ни подобным лягве иереем, оскверняющем дев своей похотью, обманывая их страстями вожделения - так говорила Сивилла ? Совокупляющиеся с одной женщиной и муж её и сын - это ли не образ кровосмесительных оргий, устраиваемых вконец осатаневшим аббатом ? А полуволшебная повесть, рассказанная этим чудаком Хардрадом, исходившим всю Индию в поисках края земли ? Разве не вторила она всем ужасам повседневной реальности, предсказанным в прорицаниях о жутких народах Гог и Магог ? Хардрад видел, что ворота, запиравшие эти племена, открыты; можно верить или не верить его словам, но разве орды животноподобных венгров и бесчеловечные отряды норманнов не указывали в себе большее, чем когда-либо сходство с запечатленными в откровениях страшными варварами Гог и Магог ? А предвещение бедствий, учиняемых природой, которыми сплошь и рядом полны все мессианские сочинения ? Этот признак близости последнего царя легко отождествлялся с голодными эпидемиями, опустошавшими целые города и порождавшими людоедство, стоило только вспомнить повесть приора Сульпициуса, поведанную им на первом в моей жизни собрании капитула. Случаи массовых смертей от не урожайности и злости природной стихии, когда земля становится подобной меди из-за своей бесплодности - все то, что он тогда так красочно изобразил, теперь легко приходило на ум, снова наталкивая на мысль о том, что современная эпоха до удивительного правдоподобно описана во всех сочинениях о возвращающемся царе. Итак, мне представилась настойчивейшая идея о том, что мое время во всяком случае очень, очень близко сходствует с периодом, означенном в оракулах.
Тем временем, пока я читал, это любопытное сочинение Трифона, Мефодий иной Мефодий, тот, который жил в Люксейль - давно уже пришел и занимался своими опытами по реставрации испорченных книг. Вергилий по-началу, разумеется, не слишком доверял его сомнительному мастерству и не спешил отдавать в его руки экземпляры из своего драгоценного собрания. Однако, коллекция, как я уже отмечал, была довольно древней, а потому и неимоверно ветхой. Из-за этого многие из рукописей пребывали в весьма плачевном состоянии и для него было ясно, что они вне всякого сомнения могли быть полностью разрушены в самый ближайший срок, став недоступными уже для следующего поколения. Необходимость восстановления как пергаментов, так и текстов с миниатюрами подстегивала библиотекаря к принятию срочных мер по их починке, по поиску и использованию рецептов омоложения высохшей или покоробленной мембраны, по реанимированию угасшего текста, по закреплению осыпающихся и шелушащихся иллюминированных фрагментов. Подобная нужда к конце концов заставила его забыть заповедь о неприкосновенности рукописей, и он открыл свои фонды к священнодействию и в известном смысле подозрительным экспериментам Мефодия - на то, чтобы уговорить Вергилия понадобилось всего два месяца.
Сейчас они стояли вдвоем и грек что-то объяснял библиотекарю, ссылаясь на манускрипт, который он держал в руках. Когда я подошел к ним, то увидал, что книга, которую демонстрировал Мефодий, находилась в состоянии очень сильной испорченности: везде по контуру букв пергамент был проеден чернилами, и сквозь него проглядывал следующий лист, таким же образом вытравленный, словно по нему писали не чернилами и красками, а ножиком для заточки калама. "С подобным, изъедающим мембрану, воздействием чернил, я не раз уже встречался, - объяснял грек Вергилию. - Процесс этот не только необратим, но и не предотвратим, если речь идет об изначально некачественных чернилах. Что, казалось бы, может быть лучше тонко измельченного угля, который замешивается на стандартном связующем вроде камеди ? Для чего пренебрегают теми рецептами, которые уже проверены временем, например - добавлением железа к галловым веществам ? Нет, их, видите ли, не устраивает недостаточная насыщенность цвета и само разнообразие этих цветов. Поэтому многие ателье смело внедряют такие изобретения, которые приводят к обратным результатам. Ну что это такое ? - говорил Мефодий, перелистывая страницы, разрушенные чернилами, словно листва, источенная древесным червем. - Погнались за усилением цвета, обрадовались, что получили яркие краски, а в итоге никаких чернил и в помине не осталось, они только проели пергамент и больше ничего. Часто материал разрушается, если в составе чернил использован уксус, желчь, моча, прокисшее молоко, а также соки лимона, алычи или граната. Бывает, что добавляют ещё и острую воду, получаемую от промывки золы дубового дерева. В этих случаях можешь быть уверен, что уже в ближайшее время надписи проступят с оборотной стороны листа. С уксусом вообще злоупотребляют до крайности. Так в одной мастерской его брали двести частей на шесть частей чернильных орешков. Я сказал им : Одумайтесь ! Что вы оставите потомкам ! Труху страниц ? Эту ветошь лоскутную, из которой изъято всякое знание ? Вы собираете те сокровища, которые моль и ржа истребляют, и крадет вор времени. И теперь посмотри - текст как будто бы выкраден из книги. Я думаю, что в данном случае использовали целый набор, абракадабру зелий из сильнодействующих веществ - залили в один кувшин детскую мочу, желчь козла, уксусно-острую медь и шафран, который получается действием уксуса на железные опилки. Возможно, что добавили ещё и красного железного купороса. Хуже этого для пергамента ничего не найдешь. Это настоящие убийца для книги. Знаешь, бывает, купорос прокаливают в печи, особенно часто - когда хотят добыть красную краску для миниатюр. Не имея возможности достичь очень высоких температур, когда он разлагается совершенно, и все ядовитые газы, выделяющиеся при этом химическом действии, удаляются полностью, наши мастера получают пигмент, содержащий ядовитейший элемент - "купоросное масло", растворяющее все, что попадется у него на пути. И вот такой вот прокаленный купорос некоторые умельцы, похожие на палачей, примешивают к чернилам, чтобы "усилить сок чернильных орешков". Ясно, что пергамент погибнет ! Нет, любезнейший Вергилий, как в этом, так и в подобных случаях, где разрушение ещё не довершено, я пока ещё бессилен. У ученых ещё нет методов нейтрализовывать смертоносную силу подобных чернил. Или вот совсем другой случай, - продолжал Мефодий, беря другую, отобранную заранее книгу. Кстати, когда он открыл её, я сразу обратил внимание на качество её пергамента - лощеный, очень гладкий, схожий по качеству с мясной и волосяной стороны, удивительно эластичный; точно такой я уже встречал в скриптории, где, из-за своей чрезмерной дороговизны и непревзойденного качества выделки, он хранился обособленно от всех остальных. Однако, книга, которую раскрыл Мефодий, оказалась тоже очень сильно повреждена. На этот раз речь не шла о порче самого пергамента - он был невредим и так же свеж и глянцевит, словно он недавно вышел из рук пергаментария - текст и иллюстрации тут тоже казались будто похищенными, но связано это было уже с тем, что чернила и краски буквально осыпались со страниц, подобно осенним листьям, обнажающим наготу деревьев. Так, на одной из иллюстраций все нижняя часть листа, ранее живописно раскрашенная, была теперь абсолютно пуста, хоть заново рисуй, и только в правом верхнем углу угадывались, и то неотчетливо, два склоненных друг к другу нимба, дававших лишь самое смутное представление о композиции: видимо, сообразно тексту жития, картина представляла собой св. Иринея, будущего епископа Лиона, наставляемого св. Поликарпом в истинах веры. Как на пергаменте, так и на остатках красочного слоя, прекрасно видны были блестящие полосы - следы неудачных попыток предотвратить разрушение рисунка, которые, как отметил Мефодий, напротив сделали его ещё более хрупким: "Так часто хотим мы блага, а совершаем зло." Кроме того, рукопись хранила в себе и другие отметы топорной работы неуклюжего реставратора, чье безыскусное ремесленничество особенно кричаще выставляло себя в том, как заштопывал он пергамент. Бывает, что мембрана, скроенная из остатков шкур, принимает из-за этого аморфные очертания, недосчитываясь по углам больших кусков; необходимость использовать подобные ошметки диктовалась мастерам дефицитом материала. Тогда впоследствии к этим дефектным полулистам подклеивались дополнявшие их фрагменты, полученные из других, более мелких отходов производства пергамента. При этом стремились подбирать кожу, подходящую к ущербной странице как по цвету, так и по толщине. Иногда волей обстоятельств решались на подклейку частей, сильно контрастировавших с основным материалом, но зато устранявших все изъяны рукописи и позволявших довершить написанное до конца. Однако, к кромке деформированного листа восполнявшие его куски, как бы они не отличались, именно подклеивались, а не пришивались. Здесь же все заплаты были отвратительно подшиты к страницам, да ещё и крупными стежками, которыми залатывают дерюгу. Примитивность мастера сказывалась и в том, как шаблонно и запросто пытался он решить проблему преждевременного одряхлевания и изнашивания миниатюр, облупливавшихся и опадавших со страниц крупными порциями. Прием этот был общим местом: надшить над рисунком или над массивным инициалом шелковую ткань, призванную предотвратить краски от механических и световых воздействий. Использование этого штампа навязывалось непониманием тех причин, по которым происходило шелушение, особенно интенсивное на рельефах ножом разлинованных строк, и в итоге бесплодность избранного метода сказалась не только в том, что все рисунки истрескались и просыпались, но и в утрате самих тканей, частью истлевших, частью просто поотрывавшихся, вдобавок обнаживших при этом ноздреватые, ячеистые проколами швы. Не менее вопиющ был способ замаскировать прозрачные в следствие утраты наполнителя или чрезмерного увлажнения превращенного в желатин пергамента, участки страниц мазней, наспех произведенным малеванием, устроенным белилами с обратной стороны листа. "Вот вам пример, как не надо чинить рукопись и, более того, как не надо их создавать, - бурчал Мефодий, ущемленный столь безвкусной работой. Реставратор должен избирать методы, в корне устраняющие факторы, генерирующие процессы старения манускриптов. Это во-первых , а во-вторых ему необходимо поднатореть в химии - привыкайте к этому слову - ибо без навыков в опытах по видоизменению веществ, по их реакциям между собой, тонкий труд по восстановлению рукописи заменяется аляповатой механической поделкой, почти всегда усугубляющей распад книги. Ведь почему все миниатюры здесь опали со страниц ? Потому что - обратите внимание на качество пергамента - кожа обработана здесь способом, который, к несчастью, в Греции распространен чуть ли не повсеместно. У вас пергамент шлифуют мелом и пемзой, что замечательно разрыхляет структуру волокон мембраны, делая её поверхность шероховатой, бархатистой. Пусть она мохната и скрипторы часто брюзжат на её волосатость, пусть по ней значительно сложнее писать, чем по пергаменту византийскому, но зато она прекрасно впитывает в себя и чернила и краски, проникающие внутрь её структуры. Таким образом, подобным книгам вряд ли грозит опустошение страниц : и текст и миниатюры прочно въелись, застряв между капиллярами податливой материи. А что происходит в греческих пергаментом, который усердно крахмалят яичным белком и размоченным льняным семенем ? Лоща и доводя до безупречной гладкости и глянцевитости его поверхность, цеховики с одной стороны добиваются существенного облегчения труда переписчиков, легко скользящих пером по странице, но ведь с другой-то красочный слой, подчас, к тому же, достаточно плотный и густой из-за неоднократного наложения красок, уже не сцепляется намертво со своим основанием, глубоко пропитывая его; он остается некоторое время на полированной глади по видимости безукоризненного пергамента, но уже в скором времени, и тем быстрее, чем чаще перелистывается рукопись, осыпается от туда целыми фрагментами. Насколько заведомо безрезультатными в этом случае выглядят приемы корпевшего над этими страницами умельца, подшивавшего ткани к иллюстрациям, которые изначально были обречены на гибель ! Он не знал причины и поэтому так бестолково поступал, хотя, если бы он даже и представлял себе суть проблемы, то вряд ли бы помог. Законы химии ещё мало кто знает, а потому для очень многих состав клея, укрепляющего миниатюры, является тайной за семью печатями". "Какой толк в этой химии, и для чего она нужна ? Такое впечатление, что эта наука походит на колдовство," - спросил я, разглядывая диковинные аппараты, сооруженные греком, в которых он производил свои превращения веществ. "В ней нет ничего от магии, - ответствовал Мефодий, - а ценность этого умения поистине превосходит многие из человеческих познаний. Ведь пройдет ещё несколько лет, и люди с его помощью начнут получать золото из любого металла". "Зачем ?" "Я с тобой согласен, столько много золота возможно и ни к чему. Но давай возвратимся с тобой к ценностям непреходящим. Разве недостаточно ты сегодня видел примеров того, как мудрость или познание, значимость которых иногда неоценима, будучи доверенными книге, составляя, так сказать, завещание человека, его духовное наследство поколениям, может погибнуть от элементарного бессилия перед феноменом разрушения рукописи. Что осталось от того сочинения, которое мы только что листали, или от другого, которое рассматривали перед тем ? Ничто. Все, что хотел сказать нам автор, ушло вместе с ним в небытие. Бывает, что это скорее хорошо, чем плохо, ибо речи его могли быть суетными и пустопорожними. Но что, если книга его - это глубокомысленный наказ, назидание, завет будущим поколениям, утерять который было бы невосполнимой и роковой потерей для потомков? Яснее ясного, что гвоздями текст не прибьешь к странице, и никакими заклинаниями не убережешь от истлевания рукопись, предрасположенную к гибели. Химия же позволяет сохранить наше достояние и, осуществив волю автора, сделать его произведение кладом, обретенным счастливыми наследниками. Вот взгляни, - Мефодий раскрыл книгу, пергамент которой был сильно сморщен, деформирован и, к тому же, очень раздался в объеме. - К сожалению, некогда эти страницы, возможно - во время пожара, были залиты водой, что привело сначала к набуханию листов, потом - к съеживанию их и к образованию складок. К тому же, посмотри, он стал совершенно прозрачным и текст просвечивает с другой стороны. Я могу сказать, что в скором времени эта книга погибнет, если не предпринять её лечения, которое без знания химии только ускорит процесс. Я же точно могу сказать, что именно следует делать в такой ситуации. Для оживления переплета следует использовать смесь копытного масла и пчелиного воска, пергамент же необходимо обработать более сложным составом, получать который мне позволяет тот агрегат, который ты здесь видишь. Первоначальное вещество, которое я использую - это человеческая моча, и в этом нет ничего брезгливого". "Конечно, - согласился Вергилий, - ибо до сих пор многие болезни лечат с её помощью. Если она ещё и исцеляет книги, то это только упрочивает её чудесные свойства". "Однако, она должна пройти множество преобразований, чтобы смогла врачевать пергамент, и для этого служит химия. Сначала я сгущаю мочу до того, пока она не станет похожей на сироп. Затем добавляю вещество, которое получаю перегонкой смеси селитры, квасцов и медного купороса. Это - селитряной спирт или универсальный растворитель. Промежуточный продукт кристаллизации разлагаю в соответствии с рецептами Гербера, а потом спиртом извлекаю вещество, которое также застывает в кристаллы игл или же длинных, бесцветных, ромбических призм. Раствор этого вещества - я называю его "книжное масло" - нисколько не нарушая структуры пергамента позволяет возвратить скорчившимся листам первоначальную гладкую форму, а также используется для безвредного увлажнения с последующим введением в мембрану наполнителя вроде мела, устраняющего её прозрачность. И если бы не знали вы химии, как бы смогли получить вы подобное масло? А ведь это только одна из многочисленных возможностей, которые химия предоставляет для реставрации книг. А сколько ещё доступно: мы можем укреплять миниатюры, можем делать поблекшие краски более яркими, можем возвратить тексту первоначальную контрастность, можем вообще вызвать его из небытия, если он был когда-либо стерт, как это бывает в палимпсестах". "В палимп...что ?" - спросил я, чем вызвал смех у Вергилия, тут же объяснившего мне: "Палимпсесты ныне почти не создаются, а ранее они порождались недостатком писчего материала, служа в какой-то мере и средством борьбы против классических авторов, язычество которых многим было ненавистно. Брали, например, тексты Вергилия, изводили его с пергамента, пуская в ход пемзу, о которой я тебе сегодня рассказывал, говоря об исправлении книг, и получали по существу чистый лист, на котором поверх добросовестно стертого сочинения "язычника" - многим невдомек, что Вергилий, которого я, тоже Вергилий, очень сильно люблю, прорицал рождение нашего Спасителя - можно было в тысячный раз написать житие св. Мартина. Потом от этой привычки ликвидировать античные сочинения слава Богу избавились, да и наладили дело по обработке и поставках кож для мастерских письма. Так что палимпсесты ныне не изготовляются, но сколько их наделано за все время, сколько загублено ценнейших манускриптов - трудно даже предположить. Однако, я и не думал, что начисто стертый текст можно снова сделать видимым". "Не все, внес ясность Мефодий. - Как я говорил, в хорошем, "мохнатом" пергаменте чернила способны глубоко проникать вовнутрь. Таким образом снаружи лист оказывается чистым, но в глубине его сохраняется выскобленный с поверхности текст, и химия позволяет, так сказать, "воскресить" его и воззвать из забытья". Последнее сравнение грека навело меня на неожиданную, но пронзительно сильную мысль, и мне захотелось проверить верность своей догадки. Я вновь достал сочинение Трифона и раскрыл его на последних страницах. "Взгляни, - обратился я к Мефодию. - Совершенно внезапно один текст прерывается, а вместо него начинается другой, совершенно отличный по смыслу, написанный иным подчерком. Может такое быть, что на заключительном листе главное сочинение подверглось изничтожению, так как кто-то захотел скрыть его содержание, в то же время сохранив его в глубине пергамента, чтобы при необходимости воспользоваться им ? А чтобы не оставлять страницу чистой этот некто заполнил её текстом первого же подвернувшегося под руку сочинения, не возбуждая подозрения, что новая рукопись сделана поверх старой ?" "Это легко выяснить, хотя многое на самом деле зависит и от самих чернил. Если в их составе был, к примеру, уксус, то они накрепко увязли в пергаменте и можешь не сомневаться, что ты их увидишь. Смыт текст, например, соком щавеля или раствором буры, либо же он соскоблен - это тоже немаловажно. В любом случае сейчас все выяснится". В течении следующего времени ученый грек сначала растворил в воде куски некоего вещества, после подогревал полученную смесь, а затем взял у меня рукопись и долго держал её над паром кипящего раствора. Мы с Вергилием с нетерпением ожидали результатов этого опыта, я - в надежде обнаружить окончание повести Трифона, он - переживая за сохранность окуриваемой книги. Наконец Мефодий положил кодекс на стол - её разворот дышал жаром и был весь в крохотных, сливавшихся друг с другом каплях - намочил мягкую ткань той же жидкостью и стал водить ею по листу, обильно смазывая его раствором. "Я использовал железный купорос, - объяснял он тем временем. - Это вещество не только не заменимо для изготовления чернил, но и позволяет сделать их видимыми, если текст был уничтожен". Мефодий закончил обработку страницы, и мы пристально всматривались в нее, ожидая появления вытравленных строк. "Это обычно долго длится ?" - спросил я в нетерпении. "Подожди немного, - сказал грек. - Если там что-либо есть, самое большее через минуту ты увидишь, как письмена начинают подниматься. Словно из морского дна". Однако, как мне показалось, мы прождали вдвое больше, но кроме Иосифа Флавия на пергаменте по-прежнему ничего больше не было. Я разочарованно глядел на разворот, в то время как Мефодий уже потерял к нему всякий интерес: "Не получилось - значит никакого другого текста здесь нет. На самом деле палимпсесты встречаются очень редко, тем более у мирян, которые, если уж они владеют грамотой, обыкновенны достаточно состоятельны, чтобы добыть себе хорошей кожи и не тратить время на её приготовление и обработку". Вергилий, в отличие от меня вздохнувший с облегчением после прекращения рискованных манипуляций с ценнейшим экземпляром, оставил нас, чтобы спуститься в скрипторий, давно уже находившийся без присмотра. А я - что ж ! - я захлопнул книгу Трифона и понес её к "arca", однако, прежде чем поместить её в сундук, ещё раз приоткрыл последнюю страницу и - О, чудо ! О, великолепие ! О, диво предивное ! - под текстом Флавия, все более набирая насыщенность, проявлялась картина, а не текст, точнее - рисунок, ибо так просто, наскоро он был сделан автором. Я восторженно вскрикнул и позвал к себе Мефодия, который тоже был поражен увиденным. Правда, обнаруженная нами зарисовка была совершенно бесхитростна и не впечатляла умением её создателя как создавать композицию, так и наделять фигуры живинкой и естественностью реализма: напротив, все линии этого неумелого черно-белого наброска были статичны, напряжены и абсолютно не упруги. Не мастерство, а суть мизансцены хотел передать нам художник - по видимости Трифон. "Невероятно ! вымолвил Мефодий. - Перед нами палимпсест ! Или, я даже не знаю, как это назвать, когда новый текст пишется не по тексту же, а по рисунку. Как прав ты оказался, и как ты почувствовал, что здесь что-то сокрыто от нас ! Но что бы все это, черт возьми, значило ?" - вопросил он удивленно, и я, как и он, пропустил мимо ушей его сквернословие, всматриваясь в уже полностью оживший рисунок. Итак, как я сказал, он был до предела схематичен, но точно в такой же мере и загадочен и любопытен. Слева был нарисован предмет, очень напоминающий шестиконечный крест, и я сразу же решил, что это и есть именно он. Рука автора дрожала, зарисовывая наспех, и контур креста от того получался неровным, не смелым. Возможно по этой причине нижняя перекладина выходила у него не косой, как её обычно изображают, а прибитой горизонтально. Верхняя поперечина казалась явно не симметричной относительно стержня распятия, так как её правое плечо очевидно превосходило левое - должно быть, Трифон просто не рассчитал, торопясь закончить эскиз, и опрометчиво слишком сильно вывел крест к полям пергамента, вынуждая себя сократить размер неумещавшегося левого плеча. Рядом же с распятием он поместил две человеческие фигурки, рост которых уступал высоте креста. Непосредственно у основания распятья возлежал некий муж, который, судя по тому, как были сложены на груди его руки, был скорее мертвым, чем спящим. Справа же изображалась женщина, слегка наклонившаяся в его сторону и держащая в руках предмет, очень похожий на корону, но довольно скверно нарисованный. В правом же верхнем углу подчерком Трифона было написано: "Хотя ты уходил, да придешь ты ! Хотя ты спал, да проснешься ты ! Хотя ты умер, да оживешь ты !" Правда, это была не единственная запись, сделанная на странице, ибо в самом низу неизвестной рукой в превосходной по своему благородству манере был поставлен экслибрис : "Собственность императорской библиотеки Льва Мудрого, 887г." Более никаких текстов, записей или заметок видно не было, но и того, что я видел, хватило, чтобы переполнить мое воображение; Мефодий же тоже был ошеломлен и казался в не меньшем замешательстве, чем я. "Не может быть ! проговорил он, скорее, однако, обращая внимание на запечатленный экслибрис. Это же она...Кошмар Льва Философа ! Подожди-ка, ведь я занимался ею намедни по просьбе Вергилия и не обратил на неё внимания ! Эх ты, - сетовал он на себя, грамотей, ученый. Бестолочь ты на самом деле и грош цена всей твоей образованности. Целыми днями трудиться над ней, чтобы чуть было не проморгать !" "Ты о чем это ?" - спросил я, удивленный подобными самоупреками, которых он, очевидно, не заслуживал. Мефодий долго молчал, мялся, думая говорить или нет, но, наконец, поделился со мной тем, что его так взволновало: "Я эту книгу искал очень много лет, почти с того самого дня, как она пропала из Константинополя. Лев Премудрый, который собственноручно подписался здесь, владел ею и ценил чуть ли не превыше всех других сочинений, не разрешая никому делать с неё копии. Но однажды она была выкрадена из дворца вместе с его драгоценностями, в ларце с которыми он её бережно хранил. С тех пор её утрата безмерно терзала его, преследуя по ночам, словно привидение. Он постоянно думал, как бы возвратить её, вовсе не печалясь о потере своих фамильных сокровищ и заставляя своих приближенных искать вора и любыми средствами вернуть ему то сочинение, для поиска которого он создал специальный штат шпионов. Увлеченный этим, он иногда забывал о ценности государственных дел и по своей одержимости многим казался обезумевшим. Никто не мог понять: как можно так переживать из-за книги, но он либо отмалчивался, либо явно лгал относительно её содержания и все продолжал тратить огромные средства на финансирование поисков, которые из года в год были бесплодными и все более безнадежными. К концу его царствования я входил в круг его ближайшего окружения и неизменно, благодаря своей преданности, пользовался его расположением, хотя я никогда не сочувствовал его "помешательству", как это все называли, но которое все тем не менее прощали, относясь к его слабостям много лучше, нежели с простым снисхождением. Ведь в глазах всех он был пророком, издавшим провидческие хризмы, чудные оракулы которых каждый знал на зубок. Как народ, так и придворные видели в его стихах озарение Божье, а потому приравнивали его к числу духовидцев, у которых мудрость, как известно, часто сосуществует с чудачеством. Вот все и смотрели сквозь пальцы на его поглощенность потерей, которая из-за своей давности становилась все более призрачной так, что многие уже и не верили, что книга вообще существовала. Лев же мучился тем сильнее, чем больше проходило времени, а то благоговение, с которым относились к его славе ясновидца, нисколько не утешало его, и он принимал почитание не без раздражения. Когда приблизились последние дни императора, он призвал меня к себе - я в то время ведал вопросами безопасности государства - и попросил меня выполнить его предсмертную просьбу. Я пообещал, и тогда Лев сказал, что он даст мне крупную часть своего состояния, если я поклянусь найти и уничтожить похищенную из дворца книгу. Поразмыслив, я поклялся, ибо располагал большими связями, которые в случае моей настырности могли принести положительный результат. Тогда он сообщил мне, что я смогу узнать её по экслибрису, сделанному его собственной рукой, и через некоторое время отдал небу свой беспокойный дух, завещав мне не читать эту книгу, если мне удаться её найти. После его кончины я оставил службу, ибо, будучи честным, я должен был оправдать перед собой то имущество, которое я получил от Льва Философа, а, чтобы сосредоточиться на розысках, следовало уйти в тень и удалиться от всех, не привлекая к себе внимания. Я постригся в монахи, что отвечало моим внутренним позывам, принял новое имя, и с головой ушел в поиски, не разглашая никому своих намерений. Следы преступления практически терялись, отделенные от меня более чем двадцатилетней давностью, но все же мне удалось зацепиться за сведения о том, что путь рукописи вел в некую Бриксию, где вор укрылся и, возможно, окончил свои дни. Было известно также имя похитителя Хардрад - но ведь он с легкостью, как и я, мог бы переменить его, стремясь запутать преследователей. Только одна Бриксия была мне известна - Бриксия итальянская - и именно туда я и отправился под видом паломничества, но ни одна из библиотек, которые находились там, не содержала в себе книги с экслибрисом, которые на Западе не использовал никто. Поиски неуловимого Хардрада тоже были провальными и не дали ничего, на что можно было бы опереться в дальнейшем. Разуверившийся в успехе, я возвратился в свой монастырь, и считал, что книга утеряна безвозвратно. Однако, совсем недавно я узнал, что существует ещё одна Бриксия - Бриксия галльская - и что она есть ничто иное, как другое название знаменитого на весь мир Люксейль. Немедленно я собрался в дорогу, и вот ты меня видишь здесь - "авторитетного" реставратора книг, а на самом деле ищейку, напавшую на след похитителя. Когда же мне стало известно, что среди ваших монахов был брат по имени Хардрад, история которого полностью вписывается в хронологию преступления - он укрывался у вас после бегства из Константинополя с грузом своих сокровищ и с ненужной ему книгой, которую он передал библиотеке; при этом он лишь по имени был монахом, так как, под видом паломничества и путешествий надолго отлучался, прожигая награбленное и упиваясь богатством..." "Да, да, - прервал я. - Я знаю об этом географе, и вот, значит, что руководило им, когда он "отправлялся в Индию" ! Вот откуда у него драгоценности, якобы обретенные в восточных землях и...вот, значит, откуда черпал он свои рассказы..." "Не знаю, что он вам тут наплел, но для меня важно было, что тут я найду то, что так долго искал. Нужно было лишь получит доступ к фондам библиотеки, и мне это в конце концов удалось, используя мои познания в химии. Я не знал ни как называется книга, ни её содержания, знал лишь, что на ней стоит автограф моего благодетеля. Поэтому я с утра до ночи перелистывал все рукописи, ища экслибрис, ибо я не хотел быть неблагодарным и желал выполнить предсмертную просьбу Льва. Изученных книг становилось все больше, а моя неуверенность в успехе все убывала. И только случай мне сегодня помог, не обратив в тщету мои усилия. Я и подумать не мог, что Хардрад так хитро заметет следы своего преступления - он обратил страницу с экслибрисом в палимпсест, думая, что текст уничтожен". "Но он мог просто вырвать страницу или вообще сжечь всю книгу целиком". "Значит, ему дорого было её содержание, и он хотел получить себе выгоду от нее. Возможно, он не просто так "путешествовал", а..." "...Хотел найти возвращающегося царя !" воскликнул я, но тут же подумал, что сморозил явную глупость. Мефодий попросил у меня разъяснений, и я пояснил ему, что в книге автор исследует идущие от древнейших времен прорицания об оживающем монархе. Грек был заинтригован, но с другой стороны он был связан своим обещанием Льву не читать выкраденную рукопись. Однако, тот интерес, который, очевидно, жил в нем все эти годы, что он искал книгу, к конце концов пересилил тот барьер, который он себе поставил. "Я ведь, - сказал Мефодий, - клялся Льву, что не буду читать рукопись, но не обещал, что не стану слушать рассказа о ней. Так и быть, поведай-ка мне о чем в ней говориться". Я, разгоряченный открытием, с увлечением пересказал сочинение Трифона, ещё раз осмысливая её содержание, достойное самого сильного изумления. Когда я закончил, Мефодий покачал головой и сказал : "Вот ради чего Лев хранил её, никому не показывая, и вот почему пропажа книги довела его до бессонницы, и он все пустил в ход, чтобы возвернуть её. Я имею в виду толкование неким хранителем надписей на гробнице св. Константина. Именно они возбудили его беспокойство, ведь слова эти один к одному повторяют его знаменитые хризмы, автором которых он себя выдавал. Очевидно, с раннего возраста он познакомился с трудом Трифона, возлюбил его и был убежден в истинности легенды. Он решил присвоить себе честь создания одного из пророчеств, более близких к Византии по своему духу, и выдал слова хранителя за собственные прорицания, получившие такую популярность во всей империи. Понятно в таком случае, что, утеряв книгу, Лев боялся и просто трепетал того, что злоумышленник, прочтя её, с легкостью обнаружит подвох, разафиширует это выставит лже-мудреца на осмеяние. Да...За эти оракулы ему все прощали, но если бы книга стала известной, кроме презрения он бы отныне не знал ничего. Вот какие вещи выясняются в конце концов," - Мефодий все качал головой, размышляя над развязкой своих поисков и над загадкой Льва Премудрого, растратившего почти все свое состояние на поиски рукописи, которая бы разоблачила плагиат его хризм. Меня же занимала иная проблема - необходимо было разгадать тот смысл, который нес в себе рисунок, увенчивавший сочинение Трифона. В конце концов я обратился за подмогой к Мефодию и спросил его, как бы он истолковал значение иллюстрации. Он взял книгу в руки и внимательно принялся рассматривать таинственную страницу. "Итак, - бормотал он, рассуждая вслух, очевидно, Трифон хочет запечатлеть и предметно изобразить все обстоятельства воскрешения обретенного царя. Нужно в первую очередь понять, что за женщина стоит рядом, и любая ли из жен может исполнять её роль в ритуале... Что это ? Нет, не может быть, это безумие или какое-то чудовищное совпадение ! Неужели же текст Флавия выбран умышленно ? Это невообразимо, непередаваемо..." "Что ? Что ? - тормошил его я. - Что ты там ещё высмотрел такое ? Я лично ничего больше не вижу". "На рисунке Трифона и в самом деле выглядывать более нечего. Но мы с тобой все время смотрели только на него, забывая про выдержки из "Иудейской войны", из, если мне не изменяет память, главы "Описание Иерусалима". Посмотри, какая потрясающая вещь ! Записанные в две колонки текст Флавия оказывается таким образом размещен, что над дремлющим или же мертвым царем приходится имя Давид, а женщина, подносящая ему корону, игрою непостижимого случая - как ещё можно объяснить подобное совпадение оказывается поименованной Еленой, царицей адиабенской. Смотри : это имя оказывается расположенным точно у неё над головой !" "Потрясающе ! - выдохнул я. - Ты думаешь, это произошло случайно ?" "Мне кажется, что да. Погляди : нет никаких признаков того, что Хардрад специально подгонял текст, а рассчитать все заранее было невозможно. Он открыл Флавия, сделал выписку об Иерусалиме и непредумышленно дал имена обоим персонажам. Хм, Давид и Елена...Что ж, это забавно." "Что-то мне не верится, что случай может сыграть такую шутку, возразил я, все более и более втягиваясь в предсказания Трифона. - А то, что тексты, написанные в течение многих столетий в разных точках будущей Римской Империи совпадают в своих подробностях - это что ? Тоже совпадение ? Мне представляется, что все здесь довольно серьезно. Если даже Хардрад и не задумывал все намерено, то почему бы не допустить, что не без воли Божьей выбрал он именно эту главу у Иосифа Флавия ? Что если Бог дал тем самым знак того, как точно соблюсти все подробности ритуала ?" "Предположим, что ты прав. Тогда как ты объяснишь эти имена , которые по-твоему оказались здесь с Божьей помощью ? Кого собственно обозначают эти Давид и Елена ? А ?" "Я не знаю. Я думал, может быть ты знаешь". "Ха ! Откуда ? Я же не такой мудрец, как Лев Философ. В сферы ведения Провидения Божьего я не вхож". "Все-таки, - не отставал я, - если бы тебя попросили истолковать этот рисунок, как бы ты это сделал ?" "Ну..., - задумался грек. - Для начала я бы предположил, что речь на самом деле идет не об иудейском царе Давиде и не о матери царя Узата. Эти имена использованы только в качестве символов. Елена ...Только одна Елена мне приходит на ум - мать св. Константина, и это вполне может быть она. Ты знаешь, - сказал он дальше, побледнев и словно смахивая рукой какую-то мысль или навязчивость со своего лица. - Мне сейчас пришла в голову поразительная идея. Ведь что это за крест изображен слева ? Судя по размерам - это не простое знаменование распятья. Ты слышал когда-нибудь рассказ об обретении Животворящего Креста Господня ? Господи...Хотя нет, это не просто глупость. Есть в этом что-то." "Да расскажи же ты". "С именем царицы Елены связывается обретение Креста, на котором был распят наш Спаситель. С целью его поиска она отправилась в Иерусалим после того, как её сын, испытав в сражения помощь Бога, принял христианское крещение. В Иерусалиме некий старец Иуда единственный, кто знал, где спрятан Крест - показал ей заповеданное место, ныне засыпанное камнями и попираемое языческим храмом, воздвигнутым над ним. Храм тут же был разрушен, холм срыт, и в тот же миг разлилось по воздуху благоухание дивное и благовоние ароматное, так как под тем холмом были найдены и Гроб Христов и три креста, ибо Христос был распят между двумя разбойниками. Но никак не могли определить - какой из обретенных крестов является тем самым, к которому был пригвожден Сын Божий, ведь по виду все они были совершенно одинаковы. И вот тут... Не все согласно рассказывают о том, что произошло потом, хотя смысл дальнейших событий от этого не меняется. Случилось, что в то время вынесли некоего мертвеца для погребения. По повелению патриарха Иерусалимского носильщики были остановлены и кресты были возлагаемы по очереди на мертвеца. Другие говорят, что это была мертвая девица, третьи ведут речь об умершей вдове. Но суть дела, смысл таинства, произошедшего затем, повторяю, от этого не меняется : когда на мертвеца возложили Крест Христов, человек тотчас же воскрес и поднялся живой силою Божественного Креста Господня". "Что же ты хочешь этим сказать ?" - вопросил я, ожидая подтверждения своей догадки. "То, что ты понял сам. Женщина, изображенная здесь - это царица Елена, а распятье сам Животворящий Крест Господень". "То есть..." "То есть ритуал пробуждения царя, личность которого была ознаменована столькими пророчествами, должен состоять в том, чтобы в присутствии св. Елены он был возложен на Крест Иисуса Христа. Тогда, по-видимому, если прочитать приведенные здесь Трифоном строки, он поднимется..." Я был сражен этими словами, прекрасным и священным смыслом, которым они были наполнены. Вот так прекрасно, прикоснувшись к Древу, на котором совершился эпилог и высшая точка в мистерии человеческого искупления, должен был быть возвращен к деятельности император, исполненный себе духа Благодати, пребывавшего на Кресте со Спасителем. Волнения мне, конечно, добавило знание о том, что голова св. Елены находится рядом, в монастырь Монтьер-ан-Дер, и очевидцы свидетельствуют об отверзании её очей, то есть она как будто живая. Значит - Господи, прости меня. Если я заблуждаюсь ! - тело царя должно быть возложено на Крест под взором головы императрицы, затем произносятся взывающие слова, и... Это же величайшее таинство, итогом которого будет возвращение миру одареннейшего дарами Святого Духа государя, ведомого во всем Отцом и благословляемого Сыном. Помыслить все это было - словно дрожь, пронизала все тело, и слезы, в которых смешались восторг и радость, излились из умиленных глаз. "Но что же за Давид имеется в виду ?" - вновь обратился я к Мефодию, который тоже находился под впечатлением собственных слов. Он оживился при этом и весело рассмеялся : "Ты - галл, но не я. И при этом ты спрашиваешь меня, кто такой "Давид" ! Помнишь : Благочестивейшему государю, превосходнейшему и всякой почести достойному королю Давиду Флакк Альбин желает истинного блаженства и вечного спасения во Христе. Или ты никогда этого не слышал ?" "Впервые встречаю". "Ну же ! Алькуин - это Гораций, Ангильберт Гомер, Теодульф - Пиндар. А кто Карл Великий ?" "Давид ?!" Мефодий похлопал меня по плечу и сказал, весьма довольно : "Давид - это академическое прозвище Карла Великого !" Я хлопнул себя по лбу и совсем растерялся. Растерялся в тот момент, когда как раз все стало ясно, и все было на своих местах. И вы, друзья мои, читая признания вашего Эрмерикуса, не можете не испытывать все это вместе со мной. Мефодий глядел в каком смятении я нахожусь от всего этого, а потом ещё раз прихлопнул меня и добродушно сказал : "Пусть будет и у тебя прозвание, раз ты узнал такие вещи. Допустим...Гермес. Или лучше маленький Гермес Гермерикус. Эрмерикус, если тебе так больше нравится. Знающий все это ты уже не просто юноша и не обычный человек. Ты - настоящий "посвященный". Сказал он это - и вновь возвратился к своей работе. Сказал, конечно, в шутку, а не всерьез. Странно, неужели же Мефодий остался равнодушным к тому открытию, которое мы только что с ним совершили ? Он действительно невозмутимо принялся реставрировать поврежденную иллюминированную рукопись, страницы которой некогда были залиты водой, и поэтому размокшие краски выполненных на них миниатюр перепечатались на противолежащие листы. Перенесенными оказались весьма значительные участки красочного слоя, отчего иллюстрации почти полностью сошли с одних страниц, чтобы в зеркальном виде отобразиться на страницах соседних. Очевидно, нужно было удалить образовавшиеся наслоения, но если с текста отпечатки снимались легко - Мефодий соскабливал их острым, крошечным ножичком - то гораздо больше усердия требовалось там, где краски легли на краски, и вместе с внешним, чуждым слоем легко можно было поддеть и соскребсти фрагмент самой миниатюры. Грек сильно сетовал на образовавшиеся в результате перепечатывания курьезы. Открыв один из разворотов, он раздраженно покачал головой. "Посмотри, - сказал он мне, - какая несуразица получилась размягченные влагой краски перенесли на соседствующую страницу вывернутое изображение лиц Св. Троицы. В итоге св. Дух заменил место Сына и наоборот, как и все на картине занеся для благословения левую руку. На первый взгляд простая несуразица, но ведь в обратном изображении Троицы мы получаем изнанку бесчисленных красот Божества, их обратную сторону, абсолютно симметричное зеркально отражение, правое заменяющее левое, истину ложью. Ведь что такое ложь ? Оборотная сторона правды. Не противоположность правды, а она сама, только наоборот спроецированная. Когда ты станешь мудрее, то поймешь, что кривда - это та же самая истина, как человек, глядящийся в свой отображающийся образ, видит там именно себя, а не кого-нибудь иного. Но его лик при этом это перевертыш, экстремум его личной мистификации, максимальная противоположность. Так жаре противостоит не холод, а жара. Свету противостоит не тьма, а сам свет. И добру противоположно само добро. Поэтому истинный обман разоблачить практически невозможно, так как он - зеркало истины. Если по ошибке Христа на иконе изобразить в симметричном переотражении Его облика, то получится анти-Христос, Сам же Христос, только наиболее Ему при этом противостоящий". И Мефодий принялся кропотливо тампонировать водой напластовавшиеся слои миниатюр. Верхний увлажненный слой тогда становился податливым, и его можно было отделить ножичком от нижнего, нетронутого водой. Я долго наблюдал за ювелирной, спористой работой грека, а потом спросил его: "Мефодий, а где находится тело Карла Великого ?" "В Аахене," - пробубнил он, поглощенный своим аккуратным и тонким трудом. "А Животворящий Крест ?" "В Иерусалиме". Тут только Мефодий понял смысл моих вопросов, отвлек свой взгляд от рукописи и, прищурившись, посмотрел на меня: "Ну же, спрашивай дальше". "О чем мне ещё спрашивать ?" "Тебя, должно быть, интересует еще, где ныне содержится голова св. Елены ?" "Это я знаю," - ответил я и задумчиво направился к выходу. "Постой !" - Мефодий бросил свою книгу и кинулся ко мне. Я оглянулся. Он стоял, всматриваясь в мои глаза и пытаясь проникнуть в суть моих помышлений: "Ты...ты что, серьезно поверил в этот...казус, случай. В это совпадение !" "Совпадение ? Случайно я пришел сегодня в библиотеку, случайно Вергилий показал мне книгу, над которой ты трудился, случайно ты упомянул о палимпсестах...Все случайно. Такого не может быть. Что тогда такое закономерность ? Я думаю - этими случаями сегодня водительствовал Бог, и Он помог нам с тобой открыть то, что ранее было известно только отчасти". "И что ты теперь намерен предпринять ?" ;"По-моему - все просто. Есть тело Карда Великого, есть Голгофский Крест, есть, наконец, совсем рядом голова императрицы Елены. Теперь их следует лишь соединить и ..." "Ха, соединить ! Ты не понимаешь, ты даже представить себе не можешь, насколько это невозможно. Хорошо, допустим - только допустим - что то, что мы с тобой сегодня открыли, действительно верно. В первый момент я тоже подумал, что каждый из нас стал свидетелем Промысла Господнего, отверзшего умы к восприятию прекраснейшего из таинств. Я тоже воспылал всей идеей - истинна она или нет - но она при этом прекрасна, величественней всех остальных идей. Однако, я почти сразу остыл, почти мигом разочаровался в ней". "Почему ?" "Потому что этот замысел невыполним. Осуществить его невозможно. По крайней мере сейчас. Выполнить все дело целиком - за пределами возможностей человека". "Но от чего ?" "От того, что нельзя овладеть Крестом Голгофским. Это ведь я так запросто сказал, что он находится в Иерусалиме, но на самом деле никто не знает где Он. Кирилл Иерусалимский ещё в четвертом веке сказал, что Крест по частям роздан всей вселенной, однако историки пятого века - и Сократ и Созомен - говорили, что Древо Крестное по-прежнему находится в церкви св. Гроба, заключенное в серебряный футляр. В самом деле, как могли Его растащить по частям, если в седьмом веке Оно было похищено персидским царем Хосровом, и император Византии Ираклий, одолев персов, смог в 631 г. возвратить его Иерусалиму, водрузив Крест на Голгофе, внеся Распятье на собственных плечах. Точно можно сказать, что в седьмом веке Крест ещё существовал, но дальнейшая Его история не известна. Может быть, как некоторые думают, Его растащили по щепочкам? Но это исключено. Ведь тогда могли разнести и Гроб Христов и изрезать на куски Плащаницу. Нет, на реликвии такого достоинства не может посягнуть рука верующего, и я уверен, что Крест до сих пор пребывает в сохранности. Но где? По всей видимости, конечно, в Иерусалиме, но кем и где Он схоронен, чтобы, ради Его сохранения, изъять даже из почитания богомольцев - это неизвестно. Но даже если бы я мог указать тебе пальцем то место, где Он спрятан, это б совершенно не помогло нам Его получить. Даже думать забудь об этом. Иерусалим находится в порабощении у арабов и ни один паломник не может достичь его стен. Все подступы к Святой Земле закрыты для христианина, и никому ни в силах даже попасть туда, не то что выкрасть Иисусово Распятье, которое ещё найти надо. Верная смерть ждет того, кто осмелится это предпринять, и все усилия обрести Крест заведомо обречены на неудачу. Вот то, что сразу заставило меня отказаться от всего замысла, как бы превосходен он ни был. Он чудесен, восхитителен и непостижим по превосходству своей красоты. Но, Адсон, он совершенно невыполним, и от того я не верю в его истинность. Не может быть, чтобы суть Провидения составляла задача, непосильная человеку. Бог не может наставлять в том, что заранее обречено на крах и осмеяние". "Раз Он открыл нам Свой замысел, значит должен быть какой-то способ завладеть Распятьем. Должна быть возможность проникнуть в Иерусалим, отыскать Крест и взять в обладанье Животворящее Древо". Мефодий покачал головой: "Такой возможности нет. Ты мгновенно потеряешь свою жизнь, а вместе с ней утеряет свой смысл и то откровение, которое было дано тебе сегодня. Если ты веришь в него - оставь завет будущим поколениям. Но сам ни в коем случае ничего не предпринимай - это будет безрассудно с твоей стороны." "Все-таки я хотел бы посмотреть на карту Иерусалима. Вергилий наверняка сможет отыскать мне её. Убежден : осуществить этот замысел можно. Более того - нужно. Более того - это наша святейшая обязанность. Мы должны сделать все, что зависит от нас, чтобы выполнить это дело. Если Бог наставил нас в Своем замысле, значит Он неминуемо подскажет, как нам быть в дальнейшем, какие меры предпринять, чтобы заполучить Крест Христов, укажет место его нахождения. Если Он оставит нас в темноте, если не явит более никаких знамений, значит ты прав, и мы приняли за откровение то, что на самом деле не было им. Тогда я посмеюсь над игрой случая и забуду нынешний день. Но не требуй этого сейчас. Прямо сегодня я начну думать, каким образом можно проникнуть в Иерусалим и овладеть недостающим звеном ритуала воскрешения. Карл Великий должен быть возвращен к жизни, и дело это откладывать нельзя". "Что ж, я вижу - сейчас тебя нет возможности разубедить. Ты слишком воодушевлен для этого. Потом, когда ты успокоишься и ещё раз, не поддаваясь эмоциям, все обдумаешь, ты поймешь, что я был прав". "Посмотрим," сказал я и зашагал к лестнице, ведущей в скрипторий.
Когда я вышел на улицу, уже совсем рассвело, и снежный покров, искрящийся под припекающим солнцем, слепил глаза своим играющим многоцветием. Небо расчистилось, и ото всюду исчезли унылые тени, совсем недавно навевавшиеся докучливо-пасмурным утром. В такую благодатную погоду мне ещё неотступней захотелось посетить древний Люксейль. "Если что, - почему-то подумалось мне, меня отыщут по следам". Я ещё с утра желал выбраться за пределы обители, а теперь мои стремления подхлестнули указания библиотекаря на схему античного града, вычерченную в термах в комнате для книг. Какую загадку она таит в себе ? Прояснит ли она, либо ещё более сгустит атмосферу таинственности, окутывавшую древний Люксейль и вселяющую во многих панические настроения ? Мне не терпелось увидеть эту схему, и перед жаждой приблизиться к разрешению тех тайн, что сокрылись в руинах, на время отступили даже озарения последних часов. Как и следовало ожидать, Вирдо сначала категорически воспротивился моим намерениям и в первый момент, видя мою нацеленность, хотел даже заключить меня под засов, поместив своего непоседливого, непослушного пострела в каморку с лекарственными заготовками. Он ссылался на то, что головой отвечает за меня перед аббатом, который повелел ему опекать меня со всем чадолюбием, в котором потворство моему любопытству всегда должно было соединяться с наущениями в благонравии и строгим присмотром, упредившим бы развитие ложных склонностей и податливость необдуманным решениям. Но я отнюдь не был мал, чтобы полностью исключить возможность самостоятельных поступков, не представлявшихся мне предосудительными, и поэтому я протестовал против того, чтобы мои побуждения обязательно были одобрены и разрешены к осуществлению кем-то иным, и тем более несправедливым было бы заточение в кладовке. В итоге садовник все-таки уступил моей устремленности, но, прежде чем отпустить меня, он провел со мной вразумляющую беседу, изобилующую нотациями, в которых не уставал предостерегать меня от того, чтобы я не дай Бог не стал жертвой собственной невнимательности. Как раз об этом-то он мог меньше всего беспокоиться, ибо я шел в город с желанием быть очень внимательным, уверяя себя, что смогу избежать любой ловушки, которая может попасться мне на пути. Итак, скрепя сердце, Вирдо все же отпустил меня из кельи, предварительно вооружив длинным и прочным шестом, который был выструган для сбивания по весне образовавшихся по стрехам сосулек. "Сосульничий" - так называлась эта должность, введенная в монастыре после того, как проезжавший через аббатство архиепископ Трира был поранен упавшей с кровли ледышкой, чуть не размозжившей ему голову. В итоге архиепископ вместо того, чтобы ехать в Лангр, с трудом возвратился к своей кафедре, а через месяц прислал в Люксейль шест для сбивания сосулек, от которых теперь заведено было своевременно избавляться. Специального "сосульничего" в монастыре, где был явный дефицит штата, не было; эти обязанности почему-то оказались возложены на старшего певчего. По легенде именно старший певчий отвлек тогда архиепископ какой-то несуразицей, привязавшись к тому со своим разговором совершенно невразумительного толка. Тот, постоянно щурясь от яркого весеннего солнца, захотел отступить в тень рядомвоздвигнутой резиденции, и случайно встал под падающую сосульку. С тех пор каждый новый старший певчий искупал грехи того предшественника-болтуна, сшибая по кровлям остроконечные ледышки. Шест поэтому был длинным и весьма крепким. Неизвестно, из какого дерева он был сделан, но на нем до сих пор не отложилось никаких щербин, указавших бы хоть отчасти на цели, которым служила эта жердь. В данном случае Вирдо дал мне её, чтобы я нащупывал ей дорогу, но прежде всего для того, чтобы смог защититься в случае внезапной опасности.
Город был очень сильно разрушен. Очень сильно. Трудным казалось вообразить себе, хотя бы приблизительно, как выглядел он в эпоху своих лучших дней. Я двигался вдоль стены, определявшей, видимо, восточный его рубеж. Она зияла пробоинами, щелями, в которых насвистывал ветер, и иногда - длинными проломами, у которых я останавливался и всматривался в равнину Марсова поля, расстилавшуюся у подножия града, частично сохранившую в себе останки былых сооружений, видимо, являвших собой руины обвалившихся загородных вилл. Чаще всего в той части Люксейль, которой я пробирался сейчас к термам, встречались "доходные" кирпичные инсулы с табернами и антресолями, на которых, как я позже узнал, селились семьи торговцев, открывавших на первом этаже свои небольшие магазинчики - антресоли были словно вдавлены внутрь, уходя в глубину фасада. Потолки там, где они уцелели, были сводчатыми. Вообще по пути я не раз поражался обилию сводчатых перекрытий, очевидно господствовавших в Люксейль здесь были и купольные и цилиндрические и коробовые и всяческие иные своды, являвшиеся ко времени застроек провинциальной модой Империи. Правда, как и бедная голова Трирского архиепископа, почти все они были раскроены, обратившись в решето для непогодицы. Возведенные как шедевры архитектурного гения, они были нещадно пропороты, иногда - напрочь сметены с домов, как пропали внутри инсул жалкие межкомнатные перегородки, сооруженные из переплетенных, покрытых штукатуркой ветвей. Здесь когда-то жили, веселились, торговали, а теперь, забредя иногда вовнутрь, я жался от холода и боялся, что одного моего дыхания будет достаточно, чтобы довершить разрушения. Между прочим меня сразу удивило сплошное насыщение "доходниками" восточных окраин Люксейль, ведь обычно в римских городах устраивалась внутриквартальная мешанина из инсул и особняков. Продолжая идти вдоль ограничительной стены, я вскоре вышел к подступам форума. Некогда сокрытый коробкой кирпичной ограды, сейчас он был виден уже издалека, легко узнаваясь по хорошо уцелевшему зданию базилики. Против ожидания площадь оказалась отнюдь не квадратной, а сильно вытянутой, как можно было понять из геометрии испещренных крупными брешами стен, окаймлявших его. Пригнувшись, я пролез в одну из таких пробоин, не считая нужным входить вовнутрь через, впрочем, довольно символические ворота. Даже пребывая в развалинах форум давал представление о прежней роскоши своего вида. Единственное, в глаза сразу бросалось нарушение пропорций, гармоничности внутренней застройки. Такое впечатление, что все здесь было перетасовано, переставлено, смещено. Я не мог понять в чем причина, и кто здесь играет в шахматы, передвигая монументы по доске площади. Форма её, как я сказал, была неправильной, и, когда я миновал входные портики, то увидел, как справа стена неожиданно подалась вглубь, широким полукружием раздвигая размеры форума, в то время как слева, нарушая симметрию, продолжая в этом месте перестроенную городскую ограду, высилась стена, выполненная совсем в ином стиле. Она была очень высока, почти в два раза превосходя высоту базилики, и являлась совершенно прямой, кирпичной, украшенной лишь изящной пристенной колоннадой, увенчанной терафимами. Путь к базилике - широкому зданию на высоком подии с рядами гранитных и мраморных колонн - шел не по прямой, а наискосок от входных ворот, Прежде, чем её достичь, я миновал высоченную триумфальную колонну, увековечивающую деяния некоего императора в обвивавших ствол раскрашенных рельефах фриза, укрупнявшихся кверху и рисовавших множество батальных сцен. Она была подобна шахматной фигуре, передвинутой незримым игроком, ибо возвышалась не в центре площади, а являлась очень близко сдвинутой к стене с терафимами. Точно также здание базилики располагалось теперь не на том месте, которое ей обещал стандартный римский форум, а сильно съехала влево, почти вплотную примыкая к той же стене, словно фигура короля, защищаемая у края шахматной доски. Как я сказал форум все же давал представление о своем былом величии, Точнее о величии императора, которого он призван был вознести. Я осматривался и понимал, что все здесь - отсутствие храма, мифологических росписей, колоссов богов, почтение к которым сменилось на культ государя (последний кроме восславляющей колонны угадывался в многочисленных военных трофеях, укрепленных в портиках и, конечно, ранее разложенных у колонн, в фигурах свидетельствующих покорность побежденных врагов, представленных ныне в виде атлантов на аттиках) - призвано было возвеличить военную мощь Империи, уже как будто бы не нуждавшейся в помощи богов - покровителей. Теперь уже не боги почитаются, а сами римляне, упивающиеся триумфальным шествием по завоеванным провинциям. В любом случае мощь эта была посрамлена временем и истоптана в пыль: орел с колонны упал, чтобы стать добычей тлена; трофеи, кроме вмурованных в стены, обрели новых хозяев (я думаю - в лице воинства Аттилы, который этими же доспехами потом унижал величие Рима) . Правая изогнутая стена, создававшая внутри себя два этажа торжественных галерей, хранила в мраморных нишах между полуколоннами бронзовые статуи некогда прославленных римских горожан. Прославленных людьми, но, видимо, время над ними зло посмеялось, одному снеся голову, другому вырвав язык, третьему выщербив все лицо. Все они были казнены временем, словно это не достойнейшие мужи Рима увековечивались здесь, а преступники были принуждены к вечному умиранию и вечному осмеянию. Словом, обглоданные веками обломки памятников форума, высились, словно кости поверженного и истлевшего Рима; даже нарушенная - по непонятной причине - композиция площади надсмехалась над всем, что создается людьми в их суетном стремлении к самообоготворению. Я пересек форум и вступил в базилику - трехнефную, с полукруглыми эксцедрами по сторонам, снаружи замаскированными стенами, изнутри же предваряемые колоннами. Пройдя через залы, выложенные желтыми и фиолетовыми плитами, можно было попасть в располагавшийся в дальнем правом углу вестибюль, двумя арочными проходами выводивший на улицу за пределы форума. Опираясь на массивные столбы, ввысь возносились крестовые своды, но, потому может быть, что пяты их лишь частично опирались на столбы, почти все они были полностью разрушены - чудом уцелело лишь одно из перекрытий, и я рассмотрел восьмиугольные профилированные кессоны, украшавшие его поверхность. Мой шест помогал мне: в полу во многих местах разверзлись проломы, открывавшие катакомбы гипокауст, отапливавших раньше залы базилики, и, прежде чем ступить дальше, я исследовал палкой, не замаскировано ли одно из таких отверстий снегом, уготавливая мне западню. А снег лежал почти везде в базилике, ведь в потолках остались лишь ничтожные зазубрины рухнувших сводов, и даже сейчас, когда на улице снег уже прекратился, здесь он все ещё шел, опадая через прорехи в потолке, будучи смахнутым ветерком с крыши. Перекрытия, словно вспоротые, видать и в самом деле были непомерно тяжелы, хотя, пошарив ногой в массах песка, занесенного сюда кем-то, я обнаруживал многочисленные керамические сосуды - пустопорожние болванки, бетонировавшиеся в своды и служившие как их облегчению, так и привнесению своими полостями-резонаторами раскатистой, перекликавшейся объемности в атмосферу базилики. Через прорезанные наверху окна свет косыми снопами орошал увядшие, облупившиеся росписи рельефного фриза, проходившего над колоннами. Оттуда на меня смотрели люди без лиц - во всех смыслах обезличенные историей и прожившие жизнь только для того, чтобы возомнить о себе : ведь они жили в Риме ! Так, должно быть, гордится заколотый гладиатор, умирающий под восторженными взглядами публики и считающий, что испустить дух в стенах священного города - это уже доблесть и милость богов.
Я покинул форум через триумфальную арку, увенчивавшую вход на площадь с декумануса - главной уличной магистрали с тротуарами высокими, чуть ли не в половину моего роста. Руководствуясь описанием, данным мне Вирдо, я дошел до первого перекрестка, разумеется, украшенного часовней, и, свернув налево, вышел к зданию терм. Оно в соответствии с бытовавшим обычаем было ориентировано так, чтобы с рационально использовать энергию солнечного света. Так, здание кальдария, то есть горячей бани, обособляясь от основного массива, было обращено на юго-запад. В час максимальной посещаемости терм солнце находилось в зените пекла и, нескромно проникая в окна calida lavatio, размаривало тела горожан своим даровитым жаром. Таким же образом фригидарий, или баня холодная, смотрел в противоположную сторону, сейчас, как и тогда, оставаясь в тени и всячески защищаясь от солнцепека. Термы состояли из двух комплексов, соединенных навесной галереей. Фасад их образовывали двухярусные субструкции, так источенные и изъеденные веками, что я с опаской протиснулся сквозь них к центральному входу и, перейдя площадь, вошел в комплекс банных сооружений. Интерьер здесь был роскошным, спроектированным и сложенным в самые лучшие дни Империи: полы и своды облицованы цветным мрамором, колонны обязательно украшены фигурными капителями, и повсюду - великолепные мозаики. Мрачный аподитерий, где раздевались римляне, с его простыми полками для одежды, на одной из которых я нашел железное стригило (скребницу), контрастировал с ослепляющей насыщенностью светом, которую являл собой бывший кальдарий. Трудно представить, как все здесь накалялось от пара и жара, ведь теперь тут тоже лежал снег, а стены, подчас украшенные лепниной, обледенели, дрожали от холода и жалили ладони своим мерзлым, недружественным прикосновением. На миг мне почудилось, что я вновь слышу беседы и веселый смех, раздающиеся у бассейна или вблизи апсиды, заключавшей круглую каменную чашу. Я мотнул головой, и это наваждение исчезло, снова оставив меня в мертвом мире этого покрытого ожеледью ледяного царства. Во всех термах наименее поддались разрушению и умертвлению живописные нимфеи, копировавшие природные гроты. Их стены рядились в растительные орнаменты и окантовывались фигурными гирляндами и сценами охоты. Украшения в виде гальки, пемзы или ракушек служили естественным фоном для журчавшего здесь источника, а нимфы, заселявшие углубления ниш, неслышно освящали этот фонтан, навевая буколические настроения. Для того, чтобы попасть в библиотеку, мне пришлось пройти сквозь анфиладу полуразрушенных залов, которые в своем воображении и только в нем я наделял функциями сферистерия, массажных, унктуария, комнат для отдыха, номерных бань и т.д. В одну из комнат с уцелевшим цилиндрическим сводом через окна занесло споры трав и семена деревьев. Теперь, рахитная и тщедушная, достаточно, однако, упорная, чтобы неумолимо разрушать каменный пол, здесь росла карликовая ольха, и, видимо, летом эта зала, где раньше, возможно, играли в мяч, превращалась в красочную оранжерею, ибо все здесь было в зарослях кустарников унизавших стены густоволосой порослью. Наконец, я вошел в библиотеку, которую я сразу узнал по нишам для хранения книг и шедшему вдоль стен подию со ступенями, позволявшему добираться до самых верхних полок с папирусами. По лестнице тут легко можно было подняться на ярус открывавшейся во двор колоннады, с которой, отдыхая от чтения, приятно было понаблюдать за занятиями гимнастов. Но влекло меня совсем иное: напротив входа, рядом с огромным, похожим на альков углублением в стене, предназначенным для статуй божества, укреплена была прямоугольная каменная дощечка, покрытая изморозью. Я смахнул рукавом образовавшийся белый налет и увидел ту самую, высеченную по монолиту, схему города, о которой мне намекал Вергилий. Вот он, настоящий Люксейль, ещё не поверженный столетиями, свидетельствующий о непревзойденном величии Империи. Вот театр, вот одеон, а вот и арена для гладиаторских боев. На краю Марсова поля - цирк. Сеть акведуков. Термы. И повсюду - бесчисленные виллы. Хоть вырос город из квадратного, типичного военного лагеря, деленного на четверти перекрещиванием кардо и декумануса, со временем, все более расширяясь по сторонам и вбирая в себя пригородные постройки - ремесленные мастерские, гостиницы и загородные особняки состоятельных горожан - он утрачивал четкость форм, изламывая линию своих укреплений, обретая полусельский облик на окраинных районах застроек. Постой-ка. Как же я сразу об этом не подумал ! Вот то, что удивило Вергилия, и мимо чего я прошел, не обратив на то внимания : ведь в самом деле площадь форума должна быть близка к геометрическому центру города и на схеме форум как раз изображался почти в середине, в центре диаметров многочисленных кварталов. Но я своими глазами видел его примыкающим к восточной границе Люксейль, после которой, как я был уверен, начинался уже пригород. Значит...значит первоначально город продолжался на восток от форума, а потом почему-то был поделен внутри себя на две почти равные части той стеной, вдоль которой я шел, направляясь к центральной площади. Почему был разделен город, что означает возведение этой стены от севера к югу ? Понятно, кстати, почему форум показался мне изуродованным, лишенным стройности в своих очертаниях и строгости в своей композиции. Видимо, построенная по кардо - второй по важности городской улице - стена пролегла через площадь, отделив её значительную часть, отчего все в ней показалось мне смещенным влево. Итак, Люксейль был поделен почти пополам. Но в чем причина ? Теперь я припоминал те ничтожные останки сооружений, видневшиеся сквозь бреши в стене и казавшиеся мне следами вилл, выросших за пределами города. Но это, оказывается, и был сам город. Только заброшенный, покинутый. Что-то произошло, отчего люди ушли оттуда, став селиться к западу, а оставленные ими кварталы были отгорожены от остального города высокой стеной. После этого Люксейль стал раздаваться вправо от кардо, а обезлюдившие восточные кварталы постепенно хирели, ветшали и сравнивались с землей. Что же случилось ? Я ещё раз всмотрелся в схему, и мне захотелось побывать по ту сторону стены, увидеть заброшенный город, от которого ещё дальше к востоку простиралась ширь Марсова поля. Выбравшись на улицу, я поспешил к восточной окраине, желая успеть до наступления темноты, которая скоро должна была начать сгущаться. Перебравшись через делившую Люксейль стену, я, честно говоря, колебался, идти ли мне дальше, и с опаской разглядывал руины строений. Вдали, словно опираясь на склоны холма, виднелись развалины театра, очевидно замененного в последствии на построенный в черте города одеон. Театр был обращен к Люксейль двумя ярусами обрамленных полуколоннами арочных галерей. Арки были узки, и примыкавшие тесно к друг другу вертикали колонн последовательно уменьшались по высоте, иллюзорно, обманывая глазомер, вознося ещё выше так низко павшее теперь здание (позднее, побывав там, я увидел и бассейн орхестры - там разыгрывались представления на воде - и маленький храм на верхнем ярусе театрона, и ниши на сцене, из коих одна до сих пор заключала в себе статую императора, имя которого изгладилось с мрамора, а остальные дополнялись причудливыми фронтонами, заполнялись изысканными вазами и украшались росписями на мифологические сюжеты - и все эти детали заставили меня живо представить разыгрывавшиеся тут мрачные, насыщенные злой патетикой, картинами губительного рока и пагубными страстями эмоциональные драмы Сенеки, где Медея готовит яд для собственных детей, а прорицатель Тиресий вызывает к жизни души умерших; я вообразил также ажиотаж зрителей, подстрекающих Иокасту к самоубийству, мимов сцены, пытающихся уподобиться богам, и оживленную ритмику пантомимы Пилада, словно поднявшую для меня из забытья несчастного Париса, убитого из зависти Нероном). Видимо, из-за опустошения этой части Люксейль утраченный театр Марсового поля был возмещен скромным городским одеоном, прятавшимся в квадратное крытое здание, представлявшее на самом деле нечто среднее между одеоном и его миниатюрным двойником - аудиторией, и, не смотря на свою незначительность, вполне, после необходимости отказаться от театра, удовлетворявшее интерес тающих почитателей драматического искусства, которое в Империи постепенно приходило в упадок. С другой стороны становилось ясно, что именно потеря театра, произошедшая тогда, когда город по непонятной причине начал приходить в запустение, была причиной постройки на западе от Люксейль небольшой арены для гладиаторских боев. Ведь если бы театр не оставили, то вряд ли бы возвели амфитеатр, который сам по себе не нужен, если для поединков можно приспособить театральные помещения, снеся в нем нижние ряды сидений. Между прочим, амфитеатр уцелел менее всех остальных зрелищных сооружений; его субструкции ниспали, а арена обрушилась, обнажив галереи ипогей, которые, казалось, до сих пор хранили в себе зрелище трупов, сносившихся вниз по мере представления, и неистовое рычание разъяренных тигров, пытающихся перекусить прутья клетки и вырваться на сражение с обреченным гладиатором. Осмелев, я пошел к Марсовому полю, по которому когда-то мчались колесницы, гуляли горожане, играли в мяч, бросали диск, упражнялись в борьбе. Как писал Страбон ? "Здания, лежащие вокруг, вечнозеленый газон, венец холмов, спускающихся к самой реке, кажутся картиной, от которой нельзя оторвать глаз". По всей видимости, так было не долго, и это поле постигла та же участь, что и всю восточную часть Люксейль : оно опустело, и люди стали гулять в другом месте. Куда ни глянь, всюду - безжизненная пустота и одна только пустошь ровного снежного покрова, расстилавшегося от края и до края. Направившись к северо-востоку, я в конце концов вышел к развалинам овального, очень сильно вытянутого цирка. Отчасти потому, что он был безмерно длинен, отчасти в силу того, что во многих местах он либо совершенно сравнялся с землей, либо порос гущинами кустарников, я, стоя там, где находились загоны для лошадей, не смог различить противоположной полукруглой трибуны, замыкающей стройный комплекс всего ансамбля. Прекрасно уцелела продольная ось цирка - спина, и на ней неплохо сохранились статуи в честь Виктории, эдикулы, фонтаны и множество обелисков, с которых я смахивал снег своим шестом. Пройдя всю длину ипподрома, я заметил, что у дальних трибун стена заканчивалась очень рано, и я представил, как, пользуясь этой свободой, получая в распоряжение огромную площадь для маневров, всадники наслаждались легким разворотом, но в то же время пытались обогнуть спину по минимальной траектории, стремясь обойти соперника и ради этого не щадя своих лошадей, отчаянно вспыливающих землю на виду у задыхающихся судей. И зрители. Они орут, улюлюкают или подбадривают наездников, заключая новые пари и в чистую проигрывая свои ставки, после чего, желая отыграться, ставят на кон вдвое большие суммы. Стоя сейчас у истрескавшегося закругления спины, я словно становился свидетелем и резвых скачек, где конь иногда спотыкался и падал, вынуждая рухнуть и своих преследователей, и кипевших вокруг арены эмоций жаждущих наживы и красочного зрелища горожан. Все это было, казавшись непреходящим, но теперь остались лишь остовы, и призраки давно ушедших времен. О восстановлении этой ли Империи следовало думать - Империи страстей, стяжательства, сладострастия, властолюбия? Нет. Если удастся поднять из праха Римскую Империю, она будет совсем иной, где на аренах будут соревноваться добродетели, а всадники станут во спасение души взнуздывать коней подвижничества. Так я размышлял, покидая цирк и направляясь в сторону монастыря.
И тут я увидел её. Да, я почему-то сразу подумал, что это именно волчица. Волчица, а не волк. Она пряталась в скоплении кустарников, небольшим островком выросших на краю Марсова поля. Волчица таилась и неподвижно следила за мной, думая, что я её не замечу. Конечно же, она ждала, пока я пройду мимо, чтобы внезапно наброситься на меня и не дать мне даже возможности защититься. Что делать? Бежать? Тогда она поймет, что я её испугался, и тогда она выскочит и погонится за мной, узнав, что я беззащитен. Хотя почему беззащитен - подумал я, падая в снег и желая чуточку отлежаться - у меня же есть шест, которым, при определенной ловкости можно было бы отбиться от хищника. Да. Ты не должен бояться этой самки, демонстрируя, что ты сильнее её. Я приподнял голову: она все ещё там. Не шевелится. Выжидает. Если сейчас она выбежит, возьми жердь на изготовку и отмахивайся что есть мочи, пока она не заскулит и не заковыляет к лесу, роняя за собою кровь...Но что-то больно долго она сидит в своей засаде, словно это она меня страшится а не наоборот. Да, она по-прежнему там. Совсем не птица, а волчица. Волчица! Чего же она ждет? Чуть приподнявшись, я пополз к кустам, ожидая схватки со зверем и время от времени с удивлением вглядываясь в него, будто окостеневшего, замершего от долгого ожидания добычи. Чем ближе я приближался, тем сильнее росло мое изумление. Наконец, я перестал ползти и встал, отряхиваясь от снега и уже без всякого испуга всматриваясь в гущу кустарника. Передо мной был не живой хищник, а всего лишь каменное его изваяние, памятник! Только лишь статуя волчицы, но отнюдь не она сама! Кто воздвиг её здесь, вдалеке от города, где, казалось, всегда торжествовало одно лишь безлюдье? Исполненный интереса, я пошел к ней, желая осмотреть скульптуру и уяснить, быть может, с какой целью она была здесь поставлена. И вдруг... земля пропала подо мной, разверзлась. Что-то сбило меня с ног, и я, вскрикнув, упал как подкошенный, быстро скользя по уклону к внезапно открывшейся в земле впадине. Я пытался ухватиться за что-нибудь, удержаться от падения в эту яму, но руки мои не схватывали ничего, кроме снега, и я неумолимо скатывался в глубину образовавшегося провала. И вот я уже лечу в него и истошно зову на помощь. Но без толку. Меня никто не услышит. Это все. Это конец. Это смерть моя...
год 1885
Вы спрашиваете меня о моей последней встрече с Еленой Степановной ? Я меньше всего тогда думал, что она окажется последней. Кстати, в итоге я оказался прав, и нам ещё предстояло встретиться в будущем, когда от жизни уже ничего не требуешь, да и сам уже ничего не можешь дать ей. Тогда единственное упование - это тишина и покой, а все, что может нарушить установившуюся безмятежность - хорош ли этот быт, или нет - оказывается непрошеным гостем. Но когда мы с Леной в последний раз виделись ( я опять упомянул это слово "последний"; да ведь не последний же !), кажется в... 1885 г. Да, именно тогда я участвовал в этих знаменитых раскопках в Акмиме, ставших одними из самых удачных в моей карьере. Да, я с определенностью могу сказать, что это было именно в 1885 г. Так вот, тогда мы были ещё молоды, во всяком случае ощущали себя молодыми. Во всяком случае я так думал о себе. Ведь что такое сорок лет ? Это пора расцвета жизненных сил человека, когда все блага бытия вбираешь полной грудью, а все невзгоды и неурядицы - что ж, в этом возрасте ещё достаточно энергии, бодрости, оптимизма и отпущенных тебе лет, чтобы перебороть несчастья, пренебречь ими, постараться забыть о них... Вы легко сможете представить меня таким, каким я был в сорок лет. Никогда я не был так счастлив, как тогда. Я находился в зените своего научного энтузиазма, и самые неразрешимые казусы вынуждены были капитулировать передо мной, перед моим напором, с которым я стремился двигать вперед археологию, перед моим везением, которое есть не что иное, как сумма знания, опыта и рвения. С моего лица никогда не сходил загар. Дело не только в том, что я почти безвылазно жил в Египте, просто я всегда очень легко загорал, и при этом, возвращаясь в Россию, долго, очень долго сохранял этот смуглый цвет кожи, который никак не хотел смываться и, к моей большой неловкости, сильно выделял меня из толпы бледнолицых петербуржцев. Здоровье мое было отменным, страсть к жизни - просто кипучей, фортуна во всем благоприятствовала мне - одним словом у меня не было никаких причин роптать на судьбу. Правда - почти никаких. Моя личная жизнь до сих пор не была устроена. Но я не только не винил в этом никого, кроме себя, но даже к собственным самообвинениям привык настолько, что незаметно начинал свыкаться со своей холостой жизнью. Я начинал забывать, для чего я, собственно, занялся наукой. Поначалу ведь цели, которые я преследовал, были совсем иными, чем романтическая жажда открытий и стремление к научным степеням. Последнее было лишь средством, а не целью. Оно рождалось из какого-то чувства соперничества, подхлестываясь, так сказать, извне, а вовсе не из-за моей любви к науке. Но просто из-за любви. Из-за моей любви к ней, Лене - для вас она Елена Степановна. Мог ли я не пойти в науку, если Лена безумно стремилась в нее, если она все время так благоговела перед ученым людом, всегда мысленно приобщая себя к синклиту бородатых мудрецов, взиравших на неё поначалу с картинок в учебниках ? Как она стремилась встать с ними вровень, как самопожертвенно и истово хотела войти в их элитарный круг ? О, если я вам все расскажу, вы можете не поверить, как девушка - я мысленно возвращаюсь к нашим студенческим годам - может так истязать себя, так немилосердно к себе относиться ради покорения какого-то призрачного научного Олимпа. Мы же ведь смеялись над ней тогда. Нам невозможно было представить, что она сможет добиться своих целей, которые нам казались фантазией, пустой одержимостью. Однако, её настойчивость, эти её ночные штудии, эти занятия языками, профессорские семинары, бесконечные курсы, стопки книг, закладки которых на глазах передвигались все дальше и дальше к последним страницам все это постепенно заставляло нас пересмотреть свои взгляды на её усилия. Нет, не потому, что мы поверили в нее. Просто стало ясно, что если наши ернические подшучивания будут продолжаться, она в конце концов перестанет нас впускать в свою жизнь - нам уже не будет места в её помыслах. Я же, как я вам рассказывал, был одержим ею так же, как она была предана науке, и я не мог себе представить, чтобы Лена исчезла из моей судьбы. Я знал, я с самого начала знал, что мы созданы друг для друга, и она, вторя моим переживаниям, не раз говорила мне, что ей ни с кем так не было хорошо, как со мной. Да, она отвечала мне взаимностью, и я чувствовал, что для того, чтобы не потерять её, чтобы мы были вместе, я должен стать на её высоту, должен преодолеть себя, заняться тем, что мне в принципе было неинтересно - только так я не упал бы в её глазах. Я помню мои такие нелепые первые усилия в деле постижения наук. Что это было, как не зубрежка ? Как не эклектическое начетничество ? Как не беспорядочное, волевое чтение совершенно нелюбопытных мне книг ? Но теперь я мог поддержать с ней разговор не только о погоде, не только о взбалмошных соседях, с которыми совершенно невозможно жить. Было совершенно очевидно, что чем больших результатов я достигну, те более ценен буду в её глазах, а заслужить её - что было для меня важнее ? Вот так Бог предопределил мне в жены женщину, для которой ученость мужчины, если уж она думала о спутнике своей жизни, являлась самым первостепенным качеством. Так нехотя я приобщался к знаниям, все более, однако, втягиваясь в них, все менее становясь к ним равнодушным. Избирая круг своих интересов, я делал осознанный выбор, стремясь идти совершенно независимой от Лены дорогой: она выбрала Францию, я - Египет, она интересовалась историей, я - археологией, её привлекало христианство, я же погрузился в какие-то дебри, в совершенно доисторическую эпоху. Посмотрите, что любовь делает с человеком : разве мог я представить, что точно также буду читать по ночам, заказывать в библиотеках книги на иностранных языках, выгадывать каждый час, каждую минутку, чтобы посвятить их образованию ? Однако, это не только было именно так, но я всерьез начинал интересоваться тем, чем занимаюсь. Годы моей учебы, а прежде всего годы моей работы - это время моего, можно сказать, "яростного" служения науке. Разъярен я был не только бесконечным по сути числом прорех в наших знаниях о древнем мире, но большей частью тем, что мои занятия - экспедиции, раскопки, конференции, публикации - никак не делают нас с Леной ближе. Мне приходилось часто, иногда подолгу быть в северной Африке, и я бесился оттого, что Лены нет со мной, что нас разделяют такие огромные величины как расстояний, так и времени. Я был в замкнутом круге: бросить науку - я в миг перестану что-либо значить для нее; заниматься Египтом - значит вечно находиться от неё вдалеке; и только письма вот все, что нас соединяло. Я понял, в какую ловушку я угодил, и в этом кругу я бегал, словно белка в колесе. Возможно, эта моя ярость была одной из причин моей непоседливости, моего трудоголизма, моей неугомонности, которая вызывала восхищение у иностранных коллег. Время шло. Я все больше увлекался своими исследованиями, все длительнее квартировал в Каире. Работа невольно из средства превращалась в цель. И я и Лена постепенно привыкали к тому, что наши встречи нечасты и коротки, выпадая на те отдушины, через которые мне иногда удавалось выбраться из своего Египта. Я любил её. Она любила меня. Но в наших непродолжительных свиданиях всегда ощущалась двусмысленность. Очевидно, что я был теперь слишком поглощен своей работой, невольно отвыкая от Лены во время своих длительных командировок. Возможно поэтому при наших встречах ей казалось, что я стал равнодушен к ней. Привив мне страсть к науке, она невольно содействовала нашему отчуждению. Если мы были вместе дай Бог, чтобы месяц в году, это, конечно, никак не способствовало усилению близости, приведшей бы к заключению брачного союза. Иногда у меня сердце просто разрывалось и начинала мучить бессонница - ну как мне быть, что делать в такой ситуации ? Я понимал, что моя любовь постепенно становилась в зависимость от моей работы. Чувствовала это и Лена.
Итак, теперь вы можете представить мой облик тридцатилетней давности - с одной стороны на зависть харизматический, с другой - совершенно незадачливый. Сразу скажу, что в ту встречу, которая состоялась между нами в мой приезд в Петербург в 1885 г. , очень многое что в моей жизни изменилось: я как бы вновь вернулся к истокам бытия, к его движущей силе, вновь осознав, что в мире нет ничего важней моей любви к Лене, и отныне работа снова отошла на второй план.
Вообразите меня наряженным с иголочки, по последнему крику моды. Кажется, одет я был точно также, как на той фотографии, где я стою рядом с морским вокзалом Каира. Раскопки в Акмиме стали известны на весь мир. В эту экспедицию было вложено много денег, и это позволило мне ощутимо поправить свое пошатнувшееся материальное благосостояние. То ли в шутку, то ли всерьез я разговорился с итальянцем Бенвенуто о том, что одевают сейчас в Европе, при этом намекал, что, желая приодеться по последнему писку, я решусь на любые растраты. Итальянец не очень-то сочувствовал моим намерениям. Сам он тыкал мне в журнал с изображениями очередного достижения человеческого разума телефона, прикидывая, какую модель он приобретет, вернувшись к себе на Апеннины. Надо сказать, что он сумел внушить мне большой интерес к этим громоздким, а иногда до чрезвычайности уродливым аппаратам, и я подумал, что подобное изобретение было бы с моей стороны весьма недурным подарком Лене. Я задумал сделать ей сюрприз: когда приеду в Петербург - обязательно куплю в салоне подобную штуковину и оплачу линию Лены на год вперед, что явит ей трогательный знак внимания с моей стороны. Действительно, телефонная сеть в Питере запущена, но, принадлежа частной компании, из-за высокой стоимости доступна далеко не всем, и тут более чем к месту будет выказать Лене мою щедрость, свидетельствующую о том, насколько частой гостьей она является в моем сердце, когда внутренняя связь с ней у меня не прерывается ни на мгновенье, словно, так сильно разделенные пространством, мы не прекращая беседуем по телефону. Однако, не смотря на увлеченность Бенвенуто, я продолжал пытать его по поводу того, что модно сейчас в европейской одежде, ведь больно уж мне хотелось пощеголять в Петербурге перед Андреем, утереть нос этой зазнайке, не вылезающему из рукописных собраний и воображающему себя крупнейшим знатоком древнерусских летописей. Нет слов, он заставил уважать себя, но это не дает ему основания важничать передо мной, кичиться своим реноме. Почему-то меня, как ученого, он упорно не хочет признавать. Посмотрим, что он скажет, когда наша акмимская находка прогремит на весь мир, и когда я заявлюсь к нему разодетый подобно стильному европейскому аристократу. Своими упорными расспросами я, наконец, вывел итальянца из себя, и тот, захлопнув журнал, сказал: "Слушай, модник, когда мы приедем в Милан, я тебя не выпущу из примерной до тех пор пока ты не взвоешь: Все, я сыт по горло этими...как по-английски...бретельками." "Отлично, - сказал я. - Но только не бретельками, а подтяжками"
Однако, в Петербурге Андрея не оказалось, и я, поразмыслив, тут же отправился к Лене - она жила с бабушкой на её квартире у площади Островского. Только моя рука потянулась к звонку, как я заметил записку на двери : "Звонок не работает. Просьба стучать". Я ещё раз поправил воротник рубашки, придирчиво оглядел себя, смахнул несколько грязных клякс, оказавшихся на кромке плаща, и постучался в дверь. Скоро она открылась, и я увидел Лену. Должно быть, я застал её за домашними хлопотами. Одета она была в скромный, безыскусный халат, а выглядела очень просто. Может, занятая хозяйством, она слишком небрежно убрала свои густые волосы, скрепив их сзади заколкой, и теперь некоторые из них либо слегка выбились, либо, свесившись, окаймляли светлыми прядями её милое лицо, которое каждый раз по-новому очаровывало меня: то живостью и грациозностью выражавшегося в нем ума, то проникновенным взглядом, как бы освещавшим все вокруг, то угадывавшейся в нем полнотой характера, вмещавшем в себя и необычайную требовательность к себе, и обаяние общительности, и игру в кокетливость, и поразительную глубину священного женского начала в ней, перед которой всегда хотелось приклонить колени. Я знал, что эта её интеллигентность - явление врожденное, наследственное. К сожалению, я даже ни разу не видел её родителей, которые трагически погибли, когда она была ещё совсем малышкой, но, зная её бабушку, я мог не сомневаться в том, что благородство и изысканность - их фамильная черта. Марья Сергеевна так звали бабушку, души не чаявшую в своей любимой внучке - так естественно, с первого же взгляда умела внушить уважение к себе - почтительность, которую испытывает каждый, кто склонен отдавать дань не только старческим сединам, но и рафинированности духа, которая читалась в её облике, и которая, очевидно, была не в малой мере залогом того нравственного достоинства, что передалось Лене, придавая её духовной осанке стать и выразительность подлинного аристократизма.
- Привет. Не ожидала ?
- Нет...То есть...Ну как ? Ты же не предупредил о приезде. Я...не подготовилась. Так неожиданно.
Ее лицо, поначалу напряженное, чем-то озабоченное, просветлело, и в том, как на несколько мгновений озарился её лик, я лучше всяких слов понял, как рада она меня видеть. С другой стороны мне было неприятно: рядом с её простотой, откровенностью, одомашненностью мой иностранный лоск казался искусственным, исполненным принужденности. Тот шик, которым я хотел сразить Андрея, теперь ставил меня в неловкое положение, делая из меня самодовольного, напыщенного франта. Мой франтоватый костюм совершенно не к месту ставил ненужные границы между нами, подчеркивая установившуюся двусмысленность наших отношений ещё и тем, что я ненамеренно рисовался своим академизмом, в погоне за которым можно было утратить глубину взаимопонимания.
- Ты не пригласишь меня войти ?
- Ох, извини, конечно проходи. Раздевайся. Ух, какие большие чемоданы. Что же ты даже не сообщил ничего, не известил меня ?
Сняв шляпу, держа тулью в правой руке, я принялся разглагольствовать:
- Ну, во-первых я не думал, что нужно обязательно предупреждать: мне хотелось нагрянуть к тебе внезапно, как приятная неожиданность. А во-вторых на самом деле я хотел остановиться у Андрея и прямо с вокзала рванулся к нему. Но его нет. Представляешь, никто не знает где он. А ведь я его предупреждал, что приеду. Ему-то я как раз сообщал. Писал, и даже телеграфировал. Что ты, без толку! Я хотел его обнять, хотел вспомнить молодость, хотел поговорить о том, о сем - столько ведь всего накопилось, о чем хочется рассказать. И что ? Оказывается, я ему напрасно писал: жди, жди. Он просто не получил моих телеграмм. Честное слово, такое впечатление, что его вообще не бывает в Петербурге. Ты случайно не знаешь, где он ?
- Откуда ? Хотя.. ты знаешь, вроде бы говорили, что он сейчас в Минске. По-моему, конференция по Нестору.
- Вот ! Так я и знал. Вот для меня дружба всегда на первом месте. Вру - на втором, после любви. После, - я приблизился к ней и поцеловал, - после любви к тебе.
- Да ?
- Да. А этот мошенник так зазнался, что, я не знаю, избегает ли он меня, презирает - я не пойму. Тебе не кажется, что он слишком возомнил о себе ? Я ведь между прочим тоже не последний человек в науке. Но почему я должен стоять на зловонной лестнице, оббивать свои кулаки о его дверь, потом искать носильщиков, чтобы они помогли перенести мои вещи к тебе, почему он совершенно наплевал на меня, этот старый плут, а ? Он случайно не умрет от самомнения ?
- Не знаю. Я его практически не вижу. Но... я слышала, что он очень испортился. Говорят, что его заела гордыня. Не знаю, смог бы ты теперь назвать его своим другом.
Зацепив шляпу за вешалку, я ткнул в Лену указательным пальцем:
- Он мой друг. Ты понимаешь ? Друг. Настоящий друг. Поэтому, как бы он там не помавал своими треклятыми лаврами - мне все равно, лишь бы я мог его увидеть и натрепаться вдоволь. Кстати, ты знаешь, что я ему привез ? Его дневники. Ты читала его дневники ? Нет, не те. Я говорю о других, которые он писал, когда мы с ним жили в одной квартире. Когда у нас с ним был один кусок хлеба на двоих, и мы в день пополам делили один стакан чаю. Между прочим, когда с человеком очень долгое время пьешь из одного стакана, ты с ним становишься кровным братом. И если бы мы с ним тогда столько лет не преодолевали эту нищету, ты была бы права - мне в конце концов опостылело б его чванство, и я о нем думать бы забыл. Но когда столько пережито вместе можно стерпеть любую выходку с его стороны.
К этому моменту я уже окончательно избавился от пижонских, в миг опротивевших мне плаща, шарфа, перчаток и почувствовал, что мы сразу же стали ближе друг к другу.
- Но оставим этого пройдоху, - теперь я взял её за плечи и с нежностью приблизился к её устам, к её очам, выискивая перемены в её взоре, в частоте её дыхания. Господи, я так давно её не видел. - Ну как ты ? Как ты поживаешь ?
- Да...так, не очень. Как все.
Я долго-долго разглядывал её глаза, а потом очень нежно поцеловал в губы. Она была несколько напряжена и норовила выскользнуть из моих объятий. Понятно - ведь как ей неловко быть сейчас такой простой рядом с моей респектабельностью. Господи, да она просто чувствует себя неряхой и дурнушкой и от того стесняется моих ласк. Как ей показать, что её безыскусственность для меня стократ важнее любой духовитой повапленности ! Я вдохнул её аромат, в котором было много от запаха неприбранной постели, кипяченого белья и той щемящей душистости, что наполняет быт пожилого человека - её бабушки летучего благовония лекарств, газет и пряного привкуса чая.
- Здравствуй, - прошептал я. - Я очень, очень, очень рад тебя видеть.
Она продолжала тихо сопротивляться настойчивости моего горячего дыхания, но на миг остановилась, и, глядя куда-то вниз, произнесла:
- Я то же. Тебя так долго не было.
- Семь, восемь...Девять месяцев. Безумно долго. Сколько людей успели влюбиться за это время, и сколько разлюбить. Я о тебе очень часто вспоминал. Честно-честно.
- Да ? Я тебе снилась ?
- Конечно. Я видел тебя по ночам, облаченную в наряды египетской царицы, и весь народ, и жрецы, и боги - все поклонялись тебе при этом.
- Царица Египта ? Даже во сне ты не отделял меня от работы ?
- Что ты ? Ну что ты говоришь ? Ты же знаешь, что ты для меня главнее всего. Но работа - кстати, ты же понимаешь, что я занялся ею только ради тебя - не может не преследовать меня даже ночью. И во сне я произвожу раскопки, и в сновидениях я совершаю открытия - ведь только так можно чего-нибудь добиться.
- Да, но только работа для тебя стала теперь намного важнее меня. Сколько писем ты мне написал за это время ? Одно послание в месяц, написанное быстрым почерком и всегда укладывающееся в двадцать строк. Эта твоя стандартная приписка: "Извини, меня ждут. Нужно срочно идти" - так выводит меня из себя.
- Прости. Прости меня. Ты знаешь, что такое археология. Пока песок не залепит глаза, не засыплет уши, не заткнет рот, надо трудиться. А уж там возвращайся в свою палатку, отмывайся, наспех перекусывай, и затем вались замертво на лежанку, чтобы чуть свет опять отправиться на встречу с самумом. Только так можно снискать почести и заслужить репутацию мастодонта научного мира. Разве ты не мечтала об этом с самой юности, разве не тратила всю свою молодость на то, чтобы приблизиться к увенчанным небожителям, своим кумирам, sapientipotens архистратигам, выводящих в своих лабораториях высоколобых гомункулусов ?
- Да. Тогда это было главным для меня. Но не сейчас. С возрастом переосмысливаешь жизненные ценности, и на первое место выходит совсем другое любовь, семья, дети.
- Ах вот что...Извини, я просто не успеваю следовать за твоими приоритетами. По-моему их нельзя менять, ибо иначе можно устроить из жизни сумбур, сумятицу. Я если уж чем занимаюсь, так я до конца пойду, чтобы достичь в этом совершенства. Когда-то очень давно, чтобы не потерять тебя, я решил стать ученым. Но если я поставил перед собой такую цель, так надо добиться её. Только-только я начал чего то достигать, только-только получил первое признание в мире и... теперь я узнаю, что, оказывается, для тебя это уже не важно.
- Важно, очень важно. Я разве не делаю все, чтобы история стала хоть чуточку понятнее ? Но для чего все это ? Зачем ? В конце концов мы ведь живем не для этого.
- А для чего ?
- Для того, чтобы рядом всегда был любимый человек, чтобы всегда можно было поговорить с ним, обнять его, поцеловать.
Я разомкнул свои объятья и, будучи взъярен до крайности, ударил себя по лбу:
- Черт, я идиот ! Идиот ! Я для чего все это делаю ? Для кого я ....гнию в этих песках, не зная, что такое город, улицы, кухня, кровать, супружеская близость ? Для тебя. Для того, чтобы быть достойным тебя, чтобы ты не разлюбила меня.
Она покачала головой:
- Мне это сейчас не нужно. Я не хочу быть одной.
- Вот так вот !
Я меньше всего ожидал подобного разговора. Уже завтра мне нужно отправляться обратно, и с каким настроением я теперь поеду ? Перебори себя говорил во мне внутренний голос - умерь свою вспыльчивость, иначе ты можешь потерять Лену. Прими её точку зрения. Сделай все для того, чтобы вновь расположить её к себе, чтобы все вновь стало так, как прежде. Я снова обнял её и попытался приголубить:
- Ты права, ты как всегда совершенно права. Мне надо измениться, больше времени уделять тебе. Хорошо, я вновь сделаю так, как ты скажешь, как ты захочешь. Главное - чтобы ты была счастлива, главное - чтобы мы были вместе. Скажи только: ты по прежнему любишь меня ?
- Да...
- Я для тебя по-прежнему что-нибудь значу ?
- Конечно.
Я поцеловал её в губы, в подбородок, в щеки:
- Это самое важное. Я тебя тоже очень сильно люблю. Хорошо, я буду предпринимать меры для того, чтобы закончился этот египетский период в моей жизни, буду стремиться побыстрее вырваться оттуда и осесть навсегда в Питере, став образцовым горожанином. Что ж, буду отсюда следить за книжными новинками, сам начну писать книги. Отлучаться буду только на конференции... Но пойми, я не могу сделать это прямо сейчас. Меня не поймут, если я внезапно остановлюсь. У нас составлен план, по которому мы в ближайшее время должны провести ещё несколько экспедиций.
- Сколько времени на это уйдет ?
- Три-четыре года. Но это нужно завершить, иначе все мое будущее будет под вопросом. Я тебе обещаю, что после этого я остановлюсь и уже не буду с тобой разлучаться. Хорошо ?
Она сомкнула веки, сдерживаясь от того, чтобы не расплакаться:
- Прости меня, - сказала она, едва слышно.
- За что ?
- За все. За то, что сделала тебя несчастным. За то, что так приняла тебя. За то, что ты меня любишь, действительно любишь, по-настоящему, нисколько не играя в любовь, не подменяя ее...
- Глупости. Не вздумай только разреветься. Я совсем не несчастлив. Наоборот - я счастлив, что ты у меня есть, счастлив, думая о том, что ты будешь моей женой, что у нас с тобою будут дети...
- Не продолжай. Пока не продолжай. Мне сейчас не очень хорошо. Извини, так некстати глаза на мокром месте.
Я попытался её успокоить:
- Пустяки. Я хочу, чтобы ты знала, что ты самая, самая лучшая. Это ты прости мои измены тебе со старинными безделушками. Потерпи ещё немного. Я понимаю, как я ответственен за твою брошенность, за твое одиночество. Это я делаю тебя несчастливой. Скоро будет так, как мы оба с тобой мечтаем. Еще чуть-чуть, и наши желания сбудутся: мы будем вместе и уже не станем разлучаться никогда-никогда. Ты слышишь ?
Видимо, глаза у неё набрались слез, и от волнения она не могла ничего вымолвить, поэтому она просто кивнула мне и уткнулась в мое плечо. Мне стало её так жалко. Я вдруг понял, сколько горьких ночей принес я ей, на какие тяжелые минуты подчас обрекал Лену.
- Ну все, успокойся, - поглаживал я её. - Ну хватит тебе. Давай пройдем в комнаты. Я так давно не видел твою бабушку.
Я уже направился к двери в гостиную, но Лена, смахивая свои слезинки, решительно воспротивилась этому:
- Стой, стой ! Не входи ! Не входи, слышишь, не входи пока !
- Почему ? - спросил я недоуменно.
- Ты же не предупредил меня, что приедешь. У меня настоящая чехарда в комнатах. Не хочу, чтобы ты видел, какой бедлам я могу иногда устраивать. Побудь немного в столовой, а я пока быстро приберусь.
- Хорошо. Но я бы совсем не испугался, я же знаю, какая ты хозяюшка.
Я развернулся к столовой, но случайно зацепился за какой-то провод, который был протянут поперек коридора, уходя наискосок в гостиную.
- Ч-черт, - выругался я. - Что это у тебя здесь ?
- Не сквернословь, - улыбнулась она. - Это сюрприз. Как ты сказал "приятная неожиданность". Или ты думаешь, что мы специально установили капкан для непрошеных гостей ?
- Но что это ?
- Скоро узнаешь. Пока несколько неудобно. Все недосуг спрятать провод. Мужских рук не хватает.
Осталось набраться терпения и скоротать время в столовой, обдумывая минувший разговор и приходя к неутешительным выводам: все в наших отношениях складывается не так, как хотелось бы, не так, как задумывали мы, учась в Университете. От кого все зависело ? Только от меня. Что-то я не так делаю.
Когда Лена пригласила меня пройти в гостиную, она выглядела уже иначе: платье с блестками, на щеках румяна, прелестная брошка, заколовшая тщательно причесанные волосы.Но я смотрел не на её украшения, а на саму Лену - она как будто бы расцвела и вся преобразилась от своего счастья: сегодня у неё был праздничный день, ибо она не была одинока. Войдя в комнату, я нашел её превосходно меблированной и отметил, что обстановка здесь значительно изменилась с момента моего последнего приезда. Салатные гардины очень гармонировали с доминирующим цветом нового мебельного гарнитура, например со стульями, чьи элегантно-овальные спинки были обтянуты темно-зеленым штофом. Из новых приобретений тут же бросилось в глаза пианино, над сверкающими от света клавишами которого была оставлена партитура, перелистываемая небольшим сквозняком. Над ним - тоже нововведение - висело множество фотографий, главным образом запечатлевших Лену и её коллег по научному цеху. Мне показалось, что портреты развешаны несколько беспорядочно: например, в нижнем ряду было три фото, над ним два, затем четыре и потом ещё три, причем между отдельными снимками зияли иногда большие пробелы: такое впечатление, что от ветра или чересчур темпераментной игры на пианино часть портретов упала, разбившись. Я уже хотел обратить свое внимание на это обстоятельство, как моим взором целиком завладела одна диковинка, стоявшая на столе - к этому изделию и тянулся тот самый шнур, который попался мне под ноги в коридоре. У него был циферблат из тридцати делений, и, конечно, это и не часы и не барометр. Скорее уж весы, ибо по сторонам, будто гири, висели некрупные, черные, похожие на кругляши предметы, и третья, почти такая же деталь, укреплена была на корпусе этого странного механизма.
- Боже мой, что это у тебя ?
- Ты же цивилизованный человек, европеец, неужели ты не узнаешь телефон ?
- Телефон ?!
- Только не говори, что ты впервые его видишь.
- Телефон..., - я не верил своим глазам и вспоминал свое желание сделать Лене этот подарок. - Откуда он у тебя ? Нет, я конечно же знаю, что это за штуковина. Но я не могу понять, откуда он мог у тебя взяться ? Такие аппараты во всем Петербурге по пальцам можно пересчитать, и я никак не предполагал, что один из них установлен у тебя.
- Ты думал, я совсем опустилась, перестала о себе заботиться, запустила все ? Когда женщина одинока, она находит утешение в украшении своего дома.
- Да, - сказал я, оглядывая во многом изменившийся интерьер, - все стало просто превосходно, просто великолепно. Это пианино...Ты же вроде бы не умела играть ?
Она улыбнулась:
- А вот значит, что ты многого обо мне не знаешь. С чего ты решил, что я не знаю пианино ? Ты же представляешь себе, как я люблю музыку, помнишь, как мы ходили на концерты, и как потом горячо спорили о сущности музыкальной эстетики. Тогда я и училась играть. Пока тебя не было, я решила приобрести этот инструмент, потому что он лучше какого-нибудь другого умеет смирять всякое волнение души.
- Прекрасно. Я ещё раз дивлюсь твоим многогранным талантам, твоей неподражаемости во всем. Ты сама занималась интерьером, или бабушка ?
- Я. Согласись, в доме стало больше гармонии, больше вкуса.
- Потрясающе. Я в миллионный раз снимаю перед тобой шляпу. Честно говоря не думал, что ты так... , - я хотел сказать "состоятельна", но вовремя осекся. Честно говоря, я был уверен, что в мое отсутствие они с бабушкой ведут довольно скромный образ жизни, но, видимо, благодаря своему упорству Лена добилась в Академии работы над хорошими совместными с французами проектами, приносящими ей немалый доход. Когда я оглядывал изменившийся облик гостиной, то был впечатлен тем, с каким благородством и стильностью здесь все было сделано. Я был уязвлен этим строгим и высоким вкусом; мне смешными показались мои стремления по-модному приодеться, покрасоваться среди горожан, из-за чего я выходил каким-то заморским попугаем, тогда как Лена оказывалась феей, преображающей некогда затхлый, а ныне удивительно прекрасный мирок.
- Ты не представляешь, какая ты умница, - произнес я. - Я счастлив хотя бы от того, что ты просто есть на этой планете. И я наверное совсем обезумею, когда ты станешь моей женой. Довершает мое восхищение телефон. Ведь это же такая изюминка прогресса, такой редчайший механизм ! Я даже толком не знаю, как им пользоваться.
Лена была весьма довольна моим комплиментам. Когда она увидела, как нерешительно, опасливо я поглядываю на телефон, она рассмеялась и принялась мне объяснять: говоришь, наклонившись к микрофону, трубку прикладываешь к уху и т.д. Висящий слева на рычаге телефон своим весом приподнимает противоположный конец рычага, включая тем самым сигнальный аппарат и устанавливая сообщение линии со звонком. Но как только снимешь телефон с крючка, действием противовеса рычаг оттягивается в сторону, замыкает в цепь батарею и дозволяет установить сообщение со звонящим. Я вооружился этими устройствами и стал играть, делая вид, что разговариваю:
- Алло ! Да ! Да, это я. Что вы говорите ? Ах, что вы говорите ! Соедините-ка меня с господином Масперо. Как ? Он в гробнице фараона ? А что, там до сих пор не поставлен телефон ? Немедленно телефонизируйте всю Африку, ведь тысячам ученых надо каждый день общаться со своими женами !
Я так увлекся своей импровизацией, что когда Марья Сергеевна - бабушка Лены - вошла в гостиную и поздоровалась со мной, мне почудилось, что голос раздается из трубки.
- Что ? Алло ? Кто это ? - кричал я в микрофон. - Говорите громче, вас очень плохо слышно !
Лена очень потешалась над моей интермедией:
- Петр, да хватит тебе. Ну прямо как ребенок маленький.
Я увидел рядом Марью Сергеевну и понял, как я был смешон. Тут же стал изливаться перед ней в любезных чувствах, которые всегда испытывал к ней совершенно искренне. Я просил извинить мне мою глупость.
- Ничего, ничего, - подхватила она. - Это я должна просить прощения, что прервала ваш важный телефонный разговор...
...Когда мы ужинали, с ланит у Лены не сходили оттенки смущения. Это её стеснение я замечал каждый раз, когда рядом присутствовала её бабушка. Раньше у Лены была своя квартира на Садовой, и мы могли общаться с ней, зная, что в комнате не присутствует соглядатай нашей страсти, свидетель нашего единения. Мы со всем восторгом могли насладиться друг другом, и за поцелуями не замечали, как проходила ночь. Потом мои командировки стали все более частыми и продолжительными. Лене невмоготу было жить в одиночку. Круглыми сутками находиться в немых комнатах, лишенных говора, смеха, влюбленного воркования было крайне тоскливо и навевало мрачное расположение духа. Она все чаще гостила у своей бабушки, стремясь проводить у неё сначала ночи, благо она жила неподалеку, а потом и целые дни. Квартира на Садовой оказалась не нужна и была отдана внаем (сейчас Лена, очевидно, вообще её продала). Так или иначе, но с момента её переезда нам приходилось встречаться под взором Марьи Сергеевны, в присутствии которой мы уже не могли быть такими же раскованными, как раньше; соблюдая приличия, мы сдерживали себя от открытого изъявления своих чувств и такой же, как прежде, глубины взаимной откровенности. Правда, часто случалось, что я приезжал летом, когда бабушка отдыхала на даче, и тогда мы вновь давали простор своей очарованности, своей поглощенности друг другом. Сейчас же я знал, что Марья Сергеевна находиться в городе, и потому намеренно стремился заночевать у Андрея. Ведь в присутствии бабушки неизбежно возникала искусственность, наигранная отчужденность, натянутость, вымученное манерничанье. Вот и теперь, соблюдая благопристойность, нам приходилось говорить на отвлеченные темы, с трудом удаваясь поддерживать разговор. Я был рад, когда Марья Сергеевна повернула беседу к моей работе - здесь я мог всласть и непринужденно пораспространяться, что дало бы возможность в более свободной манере продолжить разговор до конца этого досаждающего ужина, лакомства которого невольно становились поперек горла.
- Как долго вы намерены пробыть в Петербурге на этот раз ? - спросила бабушка.
- Самый малый, самый сжатый срок. Видимо, все ограничится только одними сутками, и завтра поздно вечером я уже отбуду в Италию, а оттуда - в Египет, где долго меня ждать никто ведь не будет, и новая экспедиция может быть начата без меня. Если бы не интересная находка моего коллеги С.Н-ва, я бы сейчас был...( я назвал место намеченных раскопок вблизи Саккары). Завтра я намерен встретиться с ним, и уже вечером отправлюсь обратно в пустыню.
- Что же такое важное могло отвлечь вас от вашего любимого Египта ? Впрочем, вы перерыли его уже так, что вашего песка хватило бы, чтобы засыпать Суэцкий канал. Синьор Верди ещё успеет написать оперу по поводу этого события. Боюсь, - продолжала Марья Сергеевна, обращаясь к своей внучке, - когда в газетах начнут сообщать, что пирамида Хеопса просела и кренится, как эта башня в Италии, я буду знать, чьих рук это дело.
- Вы в слишком пессимистичном свете видите мои труды, Марья Сергеевна. Если вы настолько сочувствуете Египту, попробуйте представить мои fouillees не варварством археолога, а работой геолога-геодезиста, ищущего подземные источники, которые позволили бы ему запрудить Египет и превратить его в оазис.
- А клады вы там не находили ?
- Да каждый день, Марья Сергеевна, каждый день. Одно из самых драгоценных сокровищ было найдено как раз недавно мной и Масперо.
- Это интересно. Расскажите поподробней.
- Боюсь, вы будете разочарованы. Это всего лишь книга. Но какая ! Ты представляешь, Лена, прекрасно сохранившийся экземпляр в двадцать шесть листов, часть из которых составлена на bachmourique, часть - на thebain.
- Пергамент ? - спросила Лена.
- Нет, папирус. Но удается прочитать практически все. Мы определили, что книга состоит из шести фрагментов, написанных разными людьми в разное время.
- Датировка ?
- Верхняя граница - четвертый век. Отдельные фрагменты относятся к эпохе Антонина или Марка Аврелия.
- То есть второй век, - пояснила Лена для бабушки. - Вы уже отождествили все эти фрагменты ?
- Четыре из шести идентифицированы с абсолютной точностью - это "Исход", "Вторая книга Маккавеев", "Мудрость Иисуса" и "Евангелие от Луки". Относительно двух остальных, занимающих две трети всей книги, до сих пор сохраняется неопределенность. Есть предположение, что это "Апокалипсис Софония".
- Да ты что ? Не может быть...
- Видишь ли, один из фрагментов содержит такие слова: "Я, Софоний, своими глазами видел все эти вещи". Поэтому мы все предположили, что перед нами отрывки, казалось, навсегда утраченного откровения Софония.
- Удивительно ! Бабушка, ты не представляешь ! Если эта догадка подтвердится, то на долю Петра выпала счастливая удача ! До сих пор все, что у нас было - это свидетельство Климента Александрийского, приводившего выдержку из сочинения, которое он назвал "Апокалипсис Софония", но которое не сохранилось для нас. Многие даже стали считать, что Климент ошибся, указывая на свой источник, так как те слова, которые он приводит, напоминают целую группу апокалипсисов - откровения Петра, Авраама, Илии, книгу Еноха и иные - а "Апокалипсиса Софония", якобы, на самом деле никогда не существовало.
- Теперь с большой степенью вероятности можно сказать, что слова Климента подтверждаются, и нам в самом деле сильно повезло: пусть частично, но мы смогли вернуть миру давным-давно утерянный апокалипсис.
- Здорово ! Невероятно ! Когда будет публикация ?
- Буриан сейчас готовит текст. Возможно, он появится уже в этом году.
- И что, он и вправду близок к видениям типа Еноха ?
- Совершенно верно. Но кроме странствий по Аду и Раю там есть ещё и замечательная пророческая сторона, которая меня совершенно удивила. Она оказалась очень близка к теории Адсона о возвращающемся императоре. Предвосхищая ваш вопрос, Марья Сергеевна, скажу, что мой предок Петр Дубровский приобрел в Париже его весьма крупное сочинение, и там довольно детально исследуется мировая эсхатология.
- Что за сочинение ? Как оно называется ?
- Бабушка, оно без названия. Автор не успел его наименовать, как, к сожалению, не успел его и закончить. Между прочим, Петр, ты не собираешься его опубликовать ?
- Я думаю над этим вопросом. Кстати, встает и проблема названия.
- Ну назови как-нибудь: "История", "Хроника", "Анналы". Как ещё в те времена называли исторические сочинения ?
- Были и другие, более развернутые названия. Например - "Деяния Бога через франков".
- Присвой столь же безличное имя. Допустим, "Новые записки о галлах". Вот тебе при этом и связь с классической традицией, с Юлием Цезарем.
- Я подумаю. Так вот, предполагаемый "Апокалипсис Софония" в своей пророческой стороне развивается точно так же, как те пророчества, которые Адсон излагает в своей книге. Как и в "Оправдании гончара" речь здесь идет о Египте. Сначала ему предвещаются масштабные бедствия, к общим деталям которых примешивается следующая черта: некий злой царь соберет всех кормящих матерей и отдаст их услаждению драконов. Те припадут к их грудям и будут пить кровь из их сосцов, после чего несчастные женщины окажутся брошенными в огромные пылающие печи. В эти дни бедствий восстанет царь-избавитель, имя которого не называется. Он восстанавливает все храмы, и природа одаривает своих сыновей плодами роскошнейшего изобилия.
- Все то же самое, что в легенде о возвращающемся царе.
- Безусловно. Интересен приход Антихриста. Он явится в облике голубя и сам будет окружен короной из голубей.
- То есть Антихрист здесь принадлежит традиции "высокоморального Антихриста" ?
- Да, этот апокалипсис ценен особенно тем, что чудеса Антихриста оказываются не ложными, а настоящими, при этом дается довольно длинный их свод.
- Раз уж ты вспомнил Адсона, является ли у Софония царь-избавитель пробуждающимся ото сна ?
- На основании сохранившихся отрывков сказать довольно сложно. В одном месте о пробуждении ничего не сказано, но другой фрагмент начинается так : "Они избегут мучений этого царя и, взяв с собой золото, устремятся к рекам, говоря: "Направимся в пустыню". Они будут отдыхать, словно человек спящий. Господь возьмет к Себе их души и их дух, тела же их станут подобны камням или неприрученным животным, скитающимся до скончания дней." Что это значит ? По всей видимости текст здесь сильно испорчен. Кто такие "они" ? Из контекста вроде бы следует, что это Илия и Енох, которые в конце придут на обличение Антихристу. Но известно, что тела этих пророков вместе с душами были вознесены на небеса, в то время, как у Софония они оказываются разделенными. Между тем такая фраза, как "будут отдыхать, словно человек спящий" очевидно родственна прорицаниям о возвращающемся царе. Поэтому я думаю, что в первоначальном тексте речь шла именно о сохранении тела избранного монарха, спящего до конца времен, но потом текст подвергся значительной переработке, и пророчество потеряло свой смысл.
- Скажи, Петр, а почему Адсон, когда он писал королеве Герберге о последних временах, совсем опустил этот мотив "пробуждения" ?
- Версий несколько. Самая логичная состоит в том, что Герберга обратилась к Адсону в надежде, что тот последним императором наречет её сына Лотаря, и тогда у неё будут основания добиваться для отпрыска императорского титула. Зная, что надежды королевы напрасны и не желая оскорблять её высших чувств, он вообще освободил облик последнего царя от каких-либо черт, придавших бы ему самую эфемерную конкретность. Тем более он умолчал о пробуждении. Последнее означало бы, что сын Герберги сначала должен был умереть, что королеве-матери говорить совершенно нетактично. Либо ещё хуже. Под последним царем подразумевался бы покойный муж Герберги - Людовик Заморский. Представь, каково было для неё подумать, что её муж может подняться из гроба весь разбухший от слоновьей болезни. Ужасней образины не придумаешь.
- Но ведь и Тибуртинская Сивилла, которую перелагает Адсон, тоже ничего не говорит о воскрешении. Как там ? "Поднимется царь греческий именем Констант.." Я не помню все в подробностях, но не о каком пробуждении от смерти там точно не говорится. Как ты думаешь, может быть Адсон все-таки сомневался в своей теории, чувствовал её зыбкость ? Может быть он каждый день спрашивал себя: "Не Антихрист ли я ?" Ведь по его теории Антихрист как "высокоморальная личность" будет в силах даже воскрешать мертвецов ?
- Подождите, подождите, - вмешалась тут Марья Сергеевна, - я что-то не понимаю. Вы хотите сказать, что этот Адсон всерьез верил в воскрешение какого-то там царя ?
- Да, Марья Сергеевна, он верил. Я нисколько не сомневаюсь, Лена, что он не испытывал никаких колебаний. Всеми нами тоже очень часто движет всепоглощающая вера, которой мы самоотверженно подчиняем всю свою жизнь. Некоторые люди достигают своего, некоторые - обманываются в своих ожиданиях. Но я думаю, что даже последние не считают, что они напрасно прожили свой век кто из них сможет сказать так, если при этом они служили самым возвышенным идеалам ? Нет, они не оказываются разочарованными.
В это время часы пробили десять. Пора было думать о сне. Я находился в затруднительных обстоятельствах. Присутствие Марьи Сергеевны обязывало нас с Леной спать раздельно, что мне всегда было очень неприятно, так как это насыщало наши отношения дополнительной противоречивостью. Как я ненавижу подобные минуты, наполненные условностями, притворством, душевным разладом !
- Ну ладно, - сказал я, поднимаясь и ставя кружку на блюдце. - Весьма благодарен вам за ужин... Марья Сергеевна, ничего если я переночую...как обычно в комнате вашего мужа. Обещаю, что завтра после десяти меня уже здесь не будет, и я вам больше не доставлю никаких хлопот.
Сказав это, я почувствовал, каким безжизненным стал взгляд Лены. Погрузившись в себя и словно читая какие-то надписи внутри души своей, она будто бы позабыла, что в течение всего этого вечера была совсем другой - такой пусть застенчивой, но счастливой, с глазами настолько наполненными жизнью, что от них, казалось, качнется маятник на настенных часах, остановленных в день смерти её отца, а олень на картинке, где он пьет воду из лесного источника, вдруг отпрянет, насторожится и, цокнув копытцем, исчезнет в лесной чащобе. Тут же она встала и принялась убирать столовые приборы, а я поймал на себе взгляд её бабушки, в котором было сказано так много ! Казалось, она жила, или заставляла себя жить только для того, чтобы своей жизнью изжить навсегда, заклясть всеми проклятиями, опечатать то ли миллионами печатей, то ли своей понимающей добротой, отменить, запретить навсегда саму возможность для возможности появления возможности вот такого вот отсутствующего взгляда у своей внучки, который делал бессмысленным всю жизнь Марьи Сергеевны, жизнь её отца, деда мужа, прабабушки свекрови - всех тех бесчисленных людей, которые в её понимании существовали некогда лишь затем, чтобы была на свете её внучка. Сейчас я не мог ни обнять Лену, ни поцеловать, ни сказать ей ещё раз, как много она для меня значит. Мне оставалось только пройти в соседнюю комнату, и я положил руку на круглую, холодную ручку двери.
- Подождите-ка, - вдруг сказала Марья Сергеевна. - Туда теперь нельзя.
- Почему ? - обернулся я, замечая, как они переглядываются между собой.
- Эта комната сейчас занята, - продолжила Марья Сергеевна. - Здесь живет одна женщина, моя очень хорошая знакомая, которой негде остановиться в городе. Мы не смогли ей отказать, тем более, что всегда так приятно оказать помощь тому, кто в ней нуждается.
Ее слова мне показались странными, но я отпустил ручку.
- Она что, все это время была здесь ?
- Да, она очень тяжело болеет. Два раза в день к ней приходят доктора. Господи, побыстрей бы она выздоровела. Боюсь, как бы она не заразила Лену.
- Петр, я постелю тебе в своей бывшей комнате. Там сейчас не так уютно, как двадцать лет назад, но тебе же всего на одну ночь.
- Хорошо, - мне неприятным показалось это постоянное присутствие в квартире совершенно посторонней, больной женщины, чья абсурдность как бы подытоживала невозможность нашего с Леной уединения. - Хорошо...
Когда я зашел в отведенный мне закуток, скудный свет сумерек, пробившись сквозь плотно зашторенное окно, чуть дрожа, нежился в моей кровати. Ветки растущих у дома деревьев слегка постукивали в окно, навевая дрему своими однообразными и монотонными звуками. После тяжелой дороги я очень желал выспаться, но беспокойные раздумья не оставляли меня в покое. Я все размышлял о наших с Леной отношениях, о том, как нелепо они складываются в последнее время. Ворочаясь с боку на бок, я подумал, что неплохо было бы что-нибудь почитать. Быть может, чтение отвлечет меня от сосредоточенности на неулаженности моей судьбы, и я вспомнил, что имею с собой дневники моего старого друга Андрея, с которым я надеялся сегодня увидеться, но который, оказывается, был сейчас за тридевять земель, в далеком Минске. Карьерист. Нет, в честолюбии ему решительно не откажешь. Он сразу же хотел быть первым во всем, напрочь отметая возможность быть где-либо на вторых ролях. Но вот же он стал крупным ученым, издает одно исследование за другим, а у меня пока ещё ничего нет. Сам, в одиночку, ничего не сделал. Даже этот Акмим. Ведь все лавры наверняка достанутся Масперо, а также Буриану, который опубликует итоги раскопок. Да, у Андрея пока что получается гораздо лучше, чем у меня. Я зажег лампу и раскрыл его юношеские дневники, оставленные им у меня на квартире. Когда он съезжал, то забыл прихватить их, потому что к тому времени он начал уже новую тетрадь, а эту... эту я неоднократно с тех пор перечитывал, удивляясь богатству философских изломов, пережитых нами в молодости. Я бережно перебирал страницы, вчитываясь в давно известные мне записи, в которых Андрей оставил частичку своей души, на которые и моя душа тоже очень живо откликалась. Особенно меня привлекало вот это место его дневников - Андрею тогда было всего лишь семнадцать лет: "Вновь я один в ночи, и не отвлечь эту ночь от звуков, насытивших единственное измерение звучности. Вновь я хочу постигнуть ночь, и нельзя понять её, не осознав как чужие эти звуки, своей привычностью делающие мир непознаваемым, а истину - тайной. О, загадка бытия, зачем ты призвана быть разгаданной, ведь к чему это тоскливое одиночество в призрачном мире символов ? Зато могу открыть я красоту и горькую участь человека, для которого в познании противоречия рождается удивительная чистота. Ведь есть же высшая справедливость во встрече добра и зла! Не будь в нас зла и рождающегося из доброты отвращения к нему, неприятия, стремления его преодолеть, мы бы не так стремились к очищению, изнывая от ненависти к злу, поедающему нас. Мы бы не так презирали зло, брезгуя всем, что может причинить боль телу или душе. А в Боге зла нет. Поэтому Он любит его и допускает. Господи, зачем Ты поразил мою душу грехом, ведь теперь я лучше чем Ты...И я не могу понять, как Ты можешь пугать меня жизнью, которой я боюсь, ибо в ней слишком мало меня, а много Тебя во мне, и слишком мало Тебя, а много меня в Тебе. Гнушаясь зла, я боюсь причинить боль солнечному лучу, Ты же, свободный от дурных помыслов, способен истирать в прах целые нации, не оставляя ни следа от континентов. Оттого, когда я думаю о скорбной правде Твоих замыслов, коим подвластны роковые судьбы, когда предо мной вопли страдания есть и безумие потерянных существ, поющие струны нутра коих, рванув, Ты обрек на безгласие, когда я предчувствую исчадие неслыханного пламени, испытующего своим терзанием сплошную рану представленных душ, я начинаю понимать, что я много прекраснее Тебя. Но, Боже, если в следующий раз Ты захочешь создать того, кто будет совершенней чем Ты, то выбери кого-нибудь иного. Потому что я разучился противопоставлять ближайшее и сближать разноименное, а что может быть кровней и решающей тогда, когда определяешься среди того, что всего между собою схоже, когда ты проклят на избор среди родственных сил, корневища вселенной сотрясающих в схватке, о которой стоит лишь помыслить, как истираются раскаленным жерновом визжащие нервы. А я всю жизнь считал их одним и распахивал глухую вечность между светом и тьмой, электризуя их так, что космос содрогался разрядами, раскалывавшими твердыню бесконечности. И потому, Господи, в следующий раз пусть это буду не я ! Я рвану пасть оскалившейся земли, и выйду в небо, где решается моя судьба, и ощупью различу путь в слепящих протуберанцах ореола сцепившихся огненных стихий. И пройду, и буду кричать от боли и неведенья, но я пригублю ненависти из чаши сердца Твоего врага и оборву его полубеспамятный слух великим воплем накопившегося гнева. Я сделаю все это, и я упаду замертво, и я признаю, что и сейчас была лишь Твоя, а не меня, немощного, воля. И за прозрение это, за страстотерпие это немыслимое, Боже, пусть в следующий раз это буду не я! Я примерю любовь и ужас, и, взойдя к тебе по гребню страдания, исполнюсь мощью незыблемого властелина, взмахнув крылами сильными, как вся напряженность межпланетных притяжений; и я сойду на землю, как Титан, и изолью на землю раскаленный нектар бесконечно густой испытующей лавы. Я останусь бесстрастен и, величаво склонившись над планетой, безмолвно источу весь свет, скопленный мною у Того, кто научил меня не бояться зла. Я поймаю единым жестом всю выпорхнувшую из огня пернатую одержимость; я поцелую её и отпущу в смерть. И оживут камни, и травы будут шептать молитвы незвучным, двуединым языком. Тихо трепещущие рядом ветви невиданных дерев и пенящиеся у моих золоченых стоп мудрые воды безграничного океана поймут меня: в рассеченной поисторической жути есть вечное избранничество и вечное изгнание; а стою, раскинув руки, держа в каждой из них по сотне галактик, теменем своим подпирая изножье предвечных благословенных палат и рыдаю: "Господи, молю Тебя, пусть в следующий раз это буду не я".
Я не заметил, как за чтением дневника наступил уже третий час ночи. Я не только не успокоился, но и почувствовал, что на душе у меня стало ещё тревожней, чем было. Эта ночь, проведенная раздельно после стольких месяцев ожидания, может ещё больше отдалить нас и подтолкнуть Лену к срыву, к желанию прекратить вообще все. Боже, как же все нелепо получается. Андрей, как настоящий друг, выручил бы меня и освободил бы на ночь свою квартиру, предоставив её нам, а теперь...В голове у меня царил кавардак разрозненных впечатлений, отрывочных мыслей, мешанина беспорядочных образов. Я долго ходил из угла в угол, потом подошел к окну и, отдернув гардину, взглянул на ночную улицу. Луна, вся в отеках, показалась мне припухлым глазом циклопического чудища, город оторопел, словно все вымерли или затихли, чего-то боясь. Ветви деревьев, конечно, уже не пели колыбельную, нет, они патлами свисали с облезлых, прокаженных курв, которые хороводили по подворотням какую-то дрянную заутреню, молились мраку ночи, хохотали, вламывались мне в окно. Я зашторил его и возвратился к постели. Надо было спать. Иначе это будет уже четвертая бессонная ночь подряд...
Меня разбудил удар ходиков, отметивших наступление седьмого часа. Из столовой доносился едва слышный перезвон посуды и бряцанье вилок: конечно, это Марья Сергеевна хлопочет. Она всегда вставала раньше внучки, считая необходимость брать на себя приготовление завтрака не столько обязанностью, сколько своим личным правом, ибо тогда сон Лены становился как можно более долгим, а её пробуждение насколько возможно беззаботным. Однако, Лена тоже уже не спала. Когда я вышел из своей комнаты, то увидел её, убиравшую бабушкину постель. Вот это да ! Уже на самом деле восемь часов, обе они уже позавтракали, и Лена сейчас должны была торопиться в Академию. Вот я раззява ! В этот миг, услышав мои шаги, Лена остановилась, выпрямилась и взглянула на меня очень грустными глазами, легкие тени под которыми свидетельствовали о прошедшей бессонной ночи. И вдруг... Да, мы работаем всю жизнь, мы весь век чего-то добиваемся, но по-настоящему все в нашей судьбе решают лишь мгновения. Быть или не быть - это не вопрос времени, и тем более не предмет рассудка; это максима и жребий единственного властителя человеческих судеб - мгновения, эпицентра нашей жизни. Всего в судьбе лишь несколько таких мигов, которые закладками лежат в книгах людских воспоминаний, и - все суета, но эти три-четыре мгновения на всей нашей памяти - это и есть жизнь. И как только я увидел взгляд Лены, я пережил один такой миг и понял, что с тех пор открылась новая глава в моей судьбе, глава, главный герой которой полюбит свою Избранницу как Предвечную Жену - до потери разума и полного самоотрешения, возведенного в степень обреченности, измеренного величиной безответности любви, в которой этому герою уже не было места в сердце его "Lumen Сoelum". Я всегда любил Лену, но в последние годы моя страсть несколько отошла вдаль, уступив место более сиюминутным вещам. Сейчас же я будто вновь очутился у истоков моего чувства, пережив самое первое мгновение своей влюбленности.
Я словно в первый раз увидел её. И какой же прекрасною она показалась мне, превосходную, славною, памятною, как имена сыновей Израилевых, вырезанные на двух ониксах, оправленных в золотые гнезда; глаза её показались равными двум денницам, омытым в миро и освещающим виноградники Господни; ложесна - словно земля, что дает жизнь Ливану, ситтим, из которого сделан жертвенник в скинии; любезность её, как будто милование серн поутру, и, как полны ясли, у которых кормятся и волы и лани и овцы и всякие животные Садов Небесных, Рая, как крепки и налиты червленые плоды яблонь, растущих пред стопами Господними, так великолепны груди любимой моей; её дыхание уподоблю благовонию стакти, ониха и халвана, курящимся перед Ковчегом Завета, а голос её звучит - словно благозвучие псалтири или тимпана, на которых Давид играет перед лицом и во славу Господа. Она показалась мне прекрасной, как Суламифь, Реббека, Сарра; вся она была пронизана первозданным, зиждительным светом Красоты.
- Как спалось тебе ...? - спросил я, чуть не добавив "любимая моя". Она была свежа, как дыхание земли, омытой дождем. В движениях её была та простота и изящество, с которой тихое отчаяние внушает силу надломленной гордости.
- Я почти не спала сегодня. В последнее время мне рядом с бабушкой очень беспокойно спиться, - она оправила свои убранные косы, подобные скирдам сена на лугу, душистом, как вкус сикеры в чаше у невесты Соломоновой.
- Тебе не хочется причинять ей боль своим несчастьем, - промолвил я, не руками заключая себе её стан, а душой обнимая взгляд её удивившихся глаз. И как течение великой реки узнаешь, погрузив в неё руку, так познал я учащенное вздымание её грудей, уловив взволнованность её взгляда. Но будто сон, испуганный пробуждением, её волнение прошло властью той решимости, с которой говорят "нет" любимому человеку, или отказываются от вечного спасения души.
- О, нет, - ответила она. - Но мне каждую ночь кажется, что я вот-вот услышу плачь своей бабушки, а когда долго его не слышу, то начинаю думать, что она хочет скрыть от меня свои слезы, и.... я несколько раз подходила к ней, чтобы взглянуть на её глаза и убедиться в том, что она не плачет.
Так говорила любимая моя. И что-то вдруг сломалось в моей душе - так весной река взламывает лед. Кровь, вскипевшая в груди, толкнула меня к возлюбленной, но нас разделяла та открытость, с которой она, успокоенная обреченностью, принимала свое одиночество. Надеяться преодолеть расстояние между мной и нею было все равно, что ждать окончания горного эха в ущелье, в котором стучит влюбленное сердце - сейчас она была неприступна как полевая птица, прикрывающая перед лицом льва птенцов гнезда своего, бесстрашно смотрящая ему прямо в глаза. Нахлынувшее чувство вторглось злым духом, который, схватившись за сердце, распустившееся внутри подобно цветку, что расцветает лишь раз в жизни, принялся выдергивать его из моей груди. Я почти слышал, как от этих усилий рвались и харкали кровью корни моего сердца, слышал и чуть не падал от потери сознания. Спекающаяся пелена, что затмила мне взор, запрещала отливать в слова ту лаву эмоций, что текла у меня сейчас вместо крови, и я успел лишь подумать: "Жизнь ты моя, волшебница! Необходима ты мне, как уму - непознаваемость Бога, как глазам - Его незримость, как языку - Его безымянность. Достойна изумления красота твоя. Птицы в садах поют, восхваляя тебя - этого тебе мало. Реки земные шумят, возносят тебя - и этого тебе мало. Солнце восходит только для тебя и звезды только для тебя светят - всего этого мало тебе. Нет тебе равных по красоте ! Отдай тебе первенство перед всеми женщинами - все тебе будет мало. Отдай тебе главенство над ангелами и архангелами - и этого тебе будет мало, и это будет недостойно тебя, любимая. Скажу я тебе, что достойно тебя, душа моя, чаровница ! Достойна ты миловать праведников и наказывать грешников, и ещё более достойна миловать грешников и наказывать праведников !" - так подумал я. Но я знал, что это можно сказать короче, всего одним словом, и, как если бы это душа вылетела из моего тела, мои уста тихо произнесли: "Люблю..."
Обожженные этим словом, щеки её зажглись румянцем, а в глазах навернулись слезы - тоже лишь на мгновение, и за этот миг можно было успеть разве что сдернуть солнце с небосклона, вычерпать все речные устья, окрестить, спасти и ввести в рай полчища грешников Данте - так он был короток. И вот она уже спокойно и грустно улыбнулась мне, и в её улыбке я увидел, что глубиной своего изъязвленного сердца она приняла и измерила всю силу моего любовного восторга, что она бесконечно благодарна мне за него, но я также читал в ней, что та скорбящая любовь ко мне, которой она жила в течение многих лет нашего знакомства, сегодня ночью была ею полностью исчерпана и пережита - впервые я не увидел в ней ни следа взаимного чувства. Случилось то, чего я и боялся, и что так накликал на нее: в ней словно переполнилась бездна её терпения, и она уже не смогла дальше выносить пустоты, бесплодности наших чувств. Уж лучше ничего, чем много - так наверное она подумала.
- Любовь..., - промолвила она, - я почти забыла , что это значит. Может ты объяснишь мне ?
Я хотел ей ответить, но то слово, которое слетело у меня с губ, показалось мне настолько великим, что после него я был не в праве говорить что-либо еще. Меня не поймет солнце, меня не поймут птицы, меня не поймут все бесконечные реки.
- Наверное, это что-то очень большое - любовь, - продолжала она, видя мое молчание. - Что-то, что даже не определить в словах. Но ты знаешь... наверное, для меня сейчас это слишком много. Мне достаточно будет чего-нибудь...более простого, более...маленького. Какого-нибудь крошечного тепла. Капельку тепла. Но только очень светлой капельки. Понимаешь?
Я бросился к ней:
- Мы же ещё вчера с тобой общались, и ты говорила совсем иначе. Мы с уверенностью смотрели в будущее, говорили, что сможем преодолеть все трудности, которые встретились нам на пути. Но эта ночь, эта безжалостная ночь, издевавшаяся над нами с тобой... Почему все время что-нибудь вмешивается в наши отношения! Почему мы были рядом, но опять не могли быть вместе! Почему ты так отдалилась от меня всего за одну ночь?
- Я много пережила за нее. Ты знаешь, утром мне показалось, что я больше ничего не хочу от жизни. Мы...мы с тобою больше не можем видеться.
- Расстаться !..Неужели ты думаешь, что тебе станет легче от этого ? Ведь это глупо. Так глупо ! Наслаждаться собственным горем, безысходностью. Нельзя быть счастливой своим несчастьем - это опасная роскошь, игра на грани безумия, губящая, ложная гордость самоотречения, подтачивающая все живое в человеке. Сейчас я снова понял, что у меня одна только цель в жизни - ты. Все остальное - это прах. Прах !
Я попытался поцеловать её, но на этот раз она решительно воспротивилась моим объятьям:
- Нет, я не хочу. Я... не могу.
- Почему ? Почему ? Ты сомневаешься во мне ? Не веришь в искренность моих чувств ?
Она покачала головой :
- Я не верю в себя.
- Ты хочешь похоронить себя в одиночестве, замкнуться в себе самой ? Ты же сгубишь себя! Это... глупо. Это смешно ! Не отвергай меня, я тебя умоляю. Прости, прости твои длинные одинокие ночи. Я... я искуплю, я все тебе отдам, всего себя, все, что у меня есть. Все сделаю для того, чтобы ты была счастливая. Ты меня больше не любишь ?
- Нет..
- Что... Ты же обманываешь, саму себя обманываешь. Ну что мне для тебя сделать ? Что ? Как доказать, что я люблю тебя, что я жить без тебя не могу ? Я посвятил тебе всю свою жизнь, с того самого момента, как впервые увидел тебя, когда мы были ещё детьми. Я готов и весь остаток своих лет до последнего мгновенья отдать тебе.
- Мне надо идти.
- Подожди, ты хочешь сказать, что между нами - все.
- Да.
- Ты хочешь всю жизнь быть одинокой ?
- Пусти.
- Ты хочешь упиваться своим горем до самых последних дней ?
- Не спрашивай меня больше ни о чем. Пожалуйста. Я тебя прошу: не говори больше ничего. Не говори. Не говори. Пожалуйста. Если ты меня любишь.
- Это безрассудно. Горем нельзя наслаждаться вечно. Ты же...захлебнешься им. Не оставляй себя в одиночестве ради себя, ради бабушки...
- Я больше не могу выносить твоих слов. Я сейчас сойду с ума.
Некоторое время мы стояли, ничего не говоря друг другу. Наконец я вымолвил:
- Что ж, если я тебе опротивел, ты в праве отвергнуть меня. Ты имеешь право быть одинокой. Ты заслужила это годами наших бессмысленных отношений. Все же я думаю, что ты по прежнему любишь меня, но ты решила воспользоваться правом каждого человека на несчастье. На то, чтобы холить свою беду и каждый день выносить упреки и обвинения судьбе. Может быть прожить одинокой ты и сможешь, но не сможешь в одиночестве умереть. Я думаю, ты все же вспомнишь обо мне, иначе...иначе ты поймешь, что жила напрасно.
Я хотел в последний раз коснуться её щеки, но она вновь увернулась. Глаза её были полны слез.
- Мне очень горько, - сказал я, - что все получилось именно так. Я надеюсь, что ты передумаешь. Может...ты дашь мне номер своего телефона, я позвоню тебе вечером с вокзала. Тогда уже я точно пойму, окончательно ты решила или нет.
Она долго не отвечала - наверное потому, что не могла. Потом на клочке бумаги записала свой номер, сунула мне его в руку и убежала, даже не попрощавшись со мной. Этот жалкий обрывок бумаги я потом очень долго пытался спрятать куда-нибудь, чтобы он не дай Бог не затерялся по дороге. Я прятал его то в карман рубашки, то в самый укромный уголок бумажника. Постой, - говорил я себе , - бумажник могут стащить. Может, в чемоданы ? Они могут пропасть, затеряться. Честное слово, дорогие мои, в тот момент я словно потерял контроль над собой и был беспомощен, как ребенок...
...Дорога, дорога. Все время на перекладных. Сколько раз я уже объехал вокруг света ? Везде одни и те же человеческие судьбы. Везде счастья столько же, сколько его в каждой стране, в каждом городе, которые я видел, в каждой человеческой судьбе, которой я оказался причастен. Везде столько же горя ровно столько, чтобы счастье не начинало надоедать. Я снова на вокзале. Как мне знакомы эти окрики, свистки паровозов, суетящиеся пассажиры, томящиеся встречающие, исчезающие любимые, вечно исчезающие любимые, всегда остающиеся на перронах и все менее различимые из-за дыма и толчеи провожающих, так энергично махающих руками. Кажется, это платформы уносятся прочь на всех парах, а мы остаемся на месте и, выглядывая в окно купе, с грустью замечаем, что лица тех, кто нам дороги уже почти не различимы, и вот они уже полностью сливаются с толпой...После череды бессонных ночей моя голова раскалывалась, и я подумал о том, что в последние дни несчастий как раз было достаточно для того, чтобы я опять с искренней радостью начал принимать милости судьбы. Все было просто. Достаточно оказывалось одного телефонного разговора. Приехав на вокзал заранее и убедившись, что имею достаточно времени, я нашел телефонную станцию и долго, очень долго пытался дозвониться до квартиры на площади Островского, до Лены - для вас: Елены Степановны. Наконец, мне удалось прорваться по тому номеру, который, написанный на клочке бумаги, я держал перед собой. В трубке послышались длинные, очень длинные гудки. Один, второй, третий...Мне почудилась в них поступь процессии, сопровождавшей во времена инквизиции приговоренных к смерти. Потом щелчок - словно треск ступеньки при подъеме на эшафот - и гудки прекратились, только слышались сильные помехи, и чье-то молчаливое дыхание. "Алло, алло ! - орал я. - Алло ! Лена ? Алло ! Это я, Петр ! Алло !" Я продолжал надрываться, слыша в трубке всю ту же тишину и то же отчужденное дыхание, бессмысленное, как неожиданно прозвучавший указ о замене сожжения четвертованием. Я все пытался пробраться и через помехи на линии, и через безмолвие на том конце провода, но - тщетно. Я слышал, как там, в квартире, трубку положили и раздались резкие, зудящие, короткие гудки. Это словно комья земли, когда они разбиваются о крышку гроба с покойником. Это конец. Я мертв. Вот и смерть моя.
A suivre
Продолжение книги готовится к публикации. Мнения по поводу прочитанного переводчик и издатель просит пересылать на адрес Петра Николаевича Дубровского us300008@infos.ru



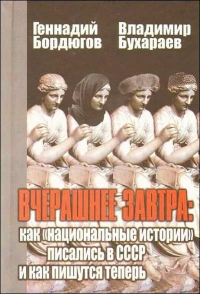
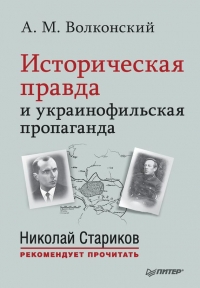
Комментарии к книге «Новые записки о галлах», Адсон Монтьер-Ан-Дер
Всего 0 комментариев