Меркурьев - Мейерхольд Петр
Сначала я был маленьким
РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ
Отца и мать не выбирают. Но предложи мне выбрать родителей, то около своих я остановился бы с завистью и сказал: "Нет, эти не по мне! Слишком хороши!"
Отец... Охватить его личность единым взором так же невозможно, как, например, Исаакиевский собор - столько в меркурьевской натуре, в этой глыбе полутонов, столько красок.
Об отце написано немало статей, есть две книги, посвященные его творчеству. Но даже если все это собрать, сложить, как камешки смальты, то все равно точного портрета не получится: в каком-то месте будут выпирать цвета, не свойственные натуре Меркурьева - автор этого "камушка" не с той стороны взглянул на грань; какая-то краска окажется слишком яркой - автору не хватило "полутонов" в палитре.
Можно пойти по другому пути - вспомнить роли, сыгранные Меркурьевым в театре и кино. Ведь он, как никто другой, был так достоверен, так органичен, что казалось, будто в каждой роли играет себя!
Но Меркурьев - не Нестратов из "Верных друзей", не Мальволио из "Двенадцатой ночи", не Архитектор из "Позднего ребенка", не Прибытков из "Последней жертвы", не Грознов из "Правда - хорошо, а счастье лучше", не Туча из "Небесного тихохода" и даже не Бурцев из "Пока бьется сердце", хотя этот образ наиболее близок его натуре.
Даже его друзья, даже его семья - мы все, которые тормозили, конечно же, развитие этого гигантского художнического таланта,- мы все не понимали по-настоящему Меркурьева. Мы были той телегой, в которую впрягли прекрасного иноходца, уделом которого был бег свободный по степям бескрайним, и чтобы бегом этим восхищались и наслаждались. Бог мой, как же мы виноваты перед ним, что только к концу жизни его стали осознавать, рядом с кем мы живем!
А он это терпел. Не жаловался, не кричал, не предъявлял претензий, не уходил из семьи, а только вздыхал. По ночам. Когда никто не слышит. Спал он очень мало - четыре часа ночью, иногда - час-полтора днем, если удавалось. Засыпал сразу, как ребенок. Мне рассказывал Олег Стриженов, что на съемках фильма "Перекличка" Меркурьев засыпал в павильоне после репетиции, пока операторы устанавливают свет, и просыпался ровно за пять секунд до того, как оператор говорил: "Мы готовы". И этих минут сна ему было достаточно, чтобы восстановить силы, а пяти секунд до команды - чтобы стряхнуть сон.
Работал он, можно сказать, круглосуточно. Но при этом к нему всегда можно было обратиться с любым вопросом, завести любой разговор - и он ничем не выразит неудовольствия, что его отвлекли. Наоборот, с удовольствием будет поддерживать беседу, будет слушать. Потом, когда почувствует, что тема практически исчерпана, вдруг скажет:
- Послушай, вот тут мой герой, он дед. У него внучка есть. Он сидит у себя в кабинете, занимается делами завода. А я придумал одну вещь: я под столом буду кормить ежа, которого достал для внучки.
- Папа, я читал сценарий - там про внучку и ежа ничего не сказано.
- В том-то и дело! Вот я и хочу его очеловечить.
А герой-то этот всего и присутствует в одной сцене фильма...
Отец никогда и никуда не опаздывал. "Самый кошмарный сон в моей жизни - это когда уже дали гонг, идет занавес, а меня еще нет в театре".
Почему мне трудно писать о Меркурьеве? Трудно писать об отце? Нет, об отце писать не трудно. Но дело как раз в том, что как бы ни старался я осветить "эту сторону" Меркурьева, она станет не более чем слагаемым удивительной личности, огромность и монолитность которой все сильнее и сильнее ощущаешь с течением времени.
С того момента, как 16 мая 1978 года в последний раз для Меркурьева опустился тяжелый занавес Александринского театра, прошло много лет. И за все эти годы я ни разу не ощущал "боль утраты". Мне говорили, что ощущение это придет потом. Но когда - "потом"?
Я ощущаю сокрушение от того, что не увижу Меркурьева на сцене в новых ролях, но не ощущаю личной потери. Я вспоминаю многие проявления Меркурьева в бытовых ситуациях, в общении с людьми, но не сокрушаюсь, что этого больше не будет.
Последние годы по телевидению, радио довольно часто передают меркурьевские работы; время от времени публикуются статьи-воспоминания о нем. Все эти новые встречи Меркурьева с выросшим уже после его смерти поколением приносят радость эстетического, морально-этического и нравственного характера, но ничуть не задевают "личные" ощущения. Смотря по телевидению спектакли и фильмы с его участием, я не ощущаю того, что это мой отец. Я воспринимаю АРТИСТА, и чем дальше, тем больше преклоняюсь перед личностью ТВОРЦА.
В жизни отец был человеком немногословным. Его речь не отличалась "цветистостью", но все, что он говорил, было очень образно и всегда абсолютно искренне.
Он мало писал писем. Только отвечал зрителям и всегда поздравлял друзей и близких с праздниками. Причем эти коротенькие поздравления отличались оригинальностью - всем адресатам он писал разное (у него был составлен список, кого не забыть поздравить). Побудить написать кому-то письмо его могло только какое-то событие, оставившее в душе след. Так он написал огромное письмо Г. Н. Бояджиеву (с которым, кстати, никогда не был знаком) после прочтения книги о Мольере. Или Л. В. Варпаховскому, будучи глубоко взволнованным спектаклем "Обоз второго разряда" в Московском театре имени Ермоловой. (Сохранились ли эти письма? Увы, ни Георгия Нерсесовича, ни Леонида Викторовича уже давно нет в живых).
Статей отец почти не писал (все статьи, опубликованные в разных изданиях, являют собой переработанные интервью с ним - отсюда такая их стилистическая неровность). И, уж конечно, не писал он мемуаров. Но остались после него драгоценные "книжечки" (он так их называл). Это обычные книжки-календари с алфавитом для телефонов и страничками для календарных записей: разворот - на неделю. Книжечка удобно помещалась во внутренний карман пиджака и была с отцом всегда и везде. Причем, приобретая в конце каждого года такую книжечку, отец переписывал из предыдущей все телефоны, адреса. Тратил на это немало часов из своих бессонных ночей, а предыдущая книжечка занимала свое место в ящике его прикроватной тумбочки. Мама очень ревниво относилась к этим его "конду итам": "Что ты там записываешь? Сколько щучек пой мал, сколько лещей?" Отец отмалчивался. Но эти книжечки стали его своеобразным дневником. Будучи человеком исключительно пунктуальным, он делал записи ежедневно, не пропуская ни одного дня.
Записи в этих дневниках разные. Бывали дни, когда Меркурьев помечал только расписание: 9-00 - укол инсулина, 10-00 - репетиция в театре, 14-00 - встреча в исполкоме по поводу квартиры для актрисы Ефимовой, 16-00 - урок в институте, вечером - "П. Ж." (спектакль "Последняя жертва"), или "С. В." ("Сын века"), или "Чти" ("Чти отца своего") и т.д.. В других случаях встречаются цифры - это или расходы, или данные анализов (отец был диабетиком и регулярно делал анализы крови на сахар), или температура, давление. (Но это только тогда, когда чувствовал себя плохо. Надо сказать, что он был очень аккуратен и как пациент: все лекарства принимал точно по часам - и это тоже отмечал в книжечке).
Привычка вести такой дневник выработалась у него давно. Постепенно записи становились более подробными. А в последние годы записи расписания, температуры дополнялись краткими, односложными впечатлениями о встречах или о просмотренных фильмах, спектаклях.
Много в этих книжечках сугубо личного. Трудная у нас была семья! Народу много, у всех характеры нелегкие. И как он переживал все наши неурядицы, а зачастую - то, как бездарно мы убиваем время. А в других случаях приятно прочитать его радостный, порой отмеченный тремя "!!!" отзыв о каком-то успехе каждого из нас: о защите Анной диссертации, об удачно сыгранной Женей роли, ну и, конечно же, о маме - о его любимой Иришечке, с которой прожил он 44 трудных года, но которую обожал! Здесь слово "обожал" вполне применимо в первоначальном его значении - "обожествлял".
А его записи, сделанные на даче! Боже, как же он радовался каждой яблоньке, каждому цветку, посаженным своими руками, или руками близких ему людей (не обязательно родственников - приезжали друзья, ученики, поклонники, кто-то иногда привозил саженцы, а папа потом трепетно следил за новым "жильцом" дачной флоры). Когда цветы или деревья распускались, он говорил: "Видишь, как они благодарят".
Полная публикация дневниковых записей отца смысла не имеет - к каждой записи надо делать огромные комментарии. Но выборочная публикация представляет безусловный интерес, и надеюсь, читатель, ознакомившись с нею, разделит мое мнение.
После смерти отца я развернул "кампанию" по созданию книги о нем: написал десятки писем его друзьям, коллегам, ученикам. Многие откликнулись сразу (это драматург Леонид Зорин, актеры Любовь Соколова, Павел Кадочников, Игорь Ильинский, режиссеры Александр Зархи, Герберт Раппопорт, любимые ученицы отца Марина Неелова и Хадиша Букеева, ученики Игорь Владимиров, Михаил Львов, коллеги по Александринской сцене Ольга Лебзак, Галина Карелина, Нина Мамаева, Игорь Горбачев, друг и коллега по театральному институту профессор Зинаида Савкова). Параллельно с моей "организаторской" работой театровед Л. С. Данилова начала практическое осуществление издания книги. Была еще жива мама. К ней добровольно "прикрепился" страстный поклонник классического искусства, наборщик одной из ленинградских типографий Саша Михайлов. Он приходил к маме ежедневно, очень скромно, неназойливо задавал вопросы и, поскольку Саша человек абсолютно бескорыстный и очень располагал к откровенности, мама рассказывала ему всю свою и "Васечкину" жизнь. На следующий день после того, как Саша принес отпечатанные последние мамины рассказы, она умерла будто только это и удерживало ее от встречи с "Васечкой".
Книга, сделанная в 1983, вышла в 1986 году. Моих воспоминаний в ней нет - в те годы еще слишком мало времени прошло, чтобы вспоминать стройно. Нет в ней и многих фактов, свидетельств, которые не могли появиться даже в 1986 году.
Сегодня, делая новую книгу, я с благодарностью вспоминаю труд Людмилы Сергеевны Даниловой. И, поскольку книгу 1986 года уже почти никто не знает, а многих свидетелей жизни и деятельности моих родителей нет на свете, я позволю себе поместить выдержки из воспоминаний, опубликованных ранее.
МЕРКУРЬЕВСКИЕ КОРНИ
"Город, в котором я родился и вырос,- Остров, на Псковщине. Небольшой зеленый город, "по пояс" стоящий в земле, в крестьянстве. В рыночные дни сюда съезжались из окрестных деревень мужики продавать яблоки, мед, рыбу, скотину. По дорогам тянулись скрипучие телеги, пахло пылью, дегтем, навозом. В маленьких дворах, куда мужиков пускали на постой, визжали свиньи, привезенные на продажу.
Отец мой в молодости батрачил, рыл по деревням колодцы, пока крестный, купец третьей гильдии, не позвал его торговать в дегтярном ряду. Лавка моего отца получила хорошую репутацию, товар в ней всегда продавался свежим. Помню, отец торговал не только дегтем, но и снетком - маленькой серебристой рыбкой, величиной с булавку,- ее ему привозили с Чудского озера. Однако торговля вряд ли была его истинным делом. Он прекрасно пел, и от отца любовь к музыке, к пению перешла ко всем детям. Семья была большая - семеро сыновей и дочь. И буквально вся семья пела. У матери моей (ее совсем молоденькой девушкой привез из Швейцарии местный помещик Нехлюдов, она служила у него экономкой) тоже был хороший голос".
Так начинаются воспоминания Василия Васильевича Меркурьева о своем детстве. Они были записаны журналистом, корреспондентом, обработаны для статьи в газете "Литературная Россия" в 1974 году. Меркурьев вспоминал не специально, а так, по случаю. К сожалению, очень мало осталось свидетельств обо всей его семье.
Когда в 1984 году я был в Острове - там к 80-летию отца его именем назвали центральную улицу,- я увидел то место, где стоял дом Меркурьевых. По всему видно, что дом был совсем небольшим: метров 10 в длину, метров 6 в ширину. Как там умещалась огромная семья - представить сейчас сложно, но я ведь помню, как даже еще б(льшая наша семья жила в ленинградской квартире. Понятно, что терпимость к тесноте, вернее даже - привычность к тесноте у Василия Васильевича Меркурьева была от рождения.
Отец мой был четвертым сыном Василия Ильича Меркурьева и Анны Ивановны Меркурьевой, урожденной Гроссен. Из своих детских впечатлений, когда бабушка Анна Ивановна была уже старенькой, я помню, что она всегда была при деле. Когда после войны папе в аренду дали под Ленинградом дом, на лето туда выезжала вся наша семья, семьи папиных двоюродных братьев и сестры, а круглый год там жили мы с бабушкой. Я еще был дошкольником. На даче у нас были корова, свинья, куры, довольно большой огород - и круглый год бабушка, которой тогда уже было 73 года, управлялась со всем этим хозяйством.
Бабушка, как истинная швейцарская немка, знала секреты варки сыра. Мама просила ее рассказать эти секреты, на что бабушка кричала: "Ты хочешь моей смерти! Вот перед смертью расскажу". Так она и не открыла секрета. А сыры были замечательные! В магазине таких не купишь. Бабушка складывала эти сыры на полку в кладовке на даче и никого к ним не подпускала. Вставала она затемно, доила корову, кормила всю живность, готовила еду, копалась на грядках, а к моменту моего пробуждения уже была около постели своего четырехлетнего внука (т. е. моей) и помогала мне одеваться. Я тогда ходил всегда с завязанной шеей - железки опухали так, что создавалось впечатление, будто голова поставлена не на шею, а на большой чурбан, лежащий на плечах. В теле же я был очень плох. Кто-то, взглянув на меня, произнес однажды: "Бедный! Одни глаза остались!" Я тут же спросил: "А глаза красивые?" Это я почему-то помню. Помню также, что какая-то женщина сказала про меня: "Это не жилец". На нее чуть не с кулаками бросилась другая женщина, очень ласковая и добрая, а бабушка Анна Ивановна заплакала и стала молиться: "Господи! Не накажи ее за злой язык!"
Бабушка была верующей, молилась каждый день и много мне рассказывала о Боге. Однажды она потеряла иголку и попросила меня: "Петенька, у тебя глаза лучше, поищи иголку. Только помолись, попроси Боженьку, чтобы он помог тебе. Вот мой Володенька (это папин младший брат, который умер, когда ему было 9 лет) как что потеряет, обязательно молился и находил".
Я молиться не стал, но иголку нашел. Креститься я умел с детства и никогда не путал "право - лево". Бабушка рассказывала мне, что до того, как она вышла в 1895 году замуж за Василия Ильича, моего дедушку, она молилась по-другому. Я уже тогда знал, что бабушка немка, что родом она из Швейцарии, что есть у нее брат Генрих, который теперь со своими детьми живет за границей, но где - бабушка не знает. Тогда же бабушка рассказывала, что было у нее шестеро детей. (Запомнил так! И поэтому, когда потом папа говорил, что их было семеро, я никак не мог "найти" этого седьмого). Старший Леонид, 1896 года рождения, погиб на фронте империалистической войны; Александр, 1898 года, был директором хлебозавода в Ленинграде и умер от голода во время блокады; Евгений, 1900 года, был музыкантом (композитором, дирижером), уехал во время гражданской войны с дядей Генрихом и его семьей за границу; потом, кажется, шла дочь 1902 года рождения, затем - мой папа, 1904 года, следующий - Петр Васильевич, 1906 года рождения,- отец Виталия, Наташи и Жени, он был репрессирован в 1939 году, а меня назвали в его честь; и потом был Володя, который умер, когда ему было 9 лет.
Помню, когда ложился спать, я просил бабушку рассказывать мне о Володе. Мне казалось, что если бы Володя был жив, он был бы мне товарищем я был абсолютно уверен, что и сейчас ему было бы 9 лет.
Бабушка показывала мне буквы, и читать я научился очень бегло в четыре года. Причем читал даже мелкий газетный текст. Никак не мог понять, почему "Петя", "Катя" пишутся через "я", а не через "а": "Тогда, значит, будет читаться "Катья". Вообще что касается моей грамотности, то курьезов с ней было немало. Как-то я взял телефонную книжку, открыл на букву "А" и спросил маму: "Кто такой Атело?" Мама начала мне подробно рассказывать шекспировскую трагедию (имя Дездемона я запомнить долго не мог и называл ее Гвоздилия). Рассказывала мама, рассказывала, я терпеливо слушал, а когда она закончила, спросил: "Так его нет в живых?" Мама ответила: "Ну конечно же!" "А зачем тогда у тебя его телефон записан?" Мама посмотрела в книжку: "Так это же ателье!" Ну, про ателье я знал. Но и трагедию запомнил в пять лет. И когда вскоре умер Юрий Михайлович Юрьев, по радио передавали запись "Отелло", где Отелло убивает Дездемону. А Дездемону играла несравненная Ольга Яковлевна Лебзак - наша "мама Оля", голос которой я узнаю из тысячи голосов.
В искусстве я тогда, конечно же, ничего понимать не мог, и артисты мне нравились те, которые бывали у нас дома. А таких было очень и очень много.
Хорошо помню момент, когда меня сильно обидели. И обидел человек посторонний. Недалеко от нашей дачи было подсобное хозяйство ленинградской фабрики "Большевичка", и директором этого хозяйства был некий Николай Иванович Васильев. Он, его жена и дети часто бывали у нас на даче, особенно в осеннее и зимнее время, когда родители и старшие дети уже жили в Ленинграде и нас с бабушкой навещали редко. (В те годы машины у нас не было, да даже при наличии машины до дачи можно было добраться не менее чем за четыре часа. А на поезде - и того дольше: до станции Сакколо, потом переименованной в Громово, поезд шел три с половиной часа, а от станции до дачи - 8 километров, причем последние 2 километра зимой надо было пробираться через сугробы снега толщиной в полтора метра). И Васильевы, можно сказать, шефствовали над нами. С младшим сыном Васильевых, Вовкой, мы очень дружили: вместе играли, вместе учились плавать. Однажды (это было поздней осенью) мы с Вовкой топали по огромной кухне нашего финского дома и скандировали: "Чаю-чаю накачаю, кофею нагрохаю! Чаю-чаю накачаю, кофею нагрохаю!" Возможно, бабушка или Николай Иванович говорили нам, чтобы мы затихли - я этого не помню. Помню только, что Николай Иванович схватил меня и отстегал ремнем. Мне не было особенно больно - мои природные болячки беспокоили сильнее, но было обидно. Я залез под скамейку и ныл: "Вы не папа, не мама и бить меня не имеете права!" (Правда, ни папа, ни мама ни разу пальцем меня не тронули. Самое страшное наказание было от родителей молчание). Мне очень хотелось, чтобы бабушка отругала Николая Ивановича, но этого не произошло.
В деятельности бабушки, помимо того, что я уже описал, был еще один дар, воплощавшийся ею превосходно: она в товарных количествах варила вкуснейшие варенья, каким-то невероятным засолом заготавливала огромные кадки огурцов, грибов, но почти ничего из этого не давала есть. Я уже не говорю о том, что она ревностно следила, чтобы никто из нас не рвал смородину или вишни, растущие около дома. И однажды случился бунт: старшие ребята (Анна, Женя, Наташа) штурмом взяли шкаф и просто-таки жрали бабушкины запасы. А она только вскрикивала, и плакала, и причитала.
Еще помню, как ребята украли несколько банок с вареньем и спрятали на чердаке. (А на чердак нашего большого двухэтажного дома, высота которого не менее 6 метров, забраться можно было только по внешней, прислоненной к дому весьма шаткой лестнице). И я был предателем. Донес бабушке, что ребята там прячут варенье, бабушка стала их ругать, а они не признаются: "Не брали, не брали, не брали!" Тогда я на глазах у всех полез по этой лестнице. Анна и Наташа кричали: "Предатель!" - а бабушка причитала: "Ой, Петенька, разобьешься!" Мне было страшно, но я лез. Не выдержал этого Женя: "Слезай, я сам все достану!" Мне, естественно, все объявили бойкот. Все, кроме Кати.
Катюша, средняя моя сестра, меня очень любила. Она меня учила и читать, и писать. Когда она училась в первом классе, мне было только четыре года. Все, что Катя узнавала в школе, она, приезжая в Громово на каникулы, рассказывала мне. Так продолжалось до того самого времени, когда пошел в школу и я. Когда осенью 1949 меня увезли из Громово, то Катя иногда брала меня с собой на детские утренники. А школы тогда были раздельные: мужские и женские. Однажды утренник закончился впритык к началу учебных занятий (Катя училась во вторую смену), и сестра не успевала отвести меня домой (а одного меня пускать боялись - я был деревенским жителем, а от Катиной школы до дому надо было перейти две улицы). И я остался с Катей на уроки. Учительница (до сих пор помню ее - Татьяна Владимировна Соловьевич) давала задание и мне. Катя тут же помогала мне его выполнять. Тогда мне в школе очень понравилось. Там было тихо, чинно, да и девочек этих я знал - они часто бывали у нас дома.
А в самом раннем детстве был такой случай. Мама, желая научить нас "прилично проситься на горшок", предложила, чтобы мы, если уж входим в комнату, где взрослые разговаривают, и просимся в туалет, это делали по-французски: "Рour la petit, pour la grand". И вот однажды мама приходит с работы и видит такую сцену: я (а мне было чуть больше двух лет) прыгаю и отчаянно кричу: "Пити-пити, пити-пити!" Мама встревоженно недоумевает: "Петенька, что случилось?" Добиться от меня ничего невозможно, я продолжаю "питипитикать", а из-за двери очень серьезно за этим наблюдает Катя. "Катя, что случилось?" - "Он писать хочет",- мрачно сказала Катя. Оказывается, как потом выяснилось, она пыталась научить меня французскому обращению, которое мне не давалось. Тогда Катя, как истинный педагог, сказала: "Пока не попросишь, как следует, я тебя на горшок не посажу!" Мама смеялась до слез! Вообще надо сказать, что мама так заразительно, от души смеялась, что мы все заражались этим смехом.
Навсегда запомнил осень 1949 года, когда меня увозили с дачи не на несколько дней, а на всю зиму: предстояло поступать в музыкальную школу и готовиться к школе общеобразовательной. Садились мы в наш "адлер" (отец незадолго до этого купил старенький двухдверный автомобиль, который очень недолго нам прослужил), бабушка, которая оставалась на даче, стояла на крыльце. И я вдруг разревелся... Но расставание с бабушкой было недолгим: в ноябре 1949-го она, видимо из-за болезни, переехала в Ленинград. На даче зарезали корову, мясо привезли в Ленинград. По ночам бабушка вставала и, толкая перед собой стул (иначе она уже ходить не могла - ее качало), шла на кухню проверять ящик, укрепленный за окном: как там лежит мясо (холо диль ников тогда еще не было).
Первого марта папа играл в театре премьеру - пьесу Лавренева "Голос Америки". Как и всякий премьерный спектакль, он шел несколько раз подряд.
Пятого марта 1950 года, когда утром я зашел в комнату бабушки, она сидела на кровати, на шее у нее висел крестик (он был всегда, этот крестик, но я помню только этот день). Я сказал ей: "Бабушка, покрестись!" Бабушка перекрестилась. И мы с Катей ушли - нас выпроводили в кино. С нами пошла мамина ученица по Дворцу культуры имени Кирова Надя Васильева, которую мы называли Снегурочкой. Еще с нами пошел ее жених Юра Гамзин, который готовился поступать в школу-студию МХАТа (кстати, и Юра Гамзин, и Юра Каюров, ныне всем известный народный артист, актер Малого театра, в то время занимались у моих родителей в самодеятельности). Я помню, что ни в какое кино мы не попали, хотя и старались. Был пасмурный день, с крыш капало и было скользко. Мы вернулись домой к вечеру. У подъезда стояла "скорая помощь", а когда мы поднялись, то в темном коридоре, ведущем к дверям нашей квартиры, натолкнулись на врачей, зажигавших спички, чтобы увидеть, в какую дверь надо стучать.
Мы вошли в квартиру и нас сразу направили в "рояльную" комнату. В квартире была суматоха, беготня. Я еще ничего не понимал, а Катя вдруг заплакала. Потом вбежала Мария Тимофеевна, жившая у нас, так как жить ей было негде (я даже не помню, как и когда она у нас возникла,- кто-то попросил ее прописать, а сделать это мог только папа). Мария Тимофеевна несла какую-то ткань, а вслед за ней вбежала с ножницами домработница Толубеевых (они жили в доме напротив), стали резать этот материал. Надя и Юра стояли грустные, но ничего не говорили.
Я пошел в ванную комнату - там была мама, умывавшая свое заплаканное лицо. Мама мне сказала: "Петенька, бабушка умерла". Я ей ответил, что знаю, что бабушка Оля (Ольга Михайловна Мейерхольд) умерла еще в 1940 году. "Нет, Петенька, наша бабушка - Анна Ивановна умерла". И после паузы мама спросила: "Хочешь зайти туда?"
Не помню подробно тогдашних своих чувств, но когда зашел в комнату, увидел лежащую на кровати бабушку, рядом стоял стул, на котором было недоеденное яблоко, недопитый чай, какие-то лекарства и печенье. Я еще поду мал тогда: "Бедненькая бабушка, яблоко не успела доесть!"
Это было часов в 6 вечера, а в 7 часов папа уехал в театр играть "Илью Головина" С. В. Михалкова (тогда спектакли начинались в 8 часов). Играл он и 6, и 8 марта, но уже в "Голосе Америки".
Очень хорошо помню, как 6 марта привезли гроб, помню крышку гроба, стоящую в углу прихожей, бабушку, уже очень изменившуюся, закостеневшую и холодную, с галуном на лбу. Помню, как в ее руки вкладывали иконку-ладанку; как на грузовике везли гроб с бабушкой, рядом сидел папа со своими друзьями-земляками Валентином Павловичем Андреевым, Борисом Пантелеймоновичем Румянцевым и Федором Павловичем Масленниковым, а вслед за этим грузовиком в легковой машине ехали мы с Марией Васильевной Румянцевой. Я через переднее стекло машины видел папу и цветок в горшочке. "Папа цветок в руках держит",- сказал я. А Мария Васильевна сказала: "Нет, цветок на гробике стоит".
Священник что-то читал, махал кадилом. А я побежал к кладбищенским воротам - там, на столбике был сделан крест-турникет, и я стал кататься на этом турникете. Ко мне подбежала Светлана - эту родственницу мы все очень любили - и повела меня обратно к могиле. В этот момент гроб опускали, и я спросил: "А как мы будем теперь, что, каждый раз откапывать?" - "Нет, Петенька, мы будем теперь сюда приходить, навещать бабушку".
Что я тогда подумал - не помню теперь. Но горем убит не был.
Обратно мы ехали на театральном автобусе и я, когда мы проезжали мимо автобусных остановок, говорил: "Следующая Лесной проспект... Следующая Финляндский вокзал... Вы на Чайковской выходите?"
Почему меня тянуло на шутки? Не знаю.
Дома были поминки. Я многих помню, кто был тогда: замечательный актер Большого драматического театра, папин соученик по мастерской Вивьена Виталий Павлович Полицеймако, еще один актер БДТ Василий Павлович Максимов, папины друзья-"александринцы" Юрий Владимирович Толубеев, Ольга Яковлевна Лебзак с мужем Кириллом Николаевичем Булатовым, Масленниковы - Федор Павлович, Екатерина Васильевна, Гога (то есть Игорь, ныне известный кинорежиссер); папины земляки Борис Пантелеймонович и Мария Васильевна Румянцевы, Валентин Павлович Андреев (с земляками своими папа дружил до самой смерти). Я и здесь развлекал людей - вставал на стул, что-то вещал. И сейчас помню взгляд папы на себе: взгляд без улыбки, но и без осуждения как на чужого.
Недели через две после похорон пришла Маша, Манюня - наша нянька, прожившая с нами всю войну. Она не была у нас больше месяца - недавно получила свою комнату в Песочной и у нас больше не жила. Когда она узнала, что бабушка умерла, заплакала горько-горько.
Похоронили бабушку, жизнь побежала дальше. Сестры и братья мои начали готовиться к переводным школьным экзаменам. (Тогда экзамены сдавали с четвертого класса, а в старших классах платили за обучение. Я хорошо помню, как мама давала деньги Анне на оплату обучения). А я начал заниматься музыкой.
Конечно же, мы, как и почти все дети, были ленивы. Любили поспать. Папа избрал оригинальный способ будить меня: он садился к роялю и одним пальцем подбирал "Элегию" Массне. Я, естественно, просыпался, внутренне протестовал против такого насилия, но молчал: папа делал это так деликатно, что возражений его действие вызвать не могло. Папа терпеливо "занимался" разучиванием "Элегии" до тех пор, пока я не вставал.
* * *
По воспоминаниям моим, маминым, да и всех знакомых, взаимоотношения отца с властями всегда были непростыми. На любого "начальника" (будь то в театре, институте, райкоме, исполкоме, Кремле) отец прежде всего смотрел как на человека, и если тот не отвечал его требованиям, то отец охладевал к "начальнику" и вел себя индифферентно.
В 1942 году в Новосибирске произошел такой эпизод. В закулисном коридоре театра "Красный факел" (а именно в этом театре все годы эвакуации работал Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина) была вывешена карта Советского Союза, на которой практически ежедневно флажками отмечались фронтовые действия Красной Армии. Флажки эти выставлял артист хора театра, член партии с незапамятного года, некто Федоров. И вот однажды мои родители идут мимо этой карты, а Федоров, выставлявший очередной флажок, с восторгом и благоговением говорит:
- Василий Васильевич! Смотрите, какой же великий стратег товарищ Сталин - еще один город отдал.
Тут, по рассказам мамы, у отца кровь прилила к голове, он подскочил к Федорову, схватил его за грудь и прошипел:
- Если ты еще раз эту сволочь, этого душегуба назовешь великим стратегом, я из тебя дух вышибу!
Федоров испугался. Мама - тоже. Отец отшвырнул старого партийца и быстро пошел прочь.
История имела продолжение. В 1947 году отцу была присуждена первая Сталинская премия и присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. И в райкоме партии заинтересовались: почему такой артист не является членом ВКП(б)? Отца пригласил на беседу секретарь партбюро В. А. Мехнецов и предложил вступить в партию. Отец молчал. Мехнецов стал убеждать, отец сказал: "Я подумаю". В тот же день отца вызвал его учитель Леонид Сергеевич Вивьен - художественный руководитель театра. Он сказал:
- Вася, у Ириши отец репрессирован; твои братья были репрессированы, а один и вообще где-то за границей. Если ты сейчас не вступишь в партию, это воспримут как фронду. Ты можешь навредить и себе, и Ирише, и своим детям, и племянникам.
Отец написал заявление, рекомендации ему дали Н. К. Черкасов, В. А. Мехнецов и артист театра фронтовик В. А. Гущин.
И вот идет партийное собрание. Отец отвечает на вопросы, о нем говорят товарищи - и все, как один, отмечают его идейность, преданность идеалам партии, его патриотизм в творчестве и жизни.
- Еще есть вопросы, выступления? - спрашивает Мехнецов.
И вдруг - тянется рука Федорова:
- Я очень рад, что такой замечательный артист, такой прекрасный семьянин, отличный товарищ Василий Васильевич Меркурьев вступает в нашу великую партию. Он абсолютно достоин этого. Только, Василий Васильевич, я хотел спросить: а как вы теперь относитесь к товарищу Сталину?
Немая сцена, последовавшая за этим, требует пера Гоголя. У отца в голове пронеслась вся жизнь - и короткое: "Ну, все..." Тишина в зале уже стала невыносимой. Молчит председатель собрания Мехнецов, молчит Черкасов, молчит Вивьен. Представитель райкома спрашивает:
- Василий Васильевич, вам задали вопрос, отвечайте.
- А я не знаю, что отвечать. Я всегда одинаково относился к товарищу Сталину.
- А как?
И тут, вероятно, сработал актерский гений Меркурьева:
- А вы спросите Федорова, что он имел в виду?
Федоров побледнел, вспотел и впаялся в свое кресло... Не дай Бог ему сейчас рассказать тот случай пятилетней давности! Ведь сразу спросят: почему пять лет молчал, скрывал врага народа?
Вопрос этот был повторен и в райкоме партии - ведь он остался в протоколе. Но там папа уже был готов, да там уже не было и Федорова, а были только Мехнецов, Черкасов и Гущин.
Сейчас даже трудно представить себе, что тогда означало отношение к Сталину. Обожание, обоготворение было в порядке вещей. Иного и представить никто не мог. В 1952 году, когда я учился во втором классе, к нам домой пришла завуч школы Марина Александровна, которую мама попросила позаниматься со мной арифметикой - я полчетверти проболел. Марина Александровна взяла мой дневник, а там на клетке 5 декабря я написал: "5 дек-ря день Сталинской конс-ции". Бог мой! Что было с Мариной Александровной!
- Как ты смел таким корявым почерком, с такими дикими сокращениями осквернить святыню! Если бы товарищ Сталин увидел, что ты написал, как ты думаешь, понравилось бы ему это?
Мне ничего не оставалось делать, как терпеливо ждать, когда она закончит эту проповедь. И когда сейчас я читаю Диккенса или Марка Твена, где они описывают преследования инквизиции, ее обвинения, я ничуть не удивляюсь, не содрогаюсь - мы не так давно сами жили при этом.
В те же годы, в самом начале 50-х, после смерти бабушки, у нас в семье появились сразу две тети Веры: Вера Александровна и Вера Павловна. И та и другая не то были освобождены после репрессий, не то из раскулаченных - я этого не знаю, как не знаю, откуда они появились (в родстве с нами они не состояли - это точно). Знаю только, что пострадали от сталинского режима обе настолько, что были голы как соколы: ни квартиры, ни работы, ни прописки. Папа тут же прописал одну из них (Веру Павловну) у нас в качестве своей двоюродной сестры. А Вера Александровна (вот у нее была в Ленинграде комната, но она предпочитала там не жить) согласилась жить на даче и быть "управляющей", как говорила она сама. Ох и колоритные же это были тетки! Вера Александровна, которую мы называли Вера Тихая, была невероятно комична. Чуть что - она строила какую-то особую гримасу и говорила: "Тихая ужасть!" Гримасы в ее арсенале были самые разные. Обладала она на редкость необидчивым характером. Была абсолютно одинока. Говорила, что был у нее муж, но то ли он умер, то ли погиб - об этом она говорила так уклончиво, что ее и не расспрашивали (мама, конечно же, знала правду, но нам этого говорить было нельзя). Как-то она сказала: "С детства не любила свою фамилию - Антонова. Мечтала: выйду замуж, сменю фамилию. И надо было такому случиться, что и у мужа была фамилия Антонов!" Сколько помню Веру Тихую, она всегда говорила, что ей сорок шесть лет.
Другая тетя Вера, Вера Павловна Селихова, была полной противоположностью Вере Тихой. Вообще о них можно говорить как о гоголевских Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Вера Тихая - полная и маленькая, Вера Селихова - худая и высокая. Вера Тихая почти не разговаривает, а только слушает и меняет гримасы, Вера Селихова говорит очень много, очень громко и почти в каждую фразу вставляет матерное слово, а то и целое многоэтажное выражение. На любую просьбу моей старшей сестры Анны реакция была молниеносная: "Что бы я, домработница трижды лавреята Сталинской премии, едрит твою мать, да его дочери что-то делала? Сама должна делать! Чтоб я перед дочерью трижды лавреята навытяжку стояла?" Но все она это говорила с юмором, с любовью и к нам, а главное к нашим родителям. Сама она затворницей не была. Мужики от нее, как сейчас говорят, балдели. В Громове, недалеко от нашей дачи, в начале 50-х расположилась летная часть - так от лейтенантов, майоров и даже подполковников у Веры отбоя не было. Вера Тихая говорила время от времени: "Ой, Верка, зарежут тебя однажды!" - "А и пусть режут, растудыть ее..."
И вот подошел я к тому дню, который запомнился особенно хорошо. Было это в Громове в самом начале марта 1953 года. Я там заболел (как потом выяснилось, корью). Вдруг открывается дверь, входит Вера Селихова:
- Петя! Отца-то нашего, едрит его, пралич разбил!
Я и не понял сразу, о ком речь идет, испугался, но вслед за тетей Верой в комнату вошел живой и здоровый папа.
- Какого отца, тетя Вера?
- Да Сталина - учителя-мучителя!
Папа грозно сказал:
- Вера!
Ну и тут тетя Вера разразилась:
- Ничего, Василий Васильевич. Петя уже большой. Пусть знает. Он никому не скажет.
Здесь я отступлю, и расскажу, что уже третий год (собственно, как тетя Вера Селихова появилась у нас в доме) мы отрывочно слышали про Сталина не только то, что говорилось по радио и в школе. Как только по радио начинало звучать "От края до края по горным вершинам, где горный орел совершает полет", тетя Вера выключала радио со словами: "Опять о родном и любимом, едрит твою мать. Опять "совершает помет". Уж когда совсем просрется!" Однажды она сказала нам с Катей:
- Вы думаете, почему мама ваша не работает и дедушка ваш сидит? Это все Сталин - отец родной, учитель-мучитель, чтоб он сдох!
Мы не верили этому, но, естественно, молчали. Думали: ну, тетя Вера просто вот такая охальница, всех и все ругает. Даже когда в 1952 году папа получил третью Сталинскую премию, Вера Павловна сказала:
- Ишь, какой добрый! Ишь, какой щедрый, едрит твою мать. Василь Васильич! Небось, на заем-то на всю премию подписаться заставят?
Родители тщетно старались заставить Веру замолчать, хотя бы при нас. Наши "университеты" продолжались. Вера ничего не боялась.
Я знаю, что мама часто с ней шепталась и плакала, а Вера умела ее успокоить.
В тот же день, 5 марта, мы уехали в Ленинград. В го роде каждый день по радио (телевидения тогда еще не было) передавались сводки о состоянии здоровья вождя. Я тут же истребовал все газеты за предыдущие дни и почти наизусть выучил "бюллетени о состоянии здоровья товарища Сталина". Запомнились незнакомые слова "дыхание Чейн-Стокса", "коллапс". Поскольку из-за кори я на улицу не выходил, то и не сразу узнал о смерти Сталина. Радио было в другой комнате, свежие газеты как-то странно не приносили почтальоны, словом, домашние почему-то решили мне об этом не говорить. Единственное, что я почему-то "усек" - это папину фразу: "Дождались, Иришенька, наконец..." Фраза не радостная, а горько-усталая (или устало-горькая).
В те же дни пришел к нам Михаил Александрович Максимов (давний друг родителей, он работал в ресторане "Метрополь", и в самое трудное, голодное время нас, тогда совершенно не знакомых ему людей, спас от голода). И вот в разговоре с папой дядя Миша сказал:
- Видел, какой Молотов у гроба?
Я тут же встрепенулся:
- У какого гроба?
- Остужев умер,- нашелся папа.
- А кто это, Остужев?
Папа тут же принес газету "Советское искусство" с некрологом памяти А. А. Остужева. С фотографии смотрело благородное лицо. Я, конечно же, стал вчитываться в некролог и выучил его почти наизусть.
А однажды прибежала моя троюродная сестра Татьяна и возбужденно заговорила:
- Там такой портрет огромный! И весь в цветах!
Папа тут же вывел Тату из комнаты, говоря:
- Пойдем, что-то покажу!
Как я понимаю, это он сделал для того, чтобы о смерти Сталина при мне не говорили.
И только 9 марта, в день похорон Сталина, в комнату вошла мама и сказала:
- Петенька, ты не волнуйся...
Ну а я и не волновался - я давно уже понял, чт( взрослые от меня скрывают (только не мог понять зачем).
- ...Сталин умер.
Я тут же спросил:
- А где газеты?
Мне тут же принесли газеты за все дни и разрешили перейти в комнату, где было радио.
В той комнате помню розовую газовую занавеску на окне (а больше нигде у нас в квартире не было занавесок; да и эта, газовая, кочевала из комнаты в комнату).
Я устроился на кровати, на которой три года назад умерла бабушка, обложился газетами и стал слушать радио. Вели прямую трансляцию с Красной площади.
Очень жалею сегодня, что не сохранил те газеты, потому что многое из памяти вымылось. Помню очень хорошо, что вел митинг председатель комиссии по организации похорон Н. С. Хрущев (до этого дня я его фамилии не слышал). Выступали Маленков, Берия и Молотов.
Помню по газетам почти всю трибуну Мавзолея, помню даже те фамилии, которые давным-давно исчезли из истории, да и из памяти многих. Например, зачем мне нужна фамилия Пак Ден Ай? Это какая-то деятельница из Кореи. А на трибуне были Болеслав Берут, Матиас Ракоши, Вильгельм Пик, Вылко Червенков, Энвер Ходжа, Морис Торез, Гарри Поллит - и так далее, далее, далее...
А из наших руководителей помню Маленкова, Молотова, Кагановича, Берию, Шкирятова, Шверника, Ворошилова, Булганина... Остальных забыл. Да и зачем их всех теперь помнить?
Помню, занимал меня вопрос: как Сталин поместится в мавзолее с Лениным. Потом, три года спустя, я видел собственными глазами, как это было, но тогда, в 1953-м, мне казалось, что Сталин очень большой...
Через пять дней после похорон Сталина умер Клемент Готвальд. Я тогда из всех газет делал вырезки некрологов и развешивал их на стене в "рояльной" комнате.
Тогда же я выздоровел от кори и первое, что увидел, выйдя на улицу,троллейбус № 11, который только что пустили по улице Чайковского (раньше по нашей улице ходил только 14-й автобус). Вообще к транспорту у меня с самого детства нежнейшее отношение. Я знал наизусть все маршруты в городе. Помню еще трамвай на Невском. Помню рельсы на проспекте Чернышевского.
Трудно восстанавливать события более чем сорокалетней давности, не вплетая в повествование событий сегодняшних. Тогда мне было 10 лет, сегодня - 57. Многое за это время прожито и пережито. Сорок штанов износил. А сколько километров пешком исходил! И здесь должен сказать, что любовь к пешеходству привила мне мама. Поликлиника, к которой была прикреплена наша семья, находилась на бульваре Профсоюзов, около площади Труда. И из этой поликлиники, куда мы часто ходили, мы домой возвращались всегда пешком. По пути мама обязательно вела меня либо в Исаакиевский собор, либо в другой какой-нибудь музей (помню, как экскурсовод сказала маме: "А мы с вами, Ирина Всеволодовна, знакомы. Вместе посещали институт марксизма-ленинизма").
Пока не забыл, расскажу одну забавную историю, связанную с этим институтом.
Занятия проходили в Доме искусств. Иногда к концу лекций за мамой туда заходил папа. Однажды папа пришел раньше - лекция только-только начиналась. Папа сел почти в первый ряд, т. к. задние ряды на таких лекциях, по обыкновению, бывали заняты. Особенностью лектора, очень скучно излагавшего свой предмет, была привычка дрыгать ногой. Он делал это на протяжении всей лекции. Когда он закончил и спросил у аудитории, есть ли к нему вопросы, папа поднял руку. Лектор очень обрадовался:
- Пожалуйста, Василий Васильевич!
- Скажите,- совершенно серьезно спросил папа,- вы дрыгаете ногой, чтобы самому не заснуть?
Иногда мы, идя из поликлиники, заходили в Эрмитаж, в Русский музей, а иногда - за папой в театр, где он заканчивал репетировать. И уже от театра до дома шли, как правило, тоже пешком. Иногда, правда, доходили до Литейного, а там садились на троллейбус - но я этого не любил.
На углу Литейного проспекта и улицы Петра Лаврова (Фурштадтской) находился гастроном № 13. Боже мой, какой в те годы это был замечательный магазин! Чего там только не было! Как входишь с угла - направо рыбный отдел. Где рыба всякая: и холодного, и горячего копчения, и вяленая, и соленая. Слева - отдел кондитерский, где был любимый зефир бело-розовый, и пастила, и потрясающе вкусные "тянучки" сливочные - коричневые, розовые, бежевые. Мы любили коричневые... И торты, и пирожные - буше, эклеры, александрийские, бисквиты, безе... Напротив кондитерского - колбасный. Там буженина, языки, балыковая колбаса и любая другая. Рядом с колбасами сыры. И швейцарский тебе, и голландский...
В другом зале - мясной отдел. Туда я ходить не любил, так как в мясе толку не понимал. Рядом с мясным - отдел молочный, где горой стояло мое любимое сгущенное молоко! И сгущенное какао, и кофе, и сливки. И всякие молочные продукты. Рядом отдел рыбных консервов, где продавалась икра красная и черная, зернистая и паюсная, коробки крабов - их никто не брал! Шпроты брали только в крайнем случае.
Были в этом гастрономе и бакалейный, и хлебобулочный отделы. Был и "соковый закуток", где милая Вера Михайловна (я звал ее тетей Верой) торговала томатным (еще одна, после сгущенного молока, моя страсть!), и абрикосовым, виноградным, айвовым, апельсиновым, яблочным, ананасовым соками. Там же можно было купить соки в бутылках и банках.
Проблемы, что купить, не было. Была проблема - на что купить. Народу в магазине было много, но очереди были недолгие.
Был в этом магазине и стол заказов. Там мама всегда делала заказ, и мы сидели и ждали, когда продукты принесут. Мама диктовала, чего и сколько нам надо, Зинаида Федоровна записывала, а потом тут же выбивала чеки и шла по отделам. Через 15 минут мы уходили домой с полными сумками.
В стол заказов приходили постоянные клиенты, в основном пожилые.
Маму тех лет помню всегда нагруженной сумками. Это несмотря на то, что у нас была домработница, которая тоже ходила за продуктами. Но теперь я понимаю, что семья наша была настолько огромной, что для прокорма ее нужны специальные экспедиторы!
Почти каждый день покупался килограмм масла (а хо лодильников тогда не было еще - так что все покупалось на один день). Хлеба покупалось, как помнится, четыре батона белого и два кирпича черного. (В Ленинграде весь белый хлеб называется булками, а черный - хлебом). Колбаса покупалась батонами, сыр - килограмм, не меньше! Думаю, что при теперешних ценах нашу семью прокормить было бы невозможно.
Работник в семье был один - папа. Сколько он тогда зарабатывал, я не знаю. Я только помню, что зарплата в театре в ценах до 1961 года у него была 3500 рублей (соответственно, после 1961 - 350).
Одевались мы более чем скромно. Да и все люди тогда не щеголяли одеждой. На хорошо одетых людей смотрели с осуждением.
Правда, в школе мне за штопанные локти доставалось от завуча:
- Ты сын трижды лауреата Сталинской премии! Тебе не стыдно так ходить?
Однажды, услышав эту реплику, за меня ответила мать моего одноклассника Саши Рогожина, Екатерина Петровна:
- У него папа не ворует, а Сталинские премии тут ни при чем.
Завуч заткнулась.
Кстати, о Сталинских премиях. Мало того, что папа получал премию в коллективе создателей фильма (а там было человек по 12, на кого эту премию делили), так еще существовала система, при которой вместо денег давали облигации государственного займа. Так что Сталинские премии на благосостоянии нашей семьи никак не отражались - в лучшую сторону, во всяком случае.
Ко мне часто приходили мои одноклассники и блаженно бродили по нашей огромной квартире. Особенно было приятно это делать вечером, когда родители были в театре, старшие, Анна и Женя,- у кого-то из своих друзей, и вся квартира была в нашем с Катюшей распоряжении. Тогда набегали Катины подружки - Альбинка Донина, Валя Балашова, Лена Решкина, мои одноклассники - Аркаша Вирин, Саша Рогожин, Коля Путиловский, Игорь Барсуков, мой дружок и Катин молочный брат Сережа Дрейден со своим одноклассником Вовой Крупицким. И вот тут начинались "игрища"! Чего мы только не выдумывали! И в театр играли (кстати, это было особенно интересно делать с мамой - она доставала какие-то старые покрывала, старые шляпки, тут же мы мастерили костюмы), и в школу мы играли, и какие-то вигвамы под столами строили, и кукол мастерили.
Часов в девять вечера за Аркашей заходил его папа, Коле звонила мама, и оставались только соседка по площадке Аля Донина и Сергей Дрейден.
Наши отношения с Сережей проходили многие-многие стадии: от нежной, трогательной любви до драк. От задушевных доверений и признаний - до коварных предательств.
У Сережи дома я очень любил бывать, быть может, даже больше, чем он у меня. Его мама - чудесная, добрая Зинаида Ивановна Донцова принимала Сережиных друзей, как своих детей.
Все в квартире Дрейденов ("Дрей Донов", как говорила Зинаида Ивановна) мне нравилось. Начиная с входной двери, обитой железом, двух замков-задвижек на этой двери, ключи от которых были очень похожи, но все же с едва заметным различием. В большой прихожей - огромный книжный шкаф. Этот шкаф отгораживал какой-то закуток, где стоял диван. Из прихожей прямо был вход в кухню, ванную и туалет, направо - в комнату, которая долгое время была опечатана... Там был кабинет Симона Давидовича, который незадолго до нашего с Сережей знакомства был арестован.
Из прихожей налево была большая светлая комната с мебелью красного дерева. А уж из нее - вход в другую комнату, где стояли Сережкин книжный шкаф, два бюро красного дерева (один секретер, одно бюро), шкаф красного дерева для одежды. Ширма, за ней - кровать. Был еще какой-то диван.
Почему я так подробно все описываю? Дело в том, что этот дом меня так впечатлил, что уже много позже, когда я читал в воспоминаниях А. Г. Достоевской описание момента, когда она села стенографировать за Федором Михайловичем роман "Игрок", я неизменно представлял себе квартиру Дрейдена. То же самое было, когда я читал "Пиковую даму" Пушкина: покои графини в моем воображении были точь-в-точь комната Сереги.
С тех пор, как был я в квартире Дрейденов в последний раз, прошло больше сорока лет. Но в памяти она так прочно запечатлелась - даже ярче, чем наша собственная квартира.
Почему мы все любили Зинаиду Ивановну?
В том возрасте многие из нас были ужасными фантазерами - и со своими фантазиями, с выдуманными историями о себе мы тоже шли к Зинаиде Ивановне Донцовой. Она не просто выслушивала нас, но она никогда не прерывала даже самых завиральных фантазий! Ни разу не оскорбила недоверием или невниманием. Радовалась нашими радостями, огорчалась - огорчениями, но всегда умела вселить оптимизм.
Как-то Катя пришла к Зинаиде Ивановне и стала рассказывать какие-то небылицы, ужасно их переживая. (Уж не помню, в чем было там дело). Я сказал:
- Катька, зачем ты врешь?
Катя вспыхнула, раскричалась:
- Идиот! Я не вру!
Зинаида Ивановна очень ловко погасила конфликт, а когда Катя вышла зачем-то из комнаты, сказала мне:
- Зачем ты ее обижаешь? Даже если ты знаешь, что она выдумывает, сделай вид, что ты ей веришь.
Я привык тогда доверять Зинаиде Ивановне и не стал с ней спорить, а задумался.
Уже позже, в 1964 году, приезжая к Зинаиде Ивановне (она давно разменяла квартиру - разъехалась с Сергеем, у которого была семья, да, кажется, уже не одна), я вспоминал и тот, и подобные ему случаи, и мы подолгу говорили о доверии. Тогда первый раз я услышал от Зинаиды Ивановны слова, которые приписывают Ромену Роллану, якобы адресованные жене: "Я дарю тебе большее, чем любовь. Я дарю тебе доверие". Потом я слышал эти слова еще от очень мудрых людей, но сам их нигде у Роллана не читал. Да и неважно это! Важно то, что и они определяли в юности мои будущие взгляды. А от моей мамы я услышал и другие мудрые слова. Когда меня предал мой близкий-близкий друг и я в полном отчаянии заявил: "Больше никогда никому верить не буду!" - мама очень просто сказала мне: "Что ты, Петенька! Сто раз ошибешься, а в сто первый - поверь".
И сегодня говорю и маме, и Зинаиде Ивановне: спасибо за науку! И не за слова - а за пример, поскольку сами они жили именно так. И хоть обманывались, но верили.
ИРИШЕЧКА
Мама была человеком сложным, интересным, противоречивым. Те, кто знал ее с детства, с юности, говорили, что обладала она очень мягким, легким характером, была остроумна, невероятно привлекательна. Великолепно двигалась - ей ничего не стоило молниеносно залезть на дерево, вскочить на лошадь, перепрыгнуть через любой барьер. Превосходно плавала. С годами, с переживаниями, связанными с несправедливостью и унижениями, характер мамы очень изменился. Доброта, юмор остались теми же, но появились подозрительность, мнительность, обидчивость и органическая неспособность признавать свою неправоту.
В 1921 году, когда мама решила поступать на только что открывшиеся Высшие режиссерские мастерские Мейерхольда, она знала, что Мейерхольд будет категорически против. Приемные экзамены проходили без него, маму никто не знал - она только недавно приехала из Новороссийска. Но как ей поступать с такой фамилией? И она, буквально в отчаянии, советуется по этому вопросу с Маяковским. Владимир Владимирович, который к маме относился с отеческой нежностью, сказал:
- Возьмите папин "хвостик". Будете не Ирина Всеволодовна Мейерхольд, а Ирина Васильевна Хольд.
Мама так и поступила. Экзамены она сдавала помощнику Мейерхольда Валерию Михайловичу Бебутову. Ей был задан этюд - сцена отравления из "Гамлета". А "Гамлета"-то мама и не читала - негде было. В Ново российске, где они жили последнее время, постоянно менялась власть, книг не было.
И вот мама ходит по коридору, размышляет, как же ей быть. Подходит к какому-то взъерошенному человеку, тоже абитуриенту ГВЫРМ:
- Вы "Гамлета" читали?
- Конечно,- отвечает молодой человек.
- Расскажите мне, пожалуйста, что там за сцена отравления!
И вдруг молодой человек буквально преображается и говорит:
- Хотите, я вам эту сцену поставлю?
И буквально за полчаса, неистово фантазируя, пересыпая свою речь то французскими, то английскими, то немецкими фразами, цитируя "Вильяма нашего, Шекспира" в подлиннике, он поставил маме этюд, который она сделала при комиссии и блестяще поступила.
На первом же занятии мама села рядом с вихрастым молодым человеком. С другой стороны к ней подсел долговязый юноша и сказал:
- Не возражаете сидеть между двумя Сергеями? - И представился: Сергей Юткевич.
Тут же представился и "вихрастый":
- Сергей Эйзенштейн.
Так началась многолетняя дружба мамы с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, закончившаяся лишь в 1948 году, когда Эйзенштейна не стало. Но и после этого мама часто звонила в Москву и говорила по телефону с Перой Моисеевной Аташевой - вдовой Сергея Михайловича.
Спустя несколько лет после смерти Эйзенштейна Эсфирь Ильинична Шуб, выдающийся режиссер-кино документалист, сказала маме, что, когда Эйзенштейн после окончания работы над "Иваном Грозным" вернулся из Алма-Аты, он просидел у Эсфири всю ночь и признался, что всю жизнь был влюблен в Ирину Мейерхольд. С того самого дня, когда ставил для нее сцену отравления из "Гамлета".
- Ставил, ставил - и отравился! - горько сказал он Эсфири Шуб и взял с нее клятву, что, пока он жив, она об этом никому не скажет.
- Сережа, значит, я никому этого и не расскажу - ты меня переживешь.
- Не-е-ет... Я уже скоро...- как-то почти прошептал Эйзенштейн.
Эсфирь Ильинична рассказывала это маме незадолго до своей смерти. Мама долго плакала. И еще вспоминаю: когда вышло Полное собрание сочинений Эйзенштейна, мама обложилась этими шестью томами, читала и плакала.
- Мамочка, почему ты плачешь? - спросил я.
- Жизнь очень быстро прошла, Петенька.
Да, в трудах, суете, заботах, радостях и горестях быстро пролетела жизнь. А тогда, в 1921 году, когда 16-летняя Ирина поступила в мастерские своего отца, она оказалась в окружении молодых, талантливых ребят, которые были, как ей казалось, значительно старше ее. Ну, посудите сами: мама родилась в 1905 году. А вот ее соученики: Сергей Эйзенштейн (1898), Николай Охлопков (1900), Лев Свердлин (1901), Эраст Гарин (1902), Сергей Юткевич (1902). Конечно же, в том возрасте это очень значительная разница.
Когда Мейерхольд, наконец, пришел на занятие, и стал переводить взгляд своих серо-голубых глаз от студента к студенту, то на Ирине его глаза превратились в стальные, взгляд стал жестким и злым. Он не сказал ни слова. Но дома устроил страшный скандал.
Мама плакала. Но у нее характер-то был тоже папин! Когда надо, он проявлялся с такой силой, что не поздоровится! Она продолжала учиться. Мейерхольд ее упорно не замечал. Но видел, конечно, что задания по биомеханике она выполняет лучше других. Партнером мамы был Валерий Инкижинов - монгол, владевший своим телом почти совершенно (кстати, в фильме В. Пудовкина "Потомок Чингисхана" Инкижинов играл главную роль; потом он уехал за границу и навсегда исчез из поля зрения). Мейерхольд всегда выставлял для показа новых упражнений Инкижинова. Он кричал:
- Инкижинов! Покажите это упражнение!
Инкижинов шел выполнять. Мейерхольд кричал:
- С партнершей!
Но никогда не называл маминого имени. Когда вызывал для показа другую пару (тоже великолепно занимавшуюся), то это звучало так:
- Свердлин и Генина!
Но Инкижинов - "с партнершей"! Прошло немало времени, прежде чем Мейерхольд признал за своей дочерью право на достойное место в театре. Если сегодня мы возьмем программки спектаклей Театра имени Вс. Мейерхольда, то там часто встречается фамилия Хольд. Это моя мама.
В этой книге я расскажу о маминых друзьях - мейерхольдовцах. Со многими она дружила до последних дней жизни. Но самыми близкими были Свердлины. Они были настолько близки, что эта дружба, это братство передалось и мне, и на меня его хватило. И Свердлиным я посвящу свой особый рассказ, ибо стали Лев Наумович и Александра Яковлевна для меня вторыми родителями.
Забегая далеко вперед, в 1977 год, скажу: когда умерла Александра Яковлевна Москалева-Свердлина, моя мама подошла к гробу, наклонилась к самому уху тети Шуры (я так ее называл - и еще "матушка"), и прошептала: "Шуренька, спасибо тебе за Петьку!"
Мой папа был третьим мужем мамы. (Однажды, когда родители только-только поженились, в какой-то компании одна папина "воздыхательница" громко через весь стол спросила:
- Ирина Всеволодовна, а правда, что Василий Васильевич ваш третий муж?
Мама немедленно так же громко ответила:
- Да, третий, не считая мелочей!
Папа смутился и сказал тихо маме:
- Ириша, как ты неделикатно ответила.
- Не более неделикатно, чем меня спросили! - парировала мама.
Собственно, с первым своим мужем Лео Оскаровичем Арнштамом мама прожила очень недолго, и брак этот был обречен потому, что родители Арнштама считали, что "Лелику" надо закончить консерваторию, а потом заводить детей - и заставили мою будущую маму сделать аборт (Лео Оскарович учился на фортепьянном факультете Ленинградской консерватории у профессора М. Н. Бариновой). Потом Арнштам работал у Мейерхольда пианистом, позже стал знаменитым кинорежиссером, поставил очень популярный фильм "Подруги", а в 1946 году снял фильм "Глинка", где у него снимался мой папа, и они вместе получали Сталинскую премию. А для Ирины дети было главное в жизни. Она сбежала от своего мужа и "выскочила" за художника Н. И. Смирнова, с которым прожила несколько дольше, чем с Арнштамом, замучилась его характером, его эгоизмом, рассталась с ним чуть ли не в 1929 году и почти пять лет никого к себе не подпускала.
А вот как было дальше - это пусть сначала расскажет сама мама, а уже потом кое-что я прокомментирую и добавлю (мама очень мало рассказывает о себе; да и весь этот ее рассказ был надиктован в самые последние месяцы жизни, полные тоски, конечно же, это была тоска по Васечке - без него Ириша не мыслила свою жизнь). Здесь только напомню, что рассказывала все это мама чудесному молодому человеку Александру Степановичу Михайлову, отличающемуся святым отношением к искусству и к людям, это искусство создающим. Делал он свои записи совершенно бескорыстно (вот такие люди должны быть хранителями музеев, архивов).
Ирина Всеволодовна Мейерхольд
Вместе с Меркурьевым
Как бы ни был мудр человек, он не сможет философски воспринять уход из жизни не просто близкого друга, а части самого себя. Ведь так и было: нас с Меркурьевым связывало в жизни все. Мы любили друг друга и были счастливы. Хотя порой счастье это было трудным...
В 1929 году мы вместе с матерью, Ольгой Михайловной Мейерхольд, и двумя маленькими племянниками, детьми моей покойной сестры Марии Всеволодовны, переехали из Москвы в Ленинград. Город принял нас радушно. Меня сразу же пригласили преподавать биомеханику в ряд театров и театральный техникум, была я режиссером и педагогом в Красном театре. Тогда-то я и увидела впервые Василия Васильевича Меркурьева в спектакле Театра актерского мастерства (ТАМ). На меня даже была возложена руководителем Красного театра Е. Г. Гаккелем деликатная миссия переманить Меркурьева к нам. Я послушно отправилась на спектакль ТАМа - шел "Город хмельной",- но исполнить поручение не смогла. Уже во время спектакля я поняла, что просить отпустить такого прекрасного актера - все равно что посягать на первую скрипку оркестра. Я стала ходить на все спектакли с участием Меркурьева. Но знакомства не искала.
Оно произошло только в 1934 году, когда, будучи режиссером Белгоскино, я поехала к Меркурьеву в санаторий "Тайцы", чтобы пригласить его на роль Стася в картине "Земля впереди" и познакомить со сценарием.
Василий Васильевич принял меня как хорошая хозяйка. Усадил на качели и, сказав: "Я сию минуту" - исчез. Вскоре он принес на подносе чашку горячего чая, сдобную булочку и два кусочка сахара. Я подробно описываю все это потому, что он всю жизнь был "подробно" внимателен. Мы поговорили о сценарии, который мне не очень нравился, поэтому я и сказала ему: "Читайте сами".
Вернувшись, я доложила постановщикам, что актер приедет утром. Наутро Меркурьев явился и подписал договор, хотя сценарий ему тоже не понравился. Я же стала своего рода "связным" между ним и группой.
Его внимание ко мне стало проявляться сразу, но просто и неназойливо. Однажды я встретилась с ним у входа в студию. Он вынул белоснежный платок, стер мне с губ помаду, сказав: "Не люблю крашеных". Я стерпела. В другой день я неожиданно столкнулась на студии с Эрастом Гариным и очень ему обрадовалась. Мы расцеловались. Группа мейерхольдовцев была невелика, и мы при встрече всегда целовались.
- Вы со всеми целуетесь? - произнес Вас Васич.
- Да,- защищала я свою свободу, как могла.
Меркурьев делал замечания настолько естественно, что нельзя было обидеться. На него никто никогда не обижался. Его всегдашнее простое обращение очень подкупало.
Администрация картины, воспользовавшись тем, что я все лето жила одна и недалеко от студии (маму с племянниками я отправила на дачу), попросила меня приютить "героиню". Когда же съемки стали задерживаться допоздна, Меркурьев тоже попросил оставлять его на ночлег: он жил на Крестовском острове, так ему трудно было добираться - мосты разводились. Правда, потом выяснилось, что это был со стороны Вас Васича "коварный ход".
Меркурьев любил после съемок поужинать и ни за что не позволял нам, дамам, что-либо покупать. Его щедрость смущала нас. Я была уверена, что ему нравится наша "героиня" и неловко себя чувствовала: третья лишняя.
Начались съемки под Ленинградом. Гримировались артисты в студии и ехали почти "готовые". Как-то мы ехали на скамейках в кузове грузовика, погода испортилась, а я была в легком платьишке. Васич прикрыл меня полой своей шинельки. Спутники начали дразнить меня. Мы соскочили с машины и скорым шагом пошли по дороге. Но наше исчезновение приметили и стали дразнить нас еще больше.
После съемок под Ленинградом вся группа отправилась в Белоруссию под Витебск на мелиоративную станцию. Василий Васильевич не поехал с нами: ТАМ отбыл в гастрольную поездку по побережью Черного моря. Мы с трудом обходились без Меркурьева, снимая лишь болота, которые были нужны при монтаже многих сцен. И я решилась - послала в Сочи телеграмму: "Приезжайте, мы в простое, погода чудесная. Целую. Ирина Мейерхольд". Меркурьев не отвечал. А от меня требовали, чтобы я нашла ему замену. Мне было очень грустно, что моя телеграмма не произвела впечатления. Да и такого актера жалко было терять!
В один из дней, когда мы, потеряв надежду на его приезд, решали, как быть, вдруг распахнулась дверь и на пороге появился Меркурьев! Моя судьба была решена.
Во время съемки строптивая лошадь сбросила одного актера. Я (лошади были моей страстью) вскочила на нее и принялась успокаивать, Василий Васильевич сказал потом, что из-за этого случая он меня и полюбил. Так была решена его судьба.
После вкусного ужина, состоявшего из сочинских гостинцев, белорусской картошки и яиц, Меркурьев затребовал тот поцелуй, что был послан в телеграмме. Пришлось его отдать! По возвращении из экспедиции Вася поселился в моем доме - на улице Чайковского, 43.
С осени 1934 года началась наша совместная с Меркурьевым работа в Ленинградском театральном институте (называвшемся до 1939 года Центральным театральным училищем с вузовской программой). Когда институт взял культурное шефство над Казахстаном, руководить первой казахской студией было предложено нам. Мы с удовольствием приняли это предложение. Надо сказать, что курс был подобран очень удачно. Быстро поняв, что такое этюд, ученики приносили на урок свои национальные, очень интересные, самобытные сценки. Однако заниматься было нелегко. Мы разбили курс на группы. Это повышало интерес учащихся, группы затевали соревнования между собой. Со второго курса уже репетировали с прицелом на будущие пьесы: например, для будущей постановки "Чапаева" Фурманова репетировали этюд "Окопы", где действовала вся мастерская. Василий Васильевич внимательно следил за каждым студентом. Когда он объявил о начале работы непосредственно над пьесой по повести Д. Фурманова "Чапаев", на уроке было ликование! Наутро все пришли в чапаевках, с хлыстиками, а некоторые раздобыли весь красноармейский костюм. Это было смешно и трогательно.
Мы старались как можно больше расширять репертуар. Я репетировала "Позднюю любовь" Островского и "Коварство и любовь" Шиллера. Василий Васильевич - пьесу Гольдони "Слуга двух господ". Работали мы в разных аудиториях, но иногда ходили в гости друг к другу, чтобы показать отрывок, порадовать удачно разработанной сценой или монологом.
Много лет спустя мы встретились с нашими бывшими ученицами, ставшими ведущими актрисами казахского театра,- с Хадишой Букеевой и Гайни Хайруллиной. Мы говорили им о том, как много дали нам, тогда молодым педагогам, занятия с ними. Они отвечали нам словами благодарности. Не скрывая радости, слушали мы: "Родители дали нам жизнь, но судьбу нашу дали нам вы". В этом разговоре Меркурьев сформулировал, как мне кажется, один из главных принципов нашей педагогики: "Мы хотели не только помочь вам стать актерами, но помочь сформироваться настоящими интеллигентами высокоидейными, образованными людьми".
...В июле 1935 года у нас появилась дочка Анна. На каталке в роддоме лежали десять мальчиков, и ногами в эту армию упиралась одна девочка - наша Анюта. Врач сказал: "Это просто принцесса и ее пажи. Требуйте от мужа премию за такую красавицу". Васич каждый день забегал в роддом и очень гордился дочкой.
Однако работы я не прервала и в сентябре начала занятия в институте. Когда казахская группа перешла на второй курс, Б. М. Сушкевич предложил нам параллельно вести русскую мастерскую. Так мы, молодые педагоги, стали вести одновременно два курса. Казахская группа впоследствии составила основу Чимкентского областного казахского драматического театра. Среди закончивших институт девочек-казашек из далеких аулов были будущие народная артистка СССР Хадиша Букеева, другие признанные казахские актрисы. Русская группа влилась в Русский театр Белорусской ССР. И. Е. Болотова вспоминала: "Счастливо сложилась моя творческая юность. Моими учителями были народный артист СССР Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд большие художники, люди добрые, высоконравственные. Они учили тому, что глубина и тонкость постижения роли находится в прямой зависимости от внутренней содержательности и идейной устремленности самого актера. Отсутствие пошлых мыслей, чувств, поступков (не только в стенах театра, но всегда и везде) для актера так же необходимо, как и талант". Незабываемыми жизненными впечатлениями для Меркурьева были его встречи с В. Э. Мейерхольдом, оказавшим на него большое влияние.
Вас Васич поехал в Казахстан, в Чимкент, для уточнения финансового и территориального статуса будущего казахского театра - дело приближалось к выпуску студии. Путь лежал через Москву. Я попросила его позвонить и заехать к отцу - представиться ему и Зинаиде Николаевне Райх. Он хотел отделаться телефонным звонком, но Райх пригласила его к себе. Мы с ней дружили, когда учились в ГВЫРМе, и ей хотелось посмотреть на "мужа Ирины". Меркурьев попал к концу обеда. Познакомившись с ним, Всеволод Эмильевич встал, придвинул стул к столу и сказал:
- Зиночка, покорми Василия Васильевича, пожалуйста. Простите, я пошел.- И ушел в кабинет.
Зиночка расспрашивала Василия Васильевича о нашей жизни. Он рассказал, что у нас есть дочка Анна, что, когда он закончит в Чимкенте дела, туда поеду я с дочкой и няней и завершу там организацию театра. Васич ждал Мейерхольда, но тот вышел только проститься. Меркурьев был огорчен. Он привык к ласке и любви. Его любили все: зрители, друзья, администраторы. И вдруг Мейерхольд им не заинтересовался. Ни как актером, ни как зятем.
Дело было просто в том, что Мейерхольд ужасно боялся старости и всегда твердил: "Дочери мои стараются скорее превратить меня в деда". А Меркурьев решил, что не понравился Мейерхольду. Обиженный, он позвонил мне и сказал, что больше к тестю не пойдет.
Перед отъездом из Чимкента он снова связался со мной, сказал, что дела кончил и выезжает домой в Ленинград. Я умоляла его, чтобы он на обратном пути позвонил Мейерхольду, хотя бы только для того, чтобы справиться о здоровье. Вася выполнил мой наказ. Каково же было его удивление, когда в телефоне радостный голос закричал:
- Вася, это ты? Откуда? С вокзала? Ты подожди меня, я приеду за тобой на машине!
Василий Васильевич пробовал возразить, что не стоит беспокоиться, что он сам доберется.
- Зачем? - не унимался Мейерхольд.- Приедем к нам, отдохнешь перед поездом в Ленинград! Выпей на вокзале кофейку, но не наедайся. Я тебя покормлю!
Ошеломленный Васич долго стоял у автомата и раздумывал, почему такая перемена в отношении.
Подъехал Мейерхольд и, абсолютно уверенный в том, что ему покажут, где Меркурьев, спросил об этом у служащих вокзала. И действительно, к Меркурьеву он подошел в сопровождении проводницы. Обнял, поцеловал.
Они проезжали мимо огромного плаката с рекламой выходящей тогда на широкий экран картины "Профессор Мамлок", в которой Меркурьев сыграл фашиста Краузе.
- Смотри! Это ты! Я видел картину! Ты здорово там жрешь бутерброды!
Все стало ясно. Мейерхольд признал Меркурьева как актера. Теперь он стал Мейерхольду интересен:
- Каюсь, артист Меркурьев, кажется, действительно существует, говорил он.
Вася поведал Мейерхольду, как трудно "жрать" бутерброды с колбасой, особенно если снимается много дублей.
По дороге заехали в гастроном. Подведя Меркурьева к прилавку, Мейерхольд покупал все, на что только посмотрит Вася. Общаясь с девушками-продавщицами, подталкивал Меркурьева, шепча ему на ухо:
- Смотри, смотри! Это они на тебя смотрят, они тебя узнали!
Мейерхольд предложил Васе вареную колбасу.
- Только не ее! - запротестовал Васич. Тут же, у прилавка, он снова вспомнил, сколько этих громадных бутербродов ему пришлось съесть: его Краузе ко всему был еще и обжора! - И видеть не могу этой колбасы!
Вокруг собралось немало слушателей, начались расспросы. Словом, творческий вечер в гастрономе! "Зрители" просили Васю что-нибудь прочесть. Ну, это было уж слишком! Меркурьеву было неудобно перед Мейерхольдом, но тот скомандовал:
- Прочти! Прочти!
Васич прочел басню Крылова "Парнас". Смеху было много, даже аплодировали. Басни он действительно читал великолепно! Мейерхольду понравилась манера чтения басни, какую всегда отстаивал Василий Васильевич.
- Я яростный противник изображения басенных образов,- любил он говорить.- Передразнивание от лица автора - да, но ни в коем случае не полное перевоплощение, не сопереживание. Я убежден, что это противоречит самому жанру басни - небольшого юмористического рассказа в стихах с непременным авторским нравоучением в конце. Особенно нелепо и даже порой неприятно видеть подростка, пытающегося изо всех сил изобразить, скажем, пьяного зайца. Басни изучаются в школе, и зачастую именно там будущим абитуриентам прививаются эти тривиальные и пошловатые навыки.
На экзаменах большинство абитуриентов так и читают. И Меркурьев обычно спрашивал:
- А где у вас автор? На сцене я вижу только действующих лиц! А автор под столом? - И заглядывал под стол.
Но вернемся к московской встрече Меркурьева с Мейерхольдом.
Приехали домой с покупками, Мейерхольд распорядился:
- Раздевайся, иди под душ! Зиночки нет, она на даче, но ты не беспокойся, я быстро все приготовлю. Я готовлю вкусно.
Мейерхольд накрывал на стол, делая это с большим умением, радостью и эстетизмом. Скоро все было готово. За завтраком шутили, разговаривали, произошло окончательное признание Мастером Меркурьева. Мейерхольд просил, чтобы Васич рассказал ему о себе. Вообще не очень словоохотливый, Меркурьев в таких случаях очень стеснялся. Он лишь кратко сказал:
- Я не сразу стал артистом. Я начинал гробовщиком, да, я гробовщик.И добавил по-псковски: - Мы делали за день заготовки для двух домовин.
Мейерхольд тут же мрачно пошутил:
- Значит, я буду обеспечен гробом.
После завтрака Мейерхольд сказал:
- Ты устал с дороги! Ложись отдыхай.- Он начал искать простыню, приговаривая: - Когда Зиночка уезжает, ничего не найдешь. Куда она прячет белье? Но ты ложись, я тебя газетами закрою.
Заколов газеты спичками, он создал нечто вроде одеяла и, пожелав счастливого сна, на цыпочках ушел к себе в кабинет.
Приехав в Ленинград, Васич только и рассказывал о том, как подружился с тестем.
В 1937 году Меркурьев стал актером Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, куда перешел вместе со своим учителем Леонидом Сергеевичем Вивьеном. В театре сразу начал репетировать Меньшикова в "Петре Первом" (новой редакции пьесы А. Н. Толстого) в постановке Б. М. Сушкевича.
Помню забавный случай на репетиции. По распоряжению Сушкевича зеркало было повешено как раз напротив зрителя, и Василий Васильевич, одеваясь, любуясь собой, вертелся перед этим зеркалом и через плечо бросал реплики Екатерине, которую играла Н. Н. Бромлей. Это было трудно, и Меркурьев взмолился, сказав, что ему очень неудобно говорить спиной к зрителю. На что Борис Михайлович отвечал:
- Чем неудобнее артисту, тем интереснее зрителю.
В эти годы Меркурьев был очень занят. Он играл в театре, снимался в картине "Выборгская сторона", в институте завершалась работа двух выпускных курсов - русского и казахского. Одновременно готовилась к выпуску мастерская Л. С. Вивьена и Б. М. Дмоховского, где Василий Васильевич являлся преподавателем. Меркурьев репетировал там сцены из "Испанского священника" Флетчера.
Однажды мы вошли в аудиторию и увидели необычайное: Вас Васич и его студентка Татьяна Шикина бросали вверх предметы, главным образом стулья, крича текст:
К чему весь этот блеск богатств,
И все блага земные,
Когда венца всех наших вожделений,
Ребенка, чтобы все ему отдать,
Мы лишены!..
Все прижались к стенкам. Когда закончилось действие, Меркурьев сказал:
- Вот так должна идти эта сцена! Попробуйте без стульев!
И действительно, в актрисе что-то зажглось.
После закрытия Театра имени Мейерхольда в 1938 году отец часто наезжал в Ленинград: в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина шло третье возобновление "Маскарада", где Меркурьеву была поручена роль Казарина.
Жили Мейерхольд и Райх на Карповке в мрачном, темном доме. Мы часто заходили к ним. В один из свободных вечеров зашел разговор о закрытии театра Мейерхольда. Меркурьев, взволнованный, призывал Мастера к противодействию. Никогда мне не забыть задумчивый вид отца, ответившего Васе:
- Значит, я что-то делал не так, в чем-то ошибался. Нет, Васенька, не к кому мне обращаться.
Все замолчали.
Начался период влюбленности Мастера в Васича. Ни одной репетиции не проходило без него, даже когда репетировались сцены, в которых Казарина не было. Зная, что мы в институт идем к девяти часам утра, Мейерхольд звонил в восемь и заявлял категорически, что без Меркурьева не пойдет на репетицию. Когда Меркурьев ссылался на занятость в институте, Мастер и слышать не хотел:
- Пусть там репетирует Ирина!
Приходилось подчиняться.
Иногда и я присутствовала на репетициях "Маскарада". Обычно мы с Зинаидой Николаевной Райх сидели в начале "мест за креслами", на диванчике. Зал всегда был переполнен. Высокий режиссерский стол Мейерхольда стоял в восьмом ряду. Вместе с Всеволодом Эмильевичем сидел Васич. Порой Всеволод Эмильевич вбегал на сцену показать актерам, как действовать. Эти показы всегда сопровождались аплодисментами. Сбежав обратно к Меркурьеву, он довольно громко спрашивал:
- Ну, как?
После похвалы Василия Васильевича он кричал свое знаменитое "хор-ро-шо-о!". Потом мы вчетвером шли в ресторан "Астория" пообедать, и продолжались разговоры.
Однажды мы с Васичем затеяли прием: пригласили Ю. М. Юрьева, А. П. Нелидова и Мейерхольда на экзотический обед - казахский бешбармак. Мы накрыли не на стол, а на ковер на полу, окружив его подушками. Юрьев был очень шокирован. Войдя, он произнес с неудовольствием:
- Как? На полу? Такая экзотика!
А Мастер со свойственной ему гибкостью молниеносно приспособился к ковру, подушкам. Мы подали большие блюда знаменитого бешбармака, кумыс, арбузы. За обедом происходила бурная беседа о "Маскараде", о Казахстане. Мастер хвалил Васича за репетиции Казарина.
Впоследствии Василий Васильевич не раз говорил о значении для него уроков Мейерхольда. Приведу некоторые его высказывания.
"Действие - движение. При минимуме затрат - максимум выразительности! - часто повторял Меркурьев.- И у Мейерхольда, скажем, поза - это спокойное состояние, не развитие; движение - это человек, это активная жизнь. Но для того, чтобы научить актера двигаться, нужно ввести в программу ряд таких дисциплин, которые бы приучили тело ничего не бояться".
Сам Мейерхольд двигался блистательно. Его ученики владели всеми видами спорта: и конным, и лодочным, и боксом, и плаванием, и фехтованием. Тело было натренировано так, что работали только те мышцы, которые необходимы для данного движения, остальные отдыхали. Важно, чтобы актерский аппарат был способен выполнить то, что задумано.
В своей педагогической практике Меркурьев исходил из того же. "Беспредметно тренировать внимание актера нельзя,- говорил он.- Нужно тренировать его в том ритме, в каком задан этюд. Все необходимо передавать через сценическое воплощение. Мы так считаем: если это "несмотрибельно", значит, это неверно".
По вопросу о так называемом мейерхольдовском формализме у Меркурьева было свое четкое мнение:
"Думается, что в этом вопросе многое не понято. Бесспорно и непреложно для меня одно: мысль, ведущая идея были для Мейерхольда главным стимулом и основным содержанием его работы. В то же время он понимал огромное значение формы в искусстве, понимал, что, только найдя соответствующую форму, он может рассчитывать на желанный идейный результат. Поэтому он тщательно продумывал облик, внешний образ своих постановок, справедливо считая, что при отсутствии ясного и точного внешнего образа внутреннее содержание остается нераскрытым. Но его замыслы в конечном счете реализовывали актеры, а они не всегда схватывали глубинную суть мейерхольдовских концепций, прежде всего фиксируя свое внимание на ярком, запоминающемся внешнем рисунке, который предлагал им Мейерхольд. Я знаю, что Мейерхольд глубоко переживал это несоответствие между его замыслом и сценическим воплощением. Его ранило то, что актеры порой были склонны за его яркой, выразительной мизансценой забывать те глубокие идеи, которые эти мизансцены рождали.
Я не могу забыть мою совместную работу с Мейерхольдом в "Маскараде",продолжал Меркурьев.- Я работал над образом Казарина и, казалось, уловил внешний рисунок, который дал Мейерхольд. Товарищи меня ободряли, на первый взгляд представлялось, что все обстоит благополучно. Но меня томило сознание, что мой образ не живет полнокровной внутренней жизнью. Не без трепета сознался я на репетиции, что работа у меня не клеится. И что же? Мейерхольд обнял меня и сказал:
- Спасибо за честность.
Это лучше всяких рассуждений показывает, что внутренняя жизнь образа, содержание роли были всегда главной заботой Мейерхольда.
Да, Мейерхольд много работал с актерами над пластикой. Что же, я не вижу в этом никакого греха. Наоборот. Он хотел, чтобы актер был убедителен, играя в зрелых годах молодого, чтобы зритель верил и молодому актеру, изображающему старика. Мейерхольд справедливо считал, что человеческое тело может многое сказать и досказать на сцене".
...Осенью 1938 года я собиралась в Чимкент по делам наших выпускников. Мейерхольд с Зинаидой Николаевной были в это время в Ленинграде. Неожиданно они приехали к нам и объявили, что едут вместе со мной в Москву. Василий Васильевич тоже собирался сопровождать меня до Москвы, а потом тоже приехать в Чимкент. Собирали вещи, было очень весело, шумно. Вдруг Анюта потребовала, чтобы взяли велосипед. Мы стали ее отговаривать, но вступился Мейерхольд - "ребенок просит".
В общей сложности мы с Василием Васильевичем прожили в Чимкенте около года. Василий Васильевич занимался организационной перестройкой театра. Я же сосредоточилась непосредственно на режиссуре. Мы поставили тогда первую в нашем театре казахскую пьесу "Ночные раскаты" М. Ауэзова. Для этой работы мы изучали нравы и обычаи народа. В Чимкенте это познание обычаев включало в себя одну из самых "вкусных" сторон. Репетиции обычно кончались беседами, а каждая беседа - поторапливанием: "Бешбармак стынет!" И артисты уводили нас по очереди к себе.
...Вернувшись в Ленинград, я сразу же включилась в институтскую работу, а Вас Васич еще и репетировал Прохора Дубасова в "Суворове", Василия в пьесе "Ле нин". На "Ленфильме" шли съемки "Танкера "Дер бент", где Меркурьев играл боцмана Догайло. Наступила пора ехать в Одессу на натурные съемки. В Одессе нам предоставили маленькую квартиру в Доме специалистов, рядом с площадкой киностудии. Меня поражала тогда воля и выдержка Василия Васильевича, который поддерживал в нашей семье уравновешенную, спокойную атмосферу.
Меркурьев уехал на танкере на съемки в море. Настало затишье, очень необходимое мне, так как я ждала второго ребенка. Погода стояла великолепная. Я мысленно сопровождала Васеньку в его морском походе.
Каждый день я отправляла Анюту с ее воспитательницей на море и, оставшись одна, занималась хозяйством. Однажды раздался телефонный звонок. Из гостиницы "Ривьера" сообщали о пришедшей из Ленинграда телеграмме. Я попросила прочесть ее по телефону, но мне отказали. Как ни тяжелы мне были тогда переезды по городу, я отправилась в гостиницу. Тут же около портье развернула телеграмму и несколько раз прочитала ее, еще не понимая, не веря. В ней сообщалось о гибели младшего Васиного брата. Назавтра должен прийти из плавания Васич! Как сказать? Где сказать? Решила, что лучше всего сказать на людях, чтобы сдержался. Я позвонила на студию, сказала, что поеду встречать со всеми. За мной заехали. Причаливал танкер. Вася выбежал с танкера и ринулся ко мне. Сели в автобус. Он очень удивился, когда я села на самую заднюю скамью!
- Иришечка, ведь здесь трясет! Тебе нельзя!
- Зато сзади никого нет!
Он оживленно рассказывал о плавании, о дельфинах, которые во время шторма перекатывались через палубу. Васич был такой веселый, такой наполненный событиями, так много, безудержно говорил! Многое я пропускала, не слушая. Мысль о том, что надо именно здесь показать ему телеграмму, мучила меня. Я знала, как потрясет его это сообщение. Брат Петр был любимейшим человеком. Что бы ни делал Васич, над чем бы ни работал, он всегда спрашивал совета у Пети. Я дождалась паузы, когда Васич произнес: "Ну, скоро и дома!" - и со словами "Васенька, ты только держись!" подала ему телеграмму. Он не успел крикнуть, потому что я, обняв его, закрыла рот. Васич как-то весь сник! Приехали, сошли, сели на скамью, Меркурьев зарыдал.
Тогда же мы решились взять к себе Петиных детей (вдова его была в очень тяжелом состоянии). Так вместо одной Ани у нас стало четверо детей: своя Аня, племянники Виталий и Женя, племянница Наташа.
...Зиму 40-го года мы жили на Крестовском острове. По вечерам я ждала Васича у большого венецианского окна, завешенного синей шторой (шла финская война, и вечером все жители Ленинграда были обязаны соблюдать светомаскировку), беспокоилась, если он задерживался. А он порой, увлекшись беседой с И. И. Соллертинским, который вместе с ним возвращался на Крестовский, совсем не торопился. Именно в это время окрепла их дружба. Они и раньше знали друг друга, но долгое время не были представлены.
Однажды нам сообщили о том, что у Соллертинского в Доме кино состоится доклад о западной драматургии. Мы отправились послушать. Лектор очень увлекательно рассказывал о Тирсо де Молина, о Лопе де Вега. В частности, он сказал, что комедия Лопе де Вега "Путаница", к сожалению, еще не переведена. Когда он кончил, Вас Васич попросил слово. Соллертинский с радостью предоставил Меркурьеву возможность выступить и был поражен его сообщением о том, что "Путаница" переведена и поставлена у нас на курсе. Меркурьев пригласил всю публику на будущий выпускной спектакль. Когда мы возвращались домой, Иван Иванович подробно расспрашивал, кто дал нам эту пьесу. А ее принес какой-то человек (сейчас уже не помню кто) и предложил поставить у себя на курсе эту "забавную вещицу". В трамвае завязалась интересная беседа и о драматурге, и о пьесе, и о характерах, и, конечно же, о будущем спектакле. Соллертинский был блестящим, энциклопедически образованным человеком, в совершенстве знал почти двадцать иностранных языков, обладал феноменальной памятью. Но общение с ним было легким, так как он никогда не подавлял собеседника своей эрудицией и был очень заинтересованным, эмоциональным слушателем.
С Соллертинским Меркурьева сближала любовь к музыке. Василий Васильевич очень тонко чувствовал искусство музыки. Очень любил Меркурьев Шаляпина, преклонялся перед гением Шостаковича, старался не пропустить ни одной премьеры его симфоний в исполнении Мравинского. Перед мастерством Мравинского он просто благоговел. Как-то, когда мы вернулись с исполнения Пятнадцатой симфонии Шостаковича, Васич сказал: "Я бы всех наших актеров заставил ходить на концерты Мравинского, чтобы они поняли, что такое настоящий актерский ансамбль". Когда в 1966 году Шостакович лежал в Ленинграде с инфарктом, мы с Василием Васильевичем навещали его в больнице.
Из композиторов Меркурьев очень любил Глинку, Рахманинова, Шопена, Бетховена.
В детстве Меркурьев пел в церковном хоре, потому сохранилась у него любовь к хоровому искусству. Очень обрадовался он, узнав в 60-х годах, что снова исполняются сочинения Бортнянского, Березовского, Архангельского, и ходил на концерты, восхищаясь мастерством дирижера Юрлова...
25 января 1940 года у нас появилась дочка Екатерина, названная так в честь "тети Кати" - Е. П. Корчагиной-Александровской. Лето мы провели на даче, много гуляли, беседовали. В разговорах - куда же денешься! - то и дело возвращались к проблемам театра. Меркурьев мечтал сыграть Отелло. Он воображал и даже изображал его доверчивым, нежным, не забывая о мужественности его характера. Эта мечта сопутствовала Меркурьеву всю его жизнь.
А осенью я уехала организовывать театр в Южную Осетию и пробыла там вместе с девочками до лета 1941 года. Начало Великой Отечественной войны нам пришлось встретить врозь. Меркурьев рассказывал, что 22 июня в театре играли спектакль "В степях Украины" - спектакль смешной, веселый. Но глубокая тревога охватила актеров - "мы играли очень грустно".
В Ленинград мы пробирались с большими трудностями. За одиннадцать суток мы совершили тринадцать пересадок. Наконец, знакомая деревянная лестница. Нам открыла мама Василия Анна Ивановна и сообщила, что Вася дежурит на крыше Пушкинского театра. Оставалось терпеливо ждать его возвращения. Пришел Вася. Встревоженный, но по-прежнему ласковый, подошел к кровати девочек, с любовью посмотрел на них и сказал, что напрасно я уехала из Южной Осетии. Я то и дело возвращалась к повествованию о нашем трудном пути домой. Васенька, выслушав мою эпопею, сказал:
- Вот без меня ты энергичная, смелая, а так предпочитаешь прятаться за мою спину.
На что я ему резонно отвечала:
- Да, спина у тебя достаточно широкая, а главное, ты позволяешь мне "прятаться" за нее.
В Ленинграде в первые дни войны шла интенсивная трудовая жизнь. Но для нас она была прервана извещением об эвакуации театра и института. Нам с мужем предложили ехать в Новосибирск. Меркурьев очень страдал, что он не на фронте: его забраковала медкомиссия (обнаружились незарубцевавшиеся туберкулезные очаги в легких - он лечился от туберкулеза много лет; окончательно эта хворь отстала от Васича после войны), а, кроме того, театр категорически настаивал на том, чтобы он остался в труппе. 20 августа, собрав свой нехитрый скарб, а в основном детей (их у нас было уже шестеро к двум нашим дочкам присоединились, как я уже говорила, трое ребят Петра Васильевича и еще дочка другого брата Василия Васильевича - Ирочка), мы вместе с другими актерами театра тронулись в дальний путь на восток.
Встретили наш поезд в Новосибирске с огромной лаской и заботой. Нас отвезли в Дом актера, размещавшийся в только что выстроенном здании оперного театра, где и поселили в соседстве с Соллертинским. Это нас очень обрадовало. Мы получили две небольшие комнаты, даже с ванной. Когда мы выглянули в окно, перед нами развернулся интереснейший спектакль: наши коллеги делили между собой стулья, столы, кровати, матрацы, шкафчики, лампы и прочую утварь. Васич посмотрел на эту картину и, отойдя от окна, строго сказал:
- Мамочка, стели ребятам на полу.
А сам пошел к своему чемоданчику с рыболовными принадлежностями. Мы порылись в нем, кое-что отложили и, не переодеваясь, как были, пошли по широким улицам Новосибирска, расспрашивая прохожих о местах рыболовства. Наконец мы напали на любителя, который показал нам дорогу в Кривошеево. Ехать надо было на пароходике. Мы с удовольствием совершили это путешествие, прошли километра три по указанному пути к егерю, который выдал нам хорошую лодку. Мы поймали много рыбы, главным образом щук. Когда под утро мы возвратились к егерю с таким уловом, он дал нам большую бельевую корзину. Мы отсчитали около шестидесяти щук, остальной улов оставили ему. И, счастливые, отправились домой. Река была стихией Васича, ведь он родился на реке Великой.
Придя домой, мы выпустили наш улов в ванную с водой. А затем Вас Васич сел к телефону и стал звонить друзьям, предлагая рыбу. Конечно, все приняли наше предложение радостно: каждая семья думала о том, как прокормиться.
Ах, если бы никогда Обь не замерзала! И было бы время для рыбалки! Но наступила рабочая пора. Временно меня зачислили в театр режиссером-педагогом и заведующей звукооформлением. В этой работе мне много помогал Васич.
В военные годы новых ролей у Меркурьева было немного. В "Отелло" он сыграл роль Дожа Венеции. На генеральной репетиции во время сцены в сенате Меркурьев вдруг остановил спектакль. Дело было в следующем. Художник довольно неудобно, но эффектно посадил Дожа в центре сцены, напротив публики. Ю. М. Юрьев - Отелло говорил свой текст, обращенный к Дожу, стоя к нему спиной, лицом к зрителю. Когда Дожу пришел черед говорить, Меркурьев молчал. Не оборачиваясь к нему, Юрьев защелкал пальцами. Режиссер спектакля Г. М. Козинцев остановил репетицию.
- Василий Васильевич, почему вы не говорите?
- Я не понимаю, у кого он просит о прощении, у меня или у зрителей,отвечал Василий Васильевич и добавил: - Пересадите меня, чтоб Юрию Михайловичу было удобно говорить со мной, будучи обращенным лицом к зрителю.
Был объявлен антракт, и Меркурьева пересадили в передний угол сцены. Для этого потребовалось перенести входную дверь в центр. Все встало на свои места. А художник спектакля получил наглядный урок того, что, строя планировку сцены, прежде всего надо думать об актере.
Меня группа актеров попросила поставить "Позднюю любовь" Островского. Меркурьев сыграл в этом спектакле Николая Шаблова. Он был блистателен в сцене, где его герой выбирает свой путь и после раздумий отвергает мир корысти и расчета. На одном из представлений "Поздней любви" я еще раз ощутила глубину художественного такта Василия Васильевича. Вместо заболевшей актрисы я играла Шаблову. Пьесу я знала наизусть, и все шло хорошо. Но в какой-то момент я, идя на поводу у публики, "раскомиковалась". Публика хохотала, аплодировала. После спектакля я с гордостью спросила Васича, как это было. Он посмотрел на меня с грустью и, пожав плечами, ответил: "Ничего". Я сначала удивилась, но быстро поняла, что допустила дурновкусие.
Через некоторое время Л. С. Вивьен вызвал Меркурьева к себе и предложил ему с семьей выехать в Нарым для создания там театра. Мы с удовольствием согласились. Обком партии снарядил пароход. Ехали в Нарым и актеры, но не из нашего театра. Путь в Нарым от Новосибирска, вниз по Оби, был довольно длительный, но интересный. Поселили нас в городе Колпашеве (чуть южнее Нарыма), дали обширную избу, где раньше была библиотека. Первое, что мы сделали,- пошли в горком партии, познакомились с первым секретарем горкома, и Василий Васильевич был командирован обратно в Новосибирск с большим списком необходимого для оснащения театра. Полетел он уже на самолете - навигация кончилась. Тем временем я ходила в театр и репетировала репертуар, намеченный нами к выпуску. Вскоре мы успешно открыли театр, переведенный затем в город Каргасок.
Когда мы закончили организацию театра, к нам во двор привели в качестве премии маленькую корову. Назвали мы ее Малютка. Это было большое подспорье для ребят, хотя долго мы потом вспоминали, как непривычно и сложно было нам тогда с коровой. В Колпашеве нас поселили в деревянном двухэтажном домике, который мы называли скворечником,- он был хоть и высок, но узок. Две комнаты наверху, две комнаты внизу. Скворечник стоял против театра. Вокруг него не было никаких домов. Репетировала я "Давным-давно" А. Глад кова. В самый разгар репетиций я почувствовала, что мне пора в родильный дом.
- Мальчик! - произнесла акушерка.
- Здравствуй, Петенька! - ответила я и пояснила: - Это я с сыном здороваюсь.
17 июня 1943 года на свет появился второй Петр Васильевич Меркурьев.
По возвращении домой ликованию и поздравлениям не было конца. Я вскоре приступила к работе. Предстояла премьера "Давным-давно". Спектакль был принят радушно.
Затем мы в нашем театре ставили пьесы Островского, Горького, современных драматургов. Завершив осенью 1944 года работу по организации очередного театра, мы погрузились на пароход, чтобы ехать в Новосибирск в родной театр, но дотянули только до Томска, так как речной путь перестал функционировать. Оставив весь свой груз на пристани, мы отправились в Ленинградский театральный институт, который был эвакуирован в Томск. Шествие открывалось пятью ребятами, одетыми в одинаковые шубки. Старший, Виталий, шел рядом с нами, а младшего Петеньку нес на руках Василий Васильевич. Замыкала шествие бабушка - Анна Ивановна, мать Василия Васильевича. Такой компанией мы нагрянули к ректору института Н. Е. Серебрякову. Он ахнул, схватившись за голову, но, придя в себя, отвел нам одну из просторных комнат общежития, служившую, очевидно, залой или столовой, где мы и расположились.
Но вскоре мы вернулись в Новосибирск. Здесь меня пригласили в самодеятельный театр, созданный В. Г. Гай даровым и О. В. Гзовской. Театр находился в Кривощекове, пригороде Новосибирска. Предложили поставить пьесу "Тристан и Изольда" А. Я. Бруштейн. (Замеча тельная писательница, драматург и человек, Александра Яковлевна Бруштейн была почти глухая и слепая. Но обладала искрометным юмором и потрясающим жизнелюбием. Кроме того, что она была писательницей, Александра Яковлевна была замечательной матерью: родила и воспитала двух незаурядных детей - Сергея Бруштейна, ставшего прекрасным врачом, и Надежду Надеждину - основательницу прославленного ансамбля "Березка"). Я с радостью согласилась и попросила Васича прочитать мне эту пьесу.
- Очень хорошая пьеса! Нужная для молодежи! Чистая! - охарактеризовал ее Васич.
Не могу не сказать здесь и о трактовках Меркурьевым классических произведений литературы. Приведу один пример: все, читающие отрывок из гоголевской "Страшной мести" - знаменитый "Чуден Днепр при тихой погоде","распевают", любуются им. У Меркурьева к этому тексту был иной подход. Он читал, захлебываясь от восторга Днепром. "Редкая птица долетит до середины Днепра" - ведь это же колоссальная гипербола! Чего там, на самом деле, долетать! Это гипербола восторженного человека. Перед каждым сравнением Меркурьев делал паузу, проверяя, поверили ему или нет. "Без меры в ширину" - пауза, "Без конца в длину" - пауза. И как высшее доказательство: "Редкая птица долетит до середины Днепра!" Текст оживал по-новому, сразу были видны и ширь Днепра, и беспредельная влюбленность автора в эти прекрасные места.
Вообще Гоголя Меркурьев обожал. Иногда зовет всех нас - и меня, и Петю, и Катю - и говорит: "Вы послушайте". И читает "Вечера на хуторе близ Диканьки", восторгаясь языком, сочностью, точностью характеристик. "Ее знали во всем свете - и в Диканьке, и за Диканькой". Прочтет и комментирует, смеясь: "Весь мир! Весь свет! За Диканькой! Диканька! А Диканька-то была дворов тридцать!"
Потому, видимо, так замечательно играл он "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Этот номер был на протяжении сорока лет украшением любого концерта. С каким мастерством, тончайшим юмором играли эту сцену Меркурьев с Толубеевым! А как тонко, изысканно и вместе с тем слащаво играли Василий Васильевич с Н. В. Мамаевой чету Маниловых в "Мертвых душах"!
Война шла к концу. Театр реэвакуировался. Меркурьев вернулся в Ленинград, я с детьми пока осталась. В самый счастливый день - 9 Мая, в День Победы - сыграли мы премьеру в Кривощекове. Василий Васильевич специально прилетел на нее в Новосибирск. А еще до этого пришла телеграмма: "Замечательного режиссера и педагога, чуткую жену и мать, самого близкого и родного мне человека горячо поздравляю в день рождения твоего с праздником Победы".
В июне я повезла семью в Ленинград.
Перед отъездом из Новосибирска договорилась с моими молодыми самодеятельными актерами, что вернусь за ними, чтобы устроить их учиться в наш институт. Так у нас появился новый курс, принятый сразу как бы на второй год обучения. Он успешно окончил институт в 1948 году. Все двадцать пять выпускников стали профессиональными актерами. Мы часто показывали в Ленинграде то целиком, то по кускам спектакль "Тристан и Изольда", продолжая работать над ним. А в институте курс новосибирцев начал работу над спектаклем "Правда - хорошо, а счастье лучше", который репетировал Василий Васильевич. Я же работала над "Обыкновенным человеком" Леонова.
В 1946 году одновременно с работой в институте мы руководили самодеятельной студией во Дворце культуры имени С. М. Кирова. Там мы поставили "Девочек" В. Пановой. В Москве на смотре самодеятельных спектаклей "Девочки" получили первую премию. В спектакле были заняты ныне известные актеры и режиссеры - Б. Львов-Анохин, Б. Тронова, М. Львов, Ю. Каюров, А. Дашкевич. Все мы были увлечены работой. Часто белыми ночами после репетиций в Кировском дворце мы шли с Васильевского острова домой пешком всей гурьбой, любуясь Ленинградом. Великолепное было время.
Здесь, наверное, уместно будет сказать вообще о принципах воспитания Меркурьевым будущих актеров. Позволю себе привести его собственные слова:
"Меня волнует, что мы после себя оставим. Хорошего актера воспитать трудно. Он должен знать жизнь человеческую! Мы стараемся, чтобы наши студенты с первых шагов ощущали свою надобность людям, к которым они обращаются со сцены. Чтобы такого актера воспитать, нужны железная дисциплина, режим, устав. Когда мы набираем очередной курс, приходится предупреждать: "Будет жизнь почти казарменная". Знаете эту песню: "Солдатушки - бравы ребятушки, где же ваши жены? Наши жены - ружья заряжены, вот где наши жены..." Так вот эта песня точно отражает суть актерского дела. Актер должен отдавать всего себя. Я бы назвал актера солдатом. И для воина и для артиста строжайшая дисциплина - первое условие службы. Сцена - наше высшее командование, наш бог, она требует беззаветности. Нашим первокурсникам по 16-17 лет, а они называют друг друга по имени-отчеству. Сначала стесняются, а потом привыкают. Это ведь лучше, чем "Танька-Ванька", это культуру вносит в отношения. Наша профессия, да, наверно, и любая другая, требует от человека благородства и чувства собственного достоинства. А это с "Танькой-Ванькой", по нашему убеждению, не сочетается. У нас каждый крупный проступок обсуждается на собрании курса, и каждый студент должен выступить - обнаружить свою позицию. Мы хотим вырастить не равнодушных обывателей. Мы даем нашим студентам полную творческую и даже хозяйственную самостоятельность. Режиссура, костюмы, реквизит, организация концертов - все на них. Такая деятельность развивает в ребятах инициативу, умение ориентироваться в сложной ситуации - словом, учит жить без "суфлера". И когда они кончают институт, нам за них не страшно. Наши ребята готовы к тому, чем может испытать их актерская судьба,- к огромным нагрузкам, и эмоциональным, и физическим".
Летом 1946 года Василий Васильевич снимался в фильме Н. Кошеверовой "Золушка" в Риге. Мы же жили под Выборгом на самом берегу озера, катались на лодке, ловили щук. Как-то, поймав большую щуку, мы отправили телеграмму в Ригу Василию Васильевичу: "Погода прекрасная. Ловим больших щук. Приезжай. Целую. Ирина". Эта телеграмма напомнила мне другую телеграмму, посланную Васичу в 1934 году. Рано утром мы проснулись от крика на той стороне озера, от знакомого и дорогого голоса Васеньки. "Ого-го-го!" раздавалось далеко. Я выскочила из избушки, которая стояла на краю озера. Села на лодку и поплыла за ним. На обратном пути он рассказал мне, как, получив телеграмму, содрал бороду и, несмотря на уговоры всей группы, уехал. Будучи всегда очень дисциплинированным и организованным, и на этот раз Вас Васич, конечно, не изменил своему обычаю из-за моей телеграммы: просто стояла несъемочная погода. Прощаясь с режиссером картины, он просил вызвать его, как только начнутся съемки. Оснащенные рижскими блеснами, мы сели в лодку, захватив с собой маленького Петю. Васич распустил леску с блесной и моментально зацепил "либо бревно, либо щуку", как он сказал,- и потащил. Появилась огромная рыбина.
Вскоре Вася вернулся на съемки. В картине "Золушка" самое мое любимое место, когда Меркурьев - Лесничий на балу смотрит на подошедшую к нему и взглянувшую на него Золушку - Я. Жеймо, а она перед ним маленькая-маленькая, и он смотрит на нее вниз одобряющими, любящими и удивительно добрыми глазами.
В умении все выразить взглядом Меркурьев был большим мастером.
Так же было и в фильме "Сыновья", в сцене, когда жена Карлиса (ее замечательно играла Л. П. Сухаревская) нападает на него за то, что он фашист. Как он воспринимает это! Одними добрыми глазами, много говорящими, но скрывающими тайну...
На улице с Василием Васильевичем стало более и более неудобно появляться. Его все узнавали. Только он один, занятый своими мыслями, ничего и никого не замечал. Вот что однажды ответил сам Василий Васильевич на вопрос, как он относится к своей популярности:
"Приятно ли быть известным? Вынужден сказать: не знаю. Почему-то я принимаю знаки внимания так, будто они относятся не ко мне. Иногда соседи по электричке или по трамваю спорят даже: Меркурьев я или не Меркурьев. Одни говорят "он", другие доказывают, что Меркурьев быть таким не может. Я глаза закрою, слушаю. Приятно, что знают Меркурьева, ну, а я здесь при чем? Я никогда не мог соединить похвалы, награды, разные проявления известности со своей особой. Такая странность..."
Никто из посторонних не предполагал в Меркурьеве застенчивости и робости, так же, как никто не знал, как много работал Василий Васильевич, чтобы прийти к простоте и непосредственности образа. Он был застенчив, хотя не подавал виду. Застенчивость была в нем, даже когда он выходил на сцену кланяться после спектакля. Это придавало ему особое обаяние. Всегда, приехав домой, внимательно расспрашивал он, что удалось ему в спектакле и какая была неудача.
Ранней весной 1946 года мы получили дачу в местечке Громово. Стоял наш домик еще недостроенным на горушке близ озера. Постепенно мы его обживали. Вас Васич очень любил это "поместье". Достали лодку. Многие годы нашей совместной жизни отдыхали мы с ним только там. Бывало, выедет он на середину озера и там думает о роли.
Интересен был метод работы Меркурьева. Он никогда не учил текст громко. Никогда не расхаживал по комнате. Он или сидел в своем кресле, или лежал на своей огромной кровати, весь обложенный книгами, справочниками (среди которых особое место принадлежало "Толковому словарю" Даля), и бормотал текст. Он его "пропускал" через себя. Помню, в пьесе "Артем" (1970) он играл священника. Этот священник говорит о Монтене. И Васич добыл "Опыты" Монтеня, прочитал их, добираясь до сущности роли. А роль-то была совсем маленькая! Иногда бывало так, что мы сидели за обеденным столом, разговаривали всей семьей о делах насущных, а Васич молчал. Потом он вдруг начинал говорить. Мы никак не понимали, о чем это он? А потом выяснялось, что он прочитал монолог, который только что выучил. Но это была такая правда и органика, что сразу и не поймешь, говорит ли он с нами или высказывает какие-то свои мысли будущего образа.
Если что не ладилось, Меркурьев никогда не обвинял партнера, а искал причину в себе. Вот, например, репетировалась в театре пьеса Л. Шейнина "Тяжкое обвинение" (1966). Василий Васильевич играл секретаря обкома партии Сергея Ивановича. Логинова играл Н. К. Симонов. Играл он очень хорошо, эмоционально, но переживал роль "внутри себя" и ни разу не взглянул на партнера. Поэтому Меркурьеву найти общение с Симоновым было чрезвычайно трудно. Однажды, сидя у телевизора и смотря картину "Человек-амфибия", где Симонов играл отца главного героя - Ихтиандра, Вася даже вскочил со стула и воскликнул: "Смотри, смотри, Коля общается с сыном!" И добавил после глубокой задумчивости: "Значит, я был виноват". Напряженные поиски сути роли, глубины характера всегда были свойственны Меркурьеву.
Но вернемся снова к 1946 году. В театре шли репетиции пьесы Б. Лавренева "За тех, кто в море!". Меркурьев играл Максимова. Он очень взволнованно рассказывал, что чувствует, что от него ждут какого-то приподнятого героя. Один раз он даже хотел упасть со стула, чтобы разрушить шаблонные представления о герое. Но в конечном итоге партнеры к нему привыкли - к его мягкости, к его обаянию.
В театре появилась пьеса "Глубокие корни" А. Гоу и Д'Юссо. Меркурьев загорелся ролью Бретта, негра, пришедшего из армии. Роль эта не совсем подходила ему, но он рассматривал ее как какое-то преддверие к Отелло. И все-таки играл в очередь с В. Э. Крюгером.
В 1948 году Меркурьев играл роль Восьмибратова в "Лесе". Он сам считал эту роль своим большим достижением. Как-то позднее мы были на его творческом вечере, где, по обыкновению, показывались куски из фильмов. Среди отрывков был и отрывок из "Леса". Просмотрев его, Вас Васич сказал мне: "Как он здорово играет!" Он сказал это про себя. И задумался.
В это же время в кино Василий Васильевич снялся в "Повести о настоящем человеке" в роли старшины Степана Ивановича. Съемки этой картины Меркурьев всю жизнь вспоминал с большой теплотой. Хорошие отношения сложились с Н. П. Охлопковым. А особенно сблизился он с П. П. Кадочниковым, и дружба эта, удивительно теплая, трогательная, сохранилась до последних дней жизни Вас Васича. На 70-летнем юбилее Меркурьева Кадочников прочел стихи, где были такие строчки: "Мы любим Вас, Вас. Вас. Наш человечище Вас. Вас.".
Василий Васильевич был чрезвычайно доверчив и восторженно воспринимал предложенную ему дружбу. В Пушкинском театре работал гримером его добрый друг А. А. Берсенев. Берсенев всегда предупреждал Васича: "Не будь ты таким восторженным, ведь часто тебя заставляют разочаровываться люди, и каждый раз ты очень переживаешь". Но все равно Василий Васильевич не мог преодолеть своего восторга от людей, появляющихся на его пути.
Дружески сложились его отношения с коллегами во время съемок фильма "Звезда". Все семейство мы отправили в Громово, а я жила с Васичем в воинской части, где нам выделили комнату. Съемки были очень трудные. Но выдавались и веселые дни, когда Василий Васильевич со своим партнером и другом Н. А. Крючковым уезжали к нам на дачу, купались, ездили на озеро, удили рыбу. Коля Крючков необыкновенно тонко чувствовал природу! Он входил в незнакомый лес и сразу безошибочно находил грибные места. А на любом водоеме ставил свою лодку именно там, где клевала рыба,- на зависть рядом стоящим рыбакам с шикарными снастями, скучающим над своими неподвижными поплавками.
Очень привязался к Василию Васильевичу Петр Мартынович Алейников. Кумир кинозрителей до войны, милый, обаятельный Петя Алейников в послевоенные годы опустился и сам очень страдал от этого. Помню один случай. Как-то они стояли в кассе за получением гонорара. Алейников жаловался Васе на свою судьбу, бичуя себя за то, что оставил без дачи тещу и двух ребят, что у него много долгов. На пачку денег, получаемых Петром, Меркурьев наложил свою огромную руку, а потом спокойно положил их в боковой карман и сказал: "Ну вот что, Петя, я забираю твоих детей и тещу, да и тебя тоже, к себе на дачу".
Так они все вместе и прибыли на дачу. Вася отдал запечатанную пачку денег теще Алейникова. Петя бросился обнимать Васю.
Меркурьев был очень отзывчивым человеком. Многих он выручил из беды, многим помог. Меньше всего это распространялось на нашу семью. Когда дети выросли, они по привычке обращались к отцу: "Папа, помоги, папа, устрой!" Он вздыхал, но... не делал. Я однажды бросила ему упрек: "Другим ты готов сразу помочь, а почему ты к родным детям жесток?" На это он ответил: "Да потому, что я не вечен. Я хотел бы умереть спокойным, что мои дети и без меня справятся" .
В 1960 году летом, когда мы отдыхали в Громове у себя на даче, Василий Васильевич привез болгарского кинорежиссера Владимира Янчева. У нас тогда был катер-самоделка, сделанный из шестивесельной морской лодки со стационарным мотором и с очень уютной каютой. Вас Васич плавал с Янчевым и другими - там была целая компания, даже сзади моторки прикрепили лодку, на которой тоже разместились гости. Мы с Петенькой ехали на машине по дороге вдоль берега. Разожгли костры, началась стряпня. Специалистов было достаточно: О. Я. Лебзак, К. И. Адашевский, водолаз Н. И. Тихомиров с женой Тонечкой.
Все были при деле, всем было весело. Особенно восхищался природой Янчев. Он привез с собой сценарий и уговаривал Меркурьева сняться в болгарской кинокартине. Наконец "сделка" была заключена, и Вася поехал в Болгарию сниматься в роли русского летчика в картине "Будь счастлива, Ани!".
Пока эта картина была не озвучена, она казалась даже интересной. Меркурьев старался говорить по-болгарски, и, конечно, это воспринималось очень весело. В кадрах это создавало особый колорит. Приведу строки из письма В. Р. Янчева:
"Фильм приняли очень хорошо. Я даже не ожидал. Вы всем понравились, все смеются и в нескольких местах пускают слезу - особенно в школе! Валя Ежов считает, что вы стали героем, центром фильма, и мы с ним вместе ничуть об этом не жалеем. Худсовет прошел очень хорошо. Не было ни одного голоса против фильма. Председатель сценарной комиссии сказал, что, по его мнению, такого образа современного советского человека не было еще вообще в болгарском искусстве. Я не возразил!.. Потом несколько человек сказали, что, хоть фильм и сделан в легком жанре, он является высокопатриотическим, политическим фильмом. Это было очень приятно услышать, и мне кажется, Василий Васильевич, или, как говорила Лидия, наш помреж, "товарищ Меркурьев", это является нашей общей победой! В общем, все хорошо, и беспокоиться, по-моему, нет никаких оснований. Фильм смотрел и министр культуры, ваш хороший знакомый Папазов. Мы сидели рядом. Как только он увидел ваш первый кадр, он очень сильно толкнул меня локтем и прошептал: "Вот наш приятель!" Это было так непосредственно, и я понял, что он вас очень любит... Все поражены вашим знанием болгарского языка. Это вызывает большую теплоту в зале, и я всегда думаю, что ваши мучения не прошли даром!"
В 1956 году в составе делегации советских кинематографистов Меркурьев был в Греции. Очень понравилась Вас Васичу в Греции кинофабрика, где работа идет быстро и слаженно. У продюсера подвешен маленький микрофон, в который он дает команды, неслышные актерам. Васич всегда страдал от шума и крика во время репетиций, в кино актер должен уже включиться и органически жить, а в это время особенно громко ведут себя осветители и рабочие на площадке. А тут это было совершенно исключено.
Заговорив о репетиции и съемках, хочется еще сказать, что у Василия Васильевича была исключительная память. Получив, скажем, сценарий в другом городе, он за время пути домой выучивал свою роль. Когда он снимался в Москве, он всегда просил дать ему одноместное купе, и, прибыв утром в Москву, где его встречали с киностудии, он уже знал свою роль наизусть. Когда он просил меня проверить по сценарию, как он репетирует, я с радостью сообщала ему о том, что текст он знает слово в слово.
В 1959 году Василий Васильевич вместе с Н. К. Черкасовым, С. Ф. Бондарчуком и Э. А. Быстрицкой полетел в Америку - это была первая официальная поездка советских артистов за океан после войны. Поводом для этого стала премьера в США фильма "Летят журавли". Во время поездки не обошлось без драматических курьезов. Вот строки из записной книжки Меркурьева:
"Больше часа самолет не мог приземлиться. Бензина оставалось всего на 20 минут. Состояние даже у стюардесс было довольно-таки неприятное и напряженное. Начались рассказы о частых авариях в этой компании. Много передумалось... Интересное состояние: спокойное размышление о всей своей жизни и возможной молниеносной смерти..."
Василий Васильевич рассказывал реакции своих спутников на сообщение стюардессы, что, очевидно, придется сесть посреди океана. С. Ф. Бондарчук стал что-то быстро писать, потом вложил свое послание в бутылку. Н. К. Черкасов отреагировал на сообщение стюардессы хохотом.
Америка Васичу не понравилась. Он даже был растерян, когда его позвали в Дом ученых поделиться впечатлениями об Америке. "Ну, скажи, что я буду говорить? Что Мэри Пикфорд содержит банно-прачечное заведение?! Что, когда подъезжали к какому-нибудь мосту, он закрыт шлагбаумом, и, пока не заплатишь деньги, тебя не пускают, потому что мосты принадлежат частникам?! Что доллар там решает все?! Что я буду интересного рассказывать об Америке, она мне категорически не нравится".
В записных книжках сохранились следующие заметки об его поездке в Америку. Приведу их:
"В состав нашей небольшой группы артистов, кроме меня, входили Николай Черкасов, Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. Если не ошибаюсь, мы были первыми советскими артистами, прибывшими в США не на гастроли, а, так сказать, с официальным визитом, в связи с премьерой фильма "Летят журавли", который был показан в самом большом кинотеатре Вашингтона "Метро политен", а также в другом, поменьше - "Дюпон".
Для большинства американцев, в том числе и для многих деятелей искусства, фильм явился своего рода откровением: ведь не следует забывать, что это была первая советская кинокартина, предназначенная для широкой демонстрации на американских экранах после довольно долгого перерыва. И встречен он был восторженно.
Будучи в США, мы, естественно, не могли миновать киностолицы Голливуда, расположенного неподалеку от Лос-Анджелеса.
Разумеется, я много читал и много слышал от людей, побывавших в Америке, об этом центре кинопромышленности, где расположены студии подавляющего большинства американских фирм. Однако я погрешил бы против собственной совести, если бы стал утверждать, что воображение мое было потрясено чем-то невиданным и непостижимым. Скорее, наоборот, я был приятно удивлен экономной, рациональной организацией киносъемок, а не степенью технической оснащенности киностудий.
Из всех актеров, с которыми мне пришлось встречаться и беседовать в Голливуде, наибольшее впечатление произвел на меня Эрнест Борнайн, известный советскому зрителю по кинофильму "Марти". Меня подкупила в его даровании та искренность и непосредственность, с которыми он изображает внутренний душевный мир простого, рядового, быть может, даже и заурядного, но доброго, честного американца.
Между прочим, на что я обратил внимание в Голливуде, так это на довольно жесткий режим, который предписывают себе сами актеры. Большинство из них даже в дни напряженных съемок выкраивали время для того, чтобы подзаняться гимнастическими упражнениями или различного вида спортом.
Будучи в Голливуде, побывали мы и на студии Уолта Диснея - всемирно известного создателя мультипликационных фильмов.
В то время на студии Диснея шла работа над смешным и грустным фильмом, героями которого является собака и... человек, находящийся у нее в услужении. Нам показали две уже готовые части будущего фильма. На меня, да, вероятно, и на моих спутников, эта работа произвела очень большое впечатление. Замысел фильма чрезвычайно оригинален, остроумен: показать смешное, абсурдное в человеческом поведении, которое настолько вошло в привычку, в обыденность, что сам человек перестал это замечать, но оно обнаруживает всю свою смехотворность, если рассматривать поступки хозяина с точки зрения собаки.
Из всех эксцентрических достопримечательностей Голливуда нас, кажется, обошли только довольно большой по размерам бетонированной площадкой, на которой увековечены для потомства отпечатки ног и рук "всех наиболее знаменитых кинозвезд". Здесь можно полюбоваться отпечатками следов Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Дины Дурбин и других знаменитостей. Нас не подвели к этой бетонной плите, вероятно, просто потому, что гидам не хотелось услышать очередной вопрос: а где же следы Чарли Чаплина? Увы, судя по бетонной летописи, Чарли Чаплин не оставил "следов" в американском искусстве кино.
Середина 50-х годов была весьма насыщенной в творческой жизни Василия Васильевича. Он был очень занят в театре и на съемках фильмов. В пьесе "Сонет Петрарки" Н. Погодина Васич сыграл роль секретаря обкома Павла Михайловича. Павел Михайлович у Меркурьева был мягким, добрым и, я бы сказала, лиричным. Он вообще любил эту роль. Когда его спрашивали, бывало, какую роль он больше всего любит, он отвечал, что во всех них есть часть его души. Ему часто приходилось играть секретарей обкомов партии, и все они были разные.
Здесь мне еще раз хочется сказать о заветной мечте Меркурьева Отелло.
Когда в 30-е годы Вивьен пригласил меня в свою национальную осетинскую группу ставить "Отелло", Меркурьев часто забегал на эти репетиции, и, если я просила его показать Отелло, он с удовольствием выходил на площадку. Он очень любил это произведение и мечтал сыграть Отелло доверчивым, добрым и в то же время мужественным воином. Он часто повторял: "По-моему, не так-то просто ответить, кто такой Отелло. Я, например, вижу потрясающую фигуру. Нет, это не герой-любов ник, это воин, гражданин, человек, который может глубоко выразить свои чувства в любом предмете. Но как-то повелось играть его любовником".
В связи с этим, думаю, небезынтересно его письмо ко мне:
"Винница. 3 апреля 1958 г.
Дорогая Иришенька!
Не разговаривал с тобой три дня, и уже кажется, что целую вечность. Вчера в шестом часу вечера приехали в Винницу, а в восемь уже играли. Погода прескверная. Осталось десять концертов и надо их благополучно дотянуть. Я писал в поездке тебе открытку и упоминал о предложении сыграть роль талантливого актера и педагога на Киевской студии. Что меня заинтересовало? Там герой - паренек, поступающий в театральное училище,перед экзаменом увидел фото этого актера в роли Отелло. Вдохновившись этим образом, избрал эту сцену для показа, а актер из-за стола подавал ему реплики за Дездемону. Картина по жанру муз. комедия. Я им предложил, поскольку там уже есть прием наплыва, сделать и здесь, когда мальчик смотрит на фото - оно в его представлении оживает, и этот актер потрясающе играет эту сцену - трагически. А мальчик потом на экзамене, схватив внешнюю форму, повторяет ее. Мне кажется, что это может прозвучать очень комедийно. Им это понравилось, и, возможно, они введут. Тогда есть смысл для меня попробовать силы в этой роли. Как один из эскизов к Отелло. Сделать хороший грим, костюм, в кино это можно сделать эффектно. Как ты думаешь?.. Вот опять пошел снег, а по радио передают сейчас на завтра: будет дюже хмарно! Мрачный городишко, а здесь говорят, что летом здесь - рай. Вот что делает Солнце!.."
К сожалению, Меркурьеву не довелось сыграть роль Отелло.
Другой заветной роли Меркурьева повезло больше, чем Отелло. Силу Ерофеича Грознова из комедии Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше" он исполнял на протяжении всей своей жизни. В спектакле по этой пьесе особенно ощущалось, что рядом с Меркурьевым "играть" невозможно - надо жить на сцене. Он часто ездил по другим городам страны и играл эту роль с коллективами Смоленского, Владимирского, Комсомольского-на-Амуре и других театров. (Вообще он охотно ездил по Союзу, играл в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Чти отца своего" на сценах многих театров. За это называли его "артист-передвижник".)
Однажды Меркурьеву потребовалось в институте представить "научную работу" (было такое правило, при котором каждый педагог, помимо своей практической педагогической работы, должен был "подтверждать" свою "вторую половину нагрузки". Все писали рефераты. Василий Васильевич говорил: "Я не ученый, я практик". И тогда Меркурьев предложил сыграть в учебном спектакле курса Т. Г. Сойниковой "Правда - хорошо, а счастье лучше". Татьяна Григорьевна с радостью откликнулась на предложение Василия Васильевича. Во время репетиций Василий Васильевич занимался со студентами невероятно тщательно! Он стремился максимально подтянуть ребят до уровня своего мастерства. На спектакле получилось так, что он никого не "забил", никого не "переиграл", а сумел создать настоящий ансамбль. Как говорила потом Татьяна Григорьевна, этот спектакль для студентов был равен году учебы в институте.
В течение своей жизни Меркурьев много гастролировал. Ездили мы и вместе, но если он уезжал один, то исправно писал письма. Приведу одно из них - оно ведь тоже кусочек его жизни.
"Дорогая Иришенька!
Получил твое письмо. Очень хочется сесть на лодочку и несколько дней кочевать по нашему озеру. Устал я здесь. За это время мы объездили города: Днепропетровск, Кривой Рог, Дебальцево, Новую и Старую Горловки, Константиновск, Дзержинск, Дружинновку, Славянск - город и курорт, Сталино, Рудниновку, Ворошиловград, Прянку, Краснодон, Ворошиловск и др. Каждый день переезды - поезда, машины, автобусы, самолет. Это все угольные и металлургические районы. Воздух - сама понимаешь... Реки далеко. Пыль. Дороги только что делаются. Все строится, растет не по дням, а по часам.
Проходим мы очень хорошо. Сегодня едем в Кадиевку, оттуда ночью опять в Сталино и 1-го в ночь - в Запорожье - там в 3-х районах до 5-го. 5-го должны быть в Севастополе и с 7-го - 10-е Ялта. Если мне удастся продлить Ялту, то хотел бы, чтоб ты приехала ко мне. Об этом сообщу через 3-4 дня. Мечтаем добраться до моря - как следует помыться и подышать чистым воздухом. Поездка хорошо организована. Живем дружно. Все тебе шлют привет. В Москве был в больнице у Лукова. Встретили меня на машине и целый день возили, куда мне было надобно. Луков хочет, чтобы я играл Тихомирова учителя героя. Он так увлеченно рассказывал мне об этом образе, что я, загоревшись, внес много предложений, в том числе, что он должен быть моего возраста и без наклеек - Луков на все идет. Но в пути я несколько раз прочел сценарий и написал ему письмо, что я "заболел Шведовым" (герой), оговорив, если это его не устраивает, то буду играть все, что нужно. По возвращении в Ленинград заеду к нему на пробу... (Речь идет о неосуществленном замысле режиссера Л. Д. Лукова.- Ред.). Здесь везде нынче хороший урожай. Широка страна моя родная, не объехать мне ее во всю жизнь. Целую вас всех крепко".
Его письма полны забот о семье, о детях, о моих делах.
"Дорогая, любимая Иришенька!
Получил твое "отчетное" письмо. Приходится огорчаться, что у тебя плохое настроение и что оно больше всего зависит от расходов, требуемых для выздоровления наших отпрысков. Все, что ты делаешь для ребят, все это крайне необходимо и это не должно тебя расстраивать. <...> Концерты проходят академически. Площадки ответственные. Вчера был в Театре Леси Украинки. Смотрела труппа. Заходил Юра Лавров. Пригласил на воскресенье обедать. Было много друзей. Много прекрасных слов на вечере наговорили. Один даже сравнил с Шаляпиным, сказал, что подобную радость он ощутил впервые после него от меня. Мне это радостно, но ты знаешь, меня это не испортит".
"Иришенька!
Ты мне назначила звонить в 12 ч. дня 6-го. Вот я сижу на переговорной, а Ялта отвечает, что вас никого нет. Буду ждать. М. б., ты с Петей где-нибудь задержалась. Я сегодня ночью приехал из Житомира в Киев. Между Киевом и Житомиром в 12.00 машины остановились, и шоферы попросили всех выйти, дескать "спустила камера". Я, ничего не подозревая, тоже вышел, страшный ветер, холодный. Группа подозвала меня к фарам, прочли в стихах поздравление, выстрелили шампанским и все подняли тост за здоровье "новорожденного", вручили бумажник, футляр для очков и ручку, которую я сегодня на этом письме обновляю. Очень трогательно, даже шоферы участвовали в этой инсценировке и так искусно сыграли - поразительно".
...В июле 1969 года нам довелось побывать в Острове, мы были приглашены на празднование 25-летия освобождения города от фашистов. Была торжественная часть на площади у памятника партизанки К. Назаровой. Там Меркурьеву вручили грамоту о присвоении звания "Почетный гражданин Острова". Потом мы пошли по городу. Улица, на которой прошло детство Васича, с деревянными домишками. Когда мы прибыли на место, где когда-то стоял дом Меркурьевых, надо было видеть его лицо, озаренное светлой радостью. Он любовно гладил фруктовые деревья, называя их сорта, вспоминал голубятню. Действительно, он чувствовал праздник встречи со своими местами. Там же с горы была видна река Великая. Вася показал тропки, по которым он сбегал к воде ловить рыбу. Потом мы направились к кладбищу, где был похоронен отец. Вас Васич сел на скамейку около могилы, а мы, чувствуя, догадываясь о том, какими воспоминаниями он полон, оставили его одного. Вася догнал нас уже около выхода, и мы направились в школу. Подошло время официальной встречи жителей города с освободителями... Все было очень торжественно. Василий Васильевич читал рассказы и басни.
...В 1971 году мне предложили ставить пьесу Островского "Последняя жертва". Работа над этим спектаклем была приятна и интересна и для режиссера и для актера. Конечно, в первую очередь нужно отдать дань А. Н. Островскому. Наша задача была поглубже "копнуть" этот клад тончайшей психологии и правильно угадать поведение действующих лиц. Нам хотелось решать пьесу далеко не однолинейно. В первую очередь это касалось образа Прибыткова. На этот спектакль Пушкинского театра было много рецензий. И, естественно, много противоречивых суждений. Нам же этот спектакль доставил большое творческое удовлетворение.
С 1972 года Меркурьев стал много и тяжело болеть. Тогда (во время зимних каникул в институте) была одна очень сложная поездка в Семипалатинск, где Василий Васильевич должен был играть с местной труппой спектакль "Тяжкое обвинение". Я старалась сопровождать его, поскольку сама делала ему уколы инсулина, так было и в этот раз. Но у меня был тяжелейший сердечный приступ. Я с трудом уговорила врача отпустить меня. Подбадривая себя словами: "Биомеханист, шевелись потихоньку", я поднялась по трапу самолета.
В Семипалатинске лежала в больнице. Вас Васича тоже положили с большим переутомлением, сердечной недостаточностью. Продержали нас там больше месяца. Васенька всячески старался порадовать меня. Раз он привел в палату сестричку, одетую в меховое пальтишко. Мех рыженький и черные пятнышки. Эту шубу, оказывается, он купил мне. Васенька разыграл целую сцену: "Ну что, тебе нравится? Это тебе шубка. А эти пятнышки называются смушками. Помнишь у Гоголя в "Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем" мех со смушкой?"
А в 1976 году Васич опять лежал в больнице. К нему пришли Г. Т. Карелина и И. О. Горбачев и предложили сыграть "Рембрандта" в одноименной пьесе в стихах Д. Кедрина. Васенька расцвел и стал очень быстро поправляться. Театр заключил со мной договор на постановку, срок выпуска был назначен на первый квартал 1977 года. Мы начали усиленно работать. Начались труднейшие дни репетиций - я бы сказала, физически трудные. Мы подошли в репетициях к моменту, когда уже необходимо переносить действие на сцену. Василий Васильевич очень волновался, нервничал, но за девять дней до премьеры снова попал в больницу. Артист Р. Кульд совершил героический поступок: он за девять дней выучил громадную роль и достойно провел премьеру. Из больницы Вас Васич послал поздравительную телеграмму. Один из спектаклей Василий Васильевич смотрел и отреагировал: "Мне так не сыграть!" Я ему сказала, что все мизансцены построены для него. "Конечно, ты это будешь играть темпом медленнее. Ты же это репетировал на сцене, а сегодня нам с тобой придется пройти только последнюю картину после спектакля". И вот был назначен прогон - ночью, после спектакля. Меркурьев надел костюм. Прекрасно начал репетицию. Великолепно, задушевно вела свою роль Г. Т. Карелина. В зале сидели актеры, только что сыгравшие спектакль, другие работники театра. Когда начал репетировать Ю. Родионов, я увидела, что Василий Васильевич плохо себя чувствует, и переключилась на замечания Юрию Родионову. Сидевший в зале Игорь Олегович Горбачев крикнул мне: "Ирина Всеволодовна, вы репетируйте с Василием Васильевичем, а не с Родионовым!" Он волновался, что я мало внимания уделяю Васичу. Это была последняя репетиция.
Так случилось, что последние месяцы я не расставалась с Васичем. Меня приняли в нервное отделение в ту же больницу, где лежал он. Накануне его ухода я упросила пустить меня к нему.
Он был без сознания. Молодой врач сказал мне, что он сделал Василию Васильевичу укол, поэтому он спит. Я сонного поцеловала его и почему-то все время говорила врачу, что я не прощаюсь. Отчетливо я не могу вспомнить, но наутро - 12 мая 1978 года - Петя и Анна были со мной, сидели в палате. Потом вдруг Петя вскочил и ушел. Очень быстро он пришел обратно и сказал: "Все кончено". Так мы долго сидели, не двигаясь. На похороны врач меня не пустил.
Удивительно прожили мы вместе сорок четыре года.
* * *
После смерти папы мама уже не жила - она маялась. Она все время ждала, что ее позовут в театр что-то поставить. В институте, конечно же, ей работу уже не дали. Я не знаю, смогла бы она работать или ей только казалось, что она полна сил. К тому времени, после операции на глазах, мама почти не могла читать, но заставляла себя - читала с лупой. Разбирала старые документы, фотографии, письма. Несколько раз приезжала ко мне в Москву. Но без сопровождающих ходить не могла - часто зажимало сердце. В Москве практически не выходила из дому. К ней приезжали и ее бывшие ученики, приезжала Людмила Ивановна Кедрина - вдова поэта, приезжали племянницы - Мария Алексеевна Валентей и Татьяна Алексеевна Воробьева. А один раз мы с мамой выбрались в Театр Моссовета на спектакль "Дальше тишина". Мамин ученик, народный артист РСФСР Миша Львов, игравший в этом спектакле, сказал Раневской, что сегодня будет смотреть Ирина Всеволодовна.
"Боже! Ириночка! Неужели я ее снова увижу! А она зайдет после спектакля? Ой, но я уже боюсь, а вдруг она меня не узнает!" - говорила великая Фаина Мише Львову.
После спектакля мы зашли к обессилевшей Фаине Георгиевне. Они с матерью обнялись и долго произносили какие-то междометия. Две очень-очень старых женщины, которых связывали почти 50 лет знакомства, а внутри этих 50 лет было время близких им людей, которых теперь уже нет. И среди этих людей был главный - мамин муж по жизни и муж Раневской по фильму "Золушка" Вася Меркурьев.
Тосковала мама по папе ужасно! Все время спрашивала: "А вот если меня кремируют, а потом урну в папину могилку положат, мы с ним там встретимся? Или если сожгут, то не встретимся?" Этот вопрос ужасно ее мучил.
Кажется, Раневская сказала: "Страшна не старость, страшно то, что душа остается молодой". Это очень подходит к определению маминого состояния в последние годы жизни. Превосходно, без погрешностей работающая голова ни тени склероза, с отличной реакцией, с чувством юмора; и, наряду с этим физическая немощь. Нет, тренированное ее тело не отказывало: ноги не просто держали, они готовы были бегать, прыгать; руки были сильными; наклониться ничего не стоит! Но сердце...
Мамина энергия продолжала воплощаться в "домашней передислокации". Она постоянно передвигала мебель - все время "переезжала" по комнатам. В этой огромной квартире сначала жило так много народу, что его никто и не считал, потом "птенцы" стали постепенно разлетаться. Остались трое: мама, папа и Катя. И вот теперь мама осталась с Катей. Друзей становилось все меньше - иных уж нет, а те...
В последний раз я говорил с мамой по телефону в 17 ча сов 21 ноября 1981 года. Я сказал ей, что на днях приеду в Ленинград.
- Когда, Петенька? - радостным, молодым голосом спросила мама.
- Думаю, числа второго декабря,- ответил я.
- Так долго...
А рано утром 22 ноября почтальон принес телеграмму: "Мама умерла 21 ноября в 10 часов вечера. Катя".
Прощались с мамой в фойе Пушкинского театра. Пришло очень много народу. Пришли работники всех цехов театра: костюмеры, гримеры, портные, рабочие сцены - они очень любили Ирину Мейерхольд, любили с ней работать. Любили ее за сострадание, за доброту. Любили за ее любовь к Васечке.
Замечательные прощальные слова нашли И. О. Горбачев, О. Я. Лебзак. Декан института С. П. Кузнецов сказал: "Дочь гения, жена таланта, Ирина Всеволодовна сама была крупным художником, незаурядной личностью, красивым человеком".
СНАЧАЛА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ...
Самый первый момент (или самый ранний эпизод) моей жизни, который я помню,- это встреча с Бабой Ягой.
Около каменного дома стояла скамейка, на ней сидели моя бабушка Анна Ивановна, наша соседка Хрусталева, а я ходил по этой скамейке вдоль стены. В конце скамейки было окно. Я заглянул и встретился взглядом... именно с ней, с Бабой Ягой! Я очень испугался, побежал по скамейке к бабушке и зарылся в ее коленях. Это я помню. А как до этого мне рассказывали сказку про Бабу Ягу - не помню.
По рассказам моих близких, это могло быть только в Новосибирске, а значит не позднее 1945 года. Следовательно, мне не было еще двух лет. (Спустя почти 50 лет я был в Новосибирске, нашел наш двор - и сердце "екнуло", когда подошел к окну Бабы Яги. Правда, скамейки теперь там нет).
До этого случая был тот, которого я не помню. Но о нем часто-часто рассказывали мои родители. Как-то они вернулись с концерта из госпиталя, где им "в награду" дали какую-то емкость с чистым спиртом. Дома собрались актеры, которые были на этом концерте (Адашевский, Борисов, Березов, Киреев, Лебзак) и решили "согреться" этим спиртом, не разводя его водой. Налили всем по маленькой рюмочке. Я сидел у папы на колене, несколько "на отлете". В тот момент, когда папа накладывал в свою тарелку какую-то закуску, я схватил его рюмку и... Все вокруг меня забегали - ведь я задохнулся, слезы брызнули из глаз; бабушка совала мне в рот грибочек маринованный... Я отдышался, отсморкался в папин платок, вздохнул и сказал: "Ище".
Это было зимой сорок пятого. Еще шла война.
Как рассказывала мама, говорить я начал сразу и очень много, едва мне исполнился один год и два месяца. Когда я заболевал (а это было очень часто), я не плакал и не капризничал, а очень веселился, смеялся по каждому поводу и без оного. Очень долго (так долго, что и я помню это) меня смешило слово "на ночь". Я заливался таким смехом, что взрослые боялись, как бы со мной чего не случилось. Причина этого мне была ясна всегда, а взрослые понять не могли. Дело в том, что одну нашу родственницу звали Нана (ее полное имя Донара). И мне было смешно, что говорят не "Нана", не "Наночка", а что-то между этим - "На ночь".
Лето сорок пятого, когда мы вернулись из Сибири, мы проводили у друзей моих родителей Кронида Николаевича и Матильды Филипповны Ивановых. Кронид Николаевич был композитором, и каким-то образом они были связаны с Выборгским театром, которым руководили мои родители (в этом театре играл весь "новосибирский" курс Ленинградского театрального института, который привезла мама, а также участники самодеятельности из Дворца культуры имени Кирова - Бронислава Тронова, Михаил Львов, Юрий Каюров, теперь уже знаменитые артисты). Дача Кронида и Матильды была под Выборгом. И там у них поместилась вся наша огромная семья: папа, мама, бабушка Анна Ивановна, тетя Лара (вдова папиного брата, Петра Васильевича Меркурьева), ее трое детей - Виталий, Женя, Наташа, которые жили в нашей семье с 1939 года, после гибели дяди Пети, мои родные сестры Анна и Катя, нянька Маша Лебедева, жившая в нашей семье с довоенных времен. Вероятно, очень добрые и сердечные люди были Кронид Николаевич и Матильда Филипповна. Ведь время было голодное.
Из того лета помню два эпизода. Один - когда я сломал ногу (упал с крыльца), а второй - когда мне с этой ноги снимали шину. Шину мама с тетей Ларой изготовили из картонки, на которой был изображен тигр, обвязали мокрой тряпкой, а когда шину снимали, то оказалось, что тигр пропечатался на этой тряпке.
Было потом такое, чего сам я не помню, но что рассказывали очень часто. Когда мы вернулись из эвакуации, жить нам было негде, и нас к себе взяла Ольга Яковлевна Лебзак в свою 14-метровую комнату, где она жила с мужем, матерью и дочерью Наташей. И когда Ольга Яковлевна приходила домой со спектакля, усталая и голодная, я кричал: "Мама Оля, возьми меня к себе!" И Ольга Яковлевна укладывала меня в свою постель. А без нее я не засыпал (мои родители в это время завершали новосибирские дела: мама была руководителем Новосибирского театра, всю труппу которого, как я уже писал, она привезла в Ленинград, в Театральный институт). До самой смерти Ольги Яковлевны (а умерла она в 1983 году) мы называли ее мамой Олей.
В том же 1945 году папе дали небольшую трехкомнатную квартиру в доме № 33 по улице Чайковского, и мы всем караваном в нее переехали. Соседом нашим, в квартире № 15, был Александр Александрович Брянцев - основатель и руководитель ленинградского Театра юного зрителя. Однажды он зашел к нам попросить у бабушки какую-то кухонную мелочь, прошел с бабушкой на кухню, по пути осмотрев комнаты. Уходя, сказал: "Анна Ивановна, когда Вася придет из театра, попросите, чтобы зашел ко мне". Вечером папа зашел к Брянцеву и тот, пригласив его в свою огромную квартиру, проведя по всем комнатам, сказал: "Нам со старухой такие хоромы не нужны, а тебе с твоим табором - в самый раз. Так что давай завтра утром переезжай". Сказано это было абсолютно категорически, так что папа даже не успел смутиться столь щедрым предложением.
Вообще Александр Александрович Брянцев был удивительно добрый человек. Не "показушно" добрый. И детей он любил по-настоящему, серьезно и уважительно. Сколько его помню, он никогда не позволял себе умиляться или покровительственно разговаривать с ребятами. Я очень уважал Александра Александровича и довольно часто заходил к нему по бабушкиным поручениям. Одно поручение меня, трехлетнего, озадачило:
- Петенька, сходи к Брянцевым, попроси пять картошек. Я им завтра их верну.
- Бабушка, как же ты вернешь, если мы их съедим?
Бабушке некогда было мне объяснять, она повторила приказ, и я пошел. Я сказал Брянцеву:
- Дядя Саша! Бабушка просила пять картошек. Она завтра их вам вернет.- Потом, помолчав, пока Брянцев копался в ящике с картошкой, спросил: - Только как она сможет их вернуть, если мы их съедим?
Брянцев даже не улыбнулся и сказал:
- Эти картошки вы съедите, а бабушка мне вернет другие, которые Маша принесет с базара. Понял?
Я это, конечно, понял. Но вечером бабушка рассказывала пришедшей к нам какой-то актрисе, как я "умно спросил", актриса смеялась, потом передала еще кому-то, и этот рассказ о картошке почему-то стал символизировать мой ум. И здесь точку опять же поставил Брянцев:
- А что здесь особенного? Человек (он сказал "человек", а не "ребенок"!) не понял, ему надо разъяснить и забыть.
И вот мы въехали в огромную квартиру, в которой родители прожили до самой своей смерти. За 35 лет мама эту не очень удобную квартиру неоднократно перепланировала, превратив в удобную. А Брянцевы прожили в нашей бывшей трехклетушке не более пяти лет и переехали в "собиновский" дом на улице Чайковского, 10.
Наша огромная квартира была очень неуютной: стены без обоев, оштукатурены как в общественных местах (фойе кинотеатров, лестничные площадки). В каждой комнате стояли большие печки, которые, как я помню, не топились, и были еще печки-"буржуйки", трубы которых выводились прямо в окно. В кухне стояла большая дровяная плита. Газ еще не провели, дровяные сараи были во дворе и под замками. Я помню препирательство старших ребят. Мама говорит:
- Аня, принеси дров!
- Пусть Женька принесет!
Словом, из детей дрова носил только Женя. Таскала дрова Маша, носили дрова родители. (Почему Маша "таскала", а родители - "носили"? Маша была очень маленького роста. Из-за вязанки дров, которую она тащила на спине, ее не было видно. А родители были большие, и дрова несли перед собой. И термины эти я принес оттуда, из сорок пятого года).
Помню еще одну двоюродную сестру - Ирину, дочь папиного брата Александра Васильевича, директора хлебозавода, умершего в блокаду от голода. Помню, что у Ирины был какой-то ужасный конфликт с моей мамой, она плакала на кухне вместе с бабушкой. Потом она куда-то уехала, а ее имя в доме не произносилось. В чем был конфликт - я не знаю, но мне кажется, что моя мама не была права.
Потом, много лет спустя, Ирина прислала письмо. Помню, что когда это письмо родители читали, они ругались, а мне было ужасно горько. Какая-то несправедливость там была. Трудные годы были, трудно людям было. И не нам, сытым, сегодня их судить.
Из окна нашей кухни виден двор. Из других окон - стена соседнего дома. Поэтому мы, дети, любили стоять у кухонного окна и смотреть, что там, во дворе, происходит. А там было много интересного. Въезжали жильцы, вернувшиеся, как и мы, из эвакуации; ходил управдом Андрей Михайлович Костриков и командовал; бегали дети. Детей мы делили на богатых и бедных. Богатые - это дети профессора Васильева (у них была машина), Жанна Лейзерова (она ела бутерброды с икрой). А бедные - Валя Балашова, дочь тети Клавы-дворничихи, Вовка Цветков - внук нашего "привратника" Виктора Венедиктовича, Рудька Кросс - его папа инженер, Аля Донина - наша соседка по площадке. Ее папа - майор КГБ, дядя Федя, очень добрый и веселый человек. Иногда Альбинка прибегала к нам и сразу говорила моей маме: "Тетя Ириша, вам от папы привет!" Мама тут же куда-то уходила. Как узнал я много лет спустя, так дядя Федя предупреждал маму об опасности. И несколько раз, как только мама уходила, в дверь стучали...
В бельэтаже дома, в большой коммунальной квартире, жившей как одна семья, проживала Ольга Валентиновна Диза - бывшая опереточная примадонна. Ее все называли "тетя Боба". Мой брат Женя называл ее "враг всего живого". Она по много часов сидела у своего кухонного окна, руководила двором и время от времени глубоким басом звала: "Кыс, кыс, кыс!" Все дети, желая заполучить расположение тети Бобы, искали ее толстого любимца по подвалам и чердакам И даже друг у друга "перекупали" право принести тете Бобе кота, полагая, что тогда именно к нему, принесшему, она будет снисходительней.
Как теперь я понимаю, тетя Боба любила всех нас. Своих детей у нее не было, а жажда воспитывать, руководить была. Был у тети Бобы муж Лев Семенович Раппопорт - он работал дирижером в театре Пушкина. Скромный, застенчивый человек с галстуком-бабочкой. Я не мог оторвать глаз от этой бабочки. Почему-то меня очень волновал галстук-бабочка! (Странно, что сейчас я совершенно равнодушен к любым "нашейным" аксессуарам и даже не люблю их носить).
1946 год. В Ленинграде - карточки. Наша семья, как я уже писал,- 12 человек. Значит, на всю семью только две рабочих карточки: папина и мамина, остальные - иждивенческие. У папы - ни орденов, ни званий, которые давали право на дополнительный паек. Дети - от 11 до 3-х лет (Виталику, правда, было уже 16, но он сразу поступил в мореходную школу и жил там на полном пансионе). Я - самый маленький. Детей шестеро: трое своих, трое папиного брата. Бабушка, нянька Манюня, Маша Лебедева, жившая в семье еще с довоенных благополучных времен и разделившая с нами тяготы войны, эвакуации. Еще двое детей, подобранных по пути из эвакуации (их мать отстала от поезда, мама подобрала детишек четырех и семи лет, они прожили у нас до середины 1947 года, когда папа в каком-то радиоинтервью о них сказал; примчалась их мать - слава Богу, семья воссоединилась). Словом, в квартире на Чайковской - огромный табор, только костры не жгли и шатер не раскинули. И случилась трагедия: у Манюни в магазине украли все карточки на месячный провиант нашего табора. Ее безудержные рыдания, мы ей вторим, расстроенные родители, молящаяся на коленях бабушка - все это как во сне, но сне очень ярком. Папа торопится на спектакль, мы остаемся дома с перспективой голодного завтра...
В этот вечер папа не сразу идет домой - он заходит в ресторан "Метрополь" поужинать и что-нибудь выпросить из продуктов. Но надежды на это мало - и работники ресторана боятся: за такие проступки легко угодить в Сибирь, а то и на тот свет: с чем-чем, но с этим проблем тогда не было.
Во время папиного ужина к его столу присаживается молодой высокий красивый мужчина и сразу участливо спрашивает: "Василий Васильевич, что у вас такое груст ное настроение?" Папа поведал незнакомцу нашу печальную историю. Собеседник тяжело вздохнул и, сказав: "Не отчаивайтесь, Василий Васильевич", отошел от столика.
Поужинав, папа подозвал официанта, чтобы расплатиться. "За вас заплачено",- ответил тот. Папа, естест венно, уже не стал просить продукты домой, а тайком завернул то, что осталось (вернее, он для виду съел немного гарнира, а остальное упаковал в салфетки).
Когда он пришел домой, то застал такую картину: мама, бабушка и Манюня рассматривали содержимое четырех огромных коробок. А там были и макароны, и крупа, и колбаса, и подсолнечное масло, и сгущенное молоко...
"Вот, Вася, принесли и сказали, что это тебе. От кого - не сказали".
Выяснилось все на следующий день. Вчерашний красивый молодой мужчина оказался директором "Метрополя", фронтовиком, лейтенантом Михаилом Максимовым. И завязалась у дяди Миши с нашей семьей очень прочная дружба, закончившаяся только со смертью моих родителей. Только несколько лет спустя после знакомства Михаил Александрович случайно обмолвился, что слова популярнейшей песни "Синий платочек", которую пела К. И. Шульженко, написал он. Потом мы узнавали о его благороднейших поступках и на фронте, и в мирной жизни - но узнавали не от него, а от друзей, знакомых, посторонних, которым когда-то довелось с Максимовым встречаться.
Дядя Миша (мы, дети, так его называли) был потрясающе музыкален. Великолепно играл на рояле (хотя специально этому не учился), а слух у него был такой, что любой дирижер позавидовал бы! Однажды я решил его проверить "капитально" и двумя руками - от кончиков пальцев до локтей - "лег" на клавиатуру. Дядя Миша засмеялся, но назвал ноты, которые не прозвучали в этом диапазоне - их было всего пять: ми, фа-диез, соль первой октавы и фа-диез, соль-диез, си-бемоль - второй. Я часто "экзаменовал" его, и ни разу он не отмахнулся, а терпел эти детские издевательства. Вообще детей он любил самозабвенно, отдавал много времени и своей рыжей-прерыжей Наташке, и детям своих друзей. Был остроумен, но в компании никогда не "тянул одеяло на себя" и не "занимал площадку" - а так, деликатно, вскользь поднимал настроение даже в очень трудные минуты. Умел разрядить обстановку, снять любой конфликт. Воля у него была потрясающая, но ею он никогда не подавлял, а создавал вокруг себя поле доброжелательности и покоя. При нем все чувствовали себя уверенно и комфортно.
Мои родители очень любили общаться с Максимовым, поэтому чаще других он появлялся у нас - и в городе, и на даче. Даже зная, что в нашем доме он желанен всегда, Михаил Александрович никогда не появлялся без предварительного звонка, без букета цветов и без сладких подарков. И его приход всегда снимал стрессы (а в конце сороковых - начале пятидесятых годов их у нас в доме было невероятно много! Достаточно напомнить, что в 1947 году маму как дочь "врага народа" уволили из института, из Дворца культуры имени Кирова, где она руководила самодеятельностью, и неоднократно были попытки ее арестовать. Но была и масса других неприятностей).
Михаил Александрович был страстный театрал и меломан. От него я, шестилетний, узнал об опере Прокофьева "Война и мир" - Максимов ходил и на репетиции, и на спектакли в Малый оперный (кстати, в постановке тогда еще молодого Б. А. Покровского), а потом у нас дома по слуху играл почти всю оперу и пел очень приятным баритоном полюбившиеся партии. От него я слышал о выступлениях Соллертинского. И, как рассказывал Михаил Александрович, однажды ему дал подержать в руке скрипку великий Мирон Борисович Полякин (а этого доверия удостаивались, дай Бог, три-пять человек). В филармонии я часто видел Максимова стоящим на "хорах" (он не любил слушать музыку сидя) на концертах Ойстраха, Гилельса, Рихтера, Мравинского, латышской певицы Эльфриды Пакуль.
Последние дни жизни моего отца тоже проходили с добрым участием дяди Миши. Он прибегал в больницу и подолгу сидел с моей мамой, вселяя в нее по мере возможности спокойствие.
Более двадцати лет я не видел Михаила Александровича, даже не знаю, жив он или нет. Но когда вспоминаю его - на душе радостнее и теплее.
Еще одно воспоминание раннего детства - это сборы и первый выезд на нашу дачу в Сакколо (тогда еще на всем Карельском перешейке были финские названия: Приозерск был Кексгольмом, Сосново - Рауто, Лосево - Кивиниеми, Громово - Сакколо и т.д.). Это было весной 1946 года, значит, мне еще не исполнилось трех лет. Помню предварительные сборы и разговоры, что для меня надо купить трехколесный велосипед. Я тут же стал просить двухколесный. Была у меня тогда еще педальная машина, которую, кажется, привезли из Новосибирска. И папа сказал мне: "Колеса надо уменьшать постепенно. На твоей машине четыре колеса, сейчас купим тебе велосипед на трех колесах, а когда подрастешь, - купим велосипед на двух колесах". При этом папа загибал по одному пальцу. Когда остались два пальца, он на них посмотрел, загнул еще один палец - остался указательный и папа воскликнул: "О!" Я залился смехом и смеялся очень долго, катаясь по полу. А папа так и стоял с этим указательным пальцем, рот его был в позиции "О!", а глазами он следил за тем, как я катаюсь по полу. И это меня еще больше смешило. Мама сказала: "Вася, ну хватит! Он же так может от смеха умереть!" Велосипед "на трех колесах" мне купили прямо в день отъезда на дачу. Отъезд был суетный, сумбурный. Бабушка, я и Катя ехали в кабине грузовика, а в кузове ехали все остальные: мама, папа, тетя Лара, Анна, Женя, Наташа. Может, кто-то еще не запомнил. Из квартиры в машину погрузили, кажется, все вещи, которые у нас были: матрацы, какие-то стулья. Помню, что комнаты остались совершенно пустыми. Ехали мы целый день, - дорога была плохая, петляла и взбиралась в крутые горы. Иногда грузовик с огромным трудом преодолевал эти подъемы. 120 километ ров в те годы преодолевались не менее чем за 4-5 часов.
С дачей нашей связана практически вся жизнь. Но тот первый приезд запомнился особо. Мы подъехали к большому двухэтажному серому дому, стоящему между высоченными деревьями. Дом стоял на горке, с которой мы сбегали прямо в широченное озеро (это озеро - часть системы реки Вуокса; в то время оно было невероятно богато рыбой практически всех сортов: от ершей до лососей со всеми промежуточными породами - налимы, щуки, лещи, окуни, угри, плотва, судаки, лини, миноги и прочая, прочая; форель ездили ловить за 10 км от дома в бурную, чистую речку). Взрослые стали разгружать машину, а я, естественно,- мешаться под ногами. Папа тут же сгрузил мой велосипед, мою педальную машину и сказал: "Объезжай окрестности и расскажи, где что растет".
Помню какого-то человека, который часто говорил "полундра", а потом сел к верстаку, установленному в "крыльце" дома и стал есть горячую картошку: положит в рот и дует - остужает эту картошку. Потом он сказал: "Ну, заморил червячка". Я тогда подумал, что это он, когда дул, заморил червячка.
Бабушка села у муравейника и подставила муравьям свои ноги - они были ревматические, и она говорила, что муравьи покусают и ревматизм пройдет. И вообще муравьи самые славные насекомые, их обижать нельзя. А я сел на трехколесный велосипед и... свалился. Не умел я на нем ездить. Вокруг нашего дома было много тропинок, очень удобных для езды на трехколесном велосипеде. Не помню уже, как скоро я научился ездить.
Очень хорошо помню слова "подсобное хозяйство" и "Большевичка" недалеко от нашего дома (в полутора километрах) было подсобное хозяйство фабрики "Большевичка", и фабрика эта все время претендовала и на наш дом. Вообще, сколько помню, на наш дом все время претендовали разные организации: сначала эта самая фабрика, потом ветеринарная школа, потом кто-то еще; приходили какие-то люди (в основном, когда родителей на даче не было), замеряли все комнаты в доме, обмеряли землю - советское беззаконие было таким агрессивным, а быть интеллигентом, артистом с точки зрения гегемона, так постыдно, что и считаться с ними не надо. Отец все время ездил в Кексгольм (а потом в Приозерск) доказывать, что ему дом этот дан в аренду, что у него очень большая семья, которая без этого дома просто умрет с голоду.
Я помню, как бабушка копалась в огороде, а ей помогали все. Анна это делала с явной неохотой (а через 30 лет она станет страстной любительницей земли), остальные неохоту скрывали. Бабушка весной варила щи из крапивы, и мне они казались очень вкусными. Была у нас тогда и корова по имени Звездочка, была свинья Машка, были куры. Появился пес Джек - огромный, умный, добрый, но очень шумный. Он стоял на берегу и, пока ребята купались, беспрестанно лаял. А когда кто-то заплывал за какой-то предел, казавшийся Джеку краем земли, воды, чего еще - я не знаю, он бросался в воду, плыл к нарушителю и подставлял свой хвост. Ребята цеплялись за этот хвост, и Джек буксировал их к берегу.
Зимой 1947 года папа получил звание заслуженного артиста РСФСР, и к нам домой пришел из какой-то газеты фотограф. Папа сел в центре, на одно колено села Катя, на другое - я. Сзади встали Анна, Женя и Наташа. Оставили место и для Виталия, который был в это время уже в мореходной школе. Мне сказали, чтобы я смотрел в объектив, из которого вылетит птичка. Фотограф снял крышку с объектива, я дернулся и спросил: "А где птичка?" Так на этом снимке (который, кстати, очень много раз публиковался) и осталась моя физиономия смазанной. На этой фотографии мы все в одинаковых костюмчиках. Как рассказывали родители, это они на карточки купили отрез ткани и всем пошили одинаковую одежду. У Кати на снимке бритая голова - тогда были вши. Кстати, в школе нас заставляли стричься наголо класса до четвертого.
Очень хорошо помню, как мама ухитрялась меня кормить. Аппетит у меня был скверный, потому мама прибегала к некоторым хитростям. Она говорила, например, что внутри меня живут поварята, которые ждут, когда я поем, чтобы сварить и себе еду. А если я не поем - поварята умрут от голода. И я каждый раз спасал поварят - очень я в эту сказку верил. Однажды, когда у нас резали свинью, тетя Ася (родственница Николая Ивановича Васильева), со своей неизменной папиросой во рту, разделывала внутренности свиньи.
Я спросил ее:
- Тетя Ася, а где у свиньи поварята?
Тетя Ася не знала, что мама кормит меня с этой сказкой, и сказала:
- Да вот они! - И шлепнула ладонью по кишкам.
Меня этот ответ не озадачил, а расстроил, что вместе со свиньей убили и поварят.
В те же годы был случай, когда я завел машину - тяжелый ЗИС-101 (очень похожий на огромные лимузины, которых сейчас пруд пруди, типа "линкольна") в кювет. Друг нашей семьи Борис Николаевич Павловский вез нас на дачу на своем служебном ЗИСе. Уже недалеко от дачи он посадил меня, пятилетнего, к себе на колени и решил дать мне попробовать вести машину. Попутно он говорил мне:
- Пока дорога идет прямо, крутить руль не надо. Видишь дорогу?
Я ответил, что вижу, хотя видел только нос нашего "линкольна".
Что мне дальше показалось - не помню, но только я крутанул руль, и машина въехала в кювет. Все смеялись - никто не ругался. А с нами ехали еще Мария Васильевна и Борис Пантелеймонович Румянцевы - друзья папиного детства, папа, мама, кто-то еще (в ЗИС-101 помещается 7 пассажиров, а я был восьмой). Все вышли из машины и стали выталкивать ее из кювета. Выталкивали долго - машина ведь тяжелая, сделана из настоящего железа, не то что нынешние "консервные банки" (кстати, и сейчас еще ЗИС-101, наряду с "Победой" и ЗИМом можно увидеть во вполне рабочем состоянии).
В 1946-1950 годах я почти все время жил в Сакколо с бабушкой, и зимой и летом. Родители приезжали при первой же возможности - таскали нам продукты. Зимой это было очень трудно - от станции надо было восемь километров идти пешком по сугробам. Иногда удавалось достать лошадь. Сейчас подумать страшно, сколько родители преодолевали! Помню, когда уже было мне лет 20, я сказал: "Ну, вам, наверное, не так тяжело жилось, как нам теперь". И тут впервые от родителей я услышал и о сугробах, и о тяжеленных коробках с провизией, которые по этим сугробам тащили, чтобы накормить нас. (Не говоря уже о военных годах. Каким же оптимизмом надо было обладать, чтобы, имея на руках пятерых детей, захотеть родить еще шестого - меня!)
Электричества на даче не было - были свечи и керосиновые лампы. Как добывали керосин - не помню, но помню, что укладывались мы с бабушкой спать зимой очень рано - экономили керосин. Бабушка очень боялась пожара, поэтому лампу и свечи ставила высоко, чтобы я не мог случайно их свалить.
ТЕТЯ ГАЛЯ
В 1947 году на даче появилась высокая худая женщина с двухлетним сыном. Женщина была очень нервная, помню ее сипловатый голос. Держа своего Леню на руках, она быстро-быстро ходила по комнате, укачивая его. Это была тетя Галя - мамина гимназическая подруга, с которой они дружили, кажется, с 1915 или 1916 года. В 1937 году мужа тети Гали посадили, расстреляли. Посадили на 10 лет и ее как жену врага народа. И вот в 1947 году срок закончился, ее выпустили, но без права проживания в крупных городах. В Ленинграде у тети Гали были мама Екатерина Михайловна и дочь Ирина. Поскольку тете Гале в Ленинграде жить было нельзя, то мои родители взяли ее на дачу - ведь это дальше, чем 101-й километр. Но тетя Галя все равно должна была куда-то ходить, отмечаться.
Леньку тетя Галя часто шлепала, и очень сильно. Помню, как она вытирала со стола: нервно, быстро и ладонью без тряпки. С бабушкой очень дружила, во всем ей помогала.
Потом помню, как мы с тетей Галей и Леней ходили в здание Думы на Невском (там, кажется, продавали билеты на поезда), тетя Галя говорила "Боровичи", а что это такое - я не понимал. Она объяснила, что это город, куда они с Леней уезжают.
- Тетя Галя, а зачем? Разве вам у нас плохо?
Тетя Галя только нервно вздохнула. Когда мы пришли домой, на Чайковского, тетя Галя с мамой о чем-то долго-долго говорили, а мы с Ленькой играли на полу в машинки и почему-то подрались. Кажется, это был 1948 год. Тетя Галя с Леней уехали и появились снова только в 1956 году.
Оказывается, ее тогда, в 1949, снова посадили, пересылали из тюрьмы в тюрьму, гнали по этапу в ссылку - в Кустанайскую область, где она пробыла еще долгих восемь лет.
Вернувшись в 1956, когда ее полностью реабилитировали, тетя Галя прежде всего, конечно, появилась у своей матери. Но ни Екатерина Михайловна, ни дочь Ирина тетю Галю не приняли. И тетя Галя с Леней появились у нас.
Мне было уже 13 лет. Как-то, придя домой, я увидел незнакомую мне женщину невысокого роста и мальчика лет 11. И вдруг женщина говорит сипловатым голосом: "Петенька, ты меня не узнаешь?" Я и сейчас помню, как обрадовался и сжал тетю Галю в объятиях - теперь она была маленькая, а я почти метр восемьдесят.
Галина Гавриловна Виноградова с Леней поселились у нас. Леню быстро устроили в интернат, а тетю Галю поставили на очередь на квартиру. Тогда из реабилитированных была своя очередь. И хотя она двигалась быстрее, чем обычная городская очередь, прошло немало времени, прежде чем тетя Галя получила ордер на комнату. Но даже когда переехала в свою комнату, она бывала у нас очень часто. И не просто бывала - она жила интересами моих родителей, да и нашими интересами. До самой своей смерти тетя Галя была самым близким для нас человеком, а Леня (Леонид Александрович Виноградов) просто еще одним братом.
Кроткий, застенчивый человек, удивительно терпимый, тетя Галя буквально зверела и свирепела, когда слышала имя Сталина. Те эпитеты, которые она щедро бросала в адрес тирана, здесь даже приводить не буду. Помню, когда Сталинскую премию переименовали в Государственную премию СССР, папе пришло из исполкома извещение о том, что будут заменять дипломы и значки "старого образца" (то есть с изображением Сталина) на дипломы и значки "нового образца" (то есть с серпом и молотом). Папа попросил меня пойти в исполком и провести эту процедуру. Когда я вернулся, дома были и папа, и мама, и тетя Галя. Папа уже собирался на спектакль, когда я отдал ему три диплома и три лауреатских медали. Тетя Галя очень заинтересованно спросила:
- Петенька, как это происходило?
На это тут же стал отвечать папа (который там, кстати, не был):
- Галя, медали и дипломы, которые принес Петя, бросили на пол и стали топтать, топтать ногами!
Смех был всеобщим.
Тетя Галя была человеком невероятной эрудиции. Память у нее была такая, что ей мог бы позавидовать любой историк (кстати, по части ее исторических знаний тоже было чему завидовать). Ее можно было спросить, например:
- Тетя Галя, а что делал Пушкин 15 февраля 1822 года?
Она тут же отвечала:
- Ну как же! За ним зашел Пущин, и они пошли к Вяземскому.
Конечно же, я сейчас привожу не совсем удачный пример - наверняка ошибаюсь с датами. Но тетя Галя не ошибалась никогда!
- Иришенька! - обращалась она к моей маме.- Ты помнишь актрису в Тифлисской труппе Всеволода Эмильевича, которая приезжала к нам в Новороссийск, а Ольга Михайловна ее всегда угощала вареньем? Ее фамилия имярек. Не помнишь? Ну, я тебе напомню. Это было 17 мая 1918 года, мы с тобой еще зашли к Иде, а потом ты побежала к Ляле, чтобы покататься верхом. А 19 мая приехал Всеволод Эмильевич.
Я, например, не понимаю, как можно было помнить все по датам, да еще после девятнадцати лет тюрем и ссылок!
Читала тетя Галя бесконечно много. И больше всего - мемуаров! Жизнь Пушкина, Достоевского, Толстого, Тургенева, Комиссаржевской она знала буквально по дням. Когда тетя Галя читала, смотреть на нее было наслаждение: куда-то исчезала озабоченность, разглаживались морщины, и весь вид ее был такой счастливый, покойный - можно только позавидовать человеку с таким богатым духовным содержанием!
Работала тетя Галя после возвращения из лагерей и ссылок в туберкулезном диспансере. И здесь тоже проявились ее феноменальные данные: она наизусть помнила не только самих больных, состоящих на учете, годы их рождения, место их работы, но она помнила и всех "контактных": жен, мужей, детей, соседей. И считала это само собой разумеющимся. Терпимость ее к людям тоже была поразительной. Если кто-то про кого-то говорил: "Это сволочь" - тетя Галя мягко возражала: "Нет, он не сволочь. Просто у него сложная психика. Ему самому с собой тяжело" и так далее. Единственным исключением, как я уже сказал, был Сталин.
Сына своего, Леню, тетя Галя любила безумно. И он отвечал ей взаимностью. Всегда подшучивал над ней:
- Галочка, что-то у тебя на столе книжек поубавилось? А где "Братья Карамазовы"? - И ко мне: - Она их наизусть учила.
Тетя Галя при этом только смущенно улыбалась.
В нашей семье, в жизни моих родителей тетя Галя была, пожалуй, самым близким человеком, и не рассказать о ней я не могу. А Леня, кстати, очень много фотографировал отца, и его фотографии помещены и в книге о Меркурьеве, и на пластинке "Василий Васильевич Меркурьев" (там почему-то автор фотографий не указан). И эта книга будет во многом иллюстрирована фотографиями работы Леонида Виноградова.
* * *
Как я уже писал, начиная с 1946 года мы нигде не отдыхали, кроме как на своей даче. Никогда ни один из нас не был в пионерском лагере, родители никогда не бывали в домах отдыха или домах творчества. Папа вообще не любил "пассивный" отдых - он очень любил физический труд, любил смотреть на плоды своего труда. А также любил тишину и одиночество (хотя бы иногда, хотя бы не круглый год ощущать внимание к себе, взгляды на себе). Дача наша находилась в глуши (с одной стороны - лес на 3 километра, после которого начинался военный аэродром, оставшийся еще от финнов, с другой - лес на 1,5 километра, за которым находились строения, попеременно бывшие то подсобным хозяйством "Большевички", то ветеринарной школой, то вспомогательной школой для детей с неполным развитием). С севера к даче вела пустынная дорога через поля, засаженные во времена, когда еще это была Финляндия, ровными полосами берез, ольхи, клена (и до ближайшего "перекрестка", у которого стоял одинокий домик, называемый нами "маленьким домиком", расстояние было 1400 метров), а с южной стороны была красавица Вуокса шириной напротив нашего дома около двух километров, а длиной... Такое удобное географическое положение позволяло отцу чувствовать себя свободно. Бывали месяцы, когда вблизи дома не появлялось ни одного человека.
Я помню, что первые годы мы ехали на дачу по 5-6 ча сов. И происходило это не только потому, что, как я уже рассказывал выше, дорога была плохая, извилистая и гористая, но еще и потому, что по всему пути следования в первые послевоенные годы шли саперные работы - разминировали поля, нашпигованные немецкими, финскими и советскими минами. Бывало, стоим на дороге, впереди - вереница машин, сзади тоже. И слышны взрывы. Однажды ехала целая колонна дачников - артистов Пушкинского театра (километрах в сорока от нас поселились Н. К. Симонов, В. И. Янцат, А. Н. Киреев, позже И. О. Горбачев, А. Ф. Борисов), и мы ходили от машины к машине - как бы "в гости". Тогда я познакомился с Андреем Толубеевым - сыном Юрия Владимировича и Тамары Ивановны Алешиной (зрители помнят ее по фильму "Небесный тихоход", где она играет первую "нарушительницу клятвы", вышедшую замуж до окончания войны). Тогда же познакомился с детьми Николая Константиновича Симонова - Леной, Катей, Колей, скромными и очень добрыми ребятами. Все они были старше меня. Были застенчивыми и не очень шли на контакты. Вообще мне больше всех нравились Симоновы. Николай Константинович, этот гигант, этот величайший из трагиков, в жизни был удивительно трогательным, застенчивым, нелюдимым человеком. В обществе он тушевался, замыкался - и слова из него не вытянешь. Очень стеснялся того, что его узнают на улице, поэтому гулял всегда в безлюдных местах. Был он как ребенок. Он замечательно рисовал, но картины свои предпочитал не показывать. Родители мои рассказывали, как однажды пришли к нему и уговорили показать работы. Симонов съежился как-то, буркнул: "Ну, пошли!" В соседней комнате он стал по одной картине открывать и со словом "вот!" буквально на полминуты представлял ее взору зрителя, тут же поворачивал к стене и протягивал следующую. Так за полчаса он "продемонстрировал" более тридцати своих картин. Потом, смущенный, сидел насупившись и не проронил ни слова. А когда родители попытались высказать свое в высшей степени положительное отношение, Симонов замахал руками: "Да ладно, ладно, ладно! Не надо!"
Я очень много раз видел Симонова на сцене. Впервые - в роли Лаврецкого в "Дворянском гнезде". Я при шел в театр вместе с папой - он репетировал какой-то спектакль, а я пролез в ложу к радистам (она у самой сцены) и смотрел оттуда. Ничего тогда не понял, но Симонова запомнил. И в последней сцене, когда Лаврецкий приходит в дом, где уже нет ни Калитиной, ни Лемма, я заплакал. Потом видел этот спектакль, когда Лаврецкого играл Горбачев. И не плакал. А от Симонова - плакал.
Видел (и не однажды) "Живой труп". Два актера меня в нем потрясли: Симонов и Лебзак (она играла Машу). Мне показалось все таким правдивым, что я не мог уснуть, хотя домой меня привезла сама Ольга Яковлевна Лебзак наша "мама Оля".
Были у Симонова и очень неудачные работы - не стоит их вспоминать. Но были и потрясения - и таких работ немало. Его Протасов, Лаврецкий, Сальери, Маттиас Клаузен - это то, что навсегда останется мерилом в искусстве.
Любил я наблюдать, как Симонов и папа готовятся к спектаклю. Они много играли вместе. На спектакль за ними приезжала одна машина, (жили мы рядом, буквально через квартал). Иногда с папой на спектакль ехал я. Симонов садился в машину, здоровался, по-детски улыбаясь, и замолкал. Папа спрашивал его:
- Коля, ты смотрел вчера хоккей?
- Да ерунда! И в футбол разучились играть. Я ведь и сам играл. И правого играл, и офсайда играл...
Тут папа рассмеялся.
- Ты чего смеешься? - обиделся Симонов.- Играл. И еще как играл! - И замолк.
Дорога до театра короткая. Вот и восьмой, служебный подъезд. Два великана - Симонов и Меркурьев - идут через тротуар к дверям. Прохожие останавливаются, рассматривают их, улыбаются. А они идут на работу.
Их гримерные рядом. Тоненькая фанерная перегородка, через которую они переговариваются. Иногда повторяют диалоги, договариваются о каких-то находках, потом замолкают. Кто-то к ним заходит, о чем-то с ними говорят, но они уже на вопросы отвечают механически.
Их гардеробщица Клавдия Ефимовна - человек удивительно преданный, деликатный, истинный театральный работник, проверяет их костюмы, помогает одеваться, наливает из термоса чай. Потом приходит гример Вера Александровна Корнилова, свою работу делает быстро, аккуратно, точно. Сама разговор не начинает. И говорит только тогда, когда папа или Николай Константинович ее о чем-то спросят. Бывает, что разговорятся, а бывает, что вся процедура гримирования проходит молча. Папа бубнит текст - это почти всегда. Роль лежит перед ним на столике. Потом заходит суфлер Н. А. Толстых - она всегда заходит перед спектаклем, чтобы понять, почувствовать, в каком состо янии сегодня ее "подопечные". Папа иногда говорит ей:
- Давайте пройдем такую-то сцену!
И они проговаривают текст.
По радио - голос помощника режиссера:
- Добрый вечер, товарищи! Даю первый звонок.
После второго звонка из своей комнаты Симонов говорит:
- Ну, Вася, пойдем, что ли?
- Идем, идем! - отвечает отец.
И они идут на сцену. Сцена - рядом. Но и Симонов, и отец садятся в кулисе задолго до третьего звонка.
Когда они входят в кулисы, там все затихает. При других актерах рабочие не стесняются - особенно молодые. При Симонове и Меркурьеве тишина удивительная.
Третий звонок, мелодичный удар гонга (такой гонг имеется, по-моему, только в Александринском театре; из-за него одного стоит пойти туда на спектакль), в зале гаснет свет. Еще два удара в гонг - начинается спектакль.
Много раз я был в кулисе, когда на сцену выходил отец. И каждый раз удивлялся его преображению. А осо бенно - в последние его годы. Бывало, приезжает на спектакль больной, еле идет, еле поднимается по винтовой лестнице. Одеваться сам не может - Клавдия Ефимовна надевает на него все: и рубашку, и ботинки. Не дожидаясь звонков, идет в кулису. Там садится, опустив голову, опустив руки. Посмотришь на него - не верится, что он сможет выйти на сцену. Но вот начался спектакль, и чем ближе момент его выхода, тем более набирает он сил. Вот - выход...
Легкой, пружинистой походкой, с ясным взором, в котором и следа нет болезни, под бурные аплодисменты выходит на сцену Артист.
И после спектакля он остается в таком вот, "живом" состоянии. Как-то однажды, уже незадолго до смерти, после спектакля "Последняя жертва" папа сказал:
- Пожалуй, это единственный допинг, который меня может оживить.
* * *
В нашей семье редко случались спокойные, беззаботные вечера. Это бывало в основном тогда, когда у папы удачно шла работа в театре, он после репетиции был весел, а вечером у него не было ни спектакля, ни съемки, ни концерта, ни занятий в институте. В такой вечер мы все оказывались в одной комнате, и шли чудесные, обворожительные разговоры о театре. Начинали эти разговоры мы, дети. И родители много рассказывали.
Я тогда знал истории Александринского театра удивительно хорошо! Мама рассказывала о постановках Мейерхольда - "Маскараде", "Дон Жуане". Причем рассказы эти были тем занимательнее, что в них вплетались живые подробности.
Мама рассказывала, как Мейерхольд для Варламова (великого "дяди Кости", как называл его весь Петербург), который играл Сганареля, поставил такие мизансцены, что тучному "дяде Косте" не приходилось много передвигаться - он в основном сидел на банкеточках. А чтобы Варламову не нужно было учить текста, (этого он не любил и большей частью либо играл под суфлера либо импровизировал свой текст), около каждой банкеточки стояли "слуги просцениума" с книжечками и вовремя подавали текст. Папа к этому рассказу добавлял байку о том, как говорили между собой два гиганта Александринской сцены - Варламов и Давыдов:
Давыдов: Эх, Костя, мне бы твой талант, я бы чудеса на сцене творил!
Варламов: А я бы с твоим вообще на сцену не пошел.
Папа Варламова никогда на сцене не видел ("дядя Костя" умер в 1915 году), но мама маленькой девочкой бывала и на репетициях, и на спектаклях в Александринке.
Еще папа рассказывал об актере Кондрате Яковлеве. У этого актера была привычка большим пальцем правой руки теребить ноздрю. И вот приходит Яковлев в театр, теребит свою ноздрю, а попутно здоровается с коллегами, для рукопожатия на секунду отрывая руку от ноздри. Дошла очередь до актера Е. П. Студенцова (а он был рафинированным интеллигентом, эстетом и его шокировали манеры Яковлева). Студенцов в ответ на протянутую Яковлевым руку убрал свою за спину и сказал: "Вы в носу ковыряете". Яковлев помрачнел и вышел из театра. Не был ни на репетиции, не пришел на спектакль и вообще запил. Появился через неделю и повторил ту же процедуру: теребит ноздрю протягивает руку, теребит ноздрю - протягивает руку. Около Студенцова, продолжая теребить ноздрю, произносит: "Ковыряю, да в своем" - и протягивает руку следующему.
Был в Александринском театре замечательный актер Анатолий Павлович Нелидов (телезрители, наверняка, помнят его по фильму "Антон Иванович сердится" - он там играет профессора консерватории по вокалу и ссорится с Антоном Ивановичем). Так вот, Анатолий Павлович обожал разыгрывать Юрия Михайловича Юрьева - выдающегося актера, одного из патриархов императорской сцены и одного из первых народных артистов СССР. В мейерхольдовском "Маскараде" он играл Арбенина. Розыгрыши Нелидова всегда носили "скабрезный" характер. Юрьева коробило и переворачивало от всяких неэстетичных выражений. А уж если он образно представлял себе то, о чем говорил Нелидов, то мог и в обморок упасть.
И вот однажды перед одной из последних репетиций "Леса" Островского (Юрьев играл Несчастливцева, Нелидов - Восьмибратова) Анатолий Павлович говорит:
- Да, Юра! Я сегодня какой-то странный сон видел. Может, ты скажешь, к чему бы это он мог быть?
Юрьев, догадываясь, что сейчас будет розыгрыш, тем не менее, поддается! (Ох уж эти актеры! Дети!):
- Какой сон?
- Так вот, будто идем мы с тобой, Юра, по лесу и навстречу нам медведь. Огромный, бурый, страшный медведь! И говорит нам: "Вы что это тут в моем лесу расхаживаете? Вам мало своего "Леса" в Александринке?" Юра, мы с тобой - ни живы ни мертвы! "А ну, идите за мной!" Мы послушно идем. Идем, идем и доходим до полянки, на которой стоят две бочки. Одна, Юра, бочка - с говном...- Юрьева передернуло.- ...а другая - с медом. И говорит медведь тебе: "Ты, Юрьев,- народный артист, а потому полезай в мед. А ты, Нелидов,заслуженный, так твое место в говне". Представляешь, Юра, мое состояние? И здесь несправедливость! Но что делать! Залезли мы с тобой в эти бочки, сидим. А медведь на наручные часы смотрит и правую лапу поднял - ну прямо как перед спортивным состязанием. Потом говорит: "Хватит! Вылезайте!" Мы вылезли: ты-то - в меде, а я, Юра,- весь в говне...- У Юрьева уже предобморочное состояние.- "А теперь,- говорит медведь,- оближите один другого!"
У Юрьева началась рвота, он побледнел. Потом отошел, покачал головой:
- Мерзавец...
У мамы была богатая фантазия, и она зачастую забывала, что она видела сама, а что нафантазировала из рассказов своих родителей. Так однажды она стала вспоминать Антона Павловича Чехова, будто она помнила, как он приходил к Мейерхольдам. Но тут же сама сказала: "Этого, конечно, не может быть - Чехов умер за год до моего рождения, но в детстве так об этом образно говорили родители, особенно отец, что мне даже во сне стало сниться, как это все происходило".
Но Скрябина она помнила хорошо. Он приходил в дом к Мейерхольду, играл на рояле, а мама потихоньку забиралась под рояль и там слушала. Однажды она под роялем и заснула. Эту историю я знаю не только от мамы, но и от ее родной сестры Татьяны Всеволодовны Воробьевой, которая вообще фантазировать не умела.
Много услышал я рассказов от родителей и о других артистах Александринки. И больше всего запомнился рассказ об Илларионе Николаевиче Певцове. Об этом замечательном актере написаны книги, статьи, так что нет нужды пересказывать его биографию. Одна деталь из рассказов папы и мамы врезалась в память особенно - это об исполнении Певцовым роли профессора Бороздина в пьесе Афиногенова "Страх". Когда Бороздин - Певцов остается один на сцене (после бурного диалога, где он терпит моральное поражение), он долго сидит, не говоря ни слова. (Родители говорили, что по продолжительности эта пауза была так велика, что вряд ли этот рекорд кто-нибудь сможет побить). Потом снимает пенсне, и из его глаза выкатываются две слезы. На каждом спектакле - две слезы! И весь зал видит эти две слезы - и в партере они видны, и на галерке. По словам родителей, эта сцена всегда потрясала. Кстати, именно Певцову принадлежит фраза: "Если ты можешь не быть актером, значит ты им не можешь быть".
Много добрых слов сказали родители о Борисе Михайловиче Сушкевиче - и как об актере, и как о режиссере, о художественном руководителе театра, о профессоре Театрального института. Отец признавал, что истинный смысл режиссерских мизансцен он понял именно у Сушкевича. Мама говорила, что лучшего Маттиаса Клаузена, чем Сушкевич, она не видела.
Сейчас я понимаю, что этот замечательный режиссер, актер и театральный деятель незаслуженно забыт. А ведь было время, когда он был директором Театрального института, был главным режиссером Александринского театра, был руководителем Нового театра (впоследст вии Театр имени Ленсовета, а ныне Санкт-Петербург ский Открытый театр), он был замечательным воспитателем и актеров, и режиссеров.
Помню мамин рассказ о том, как на руководимом ею курсе был студент Карнаухов, невероятно зажатый и не поддававшийся раскрепощению. И мама пошла на риск: ему, первокурснику, она дала монолог Гамлета (в спальне Королевы). С точки зрения театральной педагогики, программы, это было абсолютно недопустимо - такой материал студенты если и осваивали, то только на последних курсах. Когда подошел момент показа на кафедре, все недоумевали: как могла Ирина Всеволодовна допустить это?
Но Карнаухов блестяще исполнил монолог - пропала его скованность, он раскрепостился. На обсуждении все хвалили Карнаухова и ругали маму. Резюмировал Сушкевич:
- Риск был? Был. Ирина Всеволодовна справилась? Справилась. Результат есть? Есть. Победителей не судят!
И Карнаухову была присуждена именная стипендия (кажется, Яблочкиной). Спустя годы Евгений Карнаухов стал народным артистом, работал в Минске, много снимался в кино. В последние годы своей жизни был артистом Московского театра имени Вл. Маяковского.
С папой Сушкевич работал в Театре имени А. С. Пуш кина - он ставил "Петра Первого", где папа играл Меньшикова. Из рассказов родителей я помню, что когда репетировалась сцена Меньшикова и Екатерины Первой (ее играла прекрасная актриса Н. Н. Бромлей), то папа старался повернуться к Екатерине лицом, а Сушкевич его поворачивал спиной. Отец говорил:
- Борис Михайлович, мне неудобно так.
- А мне наплевать, что вам неудобно. Зрителю должно быть удобно.
И отец, почувствовав, что у Сушкевича очень четко прочерчена линия всего спектакля, стал искать оправдания этой мизансцены (Сушкевич не разжевывал свои намерения - актеры должны были понять их сами), и оправдание нашлось. Меркурьев - Меньшиков стал бросать через плечо реплики Екатерине - и сцена приобрела необходимую конфликтность.
В этой роли отца очень хвалил Алексей Толстой и, якобы, даже сказал:
- Что же этот дурак Петров взял сниматься Жарова? Вот истинный Меньшиков!
У нас хранился том "Петра Первого" с надписью А. Н. Толстого: "Прекрасному Меньшикову - Василию Васильевичу Меркурьеву с благодарностью Алексей Толстой". Где теперь эта книга - не знаю. И вообще одна из напастей нашей семьи - у нас пропадало все! Хорошо, что успели перефотографировать факсимиле Б. А. Лавренева на экземпляре пьесы "За тех, кто в море!" - сам экземпляр пропал.
При всех трудностях, горестях, сопровождавших нашу семью, родители оставались очень оптимистичными, веселыми людьми! Ничто человеческое не было им чуждо! В компании папа мог выпить очень крепко. Но интересно, что, когда он выпьет, сидит тихо, один глаз широко раскрыт, другой закрыт вовсе (видимо, двоилось, а "свести в фокус" сил уже не было), а потом отец тихо исчезает. И когда кто-то хватится, что Меркурьева нет среди компании, то обнаруживают его уже спящим.
Был такой случай (году в 1949-1950 - не знаю точно). Папа, Василий Павлович Соловьев-Седой и Юрий Владимирович Толубеев выступали с концертом на ленинградском ликероводочном заводе имени Степана Разина. После концерта, около 11 часов вечера, отец позвонил домой и сказал маме, что скоро приедет. Через час он перезвонил, что несколько задерживается, чтобы мама не волновалась. Мама сидела, ждала его, уже перештопала все наши вещи, переделала всю работу по дому - папы нет. Три часа ночи, четыре - его нет. И вдруг она слышит бравые шаги по коридору и тихий стук в дверь. Открывает дверь - на пороге папа. Он обнимает маму и как-то весь "обвисает". Мама отступает с этой "махиной" на шее внутрь квартиры и с удивлением видит, что брюки папы остаются за порогом. Когда мама дотащила папу до кровати и он тут же заснул, она вернулась за брюками и обнаружила, что, мало того, что они грязные,- на них нет ни одной пуговицы! (А раньше в гульфик молний не вшивали и брюки, как говорил Райкин, "у всей интеллигенции держались на пуговицах".) Но это было только первое удивление. Дальше мама обнаружила, что пуговиц нет и на грязнющем пиджаке, и на нижнем папином белье, и на рубашке. Но все эти пуговицы мама нашла в карманах пиджака. До утра пребывала в недоумении, а когда папа проснулся, она его спросила:
- Васенька! Что случилось со всеми пуговицами и почему ты такой грязный?
Папа, очень смущенный, попросил:
- Иришенька, пожалуйста, не спрашивай...
Мама спрашивать перестала. Спустя месяц, может, больше, идут они с папой по Невскому и встречают какого-то человека, который, обрадованный встрече, тут же спрашивает папу:
- Василий Васильевич, как вы тогда добрались без единой пуговицы?
Словом, папе пришлось рассказать всю историю. Когда он последний раз позвонил маме с завода Степана Разина, директор пригласил его, Соловьева-Седого, Толубеева в подвал "продегустировать" напитки. И там, в подвале, по предложению Соловьева-Седого мужики стали играть в такую игру: каждый начинает рассказывать анекдот, но если кто-то может этот анекдот продолжить, то у того, кто начинал рассказывать, срезается одна пуговица ("зачем рассказываешь старые анекдоты?"). Бедный мой папа: он не смог рассказать ни одного нового анекдота! Для успокоения могу сказать, что и Соловьев-Седой, и Толубеев, да и директор завода тоже потеряли несколько пуговиц. Но не все же! А папа - все! Что обидно - папе не удалось срезать у своих партнеров ни одной пуговицы: он не знал такого количества анекдотов!
Далее ведь надо было ехать домой! А на чем? Трамваи не ходили, мосты разведены! Папа, придерживая брюки, шел пешком, а на каком-то перекрестке увидел трамвайную платформу, груженную углем, и без помощи рук (они же заняты брюками!) он лег животом на эту платформу, которая перевезла его через Троицкий мост до Марсова поля, а уж от него домой - рукой подать.
Много лет эту историю рассказывали и Толубеев, и Соловьев-Седой. А я вспоминаю об этом и тогда, когда, перебирая папин архив, натыкаюсь на записку гениального композитора Василия Павловича Соловьева-Седого: "Дорогой тезка! Ты так часто шептал мне на ушко всякие гадости, что я прошу тебя сделать это громко, со сцены Большого зала филармонии, где меня будут чихвостить по поводу моего 60-летия. А потом перейдем напротив, в "Европейскую", и выпьем по стакану кефира. Твой Вас. С.-С.".
* * *
Несмотря на трудности, моральный гнет (а он, как я теперь понимаю, все же был!), родители жили весело. Уныния не было никогда. А главное - в нашем доме всегда было интересно. Мы, дети, всегда были в курсе родительских дел. Много лет спустя, уже после смерти родителей, мне свои ощущения от общения с нашей семьей пытались передать люди, знавшие меня маленьким ребенком.
С благоговением и благодарностью говорил о родителях превосходный актер Московского театра имени Моссовета, к сожалению, ныне уже покойный, Миша Львов. Я решил все-таки поместить его воспоминания, написанные сразу после смерти Василия Васильевича.
Михаил Львович Львов
Меркурьев в моей судьбе
Как легко мы приписываем успех самим себе, а за неудачи возлагаем ответственность на наставников. Так, конечно, было и с учениками В. В. Меркурьева. Наш первый послевоенный курс был как будто постарше - основу его составляли участники новосибирской самодеятельности, которых Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна привезли с собой в Ленинград и осенью 1945 года взяли в институт, прямо на второй год обучения. Большой и дружной семьей мы кончили учение в 1948 году. Но все равно только спустя много лет я стал понимать, как мало мы умели брать от своих учителей, как расточительны были. А Василий Васильевич всегда был бережен и внимателен к своим ученикам, их удачи и неудачи воспринимал как глубоко личные.
В спектакле "Последняя жертва" Театра имени Моссовета я играл Лавра Мироныча. Меркурьев к тому времени сам сыграл Прибыткова и приехал посмотреть московскую постановку. По окончании спектакля он встал в зале во весь свой огромный рост и бурно мне аплодировал. Когда в 1978 году я получил премию за исполнение роли Филиппа II в "Доне Карлосе", Меркурьев, уже тяжело больной, не забыл меня поздравить. А мы в свое время так жестоко и несправедливо судили его за то, что распался созданный из нашего курса театр в Выборге.
Мне кажется, что Василию Васильевичу и Ирине Всеволодовне я обязан всем, что есть во мне хорошего. В первую очередь нас воспитывала сама личность Меркурьева. Не попасть под его влияние было невозможно - он притягивал окружающих какой-то магнетической силой. Вероятно, прежде всего тем, что он был Человеком. Он жил и творил в соответствии со своим естеством. Любил - так любил, враждовал - так враждовал. За все, за что бы ни брался, брался со страстью, с азартом. Его жизнелюбие, его активность захватывали и увлекали.
Все существо его было органичным. Его широкая натура притягивала и покоряла. В одном из писем Василия Васильевича к Ирине Всеволодовне, которое она приводит в своих воспоминаниях, я прочел, как польстило Василию Васильевичу, что его сравнили с Ф. И. Ша ляпиным. Но это сравнение так естественно, напрашивается само собой, И для меня огромные, монолитные фигуры Меркурьева и Шаляпина стоят рядом. "Как это люди спокойно живут?" часто спрашивал Василий Васильевич. И когда ему отвечали, что ведь и он мог бы жить так, он задумчиво произносил: "Я просто не умею".
Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна прекрасно дополняли друг друга. Если он был душой курса, то она была его мозгом. Ирина Всеволодовна - режиссер крупный, талантливый, с судьбой нереализованной. Она все отдавала своим ученикам. Сам Василий Васильевич рассказывал мало, но стоило ему показать что-либо, сразу становилось ясно, как это было нужно сыграть. Его необузданная фантазия подсказывала бесконечные варианты решений, оттенков, поворотов в характеристике персонажей. Когда репетировали выпускной спектакль "Правда - хорошо, а счастье лучше" А. Н. Островского, сколько он предлагал тогда различных решений сцены Поликсены и Платона. Ирина Всеволодовна придавала этому "теорию", основу. По молодости нам это казалось не столь уж важным, насущным. Лишь потом, перечитывая записи ее бесед на занятиях, я понял, как это важно. Порой Василий Васильевич даже сердился на ее теоретические "подсказки", но она умело настаивала.
Многое всплывает порой неожиданно. В выпускном спектакле "Правда хорошо, а счастье лучше" я играл Барабошева. Играю его и в новой постановке С. Ю. Юр ского (1982). Конечно, спектакли различны. Но мой современный Барабошев безусловно, связан своими корнями с тем, давним его предшественником. То, что я делал раньше интуитивно и эскизно, теперь у меня осознанно и прорисовано.
Меркурьев сам увлекал студентов актерским примером. В некоторых наших спектаклях он играл Грознова. И никогда не снисходил до нас, а вольно и широко развертывал свое мастерство. Но и не подавлял нас. Мне потом довелось видеть разных Грозновых: смешных, сатирических, грубых, эксцентричных. Грознов - Меркурьев был единственный по-настоящему трогательный. Это был солдат старый, мудрый, прошедший большую жизненную школу, но сохранивший добрые и чистые чувства.
Открытая эмоциональность Меркурьева часто выдвигала его героев на первый план спектаклей. По-моему, так случилось с его Прохором Дубасовым, Прошкой, в "Полководце Суворове": как ни хорошо играл Суворова К. В. Скоробогатов, Меркурьев своим невозмутимо естественным поведением на сцене явно его "переигрывал".
ПОСЛЕ СТАЛИНА
Летом 1953 года, когда мы уже переехали на дачу, мы как всегда полностью оторвались от какой-либо цивилизации, от информации - на даче не было ни электричества, ни радио. И что происходило в мире, мы узнавали либо по возвращении в Ленинград в конце августа, либо от заезжавших иногда гостей.
И вот однажды забрел к нам ближайший сосед (его дом находился в трех километрах от нашей дачи), мест ный житель Василий Иванович Орлов и рассказывает:
- Берию сняли со всех постов и арестовали. Говорят, был английский шпион.
Через день после этого приехали родители - как раз был день рождения Анны, 11 июля ей исполнилось 18 лет. И папа читал вслух "Ленинградскую правду", кажется, за 8 июля (хорошо бы проверить! Здесь я могу ошибаться, но почему-то мне кажется, что газета была именно за 8 июля).
В газете рассказывалось о злодеяниях Берии и его ближайших помощников, среди которых я запомнил фамилии Абакумова, Меркулова, Кобулова, Гоглидзе, Мешика и Влодзимирского.
Я помню стол в самой большой комнате дачи - кухне, накрытый белой скатертью. На столе масса вкусных вещей, но никто не ест - слушают папу. Почему-то я почувствовал тогда, что этот арест Берии - сама справедливость. Наверное, уроки Веры Павловны Селиховой не прошли даром.
Осенью в школе декламировали частушку: "Берия, Берия, вышел из доверия". Продолжений этой частушки существовало очень много! Потом ноябрь, или декабрь, точно не помню, когда по радио читали заключение следствия и приговор Верховного суда.
Мы всей семьей сидели у репродуктора. Мама плакала. Сколько лет она представляла картину, как в конце коридора, ведущего к нашей квартире, появляется ее отец Всеволод Эмильевич Мейерхольд, о судьбе которого с 1939 года ничего не известно. О других наших родственниках было известно: погибли.
Буквально сразу после расстрела Берии мама возобновила хлопоты о восстановлении на работе. Ей в этом помогали многие. И первым, кто взял на себя смелость пригласить маму на постановку, был директор Большого драматического театра Василий Алексеевич Мехнецов.
С ним и его семьей мои родители дружили давно, с довоенных лет. Жена Мехнецова Татьяна Михайловна Шикина, в прошлом актриса, когда еще училась в Театральном институте у Б. М. Дмоховского, встречалась с папой как с режиссером - отец ставил у них на курсе "Испанского священника" Флетчера. А Мехнецов, до того как стал директором БДТ, работал в Пушкинском театре, играл Ленина, был секретарем партбюро и даже рекомендовал папу в партию. Была у них дочь Тата.
Мехнецовы всей семьей приезжали к нам на дачу. Татьяна Михайловна обладала удивительным чувством юмора и очень тонко умела высмеять наши капризы. Когда я заболевал и лежал дома один, я часто звонил Мехнецовым домой и вел с Татьяной Михайловной длительные светские беседы. Надо сказать, что пообщаться с взрослыми я любил. Никогда мне не казалось неудобным отрывать людей от их дел.
1954 год. Нет, собственно, еще ничего кардинального не произошло. Сталин умер совсем недавно и еще находился в Мавзолее. Никого еще не реабилитировали. Но... Что-то, видимо, уже началось. Очень незаметно. Для нашей семьи это выразилось в том, что директор Большого драматического театра имени М. Горького (теперь он носит имя Г. А. Товстоногова) Василий Алексеевич Мехнецов предложил папе вместе с мамой поставить спектакль. Условие одно: мама выступит не под своей фамилией Мейерхольд, а под фамилией мужа - Меркурьева. Я помню, как мама ходила в Дзержинский ЗАГС (она и нас с Катей с собой туда взяла), где ей выдали справку, что она сменила девичью фамилию на фамилию мужа. Паспорт мама менять не стала, а договор с театром подписывала на основании вот этой самой справки. И опять стала ждать: вот-вот появится в нашем коридоре Мейерхольд. Наивно, конечно. Если бы Мейерхольд и появился, то, уж конечно же, в Москве...
Пьесу для постановки выбрали совсем новую: молодой, 29-летний московский драматург Леонид Зорин, у которого в Ленинградском театре "Пассаж" (ныне имени Комиссаржевской) идет пьеса "Откровенный разговор", написал новую пьесу - "Гости". Период постановки "Гостей" я помню очень хорошо. Каждый день родители с самого утра мчались в БДТ на репетицию, когда возвращались домой - долго спорили, обсуждали, ссорились. А вечерами мама рассказывала о репетициях нам. Много рассказывала о том, как репетируют Лариков, Грановская. Эти замечательные актеры тогда уже были престарелыми: Александру Иосифовичу Ларикову было 63, Елене Маврикиевне 76. И вот для того, чтобы не очень "гонять" их по сцене, мама попросила художника Иллариона Сергеевича Белицкого, оформлявшего спектакль, сделать кукол, которыми актеры будут "ходить" по макету декорации.
Белицкий сделал кукол очень похожими на актеров. Особенно ему удался Лариков. Однажды, придя на репетицию, Лариков поставил куклу на стол, и сказал:
- Сегодня я выходной. Он будет репетировать.
Бог мой, как же эти актеры были преданы театру! Репетировать они были готовы круглосуточно. К нам домой постоянно приходили Виталий Павлович Полицеймако - невысокого роста, коренастый актер с невероятным голосом басового тембра (отец рассказывал, что когда Полицеймако поступил в институт - а они с отцом учились в одной мастерской у Вивьена,- то голос у него был такой густоты и силы, что лампочки лопались! Но курсу не повезло с педагогом по сценической речи - она умудрилась испортить голоса всем! Но даже то, что осталось у Полицеймако, впечатляло чрезвычайно), Нина Алексеевна Ольхина - само обаяние и очарование, главная героиня Большого драматического, Геннадий Тимофеевич Малышев - впоследствии талантливый писатель, а тогда талантливый "социальный герой", Георгий Георгиевич Семенов - очень органичный актер, очень талантливый, но обладавший несносным характером, из-за чего никаких званий не получил. Семенов много снимался в кино, и публика его любила.
Дома продолжались репетиции, споры. Очень часто забегала к нам Ольхина, которая, несмотря на свои 30 лет, была очень известной актрисой. За три года до "Гостей" она получила Сталинскую премию за спектакль "Разлом" (тогда премию получили Лариков, Софронов, Грановская, Кибардина, Полицеймако, Богдановский, режиссеры А. В. Соколов и И. С. Зонне). Мы, дети, очень подружились с Ниной Алексеевной. Я каждый день ходил на спектакли БДТ и все постановки смотрел по много раз, а многие пьесы знал наизусть. Не менее десяти раз смотрел "Рюи Блаза". Говорят, это был плохой спектакль, но мне он нравился очень. Я и сейчас помню "поющий" голос молодого Стржельчика: "На мне лакейская ливрея, зато у вас душа лакея!" Стржельчик был молодым красавчиком, играл все с обворожительной улыбочкой, текст не говорил, а пел, любовался собой чрезвычайно. Тогда никто и предположить не мог, что станет он замечательным актером, которому будут подвластны все краски, вся богатая драматическая палитра. А тогда он играл только лирических героев в комедиях Лопе де Вега, а из драматических ролей - только Рюи Блаза.
Кстати, немногим лучше проявлял себя тогда и Ефим Копелян. Дона Сезара в "Рюи Блазе" он играл весьма странно: все время кривлялся, корчил рожи. И опять-таки - прошло не так уж много времени (собственно, с приходом Товстоногова в БДТ), и Копелян стал одним из лучших советских драматических актеров.
Но самой блистательной плеядой тогдашнего Большого драматического были, конечно же, старики: Елена Маврикиевна Грановская, Александр Иосифович Лариков, Василий Яковлевич Софронов, Виталий Павлович Полицеймако, Ольга Георгиевна Казико. И сегодня в глазах стоит Лариков Потемкин из "Флага адмирала", когда он так просто, наивно предлагает: "Хочешь клюквы?" - и протягивает кулечек с клюквой какому-то князю.
Зорин приехал в Ленинград незадолго до генеральных репетиций и поселился у нас в доме. Он сразу вписался в нашу семью. Спал он в проходной комнате, но его это совсем не смущало. Меня он покорил абсолютно! В первую очередь тем, что, играя со мной в шахматы, он делал это лежа на своем диванчике, отвернувшись от доски и только называя клетки доски - то есть "вслепую"! И выигрывал у меня запросто! А я, вдобавок, еще и путал названия клеток. Говорю: "Слон - а4". Зорин мне в ответ: "Этого не может быть - там стоит ваша ладья" (кстати, это второе потрясение: меня, десятилетнего мальчика, Леонид Генрихович называл только на "вы". И сейчас, по прошествии 45 лет, Зорин называет меня так же).
В то время я был занят одним серьезным театральным проектом.... Я сразу же доверил Зорину тайну проекта нашего театра и зачислил его в штат в качестве заведующего литературной частью. Однажды Зорин спросил меня:
- А что вы собираетесь в вашем театре ставить?
Тут я замялся, так как к такому вопросу готов не был. Я принес из другой комнаты книгу "Пионерский театр" и несколько пьес, которые выпускались тогда для детской художественной самодеятельности. Помню среди этих пьес "Песня о нем не умрет" (это о Павлике Морозове), "Снежок" В. Любимовой, "Звено отважных" - про юных партизан, пьесу Т. Габбе "Город мастеров"...
Зорин просмотрел этот ворох и сказал:
- Любопытно! Но тут много пьес с взрослыми действующими лицами. Может, вы Василия Васильевича в труппу зачислите?
Этот вопрос меня сперва озадачил, но довольно быстро я обдумал на него ответ:
- Папа много снимается, репетирует и играет в театре, да еще вашу пьесу ставит. Он не осилит еще одно совместительство.
Как говорил мне Зорин 20 лет спустя, после этого моего довода он еле сдержал громкий смех: очень уж забавно в устах десятилетнего мальчика звучала фраза "он не осилит еще одно совместительство".
Я очень жалею, что многие-многие бумаги того времени, которых исписал я ворох, пропали: многое порвал или сжег, многое просто так само дематериализовалось. Но я уже тогда писал свои мемуары. Тот же Леонид Генрихович Зорин процитировал мне лет двадцать назад мои строчки, которыми, как выяснилось для меня только теперь, зачитывался Большой драматический театр. Оказывается, я написал тогда такое:
"Потом я заболел, ослаб, и меня назначили директором театра..."
Зорин сказал, что этой фразой я вскрыл сущность тех явлений, которые происходили в те годы: именно тогда, когда человек уже ничего не мог, его назначали директором театра.
Потом под влиянием дружбы с Зориным я начал писать пьесы. Сначала сшивал листы, пронумеровывал их. Потом писал название пьесы, на следующем листе - длинный перечень действующих лиц, а против них, карандашом,предполагаемых исполнителей. Одна пьеса, которую двенадцатилетний автор назвал очень мудро - "Жизнь прожить - не поле перейти", писалась очень долго... десять дней! Господи, что я с ней делал, с этой пьесой! Там было 32 действующих лица (на всю труппу). Но эти лица никак не могли уместиться в моей голове, я их стал путать, переженил не того не на той, тещу обзывал то свекровью, то мачехой... Я так измучился, что стал потихоньку умерщвлять своих персонажей. Сначала бросил под поезд врача, для того чтобы на сцену вышел дядя Коля (эту роль я писал для брата Жени). Этот дядя Коля был машинистом и по совместительству мужем сестры врача. Когда из этой трагической ситуации я не смог выбраться, то решил как-то убрать либо дядю Колю, либо его жену - сестру врача. Дядю Колю убирать мне было жалко - Женя остался бы без роли, а на роль его жены я прочил главную трагическую актрису нашего пока еще не существующего театра Нелю Цыганову. Я понимал, что они оба (и Неля, и Женя) должны играть большие роли, так что я без них не обойдусь, а как написать сцену их объяснения в такой трагической ситуации, я не знал.
Но ведь листы в пьесе подшиты! И пронумерованы! Врач уже побывал под поездом и - что самое интересное! - сам констатировал свою смерть! Так что мне теперь делать?
На выручку пришла подруга моей сестры Анны Инна Капшук. Она внимательно прочла сцену, и последовал простой выход: под поезд попал другой врач, а брат жены машиниста уехал на Сахалин (как Чехов!) и на сцене не появляется. Я очень бодро продолжал пьесу, в которой был примерно такой диалог:
Машинист: Представляешь, Дуся, хорошо, что твой брат уехал на Сахалин, а то ведь и он мог попасть под колеса моего поезда.
Жена машиниста: Я бы этого не пережила.
Но дальше мне было не легче.
Мне что-то надо было делать с детьми машиниста и Дуси, тем более что как только одного врача я умертвил, а другого сослал на Сахалин, на сцене появился Машинист, который до этого в пьесе появлялся только как эпизод.
А дети у меня были задуманы, как постоянно ждущие возвращения папы из рейса и часто болеющие,- поэтому и нужен был врач.
Тогда я, воспользовавшись отсутствием врача, стал умерщвлять детей. Они по одному умирали у меня через страницу: один - от кори, другой - от сердца, третий упал с дерева. И вот тут я писал страстные трагические монологи для Нели! А Машиниста я совсем лишил дара речи, он только изредка говорил жене: "Успокойся, других нарожаем".
Самому мне тексты нравились очень, но те, кто читал, почему-то смеялись, решив, что я писал комедию.
Словом, "Жизнь прожить..." я так и не закончил. Помешало этому не так даже отсутствие фантазии, как наличие в моем характере бюрократической жилки (или немецкой пунктуальности?): к четвертой картине (должно их было быть девять) я исписал весь фолиант, который был прошит и пронумерован. Я не уложился в самому себе отмеренную рукопись. Потом этот "шедевр" затерялся. Или его кто-то зачитал?
Об этом времени, о том, какими были мои родители, вся наша семья, замечательно поведал Леонид Генрихович Зорин в своем очерке "Вас Васич", неоднократно напечатанном - сначала в журнале "Нева", затем в книге "Василий Васильевич Меркурьев", и, наконец, и в собственной книге воспоминаний. Я же, прежде чем, немного сократив, предоставить ему слово, приведу еще только одно детское воспоминание:
Когда я в антракте "Гостей" пришел на сцену, то облазил весь дом, который на сцене был выстроен. А выстроен он был по-настоящему! В нем были "обжитые" комнаты, хотя публике они ни разу не показывались. У Елены Маврикиевны Грановской, игравшей Кирпичеву, в комнатке стояла кровать, был стол, корзиночка с вязанием, чайник с чашками. Она как приходила на спектакль, так и не уходила со сцены даже в антрактах, а отдыхала в этой комнатке. Можно сказать, что актеры просто жили в этом доме.
А теперь - слово Леониду Генриховичу Зорину.
ВАС ВАСИЧ
После того как Андрей Михайлович Лобанов принял "Гостей" к постановке, выяснилось, что пьеса заинтересовала и другие театры. Приходили письма из дальних городов, иной раз и телеграммы. Все чаще в нашей квартире раздавались требовательные звонки междугородной, и соседи звали меня к телефону. Звонили чаще всего по вечерам; я стоял в узком полутемном коридоре, слабо освещенном тусклой лампочкой, и вел куртуазные беседы, приятно щекотавшие еще неокрепшую душу. Отозвался и Ленинград: позвонили из Театра Ленинского комсомола, которым тогда руководил еще сравнительно молодой, но уже хорошо известный Товстоногов. Потом я услышал в трубке голос Леонида Сергеевича Вивьена. Мягко рокочущим баритоном он рассказал, что в Академическом театре имени Пушкина побывал Константин Михайлович Симонов, весьма лестно о пьесе говорил - одним словом, нельзя ли с ней познакомиться. Я пребывал в приятных раздумьях, когда однажды в нашем густо населенном особнячке появился директор Большого драматического театра Василий Алексеевич Мехнецов и сообщил как о решенном деле, что руководимый им театр приступает к работе над моей драмой. Роли распределены: в спектакле будут заняты А. И. Лариков, В. П. Полицеймако, В. Я. Софронов (эти имена произвели на меня чрезвычайное впечатление), ставить же пьесу будут Василий Васильевич Меркурьев со своей женой Ириной Всеволодовной Мейерхольд. Так определилась ленинградская судьба "Гостей". Меркурьева я знал, естественно, по кинематографу. Впервые увидел его, если не ошибаюсь, в "Профессоре Мамлоке", затем одна за другой пошли другие картины. Я хорошо знал его впечатляющую внешность, и когда он, пригибаясь, вошел в мою комнатку и быстро, беспорядочно заговорил, мне на миг показалось, что продолжается фильм с его участием, что я сам принимаю участие в какой-то разворачивающейся на экране истории, играю какую-то роль. Ощущение это прошло быстро - до такой степени естественным человеком был Меркурьев. Он был прост и простодушен, даже хитрости его (впоследствии я их подмечал) были простодушны.
В те дни он снимался в комедии "Верные друзья" и как-то заехал за мной со своими партнерами Борисовым и Чирковым. Наблюдая троих народных артистов вместе, я невольно следил за тем, как они держатся. Мне показалось, что Чирков уже полностью слился со своими героями, которых играл в ту пору, даже пластика его была строгой, неторопливой. Борисов был разумно сдержан, не спешил раскрывать себя перед малознакомым человеком. Это было вполне понятно. Что касается Меркурьева, он совсем не думал ни о том, что он народный артист, ни о впечатлении, которое он производит: был шумлив, громогласен, говорил по обыкновению быстро, слова и мысли обгоняли друг друга.
Прошло месяца два-три, наступил 1954 год, я отправился в Ленинград и остановился у Меркурьевых в их старой, большой, немного запущенной квартире на улице Чайковского.
Меркурьевы жили здесь много лет, но квартира не выглядела обжитой, в ней не было того прочного, нарядного, уютно устойчивого быта, который мне приходилось наблюдать в домах многих знаменитых людей. Но хотя те отлично оборудованные очаги импонировали и привлекали, бивуачно-таборная обстановка меркурьевского жилья мне сильно пришлась по душе - уж очень свободно и легко я сразу себя почувствовал, точно живал здесь давно и подолгу.
Семья была немаленькая. Прежде всего сама Ирина Всеволодовна, высокая, крупная, под стать мужу, с характерными мейерхольдовскими чертами, дочери-студентки Аня и Катя: первая - вся в отца, очень внешне на него похожая, длинноногая, с сильным спортивным телом (впечатление меня не обмануло, она увлекалась баскетболом), вторая - с тонким нервным лицом, неуловимо напоминавшая мать, хотя весь облик ее был иным - хрупкий, тревожный, и вся она была, как струна, натянутая до предела.
Потом дверь отворилась, вошел мальчик, очень строгий, очень воспитанный, в сером костюмчике, с бабочкой вместо галстука. Он с достоинством протянул мне руку и сообщил, что его зовут Петром. Я едва не вскрикнул, так он был похож на деда. Сходство было столь сильным, что казалось какой-то мистификацией.
Сдержав свое изумление, я пожал ему руку и осведомился, сколько моему знакомому лет.
- Десять лет,- ответил мальчик и с легкой улыбкой добавил: - Совсем еще малышок.
Помню, что это снисходительно-насмешливое отношение к самому себе меня восхитило.
Семья была дружная, поглощенная родительскими интересами. Хотя дочери и не пошли в актрисы, театр занимал в их жизни значительное место.
Однако отношения с младшим братом, судя по всему, были не вполне идиллическими. Ночью, засыпая, я слышал страстный шепот Кати:
- Мама, ты к Петьке присмотрись. От него можно всего ожидать, уверяю тебя. Скажи, зачем он носит бабочку?
Ирина Всеволодовна тихо ее успокаивала.
Утром за завтраком я спросил Петю, есть ли у него друзья.
- Есть один,- солидно ответил Петя.- Мы с ним достаточно откровенны.
Вас Васич быстро заговорил:
- Они дружат с Сережей Дрейденом, очень, знаете, головастый парнишка. И о чем они там судят да рядят, только гадать можно. Как закроются за дверьми и шу-шу-шу, шу-шу-шу, чего-то все пишут, пишут...
- Ты ведь знаешь,- мягко сказал Петр.- Мы хотим организовать театр. Я пишу проект.
(Впоследствии в знак доверия он показал мне этот проект. Должен похвастаться - мне предназначалась в нем должность заведующего литературной частью.)
Меркурьев и Ирина Всеволодовна повезли меня в театр, показали почти готовый спектакль.
К тому времени я числил за собой не так уж много спектаклей, но думаю все же, что прогон понравился мне не по причине моей неизбалованности. Меркурьевы выбрали отличных артистов, а иные из них были настоящими звездами - Лариков, Полицеймако, Софронов. Любопытно, что именно Софронов поначалу мне не показался. И на беседе я сказал ему об этом с откровенностью, на которую теперь уже не всегда способен. Дело было в том, что он не спешил явить то, что сделал,- берег свой секрет к премьере. Я же, видя чуть заметный пунктир роли, немедленно возроптал. Софронов выслушал меня, кротко и меланхолично согласился: да, я от всех отстаю. Вас Васич наклонился, шепнул мне на ухо:
- Темнит!
Режиссура обоих супругов (а трудились они в полном единении) исповедовала, как мне кажется, нерушимый принцип: дать возможно полнее раскрыться актерам. И артисты чувствовали эту заботу показать их с лучшей стороны и старались вовсю, трудились в охотку. Особенно трогательна была Е. М. Грановская, которую я поставил в чрезвычайно трудное положение - роль старшей Кирпичевой была написана мною на редкость бледно и невыразительно, не за что было зацепиться. Но так я и не услышал из уст этой поразительной старухи ни слова упрека - находиться на сцене было для нее уже счастьем.
(Одиннадцать лет спустя после читки "Римской комедии" Ольхина подвела ее ко мне - я едва узнал ее, так она изменилась, была уже нездешней, потусторонней. И когда я склонился к ее руке, она слегка коснулась губами моего лба и невесомой ладонью провела по моим волосам. Что это было благословение, прощание? Вскоре она умерла.)
После прогона я провел в гостеприимной семье Меркурьева еще два дня. По вечерам Вас Васич (так совпало, что он не был в ту неделю занят в спектаклях Театра имени Пушкина) рассказывал о том, как сложно найти верный тон в легко возбудимой актерской среде. Однажды, когда мы засиделись за ужином (Ирина Всеволодовна и дети уже легли), он был особенно откровенен. Опытом он делился в своей несколько бессвязной, но экспрессивной манере.
- Наша Александринушка эту науку на совесть преподает. Большая школа. Что вы, господи, целая академия! Тонкая штука. Традиции. Еще с савинских времен. Смертельный номер. На проволоке, на ужасающей высоте. И без сетки.
Он посмотрел на меня, видимо, решил, что я принимаю его слова не то за гиперболу, не то за метафору и недовольно засопел.
- Ошибиться - ни-ни! Чуть зазевался, неверный шаг - и погиб. Безвозвратно, не сомневайтесь. Вокруг великаны. Один к одному. Таланты. Челюсти на удивление. Ам - и нет тебя. Одни кости.
Я зажмурился. Он успокоительно потрепал меня по плечу и добавил веско:
- Большая бдительность нужна. Особенно репетируя в чужом театре. Такой такт требуется, ого! Вот если нужно сменить мизансцену...
В этом месте он неожиданно повысил тон, и из соседней комнаты донесся негодующий голос Ирины Всеволодовны:
- Васенька, почему ты меняешь мизансцены и не ставишь меня в известность?
- Иришенька, я ведь предположительно...- сказал Меркурьев виновато.
- Это нехорошо,- повторила Ирина Всеволодовна. Чувствовалось, что она сильно взволнована.- Это очень нехорошо и некрасиво...
- Мама права! - послышался голос Кати.
- А почему ты решил сменить мизансцену? - поинтересовался Петя.
- Дети, спите! - потребовал Меркурьев.
Рядом зевнула Аня.
- Будет вам,- сказала она недовольно,- не даете спать!
Когда тишина восстановилась, Меркурьев озабоченно покачал головой:
- Обиделась Ириночка. Беда. Пример привел, а она обиделась. Вот, пожалуйте, лишнего слова нельзя сказать.
Вскоре я уехал, но уже через неделю вернулся. Начиналась последняя декада марта, светило солнце, была весна.
На этот раз я жил в гостинице вместе с женой, но с Меркурьевыми виделись ежедневно - они были возбуждены и веселы, чувствовалось, что уверены в успехе. Любопытно, но эта уверенность ощущалась решительно во всех. На чем она основывалась? Думаю, все мы осознавали, что нам выпала удача, возможно, первыми после затянувшейся паузы сказать о том, что тревожило многих.
Премьера прошла с чрезвычайным шумом - больше двух десятков раз выходили артисты на сцену, сначала вызовам вели счет, потом прекратили. Лариков, Полицеймако, Ольхина, Малышев были действительно великолепны. Но особенно всех потряс Софронов.
- Хитрец, хитрец! - улыбался Меркурьев.
Он был счастлив. На него приятно было смотреть. Он не считал нужным скрывать своей радости, и широкое большое его лицо, так хорошо знакомое каждому в зале, излучало сияние. Мы обнялись. Ирина Всеволодовна, белая от волнения, написала мне на программе трогательные и многозначительные слова: "Благодарю за мое возрождение". И я вновь подумал, как непроста была ее жизнь.
После спектакля мы собрались в гостинице, было шумно, суматошно, кроме артистов были еще и знакомые, находившиеся в этот вечер в зале. Помню, например, артистов-пушкинцев О. Лебзак и К. Адашевского. Среди зрителей был один московский поэт и драматург, привлеченный на премьеру участием в ней Ольхиной,- пригласили и его. Одна речь сменяла другую, будущее казалось таким же праздничным, как этот вечер, зрительский ответ был столь звучен и ясен, точно подсказывал, как надо трудиться дальше. Много воды утекло с тех пор и мало осталось на земле из тех, кто был за столом в этот мартовский вечер.
Спектакль прошел около сорока раз. Перед тем как он прекратил свое существование, Вас Васич и Ирина Всеволодовна успели поставить его для выездов, и пушкинцы выступали с ним на гастролях. Связь наша еще долго не ослабевала. Когда года через полтора я написал "Алпатова", возникла идея, что наше сотрудничество будет продолжено в том же Большом драматическом. Помнится, как мы встретились в гостинице "Москва". Вас Васич уселся читать пьесу, я листал какой-то журнал. Читал Меркурьев томительно долго, хотя пьеса была и не так велика. Она оставила его вполне равнодушным, но сказать этого он был не в силах. Озабоченно глядя на меня, произнес с тяжелым вздохом:
- Глубока...
Однажды приехали они с Ириной Всеволодовной в Москву, позвонили после двенадцати ночи. В тот день я праздновал свое тридцатипятилетие, и где-то среди ночи они появились. Народу было через край, поместиться было негде, мы расположились на кухне, где просидели почти до утра. Отсутствия юбиляра никто не заметил, и мы вволю наговорились. Но о будущем говорили немного, больше вспоминали - невеселый признак!
Не раз и не два приходилось мне сталкиваться с этим странным феноменом: люди, щедро одаренные юмором, словно стеснялись этой солнечной стихии, словно боялись показаться незначительнее и несерьезнее, чем были, по их убеждению, на самом деле. Вот и Меркурьев год от году все больше и больше досадовал на то, что его считают комиком. И чем больше я убеждал его, что он один из редких избранников, счастливцев, рожденных приносить радость, тем жарче он возражал - непонимание его удручало. Он был полон претензий к театру, не дающему ему возможности сыграть Отелло. Не получая ролей трагических, он охотно играл в кинематографе так называемых положительных героев. Сколько раз пытался он оживить своей неотразимостью бледные схемы сценаристов.
Однажды судьба едва не свела нас снова.
В его родной Александринке ставились мои "Друзья и годы", и Меркурьев должен был сыграть Поставничева. Уже не помню, что этому помешало, кажется, его частые выезды на съемку. В конце концов роль была отдана Толубееву. Вас Васич казался огорченным, при встрече горячо уверял меня, что мог бы все совместить, очень жалеет, что все так вышло.
- Сниматься я должен. Семейство громадное. Я кормилец, они не должны умереть с голоду. Роль я знал. Осталось сшить мундир. Но театр это, знаете, океан. Неверный шаг - и пошел ко дну. Видишь, как повернули. Тонкая штука. Уж времени нет, уж пожар, уж спешка - в результате роль отнята, рана нанесена.
И заразительность его была такова, что, хотя и трудно было понять, почему должны были умереть с голоду его дети, уже выросшие к тому времени и практически вставшие на ноги, я сочувствовал ему всей душой и разделял его огорчение.
В последний раз мы встретились с ним на гастролях вахтанговцев в Ленинграде. Он пришел смотреть "Коронацию". Игра Плотникова, видимо, задела его. Он горячо объяснял мне, как мог бы сыграть роль старого профессора он; я ловил его обгонявшие друг друга слова и понимал, что дорого бы дал, чтобы увидеть его в образе Камшатова.
Но это были уже одни мечты...
* * *
Здесь я хочу сделать "вставку", на мой взгляд, вполне естественную, многое раскрывающую, многое поясняющую.
Я очень люблю Леонида Генриховича Зорина - драматурга, на мой взгляд, великого, человека замечательного. Иногда говорят: "Это человек эпохи Возрождения". По-моему, это и про Зорина тоже. Сколько лет мы бросаем все и спешим к телевизору, когда идут "Покровские ворота"! Сколько тысяч зрителей с восторгом смотрели (и не по одному разу!) "Варшавскую мелодию", да что и говорить - много ли найдется у нас писателей, драматургов, у которых судьба сложилась столь счастливо! Правда, сам Леонид Генрихович так не считает. Это вполне естественно! Сколько пьес, которые своевременно не были востребованы, у него лежит в столе, сколько горечи он испытал из-за того, что не сгибался, не приспосабливался. Но зато, дорогой Леонид Генрихович, сегодня Вы можете засыпать, как ребенок: совесть у Вас чиста, как и у моего отца, любимого Вами Василия Васильевича Меркурьева. Он тоже не сгибался ни перед кем. Как-то отца спросили:
- Василий Васильевич, вот как так получилось, что вы прожили свою жизнь и никогда никому не лизали?..
Отец ответил:
- Рад бы лизать. Укусить боюсь.
Осмелюсь вторгнуться в воспоминания Л. Г. Зорина. Когда отец репетировал в "Друзьях и годах", у него случился страшный приступ диабета: сахар подскочил на критическую отметку. Его положили в больницу и уже практически стабилизировали его состояние. Но... Театральные интриги - это было всегда, это будет всегда. А то, что в это время он нигде не снимался,это очень легко проверяется: в том году, когда ставились "Друзья и годы", отец вообще не снимался. И, видимо, разговор отца с Зориным на эту тему состоялся в другое время и по другому поводу.
Не буду вступать в полемику с Леонидом Генриховичем и по поводу его непонимания папиных желаний сыграть трагические роли. Далее читатель увидит доказательства правоты Меркурьева. Здесь только добавлю, что, когда на очередную папину заявку на драматическую роль в каком-то спектакле ему сказали: "Василий Васильевич, но это ведь не ваше дело! У вас талант комедийный! Вы же не справитесь!" - то отец ответил: "Дайте мне хотя бы один раз провалиться. Думаю, я заработал уже право на эксперимент. Ну, пусть будет провал! Пусть меня помидорами закидают!" Не дали! Дотянули до 70 лет! Ну да ладно! Чего уж теперь "кулаками махать"!
Вторая "вставка" в воспоминания Зорина - по другому поводу. Она о Сереже Дрейдене.
В ноябре 1994 года в редакции газеты "Музыкальное обозрение", в которой я имею честь служить (ради Бога, не примите это мое "служить" иронически - я действительно "служу" этому великому Делу, и очень горжусь этим; о моем призвании речь впереди, если читателю это будет интересно), раздался телефонный звонок. Сергей Дрейден просил разрешения позвонить мне домой.
- Сережа! О чем речь? Звони, конечно! Но, поскольку я работаю в газете, звони как можно позже.
Через несколько дней он звонит:
- Петя, прости, Бога ради, что беспокою тебя. Тут такая история... Я сейчас репетирую в Театре имени Ермоловой "Мнимого больного" Мольера. Нет, все у меня в порядке. Вот только... Может быть, ты знаешь кого-то, кто мог бы сдать мне комнату на время репетиций... Ты прости, что беспокою...
Он мог бы еще час извиняться, церемониться, но я оборвал его:
- Серега! Я все понял. Вариант один, если он тебя устроит: у меня на кухне диван. Если у тебя нет аллергии на кошку...
- Что ты! У меня дома у самого кошка! Но тебя это не стеснит?
Ну как мне было объяснить моему почти что брату, что... А почему, собственно, "почти что брату"? Не говоря уже о нашей детской дружбе, Сергей буквально является "молочным братом" моей сестры Кати. Когда 14 сентября 1941 года он родился (а случилось это в Новосибирске, в самом начале эвакуации), у его матери, Зинаиды Ивановны Донцовой, пропало молоко. И моя мама, еще кормившая грудью Катю, а также Андрея Черкасова (сына Н. К. Черкасова и Н. Н. Вейтбрехт), стала кормить и Сережу Дрейдена.
Сергея Дрейдена сейчас знают все. Возможно, не все знают его фамилию: он не принадлежит к тому "сонму" артистов, которые бывают на всех "тусовках", участвуют в фестивалях, получают премии. Он, как и Раневская, и Меркурьев, и Свердлин, и Яншин, и Плятт, не получил ни одной "Ники", ни одного "Оскара", но властно занял место в сердцах и душах зрителей1.
В фильмах "Окно в Париж" и "Фонтан" Ю. Мамина Сергей Дрейден, в титрах именуемый "Сергей Донцов", играл главные роли. В фильме М. Богина "О любви", правда, он выступает под фамилией Дрейден. Остальные фильмы он посвящает своей матери Зинаиде Ивановне Донцовой.
Его мама похоронена на Шуваловском кладбище в Ленинграде, там же, где и мои бабушки - Анна Ивановна Меркурьева-Гроссен и Ольга Михайловна Мейерхольд-Мунт. И в каждом письме Сергей мне пишет: "За бабушек не беспокойся. Я там бываю регулярно и все привожу в порядок".
Нашей дружбе с Сергеем почти 50 лет. Это для меня является подтверждением, что жизнь свою мы оба прожили честно: если бы мы изменили своей совести, вряд ли кто-то из нас смог глядеть друг другу в глаза. А совестливость эту завещали нам наши родители: Сергею - Зинаида Ивановна, мне - Ирина Всеволодовна и Василий Васильевич. И завещали не декларативно, не словами, а примерами своих жизней.
А теперь о Сереже Дрейдене, который вошел, вернее, ворвался в мою жизнь, когда мне было семь лет.
Очень хорошо помню, когда я увидел (вернее, сначала услышал) Сергея. Я болел скарлатиной, лежал дома один (на время моей болезни мама эвакуировала всю семью: папа жил в гостинице, Анна - у своей учительницы, Катя, по-моему,- у Ольги Яковлевны Лебзак, Женя - у своей мамы: тетя Лара с Наташей жили в девятиметровой комнате у Нарвских ворот). И вот через открытое окно я каждый день слышал хриплый мальчишеский голос, кричащий: "Касьян!" - это Сережа приходил в наш двор со своим пуделем.
Когда я выздоровел, то познакомился и подружился с Сережей. Жил он через два дома от нас. Его отец, театральный критик Симон Давидович Дрейден, в это время сидел в тюрьме (это была очередная кампания Вождя она коснулась практически всех деятелей театра, но в основном с упором на "космополитизм", что в молчаливом переводе означало "еврей"). Мать Сережи, Зинаида Ивановна Донцова, как я уже писал, стала задушевной подругой всех Сережкиных товарищей.
А в 1951 году я во второй раз пошел учиться в школу (в первый раз меня отвели в первый класс в ту же школу, где учился Женя, но я почему-то в течение целой недели своей учебы плакал на всех уроках, бегал в канцелярию звонить домой: "Заберите меня!" Я ведь был деревенским жителем, не привыкшим к шуму и беготне, да еще к такому скоплению мальчишек. И родители решили, что год я подготовлюсь к школе дома). И вот я пошел сразу во второй класс, но уже в другую школу, в 203-ю, где учился (правда, на два класса старше меня) мой друг Сережа Дрейден.
Первый свой школьный день я запомнил очень хорошо. В школу меня привел папа. Мы пришли, когда уроки уже шли. Я не помню, заходили ли мы к директору, но помню, как остановились у дверей класса. Папа приоткрыл дверь, и тут же к нам подошла пожилая учительница. Папа подтолкнул меня, я пошел вместе с учительницей к ее столу, а в классе прошла волна одного слова: "Меркурьев, Меркурьев, Меркурьев" - ребята узнали папу. Немудрено! Папина популярность в те годы была фантастической! Телевидения еще не было, фильмов выпускалось немного, все они шли подолгу в разных кинотеатрах, и люди смотрели их много-много раз. Я знаю людей, которые "Танкер "Дербент" и "Небесный тихоход" смотрели по 14 раз!
Хорошо помню свое состояние у учительского стола. Мне хотелось держаться с достоинством. Александра Степановна (так звали учительницу) сказала:
- Ребята, у вас новый товарищ - Петя Меркурьев. Садись, Петя, за вторую парту с Вовой Дворкиным.
Вова с готовностью подвинулся. Он был неплохой парень. Из таких, которые никогда не попадают в лидеры, не бывают забияками, а учатся очень неважно.
В классе были и круглые отличники, были второ- и третьегодники. Наш класс был единственным - параллельных не было: уж очень немного ребят родилось в 1943 году. В то же время многие ребята отставали по учебе, поэтому я помню в нашем классе Пашу Маслова, который был старше на три года, а Слава Малышев (он, правда, попал к нам только в шестом классе) был старше на четыре года: ему было 17, а нам - по 13.
Как я учился - не помню. Но хорошо помню, что 203-я школа мне очень понравилась, и ходил я туда сам, там никогда не плакал и с ребятами был в нормальных отношениях. Сразу же подружился с моим тезкой, Петей Брауном. Он был отличником, очень умным и все-все знающим. Меня просто потрясало, например, что он во втором классе мог определить, на каком расстоянии от нас идет гроза (после вспышки молнии он считал секунды, потом умножал на скорость звука... или делил?.. я до сих пор в этом разобраться не могу), причем делал он это мгновенно. Его папа был математиком, а мама - доцентом медицинского института. Брат Пети закончил школу с золотой медалью, а его одноклассником был Виктор Корчной - будущий гроссмейстер. Кстати, Корчного помню как знаменосца нашей школы.
Очень дружили мы с Сашей Рогожиным. С ним встречаемся и сейчас. Он закончил индонезийское отделение Ленинградского университета, работал в Индонезии, должен был ехать работать на Мадагаскар (он свободно владеет мальгашским языком), потом переехал из Ленинграда в Москву. В детстве Саша был сугубо материалистом. Я его называл академиком. Жил он со своей мамой в большой коммунальной квартире, занимался музыкой, был для меня в то время музыкальным авторитетом.
Я сейчас понимаю, что Александра Степановна Прокофьева была педагогом замечательным. Она довольно спокойно расправлялась с нашей оравой, без лишних движений и окриков. Иногда только срывалась. Но в основном речь ее текла плавно, объясняла она просто и очень понятно. И к пятому классу мы пришли хорошо подготовленными.
Помню день, когда Александра Степановна пришла в торжественном платье, но на плечах у нее был неизменный шарф, закрывающий плечи и грудь. Она стала рассказывать о том, что вчера у нас не было уроков из-за того, что ее вызвали в Смольный, чтобы вручить орден Ленина (напомню новому поколению: этот орден - самая высокая государственная награда советского времени). И потом сказала:
- А орден Ленина - вот! - И отодвинула шарф, а там, кроме ордена Ленина, еще и ордена Трудового Крас ного знамени, и орден "Знак почета", и медали.
Это случилось в конце третьего класса, а до этого мы даже и не знали, какая у нас учительница.
Был в нашей школе человек, которого почти все не любили и все боялись. Это завуч Марина Александровна (та самая, что отругала меня за "кощунст венную" надпись в дневнике 5 декабря). Высокая, с зычным голосом, она всегда ходила в платье с жабо, а с левой стороны у нее были орденские колодки. Она говорила громче всех в школе, и, кажется, ей доставляло удовольствие людей унижать. За какую-то мелкую мою провинность она могла во весь голос отчитывать меня посреди школьного коридора такими словами:
- Не забывай, что ты внук врага народа!
Когда наступил период борьбы с космополитизмом, Марина Александровна активно в эту борьбу включилась. Жребий пал на чудесную учительницу русского языка и литературы Елизавету Акимовну Басину. Это была одна из самых любимых ребятами учительниц. Изумительно знала литературу, чутье русского языка у нее было просто волшебное! Я много потом встречался с ее учениками, выбравшими благодаря Елизавете Акимовне своей профессией филологию, русский язык, литературу. Так вот Марина Александровна на педсовете заявила: "Разве может нерусский человек преподавать русский язык и русскую литературу? Это же не математика, не физика!" (А, к чести нашего директора, Георгия Яковлевича Коноплева, надо сказать, что в школе был подобран потрясающе сильный педагогический коллектив - один из лучших в Ленинграде. И, посмотрите, кто преподавал: математики Владимир Иосифович Лафер, Ватон Яковлевич Матиниан, историк Александр Менделевич Фрумкин, физики Роман Абрамович Рабуянов и Фаина Ильинична Мазо, литератор Елизавета Акимовна Басина, англичанка Анна Яковлевна Клейнер. Нет, русские педагоги были, и их было очень много, и тоже очень хорошие! Но, пожалуй, ни в одной школе такого "рассадника космополитизма", как в нашей 203-ей имени А. С. Грибоедова, не было). Так Е. А. Басина несколько лет не преподавала, потом в школу вернулась (когда, слава Богу, не стало Сталина), но вскоре умерла.
А в нашем классе (еще в начальной школе) продолжалась миграция. И делился класс на "хулиганов" и "нехулиганов". Я помню одну переменку, когда Витька Крученов (он был старше года на три) дрался на ножах с каким-то девятиклассником, а еще один из наших одноклассников, некто Виктор Хетонов, беспросветный двоечник, типичный представитель школьной "камчат ки", кончил тем, что в 18 или 19 лет вместе с какой-то бандой утопил в Сестрорецке велосипедистов и был расстрелян.
Бог мой, какие разные люди, разные характеры учились в нашем классе! Удивительно: но я помню не только их имена, фамилии - я помню характеры и повадки каждого. Спокойный и великодушный, очень красивый Юра Топтунов. Где он сейчас? Я уверен, что он на всю жизнь остался таким же благородным, каким был в детстве. Порывистый, совершенно беззлобный Вовка Синайский. Его отец работал министром финансов Карело-Финской ССР, а в Ленинграде жили они в огромнейшей коммунальной квартире на Литейном (в одной комнате Вовка, папа, мама и чудесная бабушка). Каждый раз, когда я шел к Вовке, я не мог найти его комнату в этом лабиринте. В их же квартире жил врач, имевший частную практику, и на подъезде висела табличка еще с дореволюционных времен: "Врачъ А. М. Черно усенко (кажется, в этой фамилии где-то должна быть буква "ять" - не помню уже, да простит мне это читатель). Мочеполовыя и венерическiя болезни". После смерти Вовкиного отца его мать вышла замуж за гитариста и приходила к моей маме, чтобы она позанималась с ней научила ее конферировать. И стала ездить с мужем по гастролям.
Когда я уже был взрослый, встречал Вовку Синайского сначала с одним ребенком, потом - с двумя, тремя. Возможно, сейчас он уже очень богатый дедушка. А стал он парикмахером.
Очень близким другом моим стал тогда Аркаша Вирин (и, как выяснилось, дружба наша оказалась "пожизненной" - до сего дня мы сохранили душевные отношения). Пришел он в нашу школу в середине второго класса. У него был абсолютный слух, учился в музыкальной школе, был очень начитан и очень искренен. Помню, на одной из переменок мы жевали бутерброды, и Аркашу кто-то спросил, какой он национальности. Он ответил:
- Еврей. У меня все евреи - и мама, и папа, и бабушка, и даже наша кошка - тоже еврей.
Тогда я еще не читал Кассиля и не мог знать, что это цитата, а расценил как его юмор, и мы с Аркашей подружились.
Он чаще других бывал у меня дома, а я очень часто ходил к ним, на улицу Рылеева, дом 21 (в этом доме, кстати, жили тогда знаменитый актер театра музкомедии А. В. Королькевич, дирижер Курт Зандерлинг, народный артист Владимир Иванович Воронов). Тоже в коммунальную квартиру!
У Аркаши в доме был предмет моей мечты - пишущая машинка!
С нами, детьми, очень дружили родители Аркаши, Любовь Давидовна и Яков Абрамович, и бабушка Бронислава Львовна. Аркаша, кстати, стал самым активным (если не сказать активнейшим!) участником-"строите лем" нашего домашнего театра (о театре я уже писал выше).
Приход друг к другу домой у нас не считался "приходом в гости": это было в порядке вещей. Возможно, кому-то из родителей это и не нравилось, кому-то мы, дети, мешали, когда вот так, не спросясь, заходили. Но в нашу семью приходили все.
Я уже писал, что дома мы играли в театр, школу, цирк, делали разные представления. Коля Путиловский делал кульбиты, чем приводил в ужас наших гостей и в полный восторг мою маму. (О Коле, моем очень добром, но, увы, уже покойном, друге, я очень хочу рассказать больше и когда-нибудь найду такую возможность: нельзя, чтобы он исчез бесследно - он заслужил добрую память); Аркаша Вирин играл на рояле, мы играли сценки (помню, я играл Леди Мильфорд, а Катя - Луизу Миллер из "Коварства и любви" Шиллера, так же мы играли и "Мачеху" Бальзака. Мы запомнили сцены из этих спектаклей, - их мама репетировала дома с актерами, которые приходили к ней за помощью). А кто смотрел нас! Это были и Николай Константинович Симонов с Анной Григорьевной Белоусовой; Ольга Яковлевна Лебзак с Константином Игнатьевичем Адашевским; Виталий Павлович Полицеймако, Леонид Генрихович Зорин, Петр Мартынович Алейников, Владимир Владимирович Дружников, Иван Федорович Переверзев, Игорь Владимирович Ильинский! Даже - Сама! Сама Фаина Георгиевна Раневская - личность, которую я считаю самой великой Личностью ХХ века!
Но самым близким другом моим все же был Сережа Дрейден.
Бог мой, как же скудно мое повествование! Ну не передает оно ни атмосферу того времени, ни моих переживаний! А ведь вы помните, какими были детские переживания! Ведь все казалось главным! А каждая проблема глобальной. Многие, казалось бы, незначительные эпизоды, оборачивались коварством (а детское коварство в чем-то страшнее коварства взрослых - ведь обращено оно на не заросшие толстой кожей нервы).
Казалось бы, мелочь - приход в наш дом соученика Сережи Дрейдена В. С. (не буду называть его фамилию - не нужно рекламировать зло), а для меня эта мелочь стала уроком вероломства. Этот красивый самоуверенный 13-летний мальчик приходил к нам каждый день. Его красота пленила и мою сестру Катю, и ее подругу Лену Решкину. А я на него смотрел с обожанием, с которым смотрят хилые мальчишки (а я и был таковым) на суперменов. В. С. умело ссорил нас с Серегой Дрейденом - его забавляло это. А мы всерьез все переживали. Однажды В. С. добился даже того, что мы демонстративно выставили Сережу из нашего дома. Боже мой, как мне стыдно и теперь, через 45 лет, когда представляю себе чувства Сереги, доброго, очень ранимого и, в сущности, в то время одинокого, несмотря на огромное окружение ребят, парня, когда он, идя в наш дом в надежде на радушный, искренний ответ на его открытые чувства, встречал, по сути, надругательство над этими чувствами. И жестокость эта ничем не была оправдана - никто из нас о нем, о Сергее, не задумывался. А мы - и я, и Катя, и Лена - были под каким-то злым гипнозом холодного и жестокого В. С., для которого все это было не чем иным, как утверждением своей власти над нами. При этом он и с Сергеем умудрялся сохранять нормальные отношения, и Сергея держать под своим гипнозом. И вспоминаю я ужасную сцену в школе, когда на следующий день после этой жестокой обиды, Сергей Дрейден в слезах орал на меня, а потом плюнул мне в лицо. В. С. был при этом. Он смотрел и... улыбался. Нет, он ухмылялся.
Мне было тогда 11 лет. Я еще мало что понимал. Но "ситуативная" память у меня цепкая, я и сейчас помню всю эту сцену. Это похоже на то, как смотришь фильм, содержание которого не понимаешь, а через несколько лет смотришь тот же фильм - и все понимаешь. Так и я сейчас смотрю фильм сорокачетырехлетней давности.
Через несколько дней В. С. вручил нам с Катей записку со словами: "Прочтете, когда я уйду". А там было написано: "Прощайте, я с вами больше не знаком". Я задохнулся - так мне было обидно! А Катя, у которой к тому времени "чары разрушились", успокоила меня: "Петенька! Да он же мразь! Ты что, не понял?" Но мне согласиться с этим было трудно - ведь я смотрел на В. С. с обожанием! Разочаровываться в кумирах я тогда не умел.
И только значительно позже пойму я, что человек предавший несет потери значительно большие, чем тот, кого он предал: собственно, эта истина стара, как мир, если не старше.
А с Сережей Дрейденом мы опять очень сблизились, очень подружились. Конечно же, мы любили друг друга, как можно любить только в детстве - без условий, без границ, с ревностью до притеснения, с желанием абсолютной исключительности. Под любыми предлогами я старался забегать к Сереге - там я был всегда желанным гостем. И Сережа приходил ко мне и засиживался допоздна. И разговоры наши были и предметны, и абсолютно беспредметны.
А однажды Сергей пришел к нам со своим сверстником и тезкой, тоже Сергеем, сыном режиссера Театра имени Пушкина Доната Исааковича Мечика. Мечик-старший дружил с Черкасовыми, они ему помогали, чем могли, в частности опекали и его сына от первой жены. Сам Мечик-старший все время что-то искал, влюблялся в разных женщин, был очень "богемным" и на сына своего внимания, в сущности, не обращал никакого. И Сергей рос очень самостоятельным и, как казалось, "шалавым". На все у Сергея Мечика (я тогда не знал его другой фамилии) было свое мнение. Вел себя он часто вызывающе, делал поступки весьма странные. Потом его за что-то арестовали, потом он как-то странно женился. А потом и вовсе уехал в Америку. Тогда я уже, конечно, знал его фамилию, мы встречались с ним нередко. А спустя много лет, уже после его смерти, я впервые прочитал прозу Сергея Довлатова. Вот ведь как бывает! Знал ведь человека почти двадцать лет - а не присмотрелся к нему! Правда, Сергей смотрел на меня как на маленького: я же был на два года (огромный срок в том возрасте!) младше.
Наша дружба с Сережей Дрейденом несколько ослабевала с 1958 года. Я зимой заболел воспалением легких, которое перетекло в туберкулез, и меня "сослали" в туберкулезный санаторий "Пионер" в Крыму, где я пробыл более полугода, за которые произошли переломные события: Сережа окончил школу, поступил в Театральный институт на курс Татьяны Григорьевны Сойниковой, и зажил взрослой жизнью. Он изредка писал мне в санаторий письма, но интересы у него уже пошли по профессиональному руслу, появились новые - уже взрослые - друзья, а я так и остался младшим братом. Я не понимал этого, обижался на него. Обвинять Сережу не в чем - он не предал нашу дружбу, он просто стал мне покровительствовать. Он рано женился, родилась у него дочь Катерина (он только так ее называл). Напряженными стали его отношения с Зинаидой Ивановной, с которой я продолжал дружить. Сергей сначала переехал к жене, потом стал разменивать квартиру Зинаиды Ивановны (в этом ему помогал его отец, Симон Давидович, бывший в то время уже в разводе с Зинаидой Ивановной), закрутила Серегу суета семейной и студенческой жизни, потом, в 1965 году, я переехал в Москву, и не встречались мы с ним с тех пор почти никогда. В 80-х годах я получал от Сергея чудесные остроумные открытки - но и только. Но сердце мое помнит детство, помнит ту восторженную привязанность, и не хочет мириться с тем, что прошло это безвозвратно.
Ну а продолжение, которое я уже написал выше, показывает, что сердце мое добилось гармоничного продолжения нашей дружбы.
* * *
Когда у родителей закончилась работа в Большом драматическом театре над зоринскими "Гостями", для мамы опять потянулись трудные дни: все ее обращения в "высокие инстанции" по поводу работы оставались безответными, все хлопоты - безрезультатными. Все обещали помочь, но никто не помогал. Ее состояние тогда можно охарактеризовать одним словом: "отчая ние". И в семье нашей наступило тягостное ожидание чего-то. Но это "что-то" никак не приходило, а приходили новые беды. И главная беда постигла нас осенью 1955-го.
КАТЯ
Прости, Катюша, но из песни слова не выкинешь. Прости, что расскажу все, как было,- ведь без этого многого не понять. Да и что скрывать нам, жившим так открыто, что только ленивый не знал, что в семье Меркурьева происходит!
Я очень хорошо помню, как она, беда эта, начиналась. В том году произошло слияние женских и мужских школ. И Катя перешла в мою, 203-ю школу. Училась она на два класса старше. В школе ее приняли очень хорошо и это естественно: характер у Катюши был удивительный! Мягкая, добрая, ласковая и сострадательная. Училась Катюша неважно - была заторможенная, терялась при ответах у доски. Но была талантлива во всем, что связано с движением, а также в рисовании. Пластика у нее была удивительная! Сложена просто совершенно. В раннем детстве ее не приняли в хореографическое училище только из-за роста - она ведь дочь своих родителей!
Родилась Катюша 25 января 1940 года. Шла финская война. А весь период, пока мама была беременна Катей, проходил чрезвычайно нервно в нашей семье: весной 1939 погиб папин брат Петр Васильевич; в июне был арестован Мейерхольд; в июле - убита жена Мейерхольда, Зинаида Райх; осенью арестован другой брат отца - Александр Васильевич (правда, перед самым новым, 1940-м годом его выпустили).
Родилась Катя, а через полтора года началась война, эвакуация и прочие "радости", которые, конечно же, не очень способствуют укреплению психики.
И мама, и папа Катюшу очень любили. Папа, когда Катенька была совсем маленькой, подбрасывал ее и говорил какой-то набор абракадабры, который обязательно заканчивался вопросительным "а?". Катюша подумала, наверное, что именно так надо разговаривать и ставила в тупик гостей такой примерно фразой:
- Акалипранакали лапаку макапу далали, а?
Мама отругала папу за такую "школу".
Я опускаю почти 15 лет Катиной жизни - так или иначе о них будет сказано, а перехожу к тому страшному моменту, который, можно сказать, стал едва ли не самой большой драмой в жизни нашей семьи.
Это было самое начало учебного года. Осень 1955-го. Каждое утро для Кати сборы в школу становились огромной молчаливой проблемой. Когда ее будили, в глазах у нее была тревога и еле сдерживаемые слезы. Она почти не разговаривала (просто не разговаривала!). Подолгу стояла около стены, на которой была развешана наша одежда. Ее подгоняли: "Катя, в школу опоздаешь!" Она вздрагивала и начинала медленно, как в рапидной съемке, одеваться. Завтрак проходил в таком же темпе. Но с каждым днем она ела все хуже и хуже, подолгу, с каким-то страданием в лице, рассматривала каждый кусочек, тяжело вздыхала. Движения ее стали неверными (это у Кати-то! У которой превосходная координация в танце, и в плавании! А по плаванию у нее разряд!)
В школе она задумывалась и не слышала, как ее вызывают к доске. Однажды на уроке конституции она вдруг разразилась речью:
- Какая же это конституция, если моя мама не работает, а мой дедушка ни за что арестован?
Учитель, умнейший, добрейший человек Александр Менделевич Фрумкин, сказал:
- Катюша, я верю, что здесь, в классе, только твои друзья, и они никому не скажут, что ты здесь говорила. А после урока останься, я тебе все-все объясню.
Александр Менделевич долго беседовал с Катюшей, сказал ей, что время несправедливости прошло, что скоро все будет хорошо. Но тогда все поняли, что Катюша тяжело больна.
Дальше события развивались еще страшнее: Катя перестала принимать пищу и вообще замолчала. Перестала она и спать.
Как раз в это время к нам пришла домработницей Лена Молчанова 27-летняя женщина, прошедшая трудный путь: она была угнана немцами в Германию, по возвращении никуда не могла устроиться, нигде не могла прописаться. И опять же, в который раз, папа объявляет в милиции, что ему надо прописать племянницу. Лена стала у нас жить. И вот на ее долю пала Катина болезнь. Катя - в туалет, Лена идет за ней тихой тенью. Спали они в комнате родителей. Катя ночами вскакивала,- что-то ей все казалось. А что ей казалось - никому не было ведомо, ибо она молчала.
Папа пригласил самых известных ленинградских психиатров Владимира Михайловича Можайского и профессора Мнухина. Диагноз был неутешительный: шизофрения.
Что только дома не делалось, чтобы развеять Катюшу! Чтобы ее разговорить, чтобы уговорить принимать пищу! Мама сбивалась с ног в поисках самого красивого винограда, самых аппетитных яблок, словом - всего самого-самого.
Катюша на все это недоверчиво смотрела, вздыхала и редко когда отщипнет ягодку, положит в рот и долго ее там держит. Потом, с ужасом в глазах, ягоду раскусывала, проглатывала, вся напрягалась. И никто не знал, какие мысли роятся в ее спутанной голове.
В таком состоянии она была около двух месяцев: никого не узнавала, ни с кем не говорила, боялась лечь на кровать, боялась притронуться к вещам.
Только через полтора месяца сознание постепенно стало к ней возвращаться. И мы узнали о тех ужасах, которыми все это время жила Катюша.
Ей виделось, что нас всех убили, а вместо нас пришли фашисты. Что к кровати и стульям был подведен электрический ток, что пища, которую ей давали, была отравлена.
Весь этот период дом наш был печален. Жизнь продолжалась: папа играл веселые роли и в театре, и в кино, мы, дети, ходили в школу. Конечно же, теперь друзей мы домой не приглашали. Приходили к нам только родственники: папина тетка Мария Спиридоновна, ее дочь Любовь Николаевна, внучка Татьяна, мамина ближайшая подруга, художник-кукольник Вера Васильевна Чернова-Кюбли де Монар. Этих людей Катюша все-таки не пугалась.
Но уже в конце октября - начале ноября Катюша была настолько хороша, что родители решили послать ее с Леной отдыхать. Купили две путевки в Цихис-Дзири, на Черное море. Девочки прожили там месяц, отдохнули от заточения и кошмаров, окрепли, поправились.
Этими воспоминаниями заканчивается год 1955-й. В папином творчестве он был ознаменован практически одними веселыми ролями: Мальволио в "Двенадцатой ночи", Лев Гурыч Синичкин в киноводевиле К. Юдина "На подмостках сцены" (какой блистательный ансамбль! Яншин, Блинников, Сашин-Никольский, Юрий Любимов, Татьяна Карпова, Елена Савицкая, Людмила Юдина! Этот фильм - на все времена. Это настоящая классика. Как, впрочем, и "Двенадцатая ночь"), Ладыгин в леоновском "Обыкновенном человеке" (И там ансамбль прекрасный: красавица Ирина Скобцева, П. Константинов, А. Куликов, Р. Макагонова и, наконец, несравненная Серафима Бирман).
Что же касается Катюши, то судьба ее сложилась драматически. Неоднократно лежала она в психиатрических больницах. Но между тем училась сначала в физкультурном техникуме (была отличной пловчихой! На многих соревнованиях занимала призовые места), потом - в художественном училище, закончила его с большим трудом - никогда не могла за себя постоять, а с ее болезнью мало кто хотел считаться. Работала она и на фарфоровом заводе имени Ломоносова, расписывала фарфор, и почти десять лет художником-оформителем в Казанском соборе, когда тот был музеем истории религии и атеизма). А после смерти родителей осталась одна. Инвалид. Иногда даже в магазин сходить ей трудно. В силу своего общительного характера, своей исключительной доброты, одиночество переносит очень тяжело.
ЖЕНЯ
Я уже сообщал терпеливому читателю, что с раннего детства мы все увлекались театром. Конечно же, всякий понимает, что если ребенок воспитывается в актерской семье, он заражается ядом сцены или экрана; дочь врача почти всегда лечит кукол, а сын - их варварски оперирует.
Мы в нашем "театре" играли всерьез, заставляли маму режиссировать, стряпали костюмы, расставляли в необъятной комнате стулья, на которых, увы, "аншлага" не было. Правда, был у нас один постоянный и верный зритель Яков Абрамович Вирин, папа Аркаши. Поскольку мы заигрывались до 10 часов вечера, то Яков Абрамович приходил за Аркашей и мужественно смотрел наши репетиции. Для него мы специально играли свои спектакли от начала до конца (следует учесть, что многие "спектакли" мы импровизировали на ходу, но нашего драматургического таланта более чем на полчаса не хватало). Мы с Аркашей выпускали газету, посвященную "проблемам" нашего "театра", который мы всерьез именовали Театром имени Олега Кошевого (ну почти что ясли-сад имени Фрунзе). Мы присваивали звания, присуждали премии, издавали приказы.
Не знал я тогда слов Станиславского "театр начинается с пьесы" (вешалку он придумал потом), но все же догадывался, что надо что-то показывать. Катя и ее подруга Лена Решкина тоже не знали этого высказывания, но по странному совпадению были его единомышленниками. Они начали искать пьесу.
Вдруг я сообразил: "Что же это такое? Театр есть, но не было еще ни одного сбора труппы?" Мы кликнули клич, и на наш сбор пришли друзья Кати, Наташи, Жени. Из моих друзей верными рыцарями театра были Аркаша Вирин и Виталик Способин. Виталик вскоре уехал жить в Мос кву, а Аркаша по сей день вспоминает театр наш как светлейшее впечатление детства.
На первом собрании был намечен план работы (к моему неудовольствию, не избирался президиум, не назначалось руководство, а просто выбиралась пьеса и распределялись роли).
Здесь нельзя не вспомнить о расцвете театральной самодеятельности в Ленинградском электротехническом институте, где учился Женя. Там, в спектакле-ревю "Весна в ЛЭТИ", впервые о себе заявили ансамбль "Дружба" во главе с А. Броневицким и совсем юная Эдита Пьеха. Мой брат, его друзья Игорь Нагавкин, Володя Прошкин - тоже были участниками этого спектакля. В какой-то степени этот факт их жизни сыграл "роковую" роль: перед дипломным курсом они бросили ЛЭТИ и... поступили в театральный институт. Кстати сказать, Жене несколько навредило то, что он был племянником Меркурьева. Профессор Б. В. Зон, который набирал курс, не допустил Женю после третьего тура к конкурсу, полагая, что, раз Василий Васильевич ему не позвонил, значит, он против того, чтобы его племянник становился актером. Это прояснилось после папиного звонка. Женю благополучно приняли, он с отличием окончил институт (кстати, он всегда учился только на "отлично", школу он тоже закончил с медалью), поехал по распределению на Камчатку, где стал любимым актером. Потом вернулся в Ленинград. Дальше судьба его бросала. Поскольку он приехал с Камчатки когда в театрах уже были сформированы труппы, он смог поступить только в ТЮЗ. А это - не его театр! И З. Ко рогодский - не его режиссер! Он "не видел" Евгения Меркурьева! Так прошли долгих семь лет. И толь ко когда Женя ушел к Ефиму Падве, он по-настоящему расцвел. Сейчас Евгений Петрович Меркурьев - заслуженный артист России, лауреат Государственной премии России, один из ярких актеров петербургской сцены. И никто не пытается его сравнивать с гениальным дядей, а воспринимают как самостоятельную актерскую личность.
Для меня же Женя с самого детства был авторитетом непререкаемым. Если мне в споре с кем-нибудь нужен был последний аргумент, я говорил: "А мне Женя сказал..." - я был уверен, что уж этот аргумент - абсолютно убедительный. Женя - человек талантливый и генетически воспринял от своих родителей (Петра Васильевича Меркурьева и Ларисы Гавриловны Веденской) скромность, доброжелательность и совестливость.
ТЬМА РАССЕИВАЕТСЯ
Наступил год 1956-й. Он был для меня очень разным. Но помню его очень отчетливо, почти детально и, что удивительно,- по месяцам.
Чуть ли не в новогоднюю ночь умер главный режиссер Большого драматического театра имени Горького, народный артист СССР Константин Павлович Хохлов. Он пробыл на этом посту совсем недолго (когда родители ставили "Гостей", Хохлов еще жил в Киеве). Как говорил сам Константин Павлович, в Ленинград он приехал помирать, на родину (когда-то Хохлов был актером Александринского театра, потом уехал на Украину, был там главным режиссером Русского театра). Его пребывание в БДТ никакими победами не отмечено. Театр продолжал катиться по наклонной вниз, спектакли ставились для публики неинтересные, политики какой-либо Хохлов не предложил. (Все это я очень хорошо запомнил из разговоров директора театра Мехнецова с моими родителями). Перед самой смертью Хохлов, кажется, собирался ставить "Кремлевские куранты" Погодина. И вот буквально сразу после смерти Хохлова к родителям пришла делегация от БДТ: Мехнецов, Полицеймако, Николай Павлович Корн с просьбой выручить театр и поставить этот спектакль.
Для мамы это было опять спасением! Родители бурно включились в работу (а спектакль надо было выпустить чуть ли не за два месяца - к ХХ съезду партии). Художником спектакля уже был приглашен М. С. Варпех, композитором родители пригласили Ивана Ивановича Дзержинского. Репетировать спектакль начали В. П. По лицеймако (Забелин), В. Т. Кибардина (Забелина), а роль Ленина репетировал В. А. Мехнецов - он уже играл Ленина и в Театре имени А. С. Пушкина, в спектакле "Незабываемый 1919-й", и в БДТ - в "Прологе" А. Штейна.
В нашем доме воцарилась атмосфера счастья, тем более что и Катя, как показалось, выздоровела.
8 февраля умерла мамина ближайшая подруга Вера Васильевна Чернова-Кюбли де Монар. Это событие очень подействовало на всех: Вере Васильевне было всего 48 лет.
Здесь я сделаю отступление и расскажу о Вере Васильевне, поскольку на нас, детей, она оказала огромное воздействие, которое чувствуется и теперь, спустя более чем 40 лет.
Однажды (кажется, это было в 1951 или 1952 году), когда у нас в квартире шла огромная перепланировка и мы все жили в одной комнате, как-то мама пришла вместе с высокой женщиной, у которой были крупные черты лица, очень мягкие движения. В больших черных глазах этой женщины были одновременно и доброта, и грусть, и юмор, и боль.
Мы с Катей продолжали играть в какую-то шумную игру, но искоса на женщину поглядывали. Она же открыто за нами наблюдала с доброй, чуть иронической улыбкой.
Когда я в очередной раз посмотрел на женщину, она спросила:
- Что ты так на меня смотришь?
- А как вас зовут? - спросил я.
И с того дня Вера Васильевна стала для нас очень близким другом. Мы ждали ее прихода, как ждут прихода волшебника, Деда Мороза, или еще какого-нибудь доброго друга. Она великолепно делала кукол, знала массу интереснейших историй. Все она делала размеренно, очень тщательно, и мы, невольно подражая ей, эту тщательность перенимали. Говорила Вера Васильевна тихим голосом, не спеша. У нее было удивительно выразительное лицо и богатая мимика. Я до сих пор помню, как у нее "двигается парик" (нет, нет! - парика она не носила! Двигались волосы, когда она морщила лоб). Потом и мы научились этому.
Однажды Вера Васильевна меня спросила:
- А ты умеешь двигать ушами?
- Да! - радостно ответил я и "явил свое уменье".
- Ну, теперь я знаю, кто ты,- сказала Вера Васильевна.
Тут и до меня дошло! А ведь она не сказала "осел". Если бы она сказала... Нет, тогда она не была бы Верой Васильевной.
Фантастического терпения был человек! Болела Вера Васильевна ужасно! Приступы бронхиальной астмы с каждым днем у нее становились сильнее и сильнее. Однажды я пришел к ней домой (а жила она в Басковом переулке, кстати, в том доме, в котором вырос наш президент В. В. Путин), она лежала совершенно без сил после только что купированного приступа:
- Передай маме, что и сегодня мне удалось не умереть.
Вера Васильевна заразила нас страстью к кукольному театру. Кукол мы делали под ее руководством - из хлеба вылепливали головы, потом обтягивали их проклеенной марлей, а когда они высыхали, разрисовывали гуашью. Туловища для кукол делал Федор Степанович Дорожкин - столяр из "Ленфильма", он тоже часто у нас бывал и на даче, и дома. И туловища кукольные он делал очень подробно: руки у них были на пружинках, шея поворачивалась. И ставили мы кукольные спектакли.
Помню, как в одном спектакле, я сказал за своего героя:
- Не видать тебе принцессы, как своих уш.
Потом поправился:
- Своих ух.
И еще поправился:
- Своих ухей.
Весной 1955 года и папа и мама одновременно оказались в больнице. Папа с диабетом, а маме делали гинекологическую операцию. И с нами, детьми, жила Вера Васильевна. Каждый день она подробно записывала все свои расходы в особую тетрадочку, чтобы отчитаться перед мамой (хотя мама никогда и не спросила бы ее о расходах. Более того, даже когда Вера Васильевна ей пыталась рассказывать и показывать расходы, мама слушала крайне невнимательно. Ее совершенно это не волновало. Сама, конечно же, истратила бы гораздо больше - и она это хорошо осознавала). Ходила Вера Васильевна со мной в Пушкинский театр получать папину зарплату, терпеливо ждала, пока чуть ли не все актеры объяснят мне, что болезнь у папы не опасная, что теперь есть такое средство, как инсулин.
По утрам Вера Васильевна нас поднимала в школу, готовила нам завтрак, ходила в школу на родительское собрание, просматривала домашние задания. А летом, когда уже родители вышли из больницы и мы все уехали на дачу, Вера Васильевна поехала с нами. И, по-моему, впервые в истории нашей дачи была собрана вся красная смородина! (Обычно сбор этого урожая забрасывался на середине, и смородину склевывали птицы или она просто осыпалась). И здесь мы получили тихий урок тщательности, подробности, добросовестности.
Собственно, после смерти нашей бабушки, уход которой я не воспринял как трагедию, кончина Веры Васильевны была первым ощутимым ударом, первой встречей с неизбежной бесконечностью. И поэтому, наверное, в деталях помню тот день 8 февраля, когда позвонила племянница Веры Васильевны, В. В. Малахиева (замечательный художник-скульптор Ленинградского театра кукол) и сообщила о смерти нашей дорогой Кюбли де Монар. Папа грустно сказал тогда:
- Отмаялась...
Вот написал я о Вере Васильевне и подумал: ведь читатель ждет от меня "громких" имен, а я все - о Вере Васильевне, еще о двух тетях Верах, о тете Гале, да о столяре Федоре Степановиче. Но, поверьте, все эти люди, которые были близкими нашей семье, не менее (а иногда и более) заслуживают биографии, чем иные артисты и писатели с громкими именами. А потому, прошу Вас, уважаемый читатель, если это возможно и если убедит Вас мною написанное: проникнитесь хотя бы частью той любви к людям, о которых я пишу, какую испытываю к ним я, какую испытывали к ним мои родители. Это и был круг их общения, среда их обитания. Среди самых близких папиных друзей были водолаз Николай Иванович Тихомиров - едва ли не самый близкий друг последних 19-ти лет папиной жизни, полковник Геннадий Иванович Гончаров начальник той воинской части, которая располагалась вблизи нашей дачи, шофер Леонид Петрович Остапенко и его жена Клавдия Федоровна, бывшие почти что членами нашей семьи, генерал Ленинградской милиции Иван Владимирович Соловьев, инженеры Валентин Павлович Андреев - друг папиного детства, и Федор Павлович Масленников - самый близкий друг моего дяди, Петра Васильевича, инженер Борис Николаевич Павловский, юрист, папин земляк, Борис Пантелеймонович Румянцев и его жена Мария Васильевна. И их в нашей семье любили, возможно, больше, чем коллег-артистов.
* * *
Ближе к весне 1956 года (точно не помню: то ли это был конец февраля, то ли самое начало марта) позвонил Леонид Сергеевич Вивьен. Это было явлением из ряда вон выходящим - Вивьен почти никогда не звонил нам. Если что было нужно, он мог это сказать папе в театре. А здесь он попросил к телефону маму:
- Ирина! Поздравляю! Полностью реабилитирован Всеволод Эмильевич.
Рассказывают, в тот же вечер Вивьен пришел в Ленинградский Дом искусств, прервал своим выходом на сцену шедший там вечер и сказал примерно следующее:
- Товарищи! Я думаю, вы меня извините, когда узнаете о причине моего вторжения на сцену. Только что мне сообщили из Москвы, что полностью реабилитирован Мейерхольд.
Одни вспоминают, что зал встал и разразился бурной овацией. Другие что зал встал в скорбном молчании. Я там не был. Да и не важно это сейчас! Важно то, что Мейерхольд реабилитирован, а ленинградцам об этом сообщил Вивьен. Тот самый Вивьен, который никогда не скрывал своего уважения и, более того, восторженного отношения к Мейерхольду; тот самый Вивьен, который не разбивал бюста Мейерхольда, стоявшего у него на столе, не снимал со стены портрета, не сжигал книги. Тот самый Вивьен, который, если при нем говорили о Мейерхольде плохо, перебивал говорящего словами:
- Я не знаю, чем провинился Мейерхольд, но режиссер он был гениальный.
Безусловно, мужественный был это человек. Папа был абсолютно предан Вивьену буквально с первых дней учебы у него и до самой смерти Леонида Сергеевича, хотя оснований для обид на своего учителя у Меркурьева было предостаточно.
Весной 1956 года родители должны были выпустить спектакль "Кремлевские куранты". Он уже был готов, но тут произошло назначение главного режиссера Большого драматического театра. Им стал Георгий Александрович Товстоногов. Тут же сняли и Василия Алексеевича Мехнецова с поста директора. Директором назначили Георгия Михайловича Коркина. Даже пошел анекдот: "За большие заслуги БДТ награжден двумя Георгиями".
Товстоногов пришел смотреть прогон "Кремлевских курантов" и не пропустил спектакль. На обсуждении он сказал только одну фразу:
- Это должен быть эпический спектакль.
Родители были подавлены. Эта история послужила поводом к тому, что родители очень долгие годы слышать не могли фамилию "Товстоногов". И даже много лет спустя, когда, казалось бы, должна была рана затянуться, они не могли простить Товстоногову этой обиды. А, собственно, Товстоногов не хотел их обижать. Он пришел в театр со своей программой, со своим видением театра. Да, он очень жестоко входил в театр. Были уволены несколько актеров (один из них, Г. П. Петровский, даже покончил жизнь самоубийством, одна актриса вскрывала вены, одна попала в психиатрическую больницу). С Товстоноговым из Театра имени Ленинского комсомола в БДТ пришли Евгений Алексеевич Лебедев, Олег Валерианович Басилашвили, Татьяна Васильевна Доронина, из других театров перешли очень хорошие актеры - Павел Петрович Панков и Николай Николаевич Трофимов - из Театра Комедии, откуда-то возник Иннокентий Михайлович Смоктуновский - никому не известный актер.
Первые же постановки Товстоногова привлекли в Большой драматический огромное количество зрителей - беспрецедентное! Ни один ленинградский театр таким успехом похвастать не мог. Маму мою это угнетало, папу угнетало мамино состояние. В БДТ они не ходили, спектаклей Товстоногова смотреть не хотели. Довольно долго. Но однажды они пошли на "Три сестры". Пришли со спектакля восторженные. Отец даже позвонил Товстоногову и поздравил его. Мать мне говорила об игре Дорониной восторженно, и даже показывала, как Доронина говорила свое "В Москву! В Москву!". "Иркутскую историю" мать не приняла, хотя ей понравились Доронина, Смоктуновский, Семенов, Макарова и Юрский. А я посмотрел "Идиота" со Смоктуновским. Описать свои впечатления не берусь. Здесь нужна музыка, которая, как известно, начинается там, где кончается слово. Тогда я понял, что Смоктуновский - гений. Прошло сорок лет, и я свою оценку не изменил. Да, он гений. Как Моцарт, как Данте, как Пушкин, как Раневская.
Чтобы закончить рассказ о Товстоногове, скажу, что через несколько лет отец встретился с ним в работе - отца вводили вместо Толубеева в "Оптимистическую трагедию". Товстоногов практически не работал с отцом, не делал ему замечаний, не высказывал никаких эмоций по поводу его игры. Мне кажется, что этот ввод был ошибкой и театра, и Меркурьева. Спектакль ставился из расчета на индивидуальность Толубеева, шел несколько лет с Толубеевым, и попытка уложить такую яркую индивидуальность, как Меркурьев, в толубеевское (не хочу сказать "прокрустово") ложе была бесперспективна.
Мне очень жаль, что в 1956 году родители, не познакомившись даже с Товстоноговым, сразу с ним вошли в конфликт. От этого потеряли обе стороны.
Для меня 1956 год стал знаменательным еще по одной причине. В весенние каникулы меня впервые отпустили в Москву. А я так давно мечтал об этом! Я столько слышал о Москве, мне даже снилась Москва. Помню, когда к нам на дачу приехала семья Петра Мартыновича Алейникова, я бесконечно расспрашивал у его тещи о Москве:
- А где вы в Москве живете? На Большой Якиманке? А из вашего окна Кремль виден? А бой кремлевских курантов вы слышите?
И вот - совпало! Папа едет на "Мосфильм" сниматься в картине "Летят журавли", а меня берет с собой. Встал вопрос: где мне жить? Мама не хотела, чтобы я жил у тетки, Татьяны Всеволодовны Воробьевой: никак сестры между собой не могли что-то поделить. Это осталось у них на всю жизнь (ох уж эти сестринские характеры!). И тут мама сказала:
- Я позвоню Шурке Москалевой.- И она звонит в Москву.
К телефону подошел Лев Наумович Свердлин. Сначала мама поговорила с "Левушкой", а потом к телефону подошла "Шуренька".
- Примешь моего Петьку на каникулы?
- Конечно, приму! - ответила Александра Яковлевна.
Так я попал в семью Свердлиных, да и, можно сказать, остался в ней на всю оставшуюся жизнь.
СВЕРДЛИНЫ
Лев Наумович, в отличие от моего отца, не имел никакого хобби. Василий Васильевич любил рыбалку, любил копаться в земле. Льва Наумовича с трудом удавалось вытянуть на улицу просто погулять. Если Льва Наумовича просили куда-то позвонить, чтобы за кого-то попросить, он откликался на это всем сердцем, но сделать звонок - было для него страшным испытанием: он долго к этому готовился, чуть ли не писал текст. Ему казалось, что его не знают, что ему откажут. Василий Васильевич звонил сразу, умел убедить собеседника. Лев Наумович не имел организаторских способностей - Василий Васильевич обладал ими в огромной степени.
Для Василия Васильевича было почти безразлично, что съесть на завтрак, что на обед. Лев Наумович был очень придирчив в еде. Василий Васильевич мог не обратить внимания на отсутствие пуговицы на рубашке, а уж тем более на то, что не так разглажен воротничок. Льва Наумовича такая небрежность приводила в ярость (при том, что был он человеком добрейшим!). В Льве Наумовиче совмещались "мягкость и неукротимость, долготерпение и непокорство, тишина и взрывчатая сила" - так писал о нем Даниил Семенович Данин, один из последних друзей Свердлина, обретенных им в самый страшный период жизни - незадолго до трагической развязки.
Василий Васильевич мог одновременно делать несколько дел - Лев Наумович погружался в свою работу полностью и с большим трудом переключался на что-то другое. Для Льва Наумовича и профессия, и хобби были едины: он жил только театром. И, конечно же, своей Шурочкой - самым близким другом, женой, матерью единственного, и, увы, так рано потерянного сына.
Лев Наумович органически не переносил перестановок в квартире (Александра же Яковлевна очень любила "переезжать" мебелью по квартире). Василий Васильевич спокойно относился к перестановкам (которые очень любила Иришечка), или, скорее, терпел их. В доме Меркурьева - Мейерхольд главенствовала Иришечка, и спорить с ней было бесполезно. В доме Свердлина - Москалевой, хотя и главенствовала, конечно же, Александра Яковлевна (Шурочка), но никак своего "главенствования" не показывала, ничем не раздражала своего мужа. И никогда с Львом Наумовичем не спорила. Помню, как-то Лев Наумович на что-то очень раздражился, нашумел, накричал... Александра Яковлевна абсолютно молча это восприняла, а когда Лев Наумович выскочил из комнаты, Александра Яковлевна пошла за ним, но при этом показала мне характерный жест: отвела руку назад, изобразила своей кистью собачий хвост и повиляла им. Только с юмором! Только с добротой! И никогда - с желанием самоутверждения.
Иришечка была другая. Но юмора и доброты и у нее было чрезмерно!
Александра Яковлевна Москалева была человеком невероятно мудрым, терпеливым, добрым. Я даже не могу назвать ни одного ее человеческого недостатка. Сколько бы ни пытался! Актриса была замечательная. Мои сверстники и те, кто постарше, хорошо помнят ее роли: Вонлярскую в "Побеге из ночи", Дергачеву в "Персональном деле", Суходолову в "Сонете Петрарки". А как она блестяще играла гротескные роли в штейновском "Океане", в "Кавказском меловом круге"! А чего стоила ее Бабушка в "Родственниках", где после фразы "Свадебный катафалк прибыл" зал взрывался овацией! Незабываемо играла Александра Яковлевна Кабаниху в "Грозе". Совершенно по-другому, нежели Пашенная или Глизер. Москалева играла абсолютно органично, более того - она оправдывала Кабаниху как хранительницу чести семьи, а образ от этого становился еще страшнее. А как очаровательно, музыкально играла она Бережкову в "Кресле № 16" - ей-богу лучше, чем Бабанова, которой эта роль не удалась! (Мария Ивановна в старости была уже не той Бабановой, которую помнят зрители театра Мейерхольда, или Театра Драмы, где она играла арбузовскую "Таню"). Но не повезло Александре Яковлевне - играла она всегда, что называется, "второй", а посему и вся критика, и основная "театральная" публика отмечала первых исполнителей. Сама Александра Яковлевна, казалось, это не очень переживала, но Лев Наумович страдал от этого ужасно! Перед спектаклями, в которых была занята Александра Яковлевна, Свердлин обзванивал всех, кого только можно, звал в театр и говорил, что Шурочка играет замечательно! Александра Яковлевна на это смотрела критически, но, конечно же, с благодарностью. Последняя совместная работа Льва Наумовича и Александры Яковлевны - спектакль "Душа поэта" О'Нила, который ставил сам Лев Наумович (первая и последняя его режиссерская работа).
Когда я первый раз попал в дом Свердлиных, мне было 13 лет. Я приехал в Москву и почти не выходил из дому, не бродил по Москве, а хвостом ходил то за тетей Шурой (так я звал ее много лет, потом к этому добавилось еще "матушка"), то за дядей Левой. Из московских театров я "осваивал" только Театр имени Маяковского, знал там все спектакли, имел свое, подчас слишком суровое мнение, чем вызывал "тревогу" в доме Свердлиных: они мне подыгрывали и "всерьез" просили не увольнять того или иного артиста, мотивируя просьбу тем, что артист, узнав, что я смотрю спектакль, очень разволновался, зажался...
Рядом со Свердлиными я прожил много лет. В 1969 году я хоронил Льва Наумовича, который умер 29 августа от рака поджелудочной железы. В год смерти он успел сняться в замечательной роли - сыграл Грэгори Соломона в миллеровской "Цене" у Михаила Калика. Сам он фильм уже не увидел.
Александра Яковлевна пережила мужа на 8 лет. Неоднократно она говорила, что если вдруг заболеет неизлечимой болезнью, то, чтобы не быть обузой для близких, примет снотворное. А здесь скажу, что помимо мужа, Александра Яковлевна похоронила своего шестнадцатилетнего сына, умершего на ее руках в 1945 году, на ее руках от рака умер и ее отец, Яков Семенович, угасла в 1952 году 88-летняя мама, Вера Васильевна. Тетя Шура была спортсменкой, в свои 74 года была очень подвижной, делала жестокую гимнастику, практически никогда не болела. И вдруг... Она стала худеть, слабеть, а самое главное - потеряла присущий ей оптимизм и даже юмор, который был едва ли не главной составной частью ее натуры. Я был свидетелем ее угасания. Все друзья обеспокоились, повели ее к врачам (чего она терпеть не могла):
- Ну их, этих врачей! Обязательно что-нибудь найдут! - говорила она.
Врач-онколог сказал ей:
- Не волнуйтесь, надо пройти обследование.
- А в чем оно будет заключаться? - спросила тетя Шура.
- Надо проглотить кишку, потом...
Тетя Шура не дослушала.
Я в это время снимался у Марка Семеновича Донского в "Супругах Орловых" в Серпухове. Мы с Ириной Борисовной Донской ежевечерне звонили тете Шуре. Накануне воскресенья 17 июля 1977 года мы позвонили, тетя Шура поникшим голосом сказала, что в понедельник ей надо пройти серьезное обследование, что сегодня она ляжет спать пораньше, чтобы мы ей поздно не звонили и с утра звонили бы не очень рано.
На следующее утро я был в Москве и сразу с Курского вокзала позвонил. Никто не отвечал. Я все понял. Тут же позвонил Лазареву с Немоляевой - они уже побывали в квартире.
Тетя Шура оставила паспорт, деньги, костюм, в котором ее надо было похоронить, завещание и письмо: "Я прожила большую жизнь и больше не хочу жить. Умоляю! Не пытайтесь меня спасти - это будет большой жестокостью". Дальше в письме она благодарила всех поименно, кто сделал ей добро - и это был огромный список. Потом - подробная расшифровка завещания (чтобы никто, не дай Бог, не был обижен!). По завещанию мне, например, досталась вся библиотека. Те самые книги, по которым осваивал я великую литературу.
Тетя Шура читала безумно много! Она выписывала все журналы (тогда с зарубежной литературой можно было знакомиться только по ним. Да и с новой нашей литературой - Граниным, Айтматовым, Дудинцевым - только по "Новому миру"). Книги тогда достать было трудно, на них записывались, их разыгрывали в лотереях. Но у Свердлиных они были. Как-то тетя Шура спросила меня:
- Петр, почему ты так мало читаешь? Я все время около твоей кровати вижу только "Мастера и Маргариту". Посмотри, сколько я за это же время прочла?
И в другой раз:
- Чего это так Ильф и Петров растрепались?
Я ей отвечаю:
- Матушка, так ведь книги-то бумажные, вот и треплются.
- Ну да, только что-то Анатоль Франс уже сколько лет как новенький стоит.
А я ей в ответ:
- Матушка, вот вы все время читаете. А когда вы думаете над прочитанным?
Тетя Шура посмотрела на меня, лукаво улыбнулась и ответила:
- Уел. Один - ноль в твою пользу.- И отправилась читать "Мартовские иды".
Свердлин читал мало. Газеты он просматривал очень внимательно, но, как выяснялось, почти ничего в них не замечал. Видимо, он их просматривал просто по традиции. В политике разбирался очень плохо. И часто попадал впросак. Был случай на похоронах Сталина, когда Свердлина, как одного из исполнителей роли вождя (кстати, это была замечательная его работа), допустили стоять в почетном карауле. Он попал в одну "восьмерку" с Ильей Эренбургом. Когда они уже отстояли свое время у гроба и направлялись в комнату за сценой Колонного зала, Свердлин тихим голосом сказал Эренбургу:
- Я вас поздравляю! - Он имел в виду недавнее награждение Ильи Григорьевича орденом Трудового Красного знамени.
Эренбург резко повернулся и зашипел:
- Тише вы!
Свердлин даже обиделся. Но только дома он понял, что натворил. Слава Богу, никто больше этого не слышал. Кстати, в доме Свердлиных отношение к Сталину было такое же, как и в нашем. И даже более откровенное. В 1947 году, когда был выпущен очередной внутренний государственный заем, мама Александры Яковлевны, восьмидесятитрехлетняя дворянка Вера Васильевна Москалева, сказала:
- Шурочка, я тут стихи написала.
Вот эти стихи:
Благодарим, родной отец,
Что обобрал ты нас до нитки.
И прожилися мы вконец,
И продали свои пожитки,
Но подписались на заем,
Тебе мы славу все поем.
Двоюродная сестра тети Шуры, замечательный человек, Нонна Попова, с которой мы дружим и по сей день, в отличие от нас, к Сталину всегда относилась в высшей степени положительно. Ну что делать! В каждой избушке свои игрушки! Однажды Нонна пришла к тете Шуре, а та с блаженством смотрит по телевизору выступление Муслима Магомаева - очень его любила! Нонна говорит:
- Не понимаю тебя, Шура, как тебе он может нравиться?
Тетя Шура очень спокойно парировала:
- Ты любишь Сталина, я - Муську.
В театре Маяковского было много "мейерхольдовцев". Прежде всего - сам Николай Павлович Охлопков, главный режиссер театра. Незадолго до моего первого появления в Москве Охлопков поставил "Гамлета", потрясшего не только театральную Москву, но и всю страну. На "Гамлета" приезжали из других городов. Главную роль играл Евгений Валерианович Самойлов - тоже ученик Мейерхольда. Полония блистательно играл Свердлин. В театре Маяковского работали и другие "мейерхольдовцы". Поэтому, когда я появился, был некоторый шок. В гримуборную Свердлина заглядывали люди, и только что не крестились. Кто-то даже сказал: "Мистификация! Как похож!" И только в Москве, тогда, в 1956 году, я стал понимать, кто такой Мейерхольд. Помню реакцию Ю. А. Завадского, когда он увидел меня в Доме актера, куда меня привели Свердлины. Он схватился за подбородок и впился в меня глазами. А Эраст Гарин встал как вкопанный и прокричал: "Мейерхольд!!!"
И о Мейерхольде я стал узнавать уже не только от своих родственников (нет пророка в своем отечестве! Рассказы мамы ведь всерьез не принимаются это не только у меня, у всех! Мы с сестрами посмеивались, когда мама рассказывала о дяде Артуре, о его имении, о животных, которые там жили; когда мама рассказывала о тете Маргот, которая Маргарита Эмильевна, или о дяде Володе, то есть Владимире Эмильевиче,- мы тоже воспринимали эти рассказы как о каких-то абстрактных родственниках. Ну и что же, что они были братьями и сестрами нашего дедушки! А Всеволод Эмильевич Мейерхольд для нас был тогда только лишь дедушкой, которого незаконно арестовали).
Однажды Александра Яковлевна мне рассказала, как она и еще многие актрисы театра Мейерхольда вдруг расстались с театром. Их уволили без всякого объяснения причин.
- Но я на Старика никогда не обижалась. Значит, не видел он нас.
Я спросил ее:
- Матушка, а может быть, вам тогда просто казалось, что он такой гениальный, поскольку вы были молодыми, а он уже в возрасте? Может, Охлопков сейчас для молодежи то же самое, что для вас был Мейерхольд?
- Ну что ты! Ну, во-первых, у Мейерхольда была такая эрудиция, что к нему обращались за консультацией академики. Он мог прочитать лекцию не только по театру, литературе, но и по музыке, архитектуре, астрономии, физиологии. И все - блестяще. Мог вступить в спор с самыми крупными специалистами и в споре побеждал! А какая у него была фантазия! И потом: до него ведь режиссуры, как профессии, просто не существовало! Нет, сейчас просто нет таких.
Тетя Шура была образованнейшим музыкантом. Великолепно играла на рояле. Правда, в последние двадцать лет к инструменту не подходила. Однажды попробовала сыграть каденцию Первого фортепьянного концерта Шопена, а пальцы-то и не слушаются! Она засмеялась и сказала: "Вот пойду на пенсию, начну снова заниматься на рояле". Музыку знала замечательно, но очень долго не воспринимала Шостаковича. Однажды, когда в Москве гастролировал Мравинский, мы пошли с ней и слушали две Пятых симфонии: Чайковского и Шостаковича. После концерта домой возвращались молча: и Шостакович, и Мравинский потрясли.
МАРК ДОНСКОЙ,
ИЛИ КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
НА КРЫШЕ
- Ирина, принеси белое, которое мажется!
- Несу, несу, мой котик! - отвечает из кухни Ирина Борисовна и приносит творог.
- А где белое, которое сыплется?
- На, мое солнце, на, мой противный старикашка! - отвечает Ирина.
- Никогда не могу вспомнить, как это все называется,- показывая на творог и сахарный песок, говорит Донской.
- Все время придуривается,- тихо говорит Ирина.- Ну пусть играется, пусть придуривается.
- Сама дура! - тоном капризного ребенка отвечает ей семидесятилетний классик мирового кино, уникальная личность нашего искусства, Марк Семенович Донской.
Один из его помощников, режиссер Валерий Михайловский, сказал однажды:
- Донской - это Карлсон, который живет на крыше. Он всегда говорит про себя, что он лучший в мире боксер, лучший в мире врач, дирижер, композитор, юрист.
Действительно, Марк Семенович очень часто рассказывал какие-то истории, где он фигурировал и как врач, и как юрист, и как разведчик. И все тихонько, про себя, смеялись: ну нравится ему, пусть хвастает! Но время от времени вдруг возникают какие-то свидетели, которые вспоминают, как Донской дрался на ринге, как Донской накладывал шину кому-то на сломанную ногу; как Донской в годы гражданской войны проводил в крымском подполье разведывательные операции, как он блистательно вел судебные процессы. Оказывается, все это было! Но настолько несолидно выглядели его собственные рассказы об этом, что всем казалось, что Донской просто фантазирует, чтобы самоутвердиться среди окружающих. Причем единственное, чем он не хвастался, это именно самым ценным, что от него осталось,- своими кинокартинами. А ведь именно Донской - первый советский обладатель "Оскара" за кинофильм "Радуга"; именно Донского считают основоположником итальянского неореализма сами итальянские кинорежиссеры Феллини, Висконти, Антониони - они считают Марка Семеновича своим учителем. Странно, но этим он никогда не хвастался! Именно Донской сделал Марецкую, Наталию Ужвий, Амвросия Бучму всемирно известными артистами. Даже великую "старуху" Малого театра Варвару Осиповну Массалитинову во всем мире узнали после гениальной картины Донского "Детство", где она играла бабушку Максима Горького. Картина Донского "Радуга", которая вышла в 1943 году - картина невероятно жестокая, но и столь же невероятно добрая,- была показана Франклину Рузвельту. Президент Соединенных Штатов был настолько потрясен, что сразу же прислал телеграмму, в которой написал, что считает необходимым, чтобы этот фильм посмотрел весь американский народ.
Донского не волновали условности. Терпеть не мог этикетов. Озорничал на всех приемах (его даже старались не приглашать, но ведь ничего не поделаешь - классик, он и есть классик! И все чопорные чиновники вынуждены были его терпеть!).
В нашем кинематографе Донской стоит особняком. Его нельзя упоминать в перечислении. Он не встает ни с кем в ряд. Обратите внимание: когда перечисляют выдающихся режиссеров советского кино, этот ряд звучит так: Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Герасимов, Пырьев, Ромм - ну и так далее, уже по возрасту дальше идут Чухрай, Тарковский, Бондарчук. Донской "вы падает". Да, он не вписывается ни в какие ряды. И здесь, по аналогии, мне вспоминаются "композиторские ряды". Великий Римский-Корсаков писал музыку, боясь нарушить каноны гармонии и музыкальной формы. А гениальный Мусоргский плевать хотел на законы - он их сам создавал, соотносясь с жизненной ситуацией, с образами, которые хотел воплотить. Донской - это Мусоргский нашего кинематографа. Он был и Юродивым, и Царем Борисом; он был "Сироткой", и "Семина ристом", и "Озорником", и "Светик-Савишной" (прости меня, читатель, если вдруг встретишь названия произведений, которые тебе не известны. Здесь я говорю о песнях Мусоргского и его великой музыкальной драме "Борис Годунов". Не поленись: послушай эти произведения! Вреда не будет, но зато станет ясно, о чем это я рассказываю). Как говорила Ирина Борисовна Донская, "Донской ставит фильмы не головой, а пупком и позвонком". Да, он был необыкновенно эмоциональным человеком. Когда он ставил фильм, все свои знания он отправлял в подсознание, а работал чувствами, эмоциями. Я снимался у Донского дважды: в "Сердце матери" я играл маленький эпизод, а в "Супругах Орловых", последнем своем фильме, Донской доверил мне одну из центральных ролей. Работать с ним - огромная Радость! Да, да! Именно - Радость! Радость с большой буквы! Когда снимался фильм, Донскому было уже 77 лет. Но его азарт, его неутомимость были примером для самых молодых сотрудников съемочной группы.
Съемка начиналась в девять часов утра. Донской появлялся на площадке в восемь. Ни окриков, ни раздражения - только шутки и розыгрыши, которые, впрочем, не всеми понимались. Действительно, у Марка Семеновича они, эти шутки, не всегда были "элегантными". Он, как мальчишка-четвероклассник, мог кого-то облить водой, кому-то за шиворот засунуть семечки. Ну и Бог с ним! Зато во время съемки он работал потрясающе. Он обожал артистов, считал их людьми святыми, прощал им все, даже оскорбления в свой адрес (а было и такое)! Одна актриса, в высшей степени невоспитанная особа, когда у нее не очень получался эпизод, вдруг проявила свой антисемитизм. А надо сказать, так получилось, что в группе Донского было немало евреев. Это и сам Марк Семенович, и директор Марк Наумович Айзенберг, и его заместитель Ада Семеновна Ставиская, и замечательный актер Даниил Львович Сагал. Актриса эта, между прочим, очень талантливая, устроила дичайший скандал! Донской остановил съемку, уехал в гостиницу. Вся группа требовала, чтобы актрису сняли с роли, расторгли с ней договор. Донской на это ответил: "Ну что с нее взять! Несчастный человек! Она ведь не знает, что она сама чистокровная еврейка!" У всех был шок: кем-кем, но еврейкой эту актрису никто считать не мог! Да и не была она еврейкой! Но такое заявление Донского сняло все напряжение. Он что, обдумывал это? Да ни Боже мой! Вот так, как говорила Ирина Борисовна, "пупком и позвонком" почувствовал, как надо разрядить обстановку. На следующий день съемка шла как ни в чем не бывало. Актриса прощения не попросила, скандал этот забыт не был другими, но Донской вышел победителем без борьбы.
Во время съемки актерам создавались все условия: на площадке была тишина, Донской трепетал всеми фибрами своей души и своего тела, смотрел на актера такими "собачьими" глазами, что не сыграть было невозможно. Любой сыграет! Даже самый бездарный!
Когда съемка заканчивалась, актеры, исполнившие свои роли, реквизиторы, костюмеры, бутафоры, осветители, исполнившие свои обязанности, в высшей степени уставшие, шли в гостиницу и падали в изнеможении. Марк Семенович, исполнявший на съемочной площадке и актерские обязанности, и обязанности плотника, реквизитора, бутафора, костюмера, гримера, и, на всякий случай, режиссера, шел в монтажную, где еще часа четыре монтировал предыдущий материал, который был снят неделю назад. Его рабочий день завершался далеко за полночь. А в восемь часов утра почти восьмидесятилетний классик уже озорничал на площадке: рассказывал анекдоты, вспоминал, что он лучший боксер, лучший хирург, лучший юрист, лучший - все остальное, но ни слова о том, что он великий, гениальный режиссер.
Мне рассказывали и Чухрай, и Кулиджанов, что когда они были молодыми, голодными студентами, то единственным домом, куда они могли прийти запросто, где их всегда накормят, напоят, спать уложат, да еще денег дадут, был дом Марка Семеновича и Ирины Борисовны Донских. Да я и сам испытал это на своей шкуре. И не только я, но и люди более молодые в семье Донских находили прибежище.
Донской умер так же парадоксально, как и жил. Может показаться, что он сам срежиссировал свою смерть, сам смонтировал сцену своего ухода из жизни (а фильмы монтировал он гениально!). 18 марта 1981 года вышел Указ о награждении Донского орденом Октябрьской революции в связи с 80-летием со дня рождения. Я позвонил Донским. Подошла Ирина Борисовна:
- Тетя Ирочка, чем занят классик?
- Классик гоняется с ремнем за Пафиком (это собака-пекинесс).
Через три дня мы с Андреем Устиновым (тогда студентом Музыкального училища при консерватории, ныне главным редактором газеты "Музыкальное обозрение". В семье Донских Андрея очень любили) решили пойти поздравить классика (Донского мы всегда так называли). Подготовили открытку, на которой в одном углу был изображен Донской, а в другом - орден Октябрьской революции. А в середине - текст (тоже вырезанный из праздничной открытки) "Поздравляем великого". Мы были на дневном спектакле в Большом театре (я перед началом говорил вступительное слово, кажется, шла "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова), ушли после первого действия, зашли в телефон-автомат и звоним:
- Тетя Ира, мы хотим прийти.
- Приходите, ребята, конечно. А вы знаете, что Донской вчера умер?
Еще два дня после смерти Донского в его квартиру приносили взаимоисключающие телеграммы: поздравления с наградой и соболезнования в связи с кончиной.
Донские были самыми близкими, самыми верными друзьями Свердлиных. Дружба эта была абсолютно безусловной. В том смысле, что она существовала без выставления каких бы то ни было условий, была понятием круглосуточным. Вообще меня сейчас очень удивляют рассуждения о том, что-де время было другое, а сейчас нельзя людей обременять, им тяжело, за все надо деньги платить, ну и так далее. А, собственно, какое уж такое сейчас время? Чем оно тяжелее того, в котором жили Свердлины, Донские, Гарины, Меркурьевы, Германы (я имею в виду писателя Юрия Павловича Германа, его сына Лешу, всю их семью)? То время, по-моему, было гораздо тяжелее. И именно вот такая безусловная дружба людей спасала, помогала им не только выжить, но и вдохновенно и плодотворно творить. Такая дружба и помогала создавать нетленные плоды искусств, каковыми являются "Детство", "Радуга", "Фома Гордеев" Донского, Насреддин, Полоний, Косогоров и Мелоди Свердлина, книги Германа, музыка Хренникова, Соловьева-Седого, ну и так далее.
Тетя Шура (Александра Яковлевна Москалева-Свердлина) была самой задушевной подругой Ирины Борисовны Донской, но кое в чем ее мягко осуждала:
- Ирка всеядная. Она принимает таких людей, с которыми я бы рядом с... не села (тетя Шура любила крепкое словцо, если оно к месту).
Да, в доме Донских бывали люди абсолютно взаимоисключающие. "Полезных" людей в доме практически не бывало. Ни министры, ни секретари обкомов - они побаивались Донского, непредсказуемости его реакций - его своим вниманием не одаривали. Они боялись, что он может опрокинуть их "значимость". В доме Донских, наряду с Акиро Куросавой, Джузеппе де Сантисом, Столпером, Стенли Крамером, как в своем "гнезде" чувствовали себя гример Шура Пушкина, молодые режиссеры Валентин Павловский, Михаил Богин, Марк Волоцкий, рабочие студии Горького, да и вообще, порой, неизвестно кто, кому покушать захочется, либо одолжить пятерку или десятку (в большинстве своем эти "пятерки-десятки" Донским не возвращались). У Донских никогда не было дачи. Зато всегда была машина, которой, в основном, пользовался шофер Коля Казарян. Ирина Борисовна иногда униженно просила отвезти ее куда-нибудь, но Казарян делал вид, что просьбы ее не слышит. Он в это время учил Донского, как ставить фильмы. Почему Донские терпели этого нахала - до сих пор понять не могу. Нет, Ирина-то его терпеть не могла! Но у Марка была своя "алогичная логика". К Донскому можно было обратиться с любой просьбой - он обязательно помогал. Скольких режиссеров он вывел на путь истинный! Скольким помог в бытовом плане! Ездил по инстанциям, стучал кулаком, унижался - но добивался, чтобы человека прописали в Москве, либо чтобы дали комнату, квартиру, добивался для них постановок на студии Горького. Сам довольно капризный (по мелочам! В крупном он был очень крупным), если его ночью разбудить и сказать, что кому-то плохо - он не только сам вскакивал и мчался к человеку, чтобы его подбодрить и чем-то помочь, он еще поднимал всех окружающих. Сбегая по лестнице своего дома на Большой Дорогомиловской, он звонил в квартиры Калатозова, Алисовой и кричал: "Человек умирает, а они спят!"
Когда у Льва Наумовича Свердлина и Александры Яковлевны Москалевой умер их сын Юра, Донской не отходил от Свердлина ни на минуту даже ночью. Он ложился на полу около дивана, на котором лежал Свердлин, и как верный пес переживал за своего друга. Когда умер мой отец, Донской был в Ленинграде. Он после похорон пришел в больницу к моей маме и сказал какие-то такие слова (собственно, слов особых не было - междометия и восклицания), как-то так их сказал, что мама просветлела. Загадочный был человек. Сказочный. Карлсон, который живет на крыше.
Ирина Борисовна - полная противоположность Марку Семеновичу. Образованнейший, необычайно веселый, жизнерадостный человек. Читала очень много.
- Петька, я тут взяла детектив, чувствую, что не очень легко читается. Оказывается, он на итальянском! А я думала, что на французском. Но быстро привыкла и дочитала с удовольствием.
На немецком говорила абсолютно свободно, без проблем справлялась и с английским, и с французским. Причем читала, даже когда готовила обед. Могла читать и во время разговора с кем-нибудь. Эрудиция у Ирины была невероятно широкой. Она знала, например, при какой площади комнаты лучше клеить обои, а при какой - окрашивать стены краской. Могла объяснить принцип работы реактивного и турбовинтового двигателя. Замечательно разбиралась в земледелии. Была прекрасным сценаристом, но из-за мужа своего всегда оставалась в тени (вот еще одно отличие Марка Семеновича от Свердлина и от моего отца: те за творчество своих жен могли глотку перегрызть). По сценариям Ири ны Донской Марк Семенович поставил "Здравствуйте, дети!", "Сердце матери", "Верность матери", "Надежда", но когда выдвигали "Сердце матери" на Государственную премию СССР, сам вычеркнул фамилию Ирины из списка и премию получили Зоя Воскресенская, Марк Донской и исполнительница роли Марии Александровны Ульяновой Елена Фадеева. Конечно же, Ирине это было обидно - она и не скрывала этого, но легкость ее характера и природная мудрость помогали обиду в сердце не лелеять и не взращивать. Очень иронически относилась Ирина к той серьезности, с которой Марк носил звезду Героя Социалистического труда (кстати, Донской был первым кинорежиссером, удостоенным этого звания):
- Марик, ты только на пижаму звезду не надевай - после нее штопать очень неудобно.
Когда на съемках возникало напряжение, то разряжать его звали Ирину. Идет она через съемочную площадку со своей собачкой-пекинессом на руках, а Донской орет:
- Ты куда, дура, прешь?!
- К тебе, мое солнышко, к тебе, моя радость! - отвечает Ирина, и напряженность как рукой снимает.
Вообще, здесь хочу сказать, что людям моего поколения повезло несказанно - мы были свидетелями расцвета творчества гигантов мирового музыкального искусства, к коим я, например, причисляю Гилельса, Рихтера, Ойстраха и Мравинского. Пожалуй, это самые великие музыканты ХХ столетия.
О Мравинском хотелось бы рассказать особо.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА
Большим другом нашей семьи была известная ленинградская театральная художница Елизавета Петровна Якунина. Талантливый мастер, одна из основательниц Ленинградского ТЮЗа, энергичный, обаятельнейший человек, в последние годы своей жизни она мужественно переносила тяжелый недуг полиартрит, поразивший ее ноги и руки. Но с кистью, карандашом и юмором Елизавета Петровна не расставалась. Как все мальчишки в шестнадцать лет я был достаточно легкомыслен, но к пожилым людям меня почему-то тянуло, и с ними всегда быстро находился общий язык. Подружился я и с Елизаветой Петровной. Целое лето жила она у нас на даче, много трудилась. Я ей позировал - так появились четыре моих портрета: два нарисованные сангиной, два - пастелью. И тогда же Елизавета Петровна поведала мне историю одной своей работы.
Во время войны Якунина, как и мои родители, жила в Новосибирске. Там же, в эвакуации, находилась и Ленинградская филармония во главе с Евгением Александровичем Мравинским.
- Красив он был необыкновенно! - восклицала Елизавета Петровна.- Это сейчас он, как общипанный петух: сморщенная шея, волос чуть-чуть. А тогда!.. И захотела я написать портрет Евгения Александровича. Задумала нарисовать его сангиной. Люблю эту технику: теплый тон карандаша как нельзя лучше приближает к живому. Придя к Мравинским, застала лишь жену Евгения Александровича - Ольгу Александровну. Она была веселым, общительным человеком. С нею любой чувствовал себя так легко! Люди прямо таяли от ее обаяния. Я ей объясняю цель визита, а она мне: "Ой, что вы! Он такой несговорчивый! Он ни за что не согласится позировать!" Тут как раз входит Мравинский и укоряет: "Олечка, зачем же ты меня шельмуешь? Я с радостью буду позировать Елизавете Петровне. Только не много и не специально". Условились мы с ним на завтра.
В назначенный час Ольга Александровна встречает меня и палец к губам прижимает: "Тсс! Женя раздражен чем-то. Что-то у него не ладилось на репетиции - их посетил какой-то начальник, который в музыке не смыслит, а Женя его выгнал. Пришел домой, сорвал простыни с кровати, швырнул их на пол, лег на голый матрац. До сих пор не вставал". Слышу, за дверью шевеленье. Выходит мрачный Мравинский. Поздоровался со мной нехотя, однако спросил: "Где вам будет удобнее рисовать?" Тотчас определяю место, начинаю искать ракурс... Но Евгений Александрович, садясь на стул, заявляет: "Я так буду сидеть. Сколько времени вам нужно?" Отвечаю: "Как пойдет..." А он: "Два часа хватит?" Я промолчала и укрепила лист на планшете.
Рисовать начала сразу. Два часа мы работали в полной тишине. Я не привыкла к такому - обычно с теми, кто мне позировал, всегда разговаривала, человек менял даже позу: мне важны ведь не только линии, не только внешний облик, но и внутреннее состояние. С Мравинским получилось по-другому. Он промолчал ровно два часа, потом сказал: "Все. У меня больше сегодня нет времени. Извините. Когда вам угодно в следующий раз?" - "Завтра",- робко говорю я. "Хорошо. Завтра в это же время". И он вышел из комнаты. Тут же появилась Ольга Александровна, попросила меня посидеть немного и убежала. В ее отсутствие я нанесла кое-какие штрихи, доработала то, что можно было сделать без Мравинского. Ольга Александровна вернулась со словами: "Нервничает. Есть не стал, пошел на репетицию и строго наказал мне, чтобы я в филармонию сегодня не приходила". Она взглянула на портрет и воскликнула: "Ой, простите, Елизавета Петровна! Я понимаю, что дуракам полработы не показывают, но мне очень нравится!"
На следующий день Евгений Александрович меня уже ждал сам. Он был в хорошем расположении духа. Спросил: "На чем мы остановились?" Я пошутила цитатой из "Бани" Маяковского: "На "итак, товарищи",- и развернула набросок. Мравинский не взглянул, а только сказал: "Не надо. Дуракам полработы не показывают". Сел в ту же позу, что и накануне. И опять - два часа в полном молчании.
На этом сеансы закончились, портрет я доработала сама. Принесла его Мравинским. Евгений Александрович посмотрел очень внимательно и произнес: "Похоже". Я была ошарашена - мне казалось, что рисунок очень удачен и заслуживает более высокой оценки. Я сказала: "Хочу подарить его вам". "Спасибо". И Мравинский поцеловал мне руку. Ольга Александровна вся светилась, говорила комплименты.
Прошло десять лет. У меня готовилась персональная выставка в ЛОСХе, где я решила среди других работ представить и портрет Мравинского. Позвонила ему. Он притворился, что очень рад звонку, а на мою просьбу откликнулся сразу: "Пожалуйста, приезжайте". Дома Евгений Александрович был один. В комнате на столе лежала партитура, над которой он работал, а рядом - трубочка, которую Мравинский мне протянул. Я быстро распрощалась, а когда дома развернула трубочку, она тотчас свернулась обратно: моя работа, видимо, так десять лет и пролежала свернутой.
На выставке портрет пользовался успехом. Мравинскому я возвращать его не стала. Мы много раз потом встречались в разных ситуациях, но про рисунок мне Евгений Александрович ни разу не напомнил.
Вот такую историю рассказала мне старая художница и подарила фотографию с того самого портрета. По-моему, он замечательный!
Сам я с Мравинским близко знаком не был, однако имя его в нашем доме звучало очень часто.
Для меня Мравинский - бог, кумир, воплощение дирижера-идеала. Для меня он такой же символ Ленинграда, как Адмиралтейская игла, как Большой зал Ленинградской филармонии. Не могу без волнения слушать ЕГО музыку: строгость и стройность, глубина, которые были присущи великому дирижеру в каждом исполняемом произведении - будь то симфония Моцарта или Шостаковича, увертюра Вебера или Глинки,- производят то же художественное впечатление, что и Арка Главного штаба, что и Казанский собор: ты встречаешься с Совершенством!
О том, как работал Мравинский с оркестром должны написать артисты, которых он воспитал. О том, как работал Мравинский до выхода к оркестру, рассказать практически невозможно: надо рассказывать о каждой минуте жизни дирижера.
...Конец 50-х годов. Евгений Александрович попадает на операционный стол - ему делают резекцию желудка. Мой отец лежит в палате напротив и, когда Мравинский уже поправляется, заходит к нему. На столике рядом с кроватью - партитура.
- Как вы себя чувствуете, Евгений Александрович?
- Отвратительно. Не знаю, как теперь буду брать медь "на себя",отвечает тот, стучит пальцем по партитуре и делает характерный, только ему свойственный жест вступления медной группы оркестра.
Спустя некоторое время Мравинский, Николай Константинович Черкасов и мой отец оказываются вместе в реабилитационном отделении больницы имени Свердлова, что в Мельничьем Ручье под Ленинградом. Отец с Черкасовым много гуляют. Евгений Александрович присоединяется к ним один раз в сутки на полчаса. Иногда - с фотоаппаратом. Фотография его работы до сих пор хранится у меня - на ней папа с Черкасовым. И очень хорошо видны характеры обоих.
Когда умер Черкасов - самый близкий, если не единственный друг Мравинского (а умер он совсем не старым, всего 63-х лет),- на его похоронах Евгений Александрович дирижировал. Ни один мускул не дрогнул на его лице он так же верно служил Музыке и высочайшим профессионализмом отдавал последний долг своему Великому другу... А вспомните 1948 год. Многие ли осмеливались выступить так, как Мравинский:
- Я любил, люблю и буду любить музыку Шостаковича. Я играл, играю и буду играть музыку Шостаковича.
Да, возможно, не был Евгений Александрович "теплым" человеком. Да, не мчался он наперегонки с другими, чтобы облагодетельствовать кого-то бытовой помощью или громкими похвалами. Но сумел великий дирижер сделать так, что каждый его концерт был... нет, не праздником, не просто событием, а явлением высокого нравственного порядка. И не заигрывал он со слушателем, не играл ему на потребу, не заботился и о том, "чтобы буфет поработал". Взять хотя бы его концерты в одном отделении: Восьмая симфония Шостаковича, Восьмая или Девятая Брукнера. После этого одного отделения выходила публика на ленинградские улицы и домой шла пешком, подальше от суеты.
Умел этот Олимпиец создать несуетную атмосферу на концертах!
Переполненный белоколонный зал Ленинградской филармонии. Артисты оркестра выходят одновременно с двух сторон сцены, не спеша, но очень быстро занимают свои места. Короткая настройка - и тишина... Затихает оркестр, замирает зал. Когда тишина уже становится невыносимой, когда нервное напряжение ожидания достигает апогея, распахиваются красные бархатные занавески и крупным, неторопливым шагом под шквал оваций к дирижерскому подиуму идет строгий, сосредоточенный Мравинский. Один короткий, очень красивый поклон - и он уже спиной к залу. Волевым жестом "срезает" аплодисменты, подготавливает внимание оркестра и...
Таких ощущений я не испытывал никогда - ни на концертах Караяна, ни на концертах Абендрота. А ведь и они - великие маэстро.
Многие москвичи, вероятно, помнят последние гастроли Мравинского в столице. Та же напряженная пауза, всегда предшествовавшая его выходу; буря аплодисментов; неторопливая поступь Маэстро к пульту (а пульт приехал с ним из Ленинграда, точеный уникальный пульт!); усаживание на высокий табурет (последние годы Мравинский дирижировал сидя) - и зал наполнился мыслями Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вот уже позади три части Пятой симфонии, играется финал - и вдруг гаснет свет, остался светить только верхний, тусклый плафон. Но ничто больше не изменилось - музыка продолжала звучать идеально, публика затаила дыхание. И с победными звуками коды свет вернулся в зал.
Символы, символы. Как хорошо, когда они сопровождают нашу жизнь! Тогда она, жизнь, перестает быть будничной. Тогда тянешься к высокому, прикасаешься к великому - к Адмиралтейской ли игле, к гениальным произведениям Шостаковича исполняемым Евгением Александровичем Мравинским.
РАНЕВСКАЯ
По-моему, Михаил Ильич Ромм сказал о Раневской: "Она не человек, она - люди". Ходжу Насреддина "собирали" столетиями, Раневская умудрилась за одну жизнь "вбросить" в народ такое количество мудростей, афоризмов, какое уже может соперничать с восточным весельчаком-мудрецом. Многое Раневской приписывают, издаются сейчас всяческие сборники, где фигурируют, наряду с "подлинниками" и "подделки". Люди, знавшие Раневскую, чувствовавшие ее, эти "подделки" разоблачают. Но я считаю, что этого не стоит делать. Главное - Раневская стала народным героем, она и сейчас, через пятнадцать лет после своего ухода из жизни, необходима людям.
Я знаю, что в своем обожании Раневской я не то что не одинок - я частица многомиллионной армии людей, которые при одном упоминании имени "Фаина" улыбаются.
Раневская - одна. Она уникальна. Когда-то, лет тридцать назад, в Москве был издан четырехтомный телефонный справочник. Я с интересом листал эти фолианты, находил разные смешные фамилии, был поражен тем, что фамилия "Иванов" занимала много страниц, с удивлением обнаружил нескольких своих однофамильцев (чуть ли не целый столбец Меркурьевых), нашел нескольких Мейерхольдов (это родственники: тогда был жив еще племянник Всеволода Эмильевича, парикмахер Владимир Альбертович, был телефон и у его дочери, не менявшей фамилию), но Раневская была одна! Надо же! Семьдесят лет назад Фаина Георгиевна "угадала", какой надо взять псевдоним, чтобы он был неповторимым! Спасибо Антону Павловичу Чехову - он ведь тоже практически всегда называл своих героев очень редкими фамилиями (за исключением, конечно же, Иванова, но и здесь его выбор не был случаен. Собственно, это рассуждения для литературоведов, моя же речь о Фаине Фельдман, которая все роняла. И кто-то из подруг ей бросила фразу: "Ты как Раневская". Фаина тут же решила, что это и будет ее фамилия).
В 1966 году, когда я жил у Свердлиных, однажды Александра Яковлевна пришла с репетиции не одна - вместе с Раневской (просто встретились в Нескучном саду, а он находится напротив дома, где жили Свердлины). Мы долго сидели, обедали, болтали о том о сем. В частности зашел разговор о недавнем присвоении Раневской звания народной артистки СССР, и при этом она сказала:
- Ой, мне так неудобно перед Штраухом. Когда он позвонил меня поздравить, я ему сказала: "Макс, скоро и мы вас поздравим. Я узнала: вы подо мной и на Плятте! (Звания давались "по очереди". После Раневской должен был стать народным артистом СССР Штраух, а затем Ростислав Плятт). Но вот Славка уже получил, а бедного Макса за что-то держат, извиняюсь за двусмысленность моего выражения.
Потом зашел разговор о возрасте. Тетя Шура редко об этом говорила, так как много лет назад ее сын Юра, со словами: "Мама, ты такая молодая, а по паспорту..." - схватил материнский паспорт и исправил "3" на "9", Александра Яковлевна только руками всплеснула и "ойкнула", не успев даже удержать сына от "преступления". Так она стала гражданкой, родившейся в 1909 году, а в 1921 уже вышедшей на сцену в театре Мейерхольда. Над этим мы потом с ней много смеялись. Раневская рассказала свою историю:
- Когда я обменивала в последний раз паспорт, а мне было лет сорок, паспортистка спросила меня: "Год рождения 1895?", а я, дура, застенчиво улыбаясь, униженно сказала: "1896". Девушка улыбнулась, и сделала меня на год моложе. Зачем мне это было надо - понятия не имею. Все равно я уже и тогда старух играла, а год этот потом мне много неприятностей приносил, долгое время какие-то путаницы были.
Таким образом, у великой артистки от рождения подлинным было только имя. Родители назвали ее Фаиной. Фамилию Фельдман она сменила на Раневскую, по отчеству ее называли "Георгиевна", в то время как она была "Гиршевна" (в русском варианте Григорьевна), и родилась она не в 1896, а в 1895. Ну и что? Менее любимой от этого она не стала.
Раневская обожала внимание к себе, обожала аплодисменты. И если она говорила, что ей это совсем не нужно - это было "кокетство". Артисту не могут быть не нужны аплодисменты, без них он захиреет. Раневская все делала для публики. Даже свое одиночество она делала невероятно публичным! Это было обаятельно, за это ее обожали еще больше. Конечно же, она страдала. Страдала от невостребованности. Но, помилуйте: в этом никто не виноват, кроме Бога! Что делать, если Господь не создал в одно время с Раневской кого-нибудь равного Пушкину или Шекспиру! А одна Раневская не могла и создавать пьесы, и ставить их, и играть. Многие говорят, что, если бы Раневская жила на Западе, на нее ставили бы фильмы, для нее создали бы театр. Думаю, результат был бы почти тот же: Раневскую не смог бы "удовлетворить" даже Феллини. В силу того, что подобрать ей достойных партнеров практически невозможно. Трагедия Раневской была именно в том, что она была той Галактикой, над которой безвластно время, а все остальные миллионы людей, живших одновременно с ней, подвержены старению и умиранию.
В ту же встречу, у Свердлиных, Раневская рассказала такой эпизод:
- Приезжаю в Ленинград, на съемки "Нового аттракциона". Встречают меня прямо у трапа самолета. Идем по полю, вдруг меня кто-то сзади сильно толкает. Я падаю, поворачиваюсь на спину, а надо мной нависает огромный лев! Я так испугалась! А он, мерзавец, негодяй, помотал головой, и, видимо, не в силах преодолеть отвращения к моей роже, срыгнул на меня!
Ровно через неделю после этой встречи, я оказался на "Ленфильме" - я тогда снимался в фильме "Не забудь... станция Луговая". И в перерыве, в буфете студии, встречаю чудесную Тамару Ивановну Самознаеву - она работала директором кинокартины. Подсаживаюсь к ее столику и в разговоре пересказываю ей историю "любви" Раневской и льва.
- Ой, Фаина! Ой, вруша! - воскликнула Самознаева.- Она этого льва только издалека увидела! Его действительно вели по полю, но к Фаине он даже на пушечный выстрел не приближался!
Да, любила "Фуфа" приврать, нафантазировать! Ну что делать - ведь она Актриса! Артистка!
Если у меня когда-нибудь будет видеомагнитофон (или, как говорят сейчас, "видак"), то первая кассета, которой я обзаведусь, будет "Вся Раневская". Я соберу все: и роммовскую "Мечту", и александровскую "Весну", и "Подкидыша", и сцену из "Шторма" Билля-Белоцерковского, и сцены из "Пархоменко" и "Думы про казака Голоту", и чеховские "Свадьбу" и "Человека в футляре", и, конечно же, любимейшую чеховскую "Драму" - абсолютно гениальное сочинение Раневской! (именно сочинение, а не сыгранную роль! Я перечитывал "Драму" - там половины нет того, что сыграла Раневская!).
Да, я убежден, что Раневская - самая великая Личность ХХ века. Более великая, чем Эйнштейн или Мейерхольд. Возможно, я субъективен, но, как мне кажется, каждый человек имеет право по своему рождению быть субъективным. Слава Богу, что мне, бодливому, Он рогов не дал, не дал право распределять, кто на каком месте в иерархии ХХ века - мое мнение очень сильно расходилось бы с мнением "общественности". Ибо "самыми-самыми" я считаю Раневскую, Эмиля Гилельса, Мравинского, Давида Ойстраха, Смоктуновского.
Когда умер отец, Раневская прислала мне открытку, которая уже дважды публиковалась: неполный ее текст - в книге "Василий Васильевич Меркурьев", а полный - в книге Дм. Щеглова "Фаина Раневская". Я не знаю, как попала эта открытка к Щеглову. Скорее всего, Фаина Георгиевна оставила себе черновик. Или же переписала на открытку тот текст, который родился у нее как первая реакция на печальное известие:
"Дорогой Петр Васильевич! Уход из жизни Василия Васильевича Меркурьева для меня большое горе. С ним я встретилась в работе только один раз в фильме "Золушка", где он играл моего кроткого, доброго мужа. Общение с ним - партнером было огромной радостью. Такую же радость я испытала, узнав его как человека. Было в нем все то, что мне дорого в людях,доброта, скромность, деликатность. Полюбила его сразу крепко и нежно. Огорчалась тем, что не приходилось с ним снова вместе работать. Испытываю глубокую душевную боль от того, что из жизни ушел на редкость хороший человек, на редкость хороший большой актер. Берегите маму - нежную и хрупкую Ириночку. Ваша Раневская".
МЕЙЕРХОЛЬД
Меня часто просят рассказать о Мейерхольде. Ну а что я, родившийся через три с половиной года после гибели Мейерхольда, могу рассказать о нем? Рассказать о том, как в семье к нему относились? Да, мама не предавала его. Да, отец никогда не отказывался от него (хотя, надо сказать, Мейерхольд умудрился обидеть отца в творческом плане: не дал играть Казарина в "Маскараде" - об этом речь ниже). В нашем доме не принимали людей, которые испугались, которые не осуждали арест Мейерхольда и предание его анафеме,все это было.
Мама рассказывала о Мейерхольде немало. Рассказывала некоторые бытовые случаи. Например, о коте Крутике, который жил у Мейерхольдов в Петербурге на 5-м этаже дома на Театральной площади (там сейчас установлена мемориальная доска. Не Крутику - Мейерхольду).
Появился этот кот маленьким котенком и был назван бабушкой, Ольгой Михайловной, Дуськой. Но Мейерхольд яростно отстаивал мужское достоинство котенка и присвоил новому жильцу имя Крутик. Бабушка уступила. Кот благополучно жил дома лет шесть, но однажды, когда Мейерхольд возвращался из театра, дворник сказал: "Всеволод Эмильевич. Тут ваш кот - он вывалился из окна, наверное, за птичкой потянулся. Лежит у меня, в дворницкой". Дед побежал в дворницкую, сгреб кота в охапку, поймал извозчика и поехал к ветеринару. Коту сделали все необходимые уколы, примочки, вернули хозяину. А через несколько месяцев кот стал очень толстеть. Мейерхольд обеспокоился, опять повез к ветеринару, и тот поставил диагноз... беременность! Оказывается, бабушка была права, назвав котенка Дуськой. Мейерхольд был смущен и долго упрекал своего (или свою?) любимца (ицу) за такой конфуз.
Однажды Крутик (он же Дуська) во время обеда семьи Мейерхольдов сел на ковер и стал пускать лужу. Ольга Михайловна схватила кота за шкирку и в растерянности стала кружиться с ним. Мейерхольд совершенно спокойно обронил:
- Оля, зачем ты поливаешь пол?
Бабушка отчаянно бросила кота, сделала неловкое движение и уронила со стола ложку.
- Ложка упала,- садистски спокойно промолвил Мейерхольд.
Бабушка чуть не в истерике убежала в свою комнату.
О Мейерхольде рассказывали многие. Часто и много рассказывали мне о Всеволоде Эмильевиче Свердлины. Говорили они восторженно, уважительно, но, честно говоря, я никак не мог разделить их восторгов. Видимо, надо было знать Мейерхольда, чтобы попасть под его обаяние. Эйзенштейн писал: "Счастье тому, кто общался с ним как с художником; горе тому, кто зависел от него как от человека". Этим словам есть масса подтверждений. Но, вырванные из контекста, они никак не могут объяснить человеческого феномена Мейерхольда. Почему же все-таки даже те, кто немало потерпел от Мейерхольда, сохранили в душе своей, в сердце своем такое преклонение перед ним, такую к нему любовь?
Помню, Александра Яковлевна Москалева - замечательная, талантливая актриса, мудрейший, добрейший человек, которой немало лиха досталось от Мейерхольда,- рассказывала мне о Мейерхольде с восторгом и даже какой-то влюбленностью. А ее муж, великий актер Лев Наумович Свердлин, до конца дней своих преклонялся перед своим учителем, хотя и ему досталось несправедливости от Всеволода Эмильевича немало. Кстати, совсем незадолго до своей кончины Лев Наумович покинул последнюю в своей жизни репетицию в Театре им. Маяковского со словами: "Надо было мне начинать свою актерскую судьбу с Мейерхольдом, чтобы заканчивать ее с Говорухой" (режиссер А. Говорухо ставил "Детей Ванюшина", а Свердлин начал репетировать главную роль. После этой скандальной репетиции роль Ванюшина начал репетировать Евгений Павлович Леонов. Он же и играл ее. Но это уже случилось после смерти Л. Н. Свердлина, последовавшей 29 августа 1969 года).
А ведь у Свердлина судьба в театре Мейерхольда складывалась совсем не безоблачно. Я приведу его собст венный рассказ, опубликованный в книге "Лев Свердлин":
"Мейерхольд относился ко мне неровно. Я долго не мог понять, находит ли он во мне какие-нибудь способности или нет. В "Земле дыбом" он мне поручил роль Первого солдата и в дальнейшем, когда я играл эту роль, не раз меня хвалил. Затем показ спектакля "Рай и ад", где я играл роль дона Пабло; казалось, и здесь он был мной доволен. Но как-то дошло до меня, будто Всеволод Эмильевич сказал: "Вряд ли из него получится что-нибудь интересное. По-моему, он будет только бить чечетку. Танцует он хорошо и, наверное, танцором и останется". Когда мне это передали, я огорчился - ведь слово Мейерхольда для нас, молодых актеров, значило очень много.
Однажды я вступил с ним в открытый спор. Были у нас как-то гастроли в Ташкенте, где я играл Аркашку в "Лесе" Островского. Играл много раз и пользовался успехом. Ильинского в поездке не было, играл один я. Был еще один исполнитель, который дублировал меня. И вот я закончил свои спектакли, план выполнил и должен был уехать в Москву. И вдруг меня попросили сыграть сверх плана еще несколько спектаклей. А в Москве в это время заболел сын, я получил телеграмму и должен был срочно выехать в Москву. Но Всеволод Эмильевич, как мне передал его заместитель, распорядился, чтобы играл я. Я отказался, объясняя, что нужно срочно ехать домой к больному сыну.
Узнав о моем отказе, Мейерхольд собрал заседание месткома. На месткоме Всеволод Эмильевич обвинял меня в зазнайстве:
- Он уже зазнался. Сыграл одну роль и уже держит себя маршалом. Это безобразие.
И вдруг я потерял власть над собой. Подошел к столу, стукнул кулаком и говорю:
- Как вы смеете говорить такие вещи! У меня сын болен, а вы меня обвиняете в зазнайстве. Это возмутительно! Замолчите!
Я не помнил себя. Но Мейерхольд замолчал. Присутствующие решили, что меня немедленно выгонят за мой выпад. Я и сам не сомневался в том, что для меня все кончено. И бросился вон из комнаты.
Как мне потом рассказали, кто-то произнес мне вслед:
- Видите, какое безобразие. Мальчишка, а как себя ведет. Стучит кулаком по столу, кричит, вместо того чтобы согласиться с замечаниями Мейерхольда!
И что же ему ответил Мейерхольд? Я был в восторге от него, ибо этот замечательный человек сказал:
- Да, это возмутительно. Но какой темперамент! Я даже не знал, что он такой! Надо подумать о роли. Какую мне ему роль предложить?"
Да, Мейерхольд не был простым человеком. Его отношения с семьей, с дочерьми (особенно в последние годы, когда он уже бы женат на Зинаиде Райх) не были идиллическими. Он боялся стареть, а потому появление внуков принимал неоднозначно.
Его женитьба на Зинаиде Николаевне Райх до сих пор воспринимается многими как роковая ошибка. Что сказать об этом? Возможно, если бы он продолжал жить с бабушкой, то есть со своей первой женой, Ольгой Михайловной Мунт, не было бы и трагического конца. Но, как говорят, история не знает сослагательного наклонения. А как мне рассказывал Леонид Викторович Варпаховский, Зинаида Николаевна как женщина настолько вдохновляла Мейерхольда, что в ее присутствии он репетировал искрометно, заразительно; именно в присутствии Зинаиды рождались его гениальные находки. Он будто хотел все больше и больше завоевывать ее. Возможно. Судить его не нам.
Вот сейчас написал несколько фраз о Мейерхольде и подумал: "Бог мой, а ведь книгу эту могут читать и люди, которые никогда в жизни не слышали имени Мейерхольда, для которых его родословная может ничего и не говорить, и которые попросту запутаются в хитросплетениях фамилий: Мейерхольд Мунт - Райх - Есенин - Меркурьев... Словом, как в смешной опере Прокофьева по комедии Шеридана "Дуэнья": "На ком кто женится?"
Допустим все же, что имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда выдающегося (или, как уже давно классифицируют его наши театроведы, историки и прочие "веды", великого, гениального) режиссера читателю более известно, чем не известно. Все же сообщим, что родился Мейерхольд 28 января (9 февраля) 1874 г. в Пензе, в семье известного винозаводчика Эмиля Федоровича Мейергольда (так раньше писалась их фамилия), был он восьмым ребенком в семье и звали его вовсе не Всеволод, а Карл Теодор Казимир, что было более естественно для немца-лютеранина (кстати, Эмилий Федорович Мейергольд до конца своего оставался подданным Германии). Женился Карл Теодор Казимир на пра вославной Ольге Михайловне Мунт (рождения 1974 года. Умерла бабушка в Ленинграде, в том же году, когда был расстрелян Мейерхольд,- в 1940-м. И, как рассказывала моя мама, бабушка неоднократно говорила: "По-моему, Мейерхольда уже нет в живых". Хотя тогда приговор был - 10 лет без права переписки. Для легковерных советских граждан он это и означал. И еще много лет в Москве моя двоюродная сестра, дочь средней дочери Мейерхольда, Татьяны, носила в тюрьму Мейерхольду передачи, и передачи эти принимали!). Незадолго до женитьбы Мейерхольд принял православие, а следовательно, и православное имя Всеволод (тогда Мейерхольд был увлечен писателем Гаршиным,- имя взял в его честь). У Всеволода Мейерхольда и Ольги Мунт были три дочери: Мария (родилась в 1897, умерла от гайморита в 1929), Татьяна (родилась в 1903, потом, чтобы вступить в большевистскую партию, изменила в паспорте даты на 1902) и моя будущая мать, Ирина (родилась 9 мая 1905 года. Кстати, там же, в Пензе, где родился и ее отец).
Как известно, Всеволод Мейерхольд учился на юридическом факультете МГУ, который оставил во имя театра. Поступил в Московское филармоническое училище к В. И. Немировичу-Данченко, окончил его и был среди актеров основателей Московского художественного театра.
Я не хочу бегло пересказывать биографию Мейерхольда, - о нем только за последние годы написано такое количество книг, монографий, по его творчеству во всем мире защищено такое количество кандидатских и докторских диссертаций, что только из них можно составить фундаментальную библиотеку.
В 1921 году Мейерхольд разошелся с моей бабушкой и женился на актрисе Зинаиде Николаевне Райх, которая до этого была женой поэта Сергея Есенина и имела двоих детей: Татьяну Сергеевну Есенину и Константина Сергеевича Есенина. Мейерхольд не только усыновил этих детей, но и сам к своей фамилии добавил фамилию своей второй жены. (Правда, нигде, кроме тюремно-следственных документов, он под фамилией Мейерхольд-Райх не значился. И не сложись так трагически его судьба, не занимались бы его тюремными архивами, никто бы и не знал о его двойной фамилии. Кстати, Зинаида Николаевна после регистрации своего брака с Всеволодом Эмильевичем, официально значилась Райх-Мейерхольд).
Я сам о Мейерхольде услышал в младенческом возрасте, но услышал "шепотом" - имя его нельзя было произносить. Вообще-то об этом я уже писал. Не писал я еще о том, как после 1955 года активно развернулась борьба за восстановление Мейерхольда не только как гражданина (надо же было доказать, что он не является шпионом Японии, Литвы и еще какой-то очень враждебной СССР страны), но и как режиссера, творчество которого "не чуждо нашему искусству". И вот только в те годы я познакомился с моей двоюродной сестрой Марией Алексеевной Валентей.
Для того чтобы яснее была вся родословная, поясню.
У дочерей Мейерхольда и Ольги Михайловны были семьи. Кстати, однажды очень забавно получилось. Когда в 1964 году Татьяна Сергеевна Есенина приезжала в Ленинград, я с ней общался почти ежедневно (как она говорила мне, "я твоя названная тетка"). И вот как-то, к слову пришлось, рассказала она, что один ее сослуживец собирает "оригинальных родственников", ну, как еще говорят, "седьмую воду на киселе". Так этот сослуживец был для Татьяны Есениной "муж сестры мужа дочери второго мужа ее матери". Если разобрать эту почти головоломку-абракадабру, то получается все очень стройно: Мать Татьяны Сергеевны - Зинаида Райх. Вторым ее мужем был В. Э. Мейерхольд. У Мейерхольда была дочь - Мария Всеволодовна, у мужа которой, Евгения Бялецкого, была сестра. Вот эта сестра как раз и была замужем за этим самым сослуживцем! И никакой головоломки - все очень просто! Но зато как забавно звучит, правда? "Муж сестры мужа дочери второго мужа ее матери" (извиняюсь, конечно, за это "ее матери", но когда это рассказывала Танечка Есенина, она говорила, естественно, "моей матери").
Так вот, про старшую дочь Мейерхольда, Марию Всеволодовну Бялецкую, я частично сказал. У нее было двое детей: Игорь (рождения 1919 года) и Нина (рождения, кажется, 1923 года). На их биографиях останавливаться не буду жизнь их сложилась драматически (если не сказать трагически), походя рассказывать не хочется, а для подробного повествования я не имею достаточных знаний.
У второй дочери Мейерхольда, Татьяны Всеволодовны и ее мужа Алексея Петровича Воробьева были две дочери - Татьяна и Мария. Этих двух моих двоюродных сестер я очень люблю (про старшую, Танечку, к сожалению, могу теперь говорить только в прошедшем времени: скоро 20 лет, как она умерла. Была человеком чудесным, работала медсестрой, но была именно "сестрой милосердия"). Моя сестра Мария Алексеевна Воробьева-Мейерхольд (по мужу Валентей) - именно тот человек, благодаря которому сегодня мы имеем о Мейерхольде то, что имеем.
В 1939 году, когда Мейерхольда арестовали, пятнадцатилетняя его внучка Маша Воробьева стала стучаться во все дубовые и железные двери НКВД, прокуратуры, тюрем, и везде задавала вопрос: "За что моего деда посадили?" Историю "хождений по мукам" Марии Воробьевой (затем Валентей) нужно писать отдельно. Никакие жены декабристов не могут сравниться с этой женщиной. Ее гнали в дверь - она влезала в окно. Она добивалась того, чего не могли добиться жены и дети многих выдающихся деятелей науки, культуры, политики, репрессированных сталинским режимом. (Кстати, об этом можно прочитать практически во всех книгах о Мейерхольде - не историю борьбы за Мейерхольда, нет, об этом Маша не очень распространялась,- но внимательный читатель заметит, что все книги подготовлены, прочитаны, вычитаны М. А. Валентей).
Специальные истории надо писать о том, как проходила реабилитация Мейерхольда; о том, как "пробива лись" установки мемориальных досок в Москве и Ленинграде; о том, как готовились и издавались книги; о том, как освобождалась для музея последняя квартира Мейерхольда - без Маши этого бы просто ничего не было. (Кстати, последнюю точку в истории освобождения квартиры в Брюсовом переулке помог поставить Т. Н. Хренников. Но это уже другая история - история вереницы добрых дел, сделанных нашим великим композитором). Я расскажу только один (едва ли не самый незначительный) эпизод.
Кажется, в 1964 году Маша (естественно, на свои деньги) установила на могиле Зинаиды Николаевны Райх на Ваганьковском кладбище памятник. На нем высечен барельеф Мейерхольда и надпись: "Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду и Зинаиде Николаевне Райх". Вдруг Машу вызывают "в инстанцию" и грозно спрашивают:
- Какое право вы имели поставить памятник Мейерхольду там, где он не похоронен?
Реакция Маши - молниеносная:
- А вы покажите мне, где он похоронен,- я там поставлю.
Должен сказать, что взаимоотношения моей мамы - Ирины Всеволодовны Мейерхольд - и ее племянницы, Марии Алексеевны Валентей были не безоблачны. Мать ревновала. Оснований для ревности, по сути дела, не было! Ну кто бы еще так занимался репрессированным Мейерхольдом, как это делала Маша? Да никто! Моя мама, как только ее восстановили на работе (сначала в 1959 году, во Дворце культуры имени Горького, а затем, в 1960 - в Театральном институте), яростно стала вводить мейерхольдовскую биомеханику и вообще его педагогические принципы. Подчас она "забивала" папу, с его приверженностью к реалистической школе Александринского театра (по сути, там расхождений особых не было. Ведь Мейерхольд, воспитанник Немировича-Данченко и Станиславского, сам работал до самой Октябрьской революции в Александринском театре, поставил там свой блистательный "Маскарад", но учеников своих учил уже по более современной методике - до нее не успел дойти Ленинградский театральный институт, в котором преподавали В. Н. Давыдов, Л. С. Вивьен, С. Э. Радлов. Кстати сказать, основателями Петроградского театрального института были В. Э. Мейерхольд и Л. С. Вивьен. И меня всегда очень удивляла в нашей стране, помимо многого прочего, система присвоений имен разным учреждениям. Петербургскую консерваторию основал Антон Рубинштейн, в связи с чем ей присвоено имя Римского-Корсакова. Московскую консерваторию основал Николай Рубинштейн. И именно поэтому она носит имя Чайковского. Ленинградский театральный институт переименовывался неоднократно! Когда-то ему дали имя А. Н. Островского. Потом, в 60-х годах, когда сливали научно-исследовательский институт театра, музыки и кинематографии с учебным заведением - Театральным институтом (логика здесь почти такая же, как если слить горводопровод и облводку), имя великого драматурга потеряли. Гибрид стал именоваться ЛГИТМИК (не правда ли, очень поэтично?). Потом, после смерти великого нашего актера Н. К. Черкасова, когда издавалось постановление "Об увековечении...", внесли в это постановление, помимо памятника, мемориальной доски, улицы, кажется, парохода, еще и институт (хотя ведь в этом же институте учились и Симонов, и Толубеев, и Меркурьев, и Райкин, а уж какие личности там преподавали!). И стал именоваться вуз, основанный Мейерхольдом и Вивьеном, ЛГИТМИК имени Черкасова. А когда рухнула советская власть, то институт, проделав за 80 лет своего существования путь от техникума через училище и институт, превратился в Академию театрального искусства. И уже вторично потерял "имя собственное".
Прошу прощения у читателя за столь пространное отступление. Видимо, старость наступает: начинаю рассказывать - цепь ассоциаций затягивает так далеко, что когда спросишь себя: "О чем это я?", то так и хочется ответить, как у Райкина: "Ах да! Об архитектуре! За наших прекрасных дам!"
Так я действительно хочу сказать: "За наших прекрасных дам!" - то бишь за Марию Алексеевну Валентей-Мейерхольд и ее тетку, мою маму, Ирину Всеволодовну Мейерхольд. Обе они были преданы Мейерхольду. Мама своим творчеством, своей педагогической работой передавала Мейерхольда будущим поколениям; Маша - своей немыслимой энергией, своим бесстрашием, своей одержимостью сделала все для увековечения памяти Мейерхольда, для восстановления его доброго имени. И добилась в этом неслыханных результатов. Собственно, предмета споров у мамы с ее племянницей не было. Но... Пусть читатель сам судит о характерах родственников Мейерхольда, - им есть в кого быть.
МАМА СНОВА РАБОТАЕТ,
А Я НАЧИНАЮ СНИМАТЬСЯ В КИНО
1958 год для меня был годом особенным. Вот не верь в приметы! Этот год я встретил в поезде: в ночь на 1 января ехал в Москву, к Свердлиным. Помню, ранним-ранним утром (поезд пришел в Москву часов в 6 утра) я добрался до Калужской заставы (тогда только-только пустили метро от нынешней "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Около дома Свердлиных была станция "Ленинский проспект" - я даже не знал, из какого вагона мне ближе идти к их дому) добрался я до дома 35 по Ленинскому проспекту, а в окнах свет не горит. На улице - пурга, будить Свердлиных в такую рань я побоялся. Снова пошел в метро, проехал до Черемушек, потом - до кольцевой линии, проехался по кольцу, и только к 11 часам снова подъехал к дому Свердлиных.
А спустя месяц я заболел воспалением легких, потом у меня обнаружили туберкулез и... отправили в санаторий "Пионер", что в Крыму, в Симеизе. Из санатория я "освободился" только поздней осенью. Новый год встретил в поезде - весь год был оторван от дома.
Мама еще не работала. Все еще лежало на ней "проклятие": дочь врага народа. Хотя официально Мейерхольд уже был реабилитирован. Но ведь все те люди, которые хулили Мейерхольда, оставались на своих местах! Не могли же они признать, что совершали преступление по отношению не только к самому Мейерхольду, но и к ни в чем не повинной его дочери!
И вот весной 1959 года у нас в квартире раздается телефонный звонок:
- Ирина Всеволодовна, меня зовут Беатриса Григорьевна, я из Дворца культуры имени Горького. Мы хотим предложить вам возглавить драматический театр-студию.
Мама даже растерялась. Она уже не была готова к тому, что ее куда-то пригласят. Договорились о встрече. Но когда мама повесила трубку, она вдруг разрыдалась:
- Петенька, по-моему, меня кто-то разыграл. Этого не может быть, чтобы меня пригласили!
Я тут же по "09" узнал телефон дворца культуры, спросил, есть ли такая Беатриса Григорьевна. На другом конце провода голос ответил:
- Это я.
- Простите, Беатриса Григорьевна, это сын Ирины Всеволодовны. Она просила уточнить время встречи.
На следующий день мы поехали вместе с мамой. Волновалась она ужасно! Была бледная, застенчивая. Я опускаю подробности встречи с Беатрисой Григорьевной - это уже не важно. Помню, что когда через два дня мама нас с Катей взяла во Дворец культуры, то мы сидели в "предбаннике" большой репетиционной комнаты (она называлась "база отдыха") и слышали, как за дверью кричали, выходили из себя, прыгали и бесились самодеятельные актеры, изображавшие бешенство людей, нашедших сокровище,- там репетировалась пьеса Дж. Пристли. Мама в этот момент смотрела репетицию, а мы с Катей боялись, что нас выдворят из "предбанника".
В конце концов мама вышла из "бани", мы вместе пошли к Беатрисе Григорьевне, где с мамой заключали до говор. Это был праздник! Домой мы не шли, не ехали - летели! Дома встречал счастливый папа, который уже накрыл праздничный стол. Еще бы! Его Иришечка снова работает!
Забегая вперед, скажу, что в ДК Горького мама поставила "Два цвета" Зака и Кузнецова - замечательный спектакль с музыкой Рахманинова. Я всячески маме помогал: был помощником режиссера, музыкальным редактором, а когда было нужно, выходил на сцену вместо заболевших исполнителей.
В моей судьбе этот театр-студия тоже сыграл немаловажную роль. Однажды на репетицию, которую вела мамина ассистентка Тамара Абрамович, пришли двое молодых людей и попросили разрешения поприсутствовать. Я никакой роли не играл, а только "подыгрывал" за отсутствующих, да еще играл на рояле "Времена года" Чайковского. Когда репетиция перешла на свой четвертый час, то молодые люди открыли нам, кто они: ассистенты режиссера с киностудии "Ленфильм", подбирающие молодых актеров для фильма "Невские мелодии". Их интересовали следующие люди (заглядывая в блокнот, женщина-ассистент читала фамилию, взглядывала на обладателя этой фамилии, говорила: "Угу" - и читала следующую). Когда эта процедура закончилась, женщина указала карандашом на меня и сказала:
- И нас еще интересует ваша фамилия.
- Моя???
- Да, ваша. А что вас так удивляет?
Все студийцы смеялись.
- Нет, просто я никак не предполагал, что кого-то может интересовать моя фамилия. Моя фамилия - Меркурьев.
- Петя, ты вторую скажи,- посоветовал кто-то из ребят.
Меня попросили прийти на "Ленфильм", чтобы сделать пробу.
И вот я впервые в жизни пришел на киностудию. До этого мне категорически было запрещено даже и думать о кино! А здесь я даже не сказал родителям (папа в это время был в Сибири на съемках фильма "Люди на мосту", а мама была занята дачными и домашними делами. Меня вообще не контролировали, - я повода не давал).
Короче, меня утвердили, я начал сниматься. И тут приехал папа. Его реакция была самой страшной из всех возможных: он не ругался, не кричал, не запрещал - он замолчал. Он со мной не разговаривал. Господи! Да лучше бы побил! Но этого не было никогда. Я даже не представляю себе такой ситуации, чтобы папа мог кого-то ударить. Спустить с лестницы - да. Но ударить!
Заканчивал я съемки под аккомпанемент папиного молчания. И вот наступила премьера. Из "Ленфильма" папе позвонили, пригласили. Он выговорил звонившему (а это был Исаак Михайлович Менакер - отец известного ныне режиссера Леонида Менакера) все, что у него накипело: и про то, что молодого человека сбивают с пути; и про то, что непедагогично было не посоветоваться с родителями. На аргумент, что на студии никто и не знал, что Петя - сын Василия Васильевич, отец сказал: "А какое это имеет значение? Он что, сирота? А если у него был бы отец не актер, а инженер или еще кто, значит, можно не советоваться?"
Словом, он на приглашение не ответил ни да ни нет, и до последнего часа я не знал, придет ли папа на мою премьеру.
Дом кино тогда располагался на Невском, 72 - там сейчас кинотеатр "Знание". Длинный, узкий, неуютный зал. Я пришел задолго до начала, залез в последний ряд и стал дрожать. Зал постепенно заполнялся людьми, а когда до начала сеанса оставалось минут пять, вдруг раздались аплодисменты, и в зал вошел папа - его всегда так встречали, даже когда он приходил не на свои спектакли и фильмы. Папа смущенно раскланялся, мельком взглянул в мою сторону, но даже не улыбнулся. Наоборот - взгляд его стал холодным, и он помрачнел. Волновалась и мама: и за меня, и за папу.
У папы была такая особенность, когда он смотрел фильм или спектакль: если на сцене (на экране) фальшь - его плечи поднимались до ушей, голова просто втягивалась в туловище. Когда на сцене живое, органическое действие - плечи опускаются, напряженность спадает. Я вижу папину спину из своего последнего ряда хорошо. Начинается фильм - папина голова, по-моему, у него уже почти в желудке. Он даже, кажется, в кресле своем "съезжает". Вдруг на экране появляюсь я. В первую секунду папа как-то вздрагивает, а потом постепенно распрямляется, плечи опускаются, он снова становится высоким. Потом - опять та же картина. Потом опять появляюсь я. В одном месте он даже оглянулся (!) на меня и, как мне показалось, улыбнулся одобрительно.
После фильма мы шли домой вместе. Он сказал:
- У тебя это получается. Тебя теперь будут много приглашать. Но я тебя прошу: пока ты не получишь свое музыкальное образование - не соглашайся сниматься. Поверь: это от тебя никуда не уйдет. Но если ты сейчас окунешься в кино, все может плохо кончиться.
Я послушался папу. В первый раз после "Невских мелодий" я снялся семь лет спустя у Л. Менакера и Н. Курихина в "Не забудь... станция Луговая". С тех пор вот уже 33 года я сочетаю свою основную работу со съемками в кино. На сегодняшний день в моем "багаже" свыше 70 названий (с папой я снимался только однажды - в фильме "Москва-Кассиопея", где мы оба играли небольшие роли академиков), но профессией своей я эту работу не сделал.
Год спустя в Ленинградском театральном институте мои родители вместе (в который уже раз!) набирали курс. Справедливость торжествовала - через 12 лет они вернулись туда, откуда были несправедливо изгнаны (формулировка была более чем деликатная: из-за отсутствия педагогической нагрузки). Курс, который родители набрали в 1960 году, был вечерним. Это - впервые в практике театрального института: рабочая молодежь после рабочих смен шла учиться. И хотя почти все "вечерники" (а их было 30 человек) стали актерами (среди них народный артист России, артист Мурманского театра Виктор Васильев, заслуженный артист России, артист БДТ, к сожалению, уже покойный Михаил Данилов, талантливые актеры Александринского театра Тамара Колесникова, Елена Черная), практика "вечерних наборов" вскоре прекратилась.
Пройдет еще совсем немного времени и я, младший сын своих родителей, вылечу из родного гнезда, перееду в Москву на учебу, да так и застряну в столице. Как-то, когда я уже полностью закончил свое образование, я подумывал о возвращении в Ленинград. И тут моя мудрая мама, которая очень по мне тосковала, которая ждала меня, как манну небесную, сказала: "Петенька, ты уже нашел себя в Москве. Зачем тебе начинать все заново? А мы ведь помрем скоро, а тебе - жить". Вот и говори после этих слов о родительском эгоизме.
РЯДОМ С ЖИВОТНЫМИ
Один-единственный раз в своей жизни я ездил верхом на лошади. "Ездил"! Ха-ха! Как же! Я сидел на этой смирной кляче, трясясь от страха (всю жизнь боюсь двух вещей: высоты и низких потолков). А лошадь, видимо, почувствовав мой дискомфорт, стояла как вкопанная и ни на какие мои уговоры не поддавалась. Было это в 1978 году под Киевом на съемках фильма "Забудьте слово "смерть", где ловко и лихо на лошадях гарцевали Женя Леонов-Гладышев, Богдан Ступка, Константин Степанков. И только я не мог ничего поделать! Хотя ведь в моей крови должны быть гены лошадников. Моя мама превосходно ездила на лошадях - есть даже фотографии, на которых лошадь делает "свечу", а мама совершенно свободно сидит в седле.
С лошадьми у мамы были изумительные отношения. Отец рассказывал, что окончательно он влюбился в маму, когда увидел, как она остановила взмыленную понесшую лошадь и очень быстро ласково ее успокоила.
Я лошадей никогда не боялся (собственно, со всеми животными, кроме одного-единственного драчливого петуха, у всей нашей семьи были всегда замечательные отношения - и с собаками, и с коровами), но преодолеть страх высоты я был не в силах. И эпизод, в котором я должен был мирно и спокойно верхом на лошади входить в кадр, так и не был снят - лошадь подо мной могла только стоять. На общем плане этот кадр сняли с дублером - кто-то надел мой костюм и проехал на той же лошади.
А быть может, лошадь не шла не потому, что я боялся высоты, а потому, что я к ней относился не как к животному.
В нашей семье всегда были особые отношения с животными. А у меня и вовсе как бы на равных. Я никогда их не эксплуатировал, не командовал ими, не показывал своего превосходства или своей власти. Мне всегда было неловко, если я не обращал своего внимания на присутствующую в комнате собаку или кошку. Поэтому во взаимоотношениях с животными я никогда не пользовался "командными" интонациями и абсолютно уверен, что звери, окружающие нас, живущие с нами, понимают не интонации - они понимают нашу речь.
Я мог бы много рассказать о взаимоотношениях с нашими собаками Джеком, Валетом, Люрсом, Ниццей, Шимми, Вилькой, Тимошей, которые жили в нашей семье в разные годы моего детства; о кошках Матрене, Зинаиде Николаевне Первой и Зинаиде Николаевне Второй, об Акбаре, Мартыне, Кибардиной, Марии и многих-многих других, каждая (или каждый) из которых имела свой неповторимый характер. И я хочу обязательно о всех написать сейчас я понимаю, как это важно, ибо животные в нашем доме, в семье Меркурьева - Мейерхольд играли очень большую роль и в нашем воспитании, и в снятии стрессов у родителей, да и вообще в установлении гармонии в диком стаде меркурьевского семейства, где у всех характеры были реактивные, остроугольные.
Главным "проводником", переводчиком между нами и животными в семье была мама. Она чувствовала и зверей, и детей совершенно потрясающе! Я еще расскажу, как неоднократно спасала она буквально от смерти и меня, и Катю, и папу; как она раньше врачей распознала у папы сахарный диабет (причем раньше она никогда с этим заболеванием не встречалась), как она, находясь в Ленинграде, вдруг почувствовала, что я в Громове заболел, помчалась на перекладных (до очередного поезда было часа четыре), застала меня задыхающимся (оказалось - крупозное воспаление легких) и спасла буквально своей волей. В 1954 году папа поехал на кинофестиваль в Карловы Вары с фильмом "Верные друзья". Он ежедневно звонил оттуда и как-то пожаловался маме, что у него сохнет во рту и кружится голова. Мама тут же ему сказала: "Срочно попроси сделать тебе анализ крови на сахар - у тебя диабет". И попала в точку.
Мама превосходно делала практически все: когда надо было поставить банки - она это делала настолько профессионально, что удивлялись медицинские сестры; уколы она делала решительно, но совершенно не больно; превосходно делала перевязки - ее компрессы, повязки никогда не сползали, но и не жали, были удобны. Еду готовила мама тоже замечательно. Во-первых, очень быстро. Во-вторых, очень вкусно. В-третьих, из того, что есть под рукой. Даже если не было масла, она умудрялась поджарить котлеты или мясо так, что это было и вкусно, и никогда не пригорало. Иногда к нам после спектаклей заваливалась куча гостей - практически весь состав спектакля, включая помощников режиссера, костюмеров, гримеров. Конечно же, время позднее, все магазины закрыты, да и денег у тех, кто к нам приходил, не было. И тогда мама вместе с Ольгой Яковлевной Лебзак готовили так называемую прошивную на гвоздях - по сусекам соскребалось все, что было (мука, крупа, вермишель, сушеные грибы - словом, какая-то бакалея, которой в повседневной жизни практически не пользовались), и из этого чудесным образом приготавливались различные блюда с такой молниеносностью, что гости даже не успевали расположиться около стола! Кстати, сама трапеза не так волновала пришедших - им было просто интересно между собой. Такие встречи заканчивались, как правило, под утро.
У мамы была звериная интуиция. Может, именно поэтому со всеми животными она была в особо доверительных отношениях. И все зверье, которое жило в нашем доме, было с нами на равных, к нему все испытывали не только любовь, но и уважение.
В основном звери жили на даче. Родители считали, что держать в городе собаку - это издевательство над бедным зверем. Но иногда собаки приезжали в город. Однажды родители привезли с дачи бочонки с засоленными грибами, огурцами, помидорами. И вместе с ними приехал Джек - тот самый умница пес, который не выносил, когда мы купались. Для Джека городская квартира была в новинку и он, естественно, должен был "пометить" свою территорию. Он поднял ногу на бочонки. Мама это увидела, устроила псу выволочку (а, надо сказать, Джек, при всем своем добродушии и миролюбии, был страшно самолюбивым. На него нельзя было кричать, нельзя было замахиваться, нельзя было выгонять из комнаты. На даче, когда он заходил в дом, но был там некстати, ему нельзя было говорить: "Джек, пошел вон!" - пес сразу начинал скалиться, рычать и показывать готовность на тебя броситься. Но стоило сказать: "Джек, машина!" - и пес стремглав выбегал из дома и бежал к воротам). Но на этом дело не кончилось. Вечером со спектакля пришел папа. И когда мама начала ему говорить: "Вася, а ты знаешь, что сделал Джек?" - этот громадина, поставив свои лапы маме на плечи, стал рычать, отворачивая своей мордой мамино лицо от папы. Когда мама пыталась заговорить, пес начинал рычать громче, громче, а потом это рычание уже чередовалось с лаем, воем, визгом. И только когда мама расхохоталась, пес снял лапы с ее плеч, стал прыгать, вилять хвостом, радостно лаять.
Вообще Джек был умен чрезвычайно. Мама его дрессировала (в те годы она была отлучена от работы из-за своего родства с "врагом народа" Мейерхольдом, а творческой энергии - хоть отбавляй! И она занималась с актерами - в частности, замечательная актриса Валентина Ковель, которая тогда только начинала свой путь в искусстве, приходила к маме со своими ролями и много-много от этого общения получила; а бессонными ночами, когда папа был на съемках, мама занималась с псом). Джек понимал абсолютно все. Голос давал и громко, и, когда его просили, шепотом. И даже говорил "мама" (но это только когда его об этом просила мама). На даче бывало и такое: папа кричит с берега:
- Ириша! Пришли мне лопату!
Мама зовет Джека:
- Джеки! Отнеси папе лопату!
Джек несся в сарай, хватал грабли и бежал. Мама его останавливает:
- Джеки! Это же грабли!
Джек стремительно возвращается в сарай, только там бросает грабли, хватает лопату и несет папе. И нас это нисколько не удивляло - мы были уверены, что так и должно быть.
Был у нас удивительный гусак. Они вдвоем жили с гусыней. Гусак был задира, гонялся за всеми, очень шумел, а гусыня тихо и смущенно его ругала. Ей было очень стыдно за своего мужа. Так вот, единственный человек, с которым у гусака (его называли Тега) были удивительно доверительные отношения, была мама. Она садилась на скамейку, ласково подзывала его: "Тегушка, или сюда". Гусак подходил, мама гладила его шею, а гусак своим клювом скользил вдоль маминой щеки и что-то говорил ей на ухо.
Кстати, все эти качества в общении с животными полностью передались от мамы, пожалуй, только Кате.
Всю свою жизнь мама не мыслила себя без животных. Часто она говорила: "Хочу выдру с выдренком, ослика и пингвинов". Совершенно замечательно она показывала различных зверей. А когда в начале 50-х годов на экранах шел фильм "Тарзан" и любимицей всей нашей семьи была обезьянка Чита, мама великолепно ее изображала. С тех пор и до конца ее жизни мы все маму называли Чита, Читушка. А папа, когда купил очередную двухвесельную лодочку, то на ее борту написал "Чита". Мама много рассказывала о своих мейерхольдовских родственниках, у которых были свои имения: о дяде Артуре (Артур Эмильевич Мейерхольд), тете Маргот (Маргарита Эмильевна) - у всех у них были не только привычные нам всем животные, но и лошади.
Я с удовольствием могу рассказывать о наших животных, коих в семье жило всегда много. Мы воспитывались с ними, они помогали нам, а подчас спасали наши жизни. Уж меня-то точно кошка спасла от смерти, когда я в очередной раз заболел воспалением легких. Никогда до этого Маркиза не приходила ко мне, пятилетнему мальчику, весьма неспокойно спавшему, на кровать. А когда я заболел, она просто легла ко мне на грудь и не спрыгивала даже тогда, когда я метался в бреду. А потом врач, Давид Миронович Спринсон, сказал маме: "Благодарите вашу кошку. Она вытянула болезнь из Пети".
Наша кошка Зинаида Николаевна Первая, когда мы обедали, садилась на скамейку рядом с нами на задние лапы в позу кенгуру и подолгу сидела так, пока ей со стола не давали кусочек чего-нибудь. Иногда она одной лапой упиралась в стол, тогда мама ей говорила: "Зиночка, не халтурь" - и кошка снова сидела "без поддержки". Она никогда не мяукала, прося еду,- она просто вот так садилась. Эта кошка была полностью дымчатого цвета, без единого пятнышка. У ее дочери - дымчатой Зинаиды Николаевны Второй - было белое пятнышко на горле, а в остальном она была вылитая мать.
Кота Акбара мама подобрала маленьким беспомощным котеночком. Он лежал в коробке из-под ботинок на подоконнике лестничной клетки, в глазенках его была растерянность - он находился еще в том возрасте, когда котята отправляют свои естественные потребности при помощи материнского языка. Собственно, он и глаза-то открыл, вероятно, дня три назад. Мама моя как раз шла из магазина. Она наклонилась над котенком и спросила: "Вы кто такие будете?" - на что котенок тихо сказал: "Мя". Кормили мы его даже не через соску, а через пипеточную тоненькую резинку. Вместо кошачьего языка применяли мягкую зубную щетку. И вырос огромный, более чем десятикилограммовый котище, красивый, добродушный. Когда говорили: "Ах, какой кот!", Акбар ложился на пол и переваливался с одного бока на другой, кокетничал, красовался. От других котов и кошек отличался тем, что у него отсутствовал инстинкт "месить тесто" - когда кошки, перед тем как лечь, долго перебирают лапами, слегка выпуская коготки, да и потом, лежа, мурлыча, они продолжают это делать. Акбар мурлыкал, но лапы были в спокойном состоянии. (Кстати, и эту особенность в нем подметила мама).
Однажды Акбар, вошедший уже в юношеский возраст, ушел на свидание и пропал. Мы повесили объявления, и нам стали нести кошек. Самых разных. И это было катастрофой - нам было жалко их не брать. Так у нас поселилась Матрешка (извиняюсь, Матрена Федоровна), которая была матерью Зинаиды Николаевны Первой и бабкой Зинаиды Николаевны Второй (одним словом, Королева-Бабушка, да и только). Тогда же появились Толстопятая и Кибардина (последнюю так назвала актриса Нина Михайловна Шахова-Мичурина - она усмотрела в кошке сходство с народной артисткой Валентиной Тихоновной Кибардиной). Эта кошка обладала характером созерцательным, была неаккуратна, умывалась редко и лениво, опрокидывала мисочку с едой. Толстопятая (прозванная так за неестественно громкую походку) была характера противоположного: энергичная, волевая, не прощавшая своей подруге ее слабостей. Будучи исключительно аккуратной и чистоплотной, Толстопятая, умывшись, начинала умывать, вылизывать Кибардину. А если та сопротивлялась, Толстопятая отхлестывала ее лапами, но туалет заканчивала. Когда Кибардина мисочку опрокидывала, Толстопятая за ней подбирала. Изумительный был кошачий дуэт!
Толстопятая оставила после себя нашего всеобщего любимца - Мартына. Этот кот был у нас долгожителем, прожил не менее 15 лет. Терпелив был до чрезвычайности! В те годы только появились долгоиграющие пластинки. Я ставил одну из симфоний Чайковского, брал Мартына на колени, большие пальцы обеих рук подсовывал ему под мышки и дирижировал его лапами. Он только голову поворачивал то налево, то направо и долго-долго терпел мое издевательство.
Но в 1959 году почти всех кошек из нашего дома выжила Мария. Эта кошечка явилась в нашу квартиру с шикарным бантом, и, в отличие от других представительниц своего вида, она не забилась в угол, а стала по-хозяйски обходить всю квартиру и сразу же удобно уселась в папином кресле, стоявшем посреди комнаты. Эта красивая, пушистая трехцветная ангорская киса была чистоплотной до брезгливости! Вылизывала она свою бело-палево-серую шубку до стерильной чистоты ежедневно и никогда не позволяла себе появиться "в обществе" в недомытом виде. Причем для умывания она находила укромные уголки, а потом являлась во всем блеске, возвещая свой выход громким, требовательным "МУАЯАУ!!" Она требовала только внимания. Никогда не опускалась эта кошка до того, чтобы выпрашивать еду. Она сидела на кухне в урочный час трапезы вдалеке от своей миски и не обращала никакого внимания на то, как ей накладывают еду. Потом она дожидалась, когда из кухни уйдут люди, и только тогда пищу съедала. Гордая была кошка. Забегая далеко вперед, скажу, что Мария прожила 18 лет. И уже в последний год своей жизни, когда однажды папа сказал при ней: "Совсем старая стала Маруся..." - кошка странно, долго посмотрела папе в глаза и ушла. Через час она вернулась, неся в зубах огромную крысу, которая по размерам была почти с нее, положила свой "трофей" к ногам хозяина, отошла в сторону и стала демонстративно тщательно умываться (напомню, что обычно свой туалет она совершала без посторонних глаз). Умывалась она долго, потом села рядом с Меркурьевым, стала тереться об него и мурлыкать.
Конечно же, кошка прекрасно поняла смысл слов отца и доказала ему, что она еще не зря молоко пьет. Кстати, крыс и мышей она ловила потрясающе и всегда складывала их у крыльца, чтобы все видели. Никогда их не ела очень брезговала. В бытность Марии в нашем доме (а я рассказываю про дачу) крыс и мышей почти не было.
СЕРЕДИНА КНИГИ...
Как жаль, что потребность писать воспоминания, как правило, приходит к человеку, уже жизнь сделавшему, на будущее не рассчитывающему.
Есть, конечно, исключения - Булгаков, например. Он жизнь свою в литературе прошел от беспечной старости к мудрой юности. До детства не дожил - не дали. Два взаимоисключающих понятия: "впасть в детство" и "дожить до детства".
Начав писать эту книгу как воспоминания об эпизодах в хронологическом порядке, пытаясь восстановить всю "цепь событий", или хотя бы, если не восстановить всю цепь, то оставшиеся в памяти ее звенья разложить в те ячейки длиннющего транспортера, который именуется в одном случае - Жизнь, в другом - Время, в третьем... А черт его знает, как он, транспортер этот, именуется в третьем случае. Но, как мне кажется, ни одно из этих названий не соответствует "предмету". Если назвать его "Жизнь", то резонно встает вопрос: а чья жизнь? Моя? Но ведь я пишу не о жизни, не о биологическом существовании, не о тех 2 030 786 000 ударах неутомимого сердца, длящего мои физические возможности. Да и не о себе вовсе пишу я! О впечатлениях - а впечатления-то мои, но не о себе! Значит, пишу не о жизни, да и не о Времени, которое по сути своей нематериально. Но оно отражает (или вмещает? Не знаю, как выразиться) те события, которые химическая реакция, именуемая памятью, запятнала в моем мозгу. И, видимо, очень стойкие красители у этой химической реакции, очень стойкие красители у тех событий, что химчистка по имени "Время" их не берет! И даже такая универсальная, казалось бы, химчистка, с фирменным названием "Склероз", возвращает материю души с извинениями: "Простите, но обратитесь к Смерти - она это отмоет, отчистит, следов не оставит".
Так вот и ходим до самой смерти своей с пятнами памяти. Иногда эти пятна "садятся" друг на друга, тогда происходит смещение времени, начинаем путать, что когда произошло, спорим между собой, и утверждаем, что "случилось это "пятно" тогда, когда еще Агафья Федосеевна не ездила в Киев..."
Некоторые люди ведут дневник. Кто его знает, нужно это или не нужно. Дневник дневнику - рознь. Конечно, от "сия дыня съедена такого-то числа" до "лежу в гошпитале, болею гонорреею", от "сегодня нас посетил душка-князь" до искренних танеевских откровений дистанция огромных размеров.
Я вел дневники. Но очень давно. Сейчас смешно их читать - описываются случаи, ничего не значащие, событиями не ставшие, а в то же время совершенно пропускаются события, про которые потом говоришь: "Великое видно издалека".
Наше сегодняшнее - лишь повод для завтрашних воспоминаний, и, видимо, стоит фиксировать это сегодняшнее, чтобы, перечитав завтра, осмыслить и написать. Ведь "завтра" никогда не наступает, кроме тех случаев, когда, миновав "сегодня", превращается во "вчера". Но осмыслить, прочитать "вчерашний день" надо уметь... А то вот читаю папины дневниковые записи в его верных "подружках-книжечках", расшифровываю их, но толковать-то их уже приходится мне самому - не всегда в отцовских односложных определениях есть оценка зафиксированного события.
Сегодня, когда я пишу эти строки, мне 55 лет. Это - свыше 21 тысячи дней. Если каждый день - страница (а, в сущности, ведь каждый день жизни заслуживает хотя бы страницы), то книга должна составить свыше 21 000 страниц! Это сколько же томов! Да и кто будет читать такую книгу? Даже великий роман графа Льва Николаевича "Война и мир" не превышает двух тысяч страниц. А сколько людей в России не сумели одолеть этот роман с первого раза! А сколько людей не сумели его одолеть вообще! А сколько людей и вовсе не приступали к нему. Потому моя самонадеянность здесь не к месту, и не буду мучить читателей - не буду заставлять читать дневники моего папы (тем более мои) целиком. Папины дневники будут опубликованы в выдержках, а свои и вовсе оставлю в покое. Пусть лежат! Если после меня они кого-то заинтересуют, пусть тогда их и прочтут. А нет - так им и надо.
А сколько дней провалились в пустоту, в ничто... Сколько дней невозможно восстановить в памяти вовсе. Зачастую бывает так, что за один день происходит масса интереснейших событий, встреч, разговоров. А день закончился - и вспомнить не можешь, что же сегодня произошло.
Во всех исследованиях, рецензиях про Меркурьева говорят: "великий русский актер", "истинно русский характер". Что есть "русский актер", что есть "русский характер"? В каком это смысле "русский". По крови, что ли?
Александр Сергеевич, величайший из поэтов русских, кто он был по крови? А Лермонтов? Этот изысканнейший шотландец? Ведь никто не станет отрицать, что он русский поэт? А Тургенев, Турген-хан то есть? Боже правый, какой у него русский язык! Кто еще может похвалиться таким русским, подлинно русским литературным языком? Да кого ни возьми, за исключением разве что Ломоносова, чистокровно русским не назовешь! Да и откуда кровям этим чистым взяться было? Я уж и не говорю о трехсотлетнем иге татарском! А многолетние связи торговые да политические с иноземцами всякими - что, могли они пройти бесследно для нации в том смысле, в котором мыслят ее русофилы? Да нет, боже мой!
Отец мой, Василий Васильевич Меркурьев, которого считают олицетворением русского народного артиста, русского народного характера, кажется, не имел и капли русской крови!
Как рассказывал мне псковский краевед Николай Ефимович Ефимов, появились Меркурьевы на Псковщине в конце XVIII века. Приехал некий грек с именем Меркурий, завел свое торговое дельце (не очень, правда, удачное), потом женился то ли на шведке, то ли на эстонке, жившей там (меня, честно говоря, все эти "чистокровные" дела нисколько не волнуют и никогда не волновали, а посему я и не стал особо вдаваться в подробности), и родились у них дети. Один из них, коего нарекли Илья, и был моим прадедом. Илья Меркурьевич женился (опять же не на русской!), и родились у него три сына: Александр Ильич, Николай Ильич и Василий Ильич. А Василий Ильич, возьми да и женись на моей будущей бабке, Анне Гроссен - лютеранке из Швейцарии, приехавшей в Россию поработать. И родили мои дед и бабка шестерых сыновей, один из которых стал великим русским (да, да! Он был подлинно русским) актером. А он в свою очередь женился на четверть-немке, четверть-еврейке, четверть-татарке, четверть-ещенезнаюкто Ирине Мейерхольд, отец которой, "чистокровный" полу-немец-еврей, внес неоценимый вклад не только в русское, но и мировое театральное искусство. (Есть версия, что Мейерхольд происходил из немецко-еврейской семьи. Я склонен в эту версию верить, иначе как объяснить наличие такого носа и у Мейерхольда, и у меня? И чем еще объяснить, что маму всегда вытесняли из очередей со словами "жидовка пархатая"). И вот эти нерусские по крови, но истинно русские по духу, по культуре, деятели оказали неоценимую услугу русскому народу. Они внесли огромный вклад в сокровищницу русского искусства, они укрепили его мировой авторитет. Так же, как это сделали евреи Исаак Левитан, Антон и Николай Рубинштейны (эти-то вообще до чего додумались: создали такую систему музыкального образования, которая, несмотря ни на какие революционные потрясения, ни на какие разрухи, до сих пор является непревзойденной во всем мире. Даже там, где творили их весьма способные предшественники Бах, Моцарт, Бетховен, Мендельсон и Гендель). Так что же все-таки такое русские? Кто они? Пусть каждый сам для себя ищет ответ. Я, например, несмотря на то, что, практически не имею ни капли русской крови, считаю себя человеком русским. Таковым считал себя и мой отец - полу-грек, полу-немец, полу-швед, полу-еще не знаю кто. Таковыми же себя считали и мой дед - полу-немец, полу-еврей Мейерхольд, его жена (моя бабка) полу-татарка, полу-еще кто-то Ольга Мунт-Мейерхольд. И было бы очень хорошо, если бы мы раз и навсегда оставили эту тему в покое: уж очень она непродуктивна! И пусть каждый сам определит, кто он по крови; какую религию, чью культуру исповедует. А те, кто пытается искать какие-то очень масонские заговоры,ну и пусть земля им будет пухом! (Когда-то у одного англичанина спросили: "Почему в Англии нет антисемитизма?" Он на это ответил: "Да потому, что мы не считаем евреев умнее себя"). Что же касается Меркурьева, то он, по выражению кинологов, был "двортерьер". А как известно, именно эта "порода" наиболее умна, талантлива, добродушна - и феноменально вынослива! Так что, спасибо моим предкам, что "не соблюдали породу"!
ОБРАЩУСЬ Я К ДРУЗЬЯМ...
Вскоре после смерти отца я начал собирать книгу о нем. Откликнулись многие артисты, режиссеры, бывшие ученики. И мне очень хочется, чтобы некоторые из этих свидетельств отношения к отцу его коллег стали достоянием читателей этой книги (хотя все статьи уже были опубликованы в книге "Василий Васильевич Меркурьев").
Одним из первых откликнулся на мой призыв великий актер, ученик Мейерхольда, Игорь Владимирович Ильинский.
Игорь Владимирович был уже почти слепой. Но воля у него была, можно сказать, железная. Каждый день он ездил в Малый театр на репетиции "Вишневого сада", который сам ставил и где играл Фирса. Дома он включал телевизор и "смотрел" хоккей (как говорила его жена, чудесная Татьяна Александровна Еремеева: "Он никому не признается, что не видит, даже мне. Но я же все понимаю". Татьяна Александровна тревожно вглядывалась в лицо Игоря Владимировича, брала в свои ладони его уже почти всегда холодные руки. Ильинский медленно угасал физически. Но каков же был дух этого Артиста! Как необъятна была его память!), очень активно интересовался всем, что происходит в окружающей жизни.
Когда я пришел к нему, он сказал:
- Петр Васильевич, я сам написать ничего не смогу. Если вам будет не трудно, я вам буду диктовать. А потом мы вместе подредактируем. Ладно?
Я приготовился писать, рядом присела Татьяна Александровна и внимательно слушала.
Ниже я привожу практически не редактированный текст, надиктованный Игорем Владимировичем.
Игорь Владимирович Ильинский
О моем друге
Василии Васильевиче Меркурьеве
Многие в нашей стране восприняли уход В. В. Мер курьева из жизни как личную потерю. И это естественно: Василий Васильевич был одним из немногих актеров, которому удалось войти в каждую семью родным, близким человеком. Такова была сила его обаяния, его человеческой доброты.
Познакомились мы с Меркурьевым более пятидесяти лет назад. Мы часто выступали в одних концертах. Я читал на эстраде Гоголя, Чехова, а Меркурьев играл с Толубеевым "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Гоголя. Я всегда через щелочку с восторгом наблюдал этот удивительный дуэт. Ни доли комикования, наигрыша! Удивительно органично "ворковал" свой текст Меркурьев - Иван Иванович. Он буквально вскрывал гоголевскую характеристику: "Иван Иванович умел выражаться чрезвычайно приятно". И сколько было вальяжности, элегантности в этом образе - бесконечно можно было смотреть!
После концертов мы много разговаривали. И надо сказать, Меркурьев умел высказывать критические замечания так, что над ними всегда задумываешься, но ни в коем случае на них не обижаешься. Нельзя было на него обижаться, ибо не было ему присуще чувство зависти. Был он благороден и доброжелателен. И, я бы сказал, совестлив.
Я очень жалею, что нет возможности посмотреть спектакль Театра имени Пушкина "Горе от ума" в постановке Н. С. Рашевской. К сожалению, телевидения тогда не было, поэтому спектакль не мог быть заснят на пленку. А между тем со всей ответственностью могу сказать, что лучшего Фамусова, чем тот, каким его сыграл Меркурьев, я не знаю. Он играл московского барина с легкостью. Его ухаживания за Лизой были лишены скабрезности. Он не занимался специально социальной стороной образа, не обличал своего героя, но создал образ из всех Фамусовых наиболее цельный, объемный, живой. До сих пор перед глазами стоит сцена, когда Фамусов со свечой, озираясь и пугаясь, идет по своему дому. Входит в комнату, где есть люди, сначала неподдельно пугается, а потом с облегчением и даже радостью восклицает: "Ба! Знакомые все лица!"
Каждый образ, созданный Василием Васильевичем,- живой человек и всегда значительный, объемный. Как здесь не сказать о его Прибыткове из "Последней жертвы" Островского. Исполнением этой роли Меркурьев буквально перевернул все привычные представления о Прибыткове - якобы "пауке". Нет! Это благородный купец, необыкновенно умный, достойный человек. И в такой трактовке образа Прибыткова, ценителя всего подлинного (вспомните его "я копий не покупаю-с"), совершенно по-другому воспринимается и Юлия Тугина. Она не идет на компромисс с совестью, а оценивает благородство Флора Федуловича, который, кстати, тоже полюбил не красотку-вдову, а настоящую, благородную душу. Здесь не могу не вспомнить о режиссере этого спектакля, моей соученице по мейерхольдовской школе, верной спутнице всей жизни Меркурьева - Ирине Мейерхольд. Видимо, это содружество и породило такой замечательный результат.
Еще об одном образе, созданном Меркурьевым, хотелось бы напомнить. Это Мальволио в "Двенадцатой ночи" Шекспира. Мне посчастливилось видеть разных исполнителей этой роли - и наших, и зарубежных. Видел я и Михаила Чехова, который играл смело, резко, играл гротескный образ. Но его Мальволио был злым. Мальволио Меркурьева, мне кажется, является образцом такого мастерства, когда если еще "чуть-чуть" - и будет гротеск, будет шарж, пародия. Но чувство меры у Меркурьева было поразительным! И он играет Мальволио так, что его жалеешь, смеешься над ним не со злобой.
О каждой роли Меркурьева можно сказать много слов восхищения, преклонения, уважения. Но об этом скажут театроведы - пусть они подытожат мнения и выражения любви всего народа. Я же хочу еще немного сказать о моем добром друге, замечательном, чутком человеке Василии Васильевиче Меркурьеве. Человек он был необычный, подчас неожиданный. Не терпел несправедливости к окружающим. Я вспоминаю случай, происшедший со мной. Когда я поступил в Малый театр, мы вскоре поехали на гастроли в Ленинград. Я тогда был уже достаточно популярен благодаря кино, но никаких званий не имел. Поэтому в афише Малого театра в ленинградских гастролях моя фамилия была напечатана в самом конце, перед перечислением артистов хора.
И вот в конце гастролей труппа театра выстроилась на сцене Театра имени Пушкина, и всем актерам были вручены цветы. Как-то получилось, что я остался без букета. Я вообще-то не большой любитель таких подношений, но здесь мне было обидно: всем вручили букеты, а мне нет. Да еще на глазах у всего театрального Ленинграда! И вдруг вижу, по проходу партера шагает огромная, важная фигура Меркурьева. Он поднимается на сцену и торжественно вручает мне маленький полевой цветочек (не помню: то ли незабудку, то ли ромашку). И - гром аплодисментов. У меня защекотало в горле, и я еле сдержал слезы. Чувство справедливости - тоже искусство. И его секретом владел Меркурьев.
Меркурьев был великий труженик. Некогда ему было заниматься интригами, да и не смог бы! Я знаю, как в послевоенные годы он нуждался. Семья огромная: трое своих детей, племянники, престарелая мама, еще какие-то родственники, жившие на его иждивении, да еще тот факт, что Ирина Всеволодовна в те годы не по своей воле не работала,- все это заставляло его летать по всей стране и зарабатывать деньги, но при этом - никогда не халтурить! Посмотрите любой меркурьевский эпизод - вы никогда не скажете, что он сыгран для денег. Увы, сейчас с таким нечасто встретишься. Возвращаться отовсюду Василий Васильевич старался через Москву, чтобы походить по "Мосфильму" и напроситься на пробы. И все это по крохам этот трудолюбивый скворец вез домой, чтобы накормить своих птенцов. Себе он отказывал во всем. В его квартире, в те годы похожей на табор, везде, даже на полу, спали детишки. Но именно к нему, к Меркурьеву, приходили люди за помощью, за советом, подчас за куском хлеба и на ночлег. Приходили все, кому было тяжело. Они знали: Меркурьев поможет. И он помогал всем.
Я счастлив, что могу считать себя творческим родственником Меркурьева, что был знаком с Василием Васильевичем - человеком истинной честности, прямоты, благородства.
Я счастлив, что судьба подарила мне возможность дружить с ним, встречаться. Мне горько, что таких встреч было слишком мало...
* * *
Марина Неелова, когда я ей позвонил, так долго и нежно говорила об отце, так много рассказывала о всяких случаях из студенческой жизни, что, когда я получил написанные ею воспоминания, мне показалось, что я их слышу. Прошло столько лет! Мы с Мариной почти уже ровесники, но до сих пор она называет меня на "вы".
Рассказала мне Марина и о том, как ревниво мама вспоминала обо мне, как беспокоилась о моей жизни в Москве. (Подумать только! А мне мама никогда ничего подобного не рассказывала, даже не намекала!). Когда уже недавно, в 1995 году, мы с Мариной встретились в Праге на съемках "Ревизора", то в свободное, предсъемочное время (обычно в гримерной) она рассказывала и мне, и Ане Михалковой, а иногда и Самому(!) Никите Сергеевичу Михалкову о своих студенческих годах, о том, сколько ей дали ее Мастера. Рассказала Марина и о том, как мама подослала одного из студентов ко мне в Москву, чтобы он посмотрел, как я живу и все ей рассказал. Оплатила ему эту "командировку". А я то никак не мог понять, почему вдруг ко мне приехал Олег Ефремов (не тот, что главный режиссер МХАТа, не Николаевич, а Владимирович,- чудесный, обаятельный актер, кстати, довольно много снимавшийся в кино).
Мне настолько дороги все эти люди, потому осмеливаюсь поместить здесь воспоминания Марины Нееловой.
Марина Мстиславовна Неелова
Мой первый учитель
Мне было пять лет. Я шла с мамой за руку по Васильевскому острову и тайком, чтобы не заметили прохожие, прижимала к груди и даже целовала одну фотографию. Странная штука - память. Она вдруг, не соблюдая хронологию, выхватывает из твоей жизни и какие-то, казалось бы, незначительные факты, ситуации, чьи-то фразы, взгляды, ощущения. Так вдруг вспоминаешь себя в два года, но не помнишь в семнадцать, потом в пять, потом сразу в двадцать.
Я всегда хотела быть актрисой, сколько себя помню. Но при этом никогда не собирала фотографии артистов. Единственный раз в жизни (почему?) я купила такую фотографию, и это был Меркурьев. Как нежно я любила его тогда, в пять лет, еще не подозревая, что жизнь сложится так: мне доведется провести рядом с ним четыре года, я буду учиться именно у него, потом даже забуду, что он тот самый известный и любимый всеми артист Меркурьев, а привыкну к нему как к своему учителю, которого я вижу каждый день на занятиях по мастерству.
Он был замечательным артистом, и на каждом уроке у нас была возможность убедиться в этом воочию.
Преподают все по-разному: кто-то рассказывает "про что", а кто-то показывает "как". Меркурьев был слишком артист, чтобы делать теоретические разработки - он играл. И по тому, как он это делал, мы понимали многое. Может быть, с точки зрения педагогики это было неправильно - показывать нам, но зато каждый его показ так надолго оставался в тебе, что потом дома можно было восстановить в памяти все в подробностях и разложить на полочки теории. И сейчас, работая в театре "Современник" столько лет, каждый раз, когда кто-нибудь из артистов на репетиции кидается в дебри теоретических выкладок и на словах объясняет, что он хотел сыграть, и Галина Борисовна Волчек, наш главный режиссер, говорит: "Не надо мне рассказывать, покажи!" - я всегда вспоминаю Меркурьева. Как много он тебе дал, понимаешь не тогда, когда учишься, а когда сам выходишь на сцену. И тогда все, что он показывал, как он это делал, приобретает особый смысл. Он никогда ничего не навязывал, не настаивал, он просто выбегал на сцену и показывал, этим убеждая нас, что только так и должно быть. Он именно выбегал на площадку (несмотря на грузность, он замечательно двигался и был поразительно пластичным) и проигрывал нам сцену за сценой весь спектакль, за всех: за героя, за героиню, за старуху, за девочку. Не зная слов пьесы, он, если так можно выразиться, с упоением играл на разные голоса. И не нужно было слов столь выразителен был каждый его сиюминутный персонаж, так менялся он на глазах - так ясна была сущность происходящего. Мы завороженно смотрели, смеялись, хохотали до упаду и понимали, что у нас так не получится никогда. Многие из нас пытались копировать его, повторить, что делал он, но это было невозможно, да и не этого он требовал; более того, он сердился на нас за это, обижался, что мы ничего не поняли, что мы из всего увиденного и услышанного берем только форму, попросту обезьянничаем или занимаемся подхалимажем, стараясь в точности повторить его действия. Очень скоро я поняла, что из всего, что он показывает, мне нужно понять, не как, а что. Когда это удавалось, он был счастлив. Он был замечательный зритель - он так смеялся на наших удачных этюдах, после чего, однако, очень остроумно и талантливо указывал нам на ошибки. Каждый его урок был маленьким спектаклем одного актера во множестве лиц.
Говоря о Меркурьеве, нельзя не сказать о человеке, который прожил рядом с ним всю свою жизнь (а значит, и эти четыре года с нами),- об Ирине Всеволодовне Мейерхольд. В восемь часов утра каждый день мы приходили в институт и под руководством Ирины Всеволодовны делали этюды по биомеханике, которые так нам пригодились в жизни. Сейчас я благодарю своих педагогов, которые научили меня этой науке - правильно и целесообразно использовать выразительные средства своего тела, владеть не только им, но и своими эмоциями.
Меня приняли в Институт театра, музыки и кинематографии кандидатом, то есть я не была зачислена на курс до конца первого семестра, и в зависимости от того, как сдам первый экзамен по мастерству, я буду принята или отчислена. "Что такое быть кандидатом?" - этот вопрос я задавала всем, кому можно, и получала ответ: это когда нет индивидуальных занятий с мастером. Получается, что Меркурьев со всеми будет заниматься, а со мной нет? Эта мысль сводила меня с ума несколько дней. "Как же я тогда покажу ему все, на что я способна? Когда? Он ведь может меня даже и не узнать и не заметить до самого экзамена?" Был единственный выход: обратить на себя каким-то образом его внимание.
Еще до экзаменов я слышала, что есть такие занятия, на которых студенты делают этюды с воображаемыми предметами, а поскольку я очень тщательно готовилась к поступлению именно в этот институт, то довела эту технику буквально до абсурда, часами вышивая, пришивая, нанизывая что-то на что-то, то есть делая с воображаемыми предметами то, чего никогда не делала с существующими. И вот первый самостоятельный этюд. Я играла рыболова. Запутываясь в воображаемых снастях, цепляясь за воображаемый крючок, я, короче говоря, использовала все комедийные штампы, годящиеся к этому случаю. Мне казалось, что я все делаю замечательно, тем более что меня подбадривал смех Меркурьева и Ирины Всеволодовны Мейерхольд. После этюдов, как всегда,- разбор. Доходит очередь до меня. Камня на камне не оставили! Распушили в пух и прах! Но внимание на себя я все-таки обратила.
Позже, несмотря на то, что мне не положены "индивидуальные занятия с мастером", Василий Васильевич занимался со мной, как со всеми, тратил на меня то же время, что и на всех, а иногда и немножко больше. Он всегда хотел, чтобы я сегодня была лучше, чем в прошлый раз. Он хотел, чтобы я лучше играла, лучше сдала экзамены. Он подогревал мое творческое самолюбие, верил в меня. И я хотела быть лучше, я хотела, чтобы он верил не зря. Этим он научил меня не лениться, не быть довольной собой, своими маленькими удачами. Но это было позже.
А пока Василий Васильевич показывал меня с моей воображаемой удочкой, и все смеялись. Тогда мне были преподаны в таком "капустническом" виде первые уроки и законы мастерства. И что-то главное, мне кажется, я тогда поняла. По крайней мере это "что-то" осталось во мне на всю жизнь.
Трудно вспоминать, вернее, писать о таком талантливом человеке, артисте, как Меркурьев. Воспоминание - наша эмоциональная память, при переносе на бумагу она теряет яркость.
Я не вспоминаю Меркурьева, я его всегда помню, люблю и благодарна ему за все, что в нем было и чему он пытался научить нас. Я горжусь тем, что моим первым педагогом, с которым я сделала шаг на сцену, был Василий Васильевич Меркурьев.
Вадим Витольдович Никитин
Память
Передо мной фотография бесконечно близкого и дорогого мне человека Василия Васильевича Меркурьева. И я начинаю вспоминать.
В. В. Меркурьев был нашим Учителем, как называли мы его, вкладывая в это слово всю нашу любовь и уважение,- Учителем с большой буквы! Наш Учитель был для нас образцом во всем. Он постоянно твердил: "Актер - это понятие круглосуточное". И сам следовал этому девизу. В первый же день он огорошил нас тем, что стал называть по имени-отчеству и требовал такого же обращения от нас друг к другу. В ответ на наше недоумение объяснил: "Понимаете, вот если вы к кому-нибудь обратились Петька, Галка, Вадька и т.д., то в порыве чувств вы можете неуважительно отнестись к человеку, даже обидеть его. Иное - вежливое - обращение дисциплинирует, заставляет задуматься над тем, что вы скажете дальше".
Меркурьев был не только Учителем, но и внимательным отцом нашей курсовой семьи. Помню, как однажды мы с Мариной Нееловой вынуждены были во время каникул срочно репетировать отрывки для показа на ближайшей конференции. Нам было невесело, все разъехались, мы одни репетировали в пустом институте. И вдруг в середине дня раздались шаги, дверь распахнулась, и на пороге появился Василий Васильевич. Со словами: "Ребятки, я заехал из театра вас проведать, и вот поешьте!" - он протянул нам бутерброды. И так повторялось каждый день.
В творчестве Меркурьева сочетались огромный, как иногда говорили стихийный, талант и колоссальный труд. Он был удивительно конкретен на сцене. В каждой фразе, реплике, движении! Он мог часами повторять одну и ту же фразу, добиваясь ее конкретного звучания. Нам он любил рассказывать, как они с Ю. В. Толубеевым вставали по обе стороны Фонтанки и вели диалоги, вырабатывая "посыл", избавляясь от вялости, аморфности, вслушиваясь в упругую силу звучащего слова. И при такой отточенности он умел быть неожиданным на сцене, настоящим импровизатором. Работать с ним было большим наслаждением. Помню они с И. В. Мейерхольд играли небольшой концертный номер, в котором у нее были только слова: "Пойдем домой", а у Василия Васильевича вообще никаких. Этот номер, где муж упорно не хотел идти домой, к сварливой жене, продолжался минут двадцать и шел под бесконечный хохот зрительного зала. Но однажды Ирина Всеволодовна заболела, и Василий Васильевич предложил мне заменить ее. Я попросил порепетировать, но Учитель сказал: "Ничего, текст (!) ты знаешь, а дальше - смотри за мной". И я был потрясен. Он, не говоря ни слова, посылал мне творческие импульсы, мне было на сцене легко и радостно. И я убедился, что импровизация - это не стихийное состояние, а подготавливается она трудом и талантом.
По окончании института я стал работать в том же театре, что и Меркурьев,- Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Теперь я постоянно видел его на сцене, на репетициях, затаив дыхание, следил за ним из-за кулис. Сыграть трагическую роль - было давней мечтой Меркурьева-актера. В последние годы ему это удалось. Он сыграл Бурцева в "Пока бьется сердце", репетировал Рембрандта в одноименной пьесе Дм. Кедрина. Но мне кажется, что ощущение трагического порой проскальзывало у Василия Васильевича и в острокомедийных образах, например, в его Мальволио.
К сожалению, Меркурьева в роли Рембрандта мы видели только на репетициях. Он играл ярко, сочно, "по-рембрандтовски" соблюдая все светотени. Наверное, не напрасно сетовал Меркурьев на режиссеров, которые хотели использовать в его таланте лишь то, что уже было апробировано, не заглядывали в его душу до конца.
Мне довелось присутствовать на последнем выступлении Василия Васильевича перед публикой в спектакле "Пока бьется сердце". Перед этим актер долго и тяжело болел. О смерти он не думал - во всяком случае, не говорил. Но длительные страдания сделали особенно пристальным и внимательным его взгляд, он смотрел так, как будто видел все сквозь землю. И вот его привезли на спектакль. Все с волнением следили за ним: играл он блистательно. В сцене, когда Бурцев умирает, я стоял за кулисами, совсем близко от сидевшего в каталке Бурцева - Меркурьева. Еще минута - и мне надо будет вывозить его на сцену. И вот перед тем, как ехать умирать в роли Бурцева, Василий Васильевич обернулся ко мне, посмотрел грустными глазами, и слеза скатилась по его щеке. Он ничего не сказал, только закусил губу.
Бурцев умер, в зале раздался шквал рукоплесканий. Спектакль кончился. Меркурьев - Бурцев вышел на поклон. Увы, в реальности нам не дано оживать.
Игорь Петрович Владимиров
Спасибо вам, Василий Васильевич!
Василий Васильевич Меркурьев был прежде всего актером - актером на сцене, в студенческой аудитории и даже на рыбалке. Он любил говорить о сцене или конкретном образе кратко и чаще всего "в лицах". Его показы на репетициях и уроках были удивительны и даже величественно-прекрасны. Иногда он вспоминал эпизоды своей собственной сценической биографии, например, как Мейерхольд (кстати, его любимый режиссер) во время постановки "Маскарада" Лермонтова требовал от Меркурьева, репетировавшего Казарина, чтобы он не выходил на сцену, а возникал на ней, именно возникал, и Василий Васильевич своим показом доказывал нам, своим ученикам, что это возможно. Сравниться с ним казалось кощунственным, скопировать или повторить - просто невозможным. Эти показы невольно становились смертельно опасными: от них в моей душе всегда торжествовало чувство собственного ничтожества. Торжествовало и убивало. Только тогда, когда я понял, что из показанного надо брать только его существо, только "что", а внешнее (т. е. "как") делать просто прямо противоположное, все постепенно начало вставать на свои места. Вообще о показах Меркурьева можно было бы написать целую книгу.
Меркурьев творил, опираясь на свою могучую индивидуальность, щедро развивал те огромные художественные задатки, которые были отпущены ему природой. Роли его, как правило, несли в себе блистательное знание жизни, заключенное в острую форму. И красоту, ясность, гармонию. Он любил повторять: "Если тебе дали роль - прочти ее 50 раз, если она не получилась - прочти еще 50, не получилась - прочти еще 50. Опять не получилась - верни роль, ты ее играть не можешь". При этом он ссылался на Щепкина, дескать, это его слова.
Игра Меркурьева всегда захватывала и покоряла. Я ду маю, что всенародная любовь к Василию Васильевичу покоилась не просто на сугубо национально-русском характере его таланта, но на его умении воплотить это народное начало в осязаемой, плотной конкретности. Когда Меркурьев появлялся на сцене, он заполнял собой все ее пространство. В удивительном чувстве правды он не имел себе равных. Мне никогда не забыть его блистательного Грознова в комедии Островского "Прав да - хорошо, а счастье лучше", в частности, той его знаменитой паузы, когда старый вояка неловким движением негнущихся пальцев разрубал на множество частей яблоко, делал из него нечто вроде форшмака и потом с удовлетворением начинал жевать беззубым ртом. Его купец Восьмибратов (отнюдь не главный персонаж "Леса") был ярче остальных и запоминался на всю жизнь.
Меркурьев в полной мере обладал присущим нашему народу чувством юмора. Мало кто из известных мне актеров мог быть таким серьезным в комических сценах, как он. И от этого комизм их приумножался.
Меркурьев завещал всем нам великие уроки театральности. Не было ролей, неподвластных ему. Мне кажется, что если бы Меркурьев захотел сыграть леди Макбет, то смог бы сделать и это. И зрители, сначала удивленные и даже шокированные, постепенно бы поверили и в такую леди Макбет.
* * *
Уже после того, как вышла книга о Меркурьеве, ко мне из Омска приехал Женя Массалыга - ученик родителей, выпускник 1973 года. Он так заразительно рассказывал об институтской жизни, что я предложил ему: "А ты напиши!" И вот когда я прочитал написанное Массалыгой, я понял, что никто лучше его не расскажет о педагогических принципах Меркурьева и Мейерхольд; никто не изложит так, как он, не только их достоинства, но и даже недостатки.
Вместе с Массалыгой на курсе учились замечательные, известные ныне артисты - Евгений Леонов-Гладышев, Сергей Паршин, Владимир Курашкин, Светлана Шейченко. Ну а о том, как они постигали азы актерской профессии читайте "первоисточник".
Евгений Владимирович Массалыга
Забота
Летом 1969 года мы, 26 ребят, стали студентами первого курса актерского отделения факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, класса профессора В. В. Меркурьева и старшего преподавателя И. В. Мейерхольд.
Мы тогда не знали, что первая забота о будущем курсе началась у наших мастеров задолго до нашего зачисления: кто будет вести занятия у нас по другим предметам. В результате с нами работали лучшие педагоги института. Сценической речи мы учились у давней соратницы наших учителей Зинаиды Васильевны Савковой, танцу - у уникальной Зинаиды Семеновны Стасовой, пению - у Ольги Николаевны Колгановой. Сценическое движение нам преподавали А. П. Олеванов и К. Н. Черноземов. И, конечно же, всегда рядом с нами была наша заботливая "няня" Людмила Владимировна Честнокова - третий на курсе преподаватель актерского мастерства. Рядом она была и на уроках, и на наших концертах, и на спектаклях, и, теряя большую часть своего летнего отпуска, в наших поездках по стране.
Педагоги по теоретическим предметам тоже были лучшие: А. А. Пурцеладзе, Г. И. Кургаева. Обо всех надо писать отдельно - это была плеяда педагогических звезд института.
И все-таки основные хлопоты о нас были у Ирины Всеволодовны Мейерхольд и Василия Васильевича Меркурьева. Даже когда они из-за болезни не могли приходить в аудиторию, то проводили репетиции у себя дома.
Актерское мастерство. Что это такое?
Вот я и хочу рассказать о том, чему и как нас учили Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна и как эта учеба начиналась.
Началось все с того, что на весь сентябрь мы уехали помогать труженикам села убирать турнепс и капусту.
Не стану перечислять всех событий нашей колхозной жизни. Были и радостные, были и не очень достойные, были - чего греха таить! - и, мягко говоря, нарушения распорядка дня. По простоте душевной мы думали, что, оторвавшись от дома, от глаз учителей, мы можем позволить себе некоторую фривольность. Но выяснилось, что наши мастера были в курсе абсолютно всех наших нарушений. И только благодарственное письмо хозяйства за проделанную нами работу несколько смягчило справедливый гнев мастера.
На курсе состоялся очень серьезный разговор на тему "Общественно-полезный труд". Многое мы тогда поняли. И еще мы почувствовали, что если стали называться "меркурьевцами" - это звание надо оправдывать постоянно.
Говоря об актерском труде, Меркурьев сказал, чтобы мы не настраивали себя на праздничное существование, что за всю жизнь праздников можно будет сосчитать на пальцах одной руки. И далее привел пример работы цирковых актеров. Действительно, в цирке немыслимо допустить небрежность, неточность - "иначе полетишь из-под купола цирка или тебя сожрет тигр".
Несколько позже Василий Васильевич договорился с дирекцией ленинградского цирка, чтобы мы посещали репетиции и представления. (Кстати, и Василий Васильевич, и Ирина Всеволодовна цирк очень любили и каждую программу обязательно смотрели. То есть не менее четырех-пяти представлений в сезон они посещали. А некоторые программы смотрели по нескольку раз). Теперь я очень сожалею, что по легкомыслию мы не так много посещали цирк, но и за тот небольшой срок, который мы цирку посвятили, мы успели многое увидеть, узнать, а некоторые приемы и позаимствовать. И, конечно же, прав был наш учитель в том, что принцип работы цирковых актеров должен быть предметом подражания для актеров других жанров. "Цирк - это сказка, где нет лжи, где рядом с праздником - преодоленный страх, много пота, азарт во имя победы над самим собой".
В первых числах октября состоялся, наконец, первый по расписанию урок актерского мастерства. На нем присутствовали Василий Васильевич, Ирина Всеволодовна, Людмила Владимировна Честнокова, Зинаида Васильевна Савкова и мы - двадцать шесть, немного уже отдохнувшие от сельхозработ. (Первое слово отныне и всегда - у Ирины Всеволодовны, но решающее - за Василием Васильевичем).
И вот нам рассказали о том, что ждет нас в нашей мастерской и как мы все это будем изучать. Мы узнали, что будут этюды по нескольким разделам, будем работать над отрывками из пьес, будем играть спектакли и т.д. Слушали мы, якобы поглощая каждое слово, а сами про себя думали, что все это ерунда, что мы уже готовы играть спектакли, только осталось узнать какие, так как мы уже готовые артисты, и не просто какие-нибудь, а уж по крайней мере - НАРОДНЫЕ.
В нашем институте студенты себя так и ощущают: первый курс - народные артисты, второй - артисты заслуженные, третий - просто артисты, а на четвертом думают: а туда ли мы попали...
И вот сидим мы полукругом, все из себя народные, и добросовестно слушаем. Услышали мы и серьезное, и интересное, и настораживающее, и, на наш взгляд, даже забавное: оказалось, нас разобьют на какие-то шестерки, и в этих группах будут командиры, отвечающие за своих "подчиненных", что урок будет начинаться с построения, на котором командиры будут сдавать рапорт старосте курса о наличии состава шестерок и о состоянии здоровья отсутствующих, и только потом староста докладывает Мастеру о комплектности курса, и происшедших ЧП.
Нам показалась вся эта музыка довольно странной - ведь мы пришли не в армейскую казарму и не в кадетский корпус...
Далее мы узнали, что будем заниматься какой-то биомеханикой, хоровым пением, что должны будем создать свой оркестр, что в процессе занятий нас сначала "разденут", а затем медленно, планомерно будут "оде вать"... Мы изумились. Что это за "раздевание-одева ние"? Даже как-то неловко сделалось.
В деликатной форме нам пояснили, что мы ничего не умеем. Буквально! Говорить не умеем, двигаться не умеем, слышать не умеем, и даже видеть - и то не умеем! И что в свои молодые годы уже обросли толстым слоем шелухи. И вот мы будем всему учиться заново и постепенно от этой шелухи избавляться.
Позже, года через два, Честнокова раскрыла нам одну маленькую тайну. Оказывается, задолго до вступительных экзаменов Василий Васильевич отключал свой домашний телефон, дабы не выслушивать просьб, предложений, а иногда настоятельных "руководящих" рекомендаций о приеме в институт того или иного молодого дарования. Не вскрывал он до конца экзаменов и приходящих ему писем. В год нашего поступления в институт было подано 150 заявлений на одно место среди мужчин и 200 - среди женщин. Это ведь даже вообразить страшно! А после трех туров по актерскому мастерству и общеобразовательных экзаменов нас осталось тридцать душ, из которых зачислить следовало двадцать шесть. Что ни говори, но зачисленные чувствовали себя "самыми-самыми", огромная радость переполняла наши души, и мы были готовы на все! Даже наступить на горло собственному самолюбию. Но это чертово самолюбие порывалось иногда бунтовать. В такие моменты на помощь приходила наша заботливая "няня". Она проводила с нами беседы, успокаивая и вселяя надежды на лучшее. Нашу дорогую Людмилу Владимировну Честнокову няней мы не называли, но часто ей приходилось исполнять эту трудную роль с двадцатью шестью самолюбиями. Она была как буфер между нами и Мастерами. Сейчас многое понимаешь, но тогда...
На том же первом уроке были распределены обязанности каждого. Теперь у нас появились должности, как в настоящем театре. Тут были и ученый секретарь, и помощники режиссера, и реквизиторы, и костюмеры, и осветители, и руководитель оркестра, и хормейстер и т.д. и т.д. И сложилось такое положение, при котором без лишней суеты и нервотрепки в деловой атмосфере выполнялся учебный план.
Затем Ирина Всеволодовна посоветовала курильщикам прекратить это занятие (курящими были несколько парней) и рассказала, как это сделать (из собственного, между прочим, опыта): пусть в кармане будут и сигареты, и спички для собственного спокойствия - пусть себе там спокойненько лежат. Просто не надо делать первую затяжку - и потом сама собой отпадет необходимость носить в кармане эти предметы.
Василий Васильевич добавил свои соображения по поводу курения на сцене. Он назвал этот прием штампом, которого надо избегать, что сцена пройдет сильнее, если взволнованный персонаж (или раздумывающий) не сможет закурить, и тут есть масса вариантов игры с предметами. Все зависит от фантазии исполнителя. Рассказ, естественно, был подкреплен великолепным меркурьевским показом. Надо было видеть, как Меркурьев молниеносно включался в предполагаемые обстоятельства, что он вытворял с сигаретой и спичками!!! И нам стало казаться, что еще мгновение - и этот гигант, так и не закурив, пулей вырвется из аудитории, круша все на своем пути! За какую-то минуту мы увидели спектакль без единого слова, но где все было понятно до мелочей. Вместе с восхищением, наши сердца наполнились еще и гордостью от сознания того, какой Мастер нас будет учить!
На этом же уроке нас распределили на группы для изучения иностранных языков, независимо от того, какие мы изучали в школе.
Потом рассказали, чего нельзя:
опаздывать - нельзя;
прикасаться к кулисам - нельзя (отныне они для нас - чугунные);
проходить через сцену во время репетиции - нельзя;
девочкам на сцене быть без колгот или морилки на ногах - нельзя;
приходить на репетицию "впритык" - нельзя;
пропускать лекции по другим предметам - нельзя;
встречать Мастеров в неприготовленной для работы аудитории - нельзя; и еще столько "нельзя", что голова пошла кругом.
Урок был закончен напоминанием о том, во что мы должны быть одеты на следующем занятии.
Следующее занятие проходило вообще необычно! Одеты мы были в спортивную форму. Урок проводила Ирина Всеволодовна - она тоже была в спортивном костюме. И мы приступили к изучению биомеханики, ее законов и принципов.
Рассказывать об этом предмете, рожденном Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, или описывать его - все равно что на пальцах объяснять теорию относительности.
Сам Всеволод Эмильевич о биомеханике говорил так: "Тело актера должно стать идеальным музыкальным инструментом в руках самого актера. Актер должен упорно совершенствовать культуру телесной выразительности, развивать ощущение собственного тела в пространстве. Биомеханика уделяет огромное внимание ритму и темпу актерской игры, требует музыкальной организованности пластического и словесного рисунка роли. Думаю, что биомеханика - это, собственно, что-то вроде акробатики..."
Биомеханикой мы занимались, а точнее сказать - телом и душой изучали этот предмет все четыре года. Сразу обращаю внимание на то, что любое упражнение, этюд или простое перемещение требуют включения всего актерского организма: фантазию, точное знание задачи, цели, видение, внимание, боковое зрение и так далее. И если сфальшивишь, то биомеханика потеряет свой смысл и превратится в гимнастику или аэробику.
Одна из первых сложностей, которую необходимо было преодолеть в групповых упражнениях (да и в разминке) заключалась в одновременном изменении ракурса наших фигур. (Не путать одновременное с одинаковым! Сохраняя свою индивидуальность, мы должны были перемещаться не одинаково, но одновременно). А это еще означало, что надо было и мыслить одновременно. Вот эта одновременность нас долго мучила: кто-нибудь да и "вываливался". Этот, казалось бы, пустяковый прием уже с первых уроков воспитывал в нас чувство ансамбля для будущих наших спектаклей. А навык этот играет немаловажную роль.
Урок начинался с рапорта. Потом шла разминка, основанная на несложных упражнениях, разогревающих не только мышечный, но и дыхательный аппарат. Причем, подготавливалось именно речевое дыхание.
Звучала команда: "Группа, на площадку!" Весь курс становился "стайкой" и таким образом, чтобы каждая фигура была видна зрителю, а в данном случае - учителю, и не обязательно было становиться в шахматном порядке... Просто выполнить эту команду? Чего уж проще! Но ведь это уже может быть массовая сцена в спектакле, где каждый без суеты, не оглядываясь и не "шикая" на соседа, занимал место, выгодное и для себя, и для зрителя. Достигается сие простым приемом: когда сзади стоящая фигура, исходя из положения впереди стоящих, находит свое, единственно верное, место. И не имеет значения, сколько человек на сцене: три, или тридцать три - в любом случае все пространство должно быть заполнено. Еще надо было помнить об интервалах, необходимых для безопасности и лучшего зрительского восприятия.
Кстати, об интервалах. Отрабатывали мы их не только на середине, но и при движении группы по кругу. Тут несколько сложнее, так как фигура, стоящая сзади, следила, чтобы интервал между ней и фигурой, стоящей впереди, был равен интервалу между двумя впереди стоящими фигурами. Этот технический прием был отточен до автоматизма, и мы научились перемещаться с любой скоростью, не натыкаясь друг на друга.
Далее. Во всех упражнениях и этюдах необходимо было следить за тем, чтобы не работали одновременно все мышцы. В этом отношении безупречны животные. Ирина Всеволодовна привела нам в пример кошку, как наиболее легко наблюдаемую: у нее всегда в работе крайне ограниченная группа мышц. Так было и на наших уроках. Если работала шея, то остальные мышцы были свободны (кроме ног). Потом не было необходимости за этим следить, и мы шутили друг над другом: "Сними зажим с ушей".
Учились мы и "боковому зрению". Это не значит, что надо косить глазами в разные стороны. Этим боковым зрением, не задумываясь, великолепно владеет прекрасный "слабый пол". Особи же мужского пола, как правило,- "в шорах" и видят только то, что перед их носом.
Попробуйте понаблюдать за девушкой, внимательно читающей книгу где-нибудь в людном месте. Глаза у нее будут только в книге, но в то же время она будет видеть вокруг себя все и вся. И как бы внимательно она ни читала, она оторвется от книги, чтобы взглянуть на заинтересовавший ее боковым зрением предмет или особь.
Для актеров боковое зрение имеет важное значение. Ну хотя бы для того, чтобы рядом стоящие два персонажа, наблюдая один воображаемый предмет, не глядели в разные стороны. Хорошим тренингом для развития бокового зрения у нас было упражнение "Самолет". Над сидящими полукругом учениками пролетал воображаемый самолет справа налево и, наоборот, слева направо с разной скоростью. У наблюдающего за группой создавалось полное впечатление, что все видят один предмет. (Звук летящего самолета, естественно, "озвучивали" сами студенты).
В разминке мы разогревали все группы мышц и наряду с этим изучали отдельные элементы, необходимые для биомеханических этюдов. Тут мы научились пользоваться своими "нижними конечностями". В разговоре о них мы узнали, что Всеволод Эмильевич Мейерхольд, слушая абитуриента, как правило, глядел на ноги, прикрыв ладонью глаза - он таким образом определял степень одаренности будущего ученика. Конечно, не может правдоподобно восприниматься героическое произведение, если ноги исполнителя будут в положении (или позе) отдыхающего человека. Тут опять - "о наших баранах": внутренняя жизнь персонажа должна соответствовать внешней форме или наоборот. Грубо говоря, должно быть единство формы и содержания, если, конечно, играется не фарс или водевиль.
Но вернемся к ножкам.
В походке каждого здорового человека можно наблюдать несколько пластических рисунков. Основные из них - два. Это эксцентрическая (так ходят балерины) и концентрическая (стойка боксера). То и другое мы использовали в наших этюдах. Эксцентрику мы применяли в упражнении "Хулиган". Концентрику, как наиболее устойчивую,- при выполнении поддержек. У нас существовали такие понятия, как "передняя" и "задняя" нога при всеобщей двуногости. Сделав шаг вперед и перенеся тяжесть тела на впереди стоящую ногу, не двигайтесь - и вы окажетесь на "передней" ноге, а если еще при этом вас впереди что-то заинтересует, это уже будет положение, называвшееся у нас "внимание". Когда же, расслабив внимание, вы медленно перенесете тяжесть тела на "заднюю" ногу, это уже будет положение, называемое "отказ". "Отказ" - и есть поза отдыхающего человека.
Вспомните кошку на охоте. Тут есть и поза "внимание", есть и "отказ" перед атакой. В быту обычно не обращают внимания на подобную чепуху, но мы, актеры, должны об этом помнить и при необходимости это применять.
Курсы, ведомые до нас Мейерхольд и Меркурьевым, тоже занимались биомеханикой, за что в институте их обзывали "биофизиками", "биохимиками", демонстрируя тем самым свое презрительное отношение к предмету. Но нас уже не дразнили, а только внимательно следили за нашими результатами в этом деле, а некоторые педагоги института начали использовать ряд элементов биомеханики и на своих курсах.
Слово "этюд" французы перевели буквально как "изучение", а относительно театрального дела - как упражнение в педагогике, служащее для развития актерской техники. Состоит этюд из различных сценических действий, импровизированных или заранее разработанных преподавателем.
Что такое импровизация для нас? Василий Васильевич пояснил ее на примере Николая Константиновича Черкасова, который записывал импровизацию на бумаге, выучивал, а уж затем, по выученному, выходил на сцену и импровизировал. Так и нас учили: "сначала завизируй, а потом импровизируй".
Вообще Меркурьев старался передать нам опыт не только свой, но и опыт своих учителей и партнеров. Так, например, он настаивал, чтобы мы обязательно смот рели, как работают на сцене Н. К. Симонов, Ю. В. Толубеев. Мастер говорил: "Надо уметь смотреть и видеть".
Но вернемся к этюдам.
Своеобразной этюдной групповой работой для нас было хоровое пение. С нашим хором работал приезжавший из Москвы к родителям Петр Васильевич Меркурьев. Он был главным хормейстером и консультантом этого предмета, а в его отсутствие хором руководила наша сокурсница, имевшая музыкальное образование. В репертуаре нашего хора были многоголосные произведения (в частности, русские народные песни "В темном лесе" в обработке Свешникова, "Со вьюном я хожу", "Вечерний звон", песни "Дороги" Новикова, "Бухен вальдский набат" Мурадели и многие другие). В хоровом пении преследовались две цели: развитие чувства ансамбля и, естественно, развитие музыкальности будущих драматических актеров. (Скажу попутно, что после отчетного концерта нашего хора профессора Макарьев и Сойникова попросили у наших мастеров "поэксплуати ровать" их сына на их курсах в те же дни, когда он занимается с меркурьевским хором. И в течение целого полугодия у нас были "младшие коллеги").
Этюды биомеханики Мейерхольда. Каждый из них был своего рода мини-спектакль, в котором есть все компоненты драматургии.
На лекциях по психологии творчества мы убеждались в верности мейерхольдовской системы, созданной задолго до нашего появления на свет. Вот только некоторые положения, подтверждающие жизненность этой школы:
"На сцене должны происходить открытия человеческих отношений";
"Доброта - это означает: идти от других людей";
"Любить - образ любимого постоянно в сознании любящего" (Ромео и Джульетта);
"Актер играет еще и энергией, которая в нем заложена";
"С персонажем должна происходить ломка динамического стереотипа".
Все это происходило в наших (точнее, в мейерхольдовских) этюдах.
Работая над этюдами, мы овладевали основными "поддержками". На одном из первых занятий по биомеханике, показывая первую "поддержку", Ирина Всеволодовна (ей было в то время 64 года) взяла на плечо одного нашего крепенького парня и с ним побежала по площадке. Мы были поражены! Человек почтенного возраста, после двух инфарктов за плечами, бегает как девочка, да не просто так, а с приличным грузом (ну никак не менее 70 килограммов) на плече!
А что же Василий Васильевич? Его глаза выражали любовь, восхищение и... спокойствие за свою супругу.
"Сбросив" с себя нашего парня, Ирина Всеволодовна пояснила, что весь секрет состоит в умении владеть центрами тяжести обеих фигур. И если эти центры совпадают, то можно удерживать большой вес совершен но спокойно. "Вспомните штангистов",- сказала И. В. Ну, тягать штангу у нас необходимости не было, а вот с партнерами мы работали каждый день. На этом же уроке мы разобрались и с пластикой пьяного человека. Главная его забота - поймать ножками постоянно смещающийся центр тяжести головки, а не наоборот.
Еще Ирина Всеволодовна рассказала нам, что в далекие годы учебы в ГВЫРМе ее партнером на биомеханике был высокий, крупный парень, и тогда они по очереди носили друг друга (этим парнем был Валерий Инкижинов, исполнитель главной роли в фильме Пудовкина "Потомок Чингисхана").
Немного позже и наши девочки, по собственной инициативе, научились переносить на своих плечах парней.
Поддержки шли у нас в нескольких этюдах. Таких, как "Цирк", "Разведчики", "Вий" и другие.
Постепенно на наших занятиях у ребят стала проявляться способность к сотворчеству. Так появился у нас биомеханический этюд "В замке", скомпонованный из разных элементов. Этюд создавался в отсутствии Ирины Всеволодовны, и мы, откровенно говоря, ждали крепкого разноса за самодеятельность. Но когда Ирина Всеволодовна посмотрела, то сказала: "Вот это - Мейерхольд". Так под влиянием наших Мастеров мы стали мыслить и действовать "по-мейерхольдовски", и его принципы всасываются в нашу кровь, в наше существо, в наши души.
Очень объемным, очень насыщенным был для нас первый год обучения. Как обещали мастера медленно и планомерно очищать нас от всего наносного, ненужного, так все и происходило.
Помимо ежеурочных занятий по биомеханике, мы периодически получали практические задания: самостоятельно создавать актерские этюды. Поочередно нам было дано порядка одиннадцати тем, более половины которых - для одиночного исполнения. Вот названия некоторых из них: "Спортивный этюд", "Общение с животным", "Животные", "Общение с предметом", "Общение через предмет", "Ассоциация", "Ах, как хорошо!". Попробую пояснить суть этих заданий.
"Спортивный этюд" - это переход от биомеханики к этюдам вообще, где должно быть событие, должна быть цель, оценка результата и эмоциональный отклик; допускались воображаемые предметы, но все тело должно работать без всевозможных мелких движений.
"Диалоги животных" - начало изучения общения партнеров через наиболее простые взаимоотношения очеловеченных характеров животных при включении в работу всего тела. Это задание - тоже из области биомеханики.
"Общение с предметом" - здесь предмет должен неожиданно изменить поведение человека и таким образом, чтобы человек оказался в конфликте с этим предметом.
"Общение через предмет" - тут предмет (аксес суар) должен явиться причиной конфликта - или наоборот.
"Ах, как хорошо!" - этюд на полное раскрепощение, когда в момент полного внутреннего покоя и комфорта может возникнуть текст.
"Ассоциация" - в этюде она должна быть не "лобовой", а неожиданной, т.е., условно говоря, чтобы, глядя на кирпич, не возникала мысль о строительстве, а, скажем, о березовой роще или об одиночестве, после чего могут возникнуть стихи.
В этюдах проверялась наша наблюдательность, фантазия и умение передать задуманное.
Этюды придумывались и репетировались дома, а в назначенный день приносились для показа на курсе. Вот на этих-то показах и стала обнаруживаться наша "шелуха", о которой в начале говорили нам мастера, и которую теперь мы увидели сами. Обсуждали наши этюды не только мастера, но и каждый должен был высказаться. Ох как трудно было оценивать чужую работу, сознавая, что точно такие же недостатки и промахи есть у тебя самого! В этих обсуждениях мы учились не быть критиканами и нормально воспринимать критику в свой адрес. Мы учились мыслить и самостоятельно инициативно работать. Надо сказать, что инициатива только приветствовалась мастерами: будь то этюд, или персонаж в пьесе. Ирина Всеволодовна только предупреждала, чтобы мы не раскрывали своих задумок до окончательного показа. Иначе, говорила она, "сопрут идею, исковеркают ее, а виновником будешь ты сам, и идея перестанет быть твоей".
Наши "приносы" после замечаний мастеров и их правки приобретали качественный вид, при котором уже не стыдно предстать перед почтенной публикой. Целый ряд этюдов, созданных на первом курсе, мы показывали с большим успехом на протяжении всех четырех лет нашего пребывания в институте.
Для работы над драматургией мы еще в первом семестре отобрали, а мастера утвердили две пьесы советских авторов: "Два цвета" А. Зака и И. Кузнецова и "В поисках радости" В. Розова. И хотя эти пьесы нам были наиболее близки и понятны и, казалось бы, на них проще было освоить азбуку и основу актерского мастерства, они все равно были не из легких.
Роли были распределены таким образом, чтобы настоящая, нелегкая для нас работа шла параллельно и покой нам только снился. А Вась Васич еще и подшучивал, говоря, что трудно только первые шестьдесят пять лет, потом будет легче.
Первый год обучения венчался экзаменом. Откровенно говоря, мы его боялись. Кто-то из нас, "самых-самых", мог покинуть курс по профнепригодности. Этот диагноз был самым страшным на факультете драматического искусства, его нельзя "проскочить", так как проявиться он мог и в середине третьего курса - и даже тогда студента бы отчислили. И хотя такие случаи бывали крайне редко, каждый из нас чувствовал над своей головой "дамоклов меч".
Экзамен есть экзамен. Во всяком случае, мы были настроены на то, что подготовиться к экзамену по мастерству надо как можно лучше. А что это значит на актерском отделении? Ни формул, ни графиков, которые можно было бы вызубрить, в нашей профессии нет. Более того - в актерской профессии ты еще в колоссальной степени зависишь от партнера. То есть ты зависишь от всех, но и все зависят от тебя. Мы знали, что на экзамене будут не только мастера, не только педагоги других мастерских, но еще и студенты других курсов - и эта толпа займет больше половины пространства нашей аудитории. Естественно, придут и "доброжелатели" (не будь Господа, не было бы черта). И мнение этих "доброжелателей" для нас очень важно, так как, по убеждению Ирины Всеволодовны (и уже нашему), только недоброжелатель может дать наиболее объективную оценку твоей работы. Он не простит промахов и не пожалеет тебя, и таким образом, как это ни парадоксально, поможет убрать какие-то недостатки. "Слушайте своих "врагов" внимательно,- говорила Мей ерхольд,- 85% из сказанного будет полезно для вас".
В подготовке к экзамену времени, естественно, не хватало, и мы проводили репетиции после занятий. И к нам после нелегкого вечернего спектакля в Пушкинском театре приезжали мастера. С их приездом работа начиналась с "перерыва". Ирина Всеволодовна вынимала кошелек и отправляла гонцов за молоком, батонами и колбасой в магазин. После того как все дружно съедалось, начиналась репетиция. Заканчивали, как правило, за полночь, и тогда почти все укладывались спать прямо в аудитории (конечно, кроме Мастеров, которые жили неподалеку и домой шли пешком). Мастера писали записки или звонили родителям студентов-ленинградцев, чтобы те не волновались или не подозревали своих чад в предосудительном поведении.
На генеральный прогон экзамена Василий Васильевич пригласил своего коллегу, соученика по институту, народного артиста СССР Юрия Владимировича Толубеева, чтобы мы ему как бы сдали экзамен. Надо сказать, что хотя мы и привыкли к постоянному присутствию на наших занятиях и бывших учеников наших мастеров и многих приезжих режиссеров, актеров, педагогов, театральных критиков (наши уроки всегда были открытыми), то тут мы порядком переволновались. Но доброе отношение к нам прославленного артиста, его замечания и пожелания, высказанные после просмотра "свежим глазом", во многом нам помогли.
Вообще Меркурьев и Мейерхольд часто практиковали всевозможные показы. К нам приходили и студенты театральных школ, приезжавшие в Ленинград из разных стран мира: у нас были ребята из США, Франции, Германии. Но однажды мы показывали свою работу приехавшему из Москвы другу Василия Васильевича и Ирины Всеволодовны, народному артисту СССР Борису Петровичу Чиркову. Эта встреча стала для нас одной из самых памятных.
Итак, в назначенный день и час начался наш первый экзамен. Народу набилась тьма тьмущая! Казалось, что все курсы, отменив свои занятия, собрались в маленьком зальчике на втором этаже.
Экзамен, как и урок, начался с рапорта. Затем - показ спектакля-праздника. Мы показали часть этюдов из биомеханики, несколько этюдов различных разделов программы по актерскому мастерству, две песни спел хор. Показали и отдельные сцены из готовящихся спектаклей "Два цвета" и "В поисках радости". Заканчивался экзамен концертом, где были песни, танец и ряд номеров из наших курсовых "капустников".
И действительно, это был праздник. Праздник молодости, задора и фейерверк индивидуальностей. Все, кому довелось побывать тогда на нашем экзамене, получили ответы на вопросы "кто мы?" и "что мы?". Экзамен показал, что наряду с интересными творческими находками и решениями, мы уже технически и творчески выше аналогичных курсов. Это была победа. Наша первая победа. Победа и ребят, и наших учителей. А говоря об учителях, считаю невозможным не рассказать о нашем преподавателе сценической речи Зинаиде Васильевне Савковой.
В свое время Зинаида Васильевна закончила в нашем институте актерский курс профессора Леонида Федоровича Макарьева (соратник А. А. Брянцева по созданию ТЮЗа, известный режиссер, актер. Телезрители его помнят по фильму "Операция "Трест", где он играет роль ведущего, историка-комментатора). В те времена по окончании института можно было получить две специальности это зависело от желания студента, от степени его дарования и трудолюбия. Так вот, З. В. Савкова получила диплом актрисы драматического театра и преподавателя сценической речи. И случилось так, что предпочтение она отдала второму своему призванию. Ныне она - заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующая кафедрой речи Государственной академии культуры.
Савкова требовала внимательной и скрупулезной подготовки к ее урокам. Требовала, чтобы овладевали техникой речи до такой степени, что, выходя с текстом на площадку, мы забывали о ней. Зинаида Васильевна придумывала всевозможные дополнительные занятия с нами. Так, например, под ее руководством нами была сделана поэма В. В. Маяковского "Комсомольская", шедшая в наших концертах - мы овладели "лесенкой" Маяковского. Мы работали над поэмой Некрасова "Поэт и гражданин". Иногда репетиции проходили в нашем общежитии на Васильевском острове - Зинаида Васильевна приезжала и туда.
Савкова - педагог, идеально владеющий всем комплексом сценической речи. Нам она поначалу показалась весьма резким, даже безапелляционным человеком, не стесняющимся в оценках и замечаниях по поводу нашего "чтива". Однако, попривыкнув к такой форме общения, мы поняли, что иначе нельзя.
На групповых занятиях по сценической речи мы сидели полукругом в положении "тело на колок" - чтобы позвоночник был прямой, а диафрагма, шея и руки были свободными. В таком положении, поначалу очень утомительном, мы начинали работу по разогреву речевого аппарата и освоению технических навыков. Но большую часть упражнений выполняли на ногах. Прежде всего мы учились мышечной свободе (то же самое, что и на биомеханике!). Многие упражнения были просто-напросто игровыми, как у детей. Научились мы и "полаивать", и произносить гласные звуки округленным, окультуренным звуком, избавились таким образом от "базарного", открытого звучания. Воспитывали мы и речевой слух. Для этого у каждого был заведен "антисловарь", куда записывались услышанные где-либо неверно произнесенные слова и фразы.
В некоторых театральных школах занимаются скороговорками. У нас они назывались несколько иначе. Мы занимались "чистоговорками". По Савковой чистота первична, а темп вторичен. Хорошим подспорьем в этом деле было видение того, о чем идет речь.
Во время групповых и индивидуальных занятий у Зинаиды Васильевны иногда вырывались реплики, оставшиеся в памяти: "Чем гордее, тем тупее", "Я учу словодействию, а не художественному слову", "Техника должна опережать творчество", "Не контролируйте себя, будьте актерами, а не режиссерами", "Чем меньше ударений, тем больше ваша речь похожа на русскую", "Мы должны быть театром автора", "Главное при создании характера образа - речевой фактор", "Понять в нашем деле - значит попробовать сделать", "Монолог самое действенное начало", "Пауза бывает при наличии видений", "Не скисайте, когда вам делают замечания", "Играйте "от пупа".
Последнюю фразу мы часто слышали на занятиях - по школе Савковой необходимо "говорить" мышцами брюшного пресса, обеспечивая тем самым минимальную нагрузку на связки. Когда же связки актера напряжены, то голосовые связки у внимательно слушающего зрителя, повторяющие все колебания связок актера, тоже находятся в работе, и, в конце концов, зритель начинает просто кашлять! Зинаида Васильевна поставила нам голоса, мы научились ими владеть, научились мыслить в драматургическом, да и в любом литературном материале. Многие, прошедшие школу Зинаиды Васильевны Савковой, прекрасно преподают сценическую речь в различных учебных заведениях. Ее школа - это школа на всю актерскую жизнь. Школа, которая, например, просто не допустит пропадания голоса даже при простуде. "Если вы больны,- говорила она,- то это очень хорошо, ибо в таком состоянии организм сам оберегает связки и заставляет работать другие мышечные группы". Увы, можно встретить актеров, у которых безо всякого заболевания вдруг пропадает голос. Это называется - несмыкание связок, которое означает профнепригодность. В таких ситуациях актер жалуется на недуг, желая вызвать сострадание. А в чем ему сострадать? С учениками Савковой такого не происходит никогда.
И тогда, когда мы учились, да и сейчас Зинаида Васильевна для нас авторитет непререкаемый. Мы всегда боялись ее оценок. С парнями она говорила "по-мужски", с девочками - соответственно их психологии. Каждый из нас наполнялся радостью, когда у Зинаиды Васильевны не было серьезных замечаний (правда, по мере нашего творческого роста, росли и ее требования к нам). Как-то она сказала, что если в общественном месте на нас начнут обращать внимание, как на "дуриков", бормочущих какие-то тексты, значит, мы находимся в творческом процессе и на верном пути поиска. И если вдруг мы станем писать по-русски неграмотно, значит, мы освоили законы орфоэпии.
Хочется добавить, что в силу своего дарования и профессионального уровня Савкова была огромным авторитетом и для Василия Васильевича Меркурьева. Наш мастер часто консультировался с ней по поводу текстов своих ролей и выражал сожаление о том, что в студенческие годы у него не было такого, как Зинаида Васильевна, преподавателя сценической речи.
В первом же семестре первого курса у нас в мастерской был создан оркестр. Вернее - ансамбль из нескольких инструментов. Мы с удовольствием играли "для себя", но наши мастера считали, что в нашем воспитании большую роль играет зритель, и чем раньше мы начнем выходить перед зрителем, тем лучше для нас.
Эстрадных и оперных певцов среди нас не было. Но мы были "меркурьевцами" и знали, что из всякого положения нужно выходить при помощи тех средств, которыми располагаешь. И в своих концертах мы старались показать то, чему нас учили. В результате часовой концерт был собран к нашему первому выступлению. Работали мы по принципу, сформулированному Ириной Всеволодовной: "Имеешь на копейку - выдавай на копейку. Будет пятак - выдашь на пятак".
Первый концерт состоялся 23 февраля 1970 года для воинов Советской Армии. Прием был очень теплым, этот успех окрылил нас и отбросил сомнения по поводу интереса к нашим номерам.
Постепенно наша программа дополнялась, расширялась. Но мы страдали от наших "ширпотребовских" инструментов и малого барабана, стоящего на декоративном табурете на гвоздях.
Узнав о наших затруднениях, Вась Васич прямо при нас позвонил в Москву на базу министерства культуры СССР и попросил помочь. Ему ответили, что на складе площадью в триста квадратных метров "хоть шаром покати". Когда же на вопрос "кто говорит?" Меркурьев представился, то через пару недель институт получил контейнер, в котором были импортные электрогитары, ударная установка и импортная акустическая система с микрофонами. Сейчас этим никого не удивишь, но ведь мы тогда жили при советской власти, шел только еще 1970 год. Радости нашей не было конца! Теперь-то уж можно делать настоящий концерт!
Не в ущерб институтской программе мы много концертировали - дали более ста концертов для зрителей самых разных профессий различных регионов Советского Союза. Естественно, во время учебного года наши выступления проходили только в Ленинграде и области, а летом мы, как правило, отправлялись в дальние поездки. И все эти поездки организовывал для нас Вась Васич.
Сразу после экзамена, завершившего первый курс, вся наша мастерская вместе с В. В. Меркурьевым, И. В. Мей ерхольд и Л. В. Честноковой поехала в город Кириши Ленинградской области. Потом, уже без мастеров, улетели в Душанбе. В аэропорту нас провожали Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна. Меркурьев познакомился с командиром самолета и получил заверения, что его ученики в целости и сохранности будут доставлены в Ташкент, а оттуда уже рукой подать до столицы Таджикистана. В Душанбе нас встретили на пяти автомобилях "ЗИМ", как самых дорогих и почетных гостей республики, отдавая тем самым, конечно же, должное нашему Мастеру.
Лето после второго курса мы проводили на Дальнем Востоке, где обслуживали студенческие строительные отряды. Мы побывали во Владивостоке, Находке, в Пограничном, Пожарском, Партизанском, Хасанском, Хорольском, Ханкайском, Иманском, Кировском и других районах Приморского края. Побывали и у пограничников заставы Тарташевка, заставы Ивана Стрельникова и там тоже дали концерты. Причем на сцене комнаты отдыха было нас 15 человек - и в зале столько же. Но работали мы с такой отдачей и подъемом, будто выступали перед огромной аудиторией в лучшем зале Ленинграда.
После третьего курса мы выступали перед воинами Мурманска, Архангельска, свозили свои спектакли в Эстонию. После всех наших поездок мы привозили массу грамот, дипломы.
Мастера очень внимательно следили за нашим концертированием и, когда была возможность, ездили с нами. Однажды Василий Васильевич сам принял участие в нашей встрече с воинами одного из гарнизонов. Он прочитал "Аристократку" М. Зощенко. Это было неповторимо! Для нас его чтение было удивительным уроком того, как надо читать подобные вещи. Какие у него были оценки незадачливого героя "Аристократки"! Сколько было подтекстов! Какая озабоченная, несчастливая и убежденная фигура угадывалась за текстом, и как серьезно передавались события рассказа исполнителем! Гомерический хохот стоял чуть ли не после каждого слова, произнесенного Меркурьевым.
С каждым семестром мастерам становилось все проще с нами работать - а в чем-то и сложнее. Проще, так как от урока к уроку мы становились грамотнее, а сложнее - по той же причине. Но в любом случае с каждой встречей было интереснее и нам, и нашим мастерам. Постепенно мы стали походить на снежную лавину, управляемую волей и талантом гениального человека. Каждый из нас был снежинкой, а все вместе - силой, способной не крушить, а созидать для других.
С самого начала нашей учебы Василий Васильевич мечтал о создании на базе нашего курса своего театра в Ленинграде. И с первого же курса мы стали работать над будущим репертуаром. Легких семестров у нас не было. На сцене Учебного театра ЛГИТМИК мы занимались только сборкой спектаклей, а вся черновая работа, репетиции проходили в аудитории. Но аудитория и сцена разные вещи, и, главным образом, по акустическим условиям. Выйдя на сцену, мы моментально обнаружили грешок, называвшийся в мастерской "подсобойчик" это когда нас просто плохо слышно. Чтобы преодолеть это, Меркурьев подсказал нам простой способ: "Репетируйте свои диалоги через Фонтанку". Способ простой для Меркурьева, а для нас? Ведь после подобной репетиции нас вместе с партнером могут прокатить в один из казенных домов... Это на первомайских и октябрьских демонстрациях мы позволяли себе останавливать колонну на Дворцовой площади, стоять до тех пор, пока на нас обратят внимание руководители города, и прозвучит с трибуны: "Да здравствуют студенты и преподаватели Театрального института!" - после чего гремело восторженное "ура!" и колонна двигалась дальше. Но в праздники такое простительно и понятно, а в будние дни? И мы, не выходя на Фонтанку, стали репетировать свои диалоги, стоя в разных углах зала.
Однажды, когда мы репетировали начало спектакля "В поисках радости" на сцене, между Вась Васичем и Ириной Всеволодовной произошел "скандал", наблюдать который без улыбки было просто невозможно. Один из героев пьесы, Коля, возвращается домой со свидания в шесть часов утра через окно. Из громкоговорителя слышен бой курантов. Ирина Всеволодовна велела Коле появиться в окне на четвертом ударе часов. Вот тут начался своеобразный диалог между мастерами.
Меркурьев: В котором часу появляется Коля?
Мейерхольд: В шесть часов.
Меркурьев: Тогда почему все происходит после четырех ударов? Значит, он появляется в четыре часа?
Мейерхольд: Нет, в шесть.
Меркурьев: Но часы бьют четыре?
Мейерхольд: Они бьют шесть!
Меркурьев: Как же в шесть, когда часы бьют четыре удара?
Этот диалог продолжался довольно долго. Наконец Вась Васич сдался, и только потому, что постановщиком спектакля была Ирина Всеволодовна. Ну а Коля, как и в начале репетиции, появлялся во время боя курантов в шесть часов утра, но после четвертого удара, а часы продолжали свой бой.
Потом был показ диалога Коли и Олега в исполнении Меркурьева и Мейерхольд. Ребята "подбрасывали" мастерам тексты ролей, а учителя играли. Нет, они не играли. Они показывали нам то, что должно происходить в этой сцене. Вообще конфликты между учителями возникали очень часто, и почти всегда "яблоком раздора" были мы - у Вась Васича к нам были весьма завышенные требования, а Ирина Всеволодовна считала нас все еще зелеными, и в этом, скорее всего, проявлялось материнское чувство. Василий Васильевич же проявлял более строгие, отцовские чувства. Когда же обиженная непониманием Ирина Всеволодовна уходила в преподавательскую, то, как правило, за ней приходилось идти нам и приносить свои извинения за нерадивость.
У наших мастеров была своя терминология, помогавшая нам в работе. Так, Василий Васильевич часто поль зовался им самим придуманным термином "ШАЙБА". Василий Васильевич был страстным болельщиком хоккея. И всегда смотрел состязания по телевизору. А "ящик" у Меркурьевых был далеко не первоклассный, черно-белый, с не самым лучшим изображением. И во время хоккейного матча шайбу просто не разглядеть. Но во время игры за шайбой следят не только хоккеисты, но и зрители на трибунах и у телевизоров, и все безошибочно знают, где этот маленький кружочек находится. Так и во время спектакля: объект внимания, за которым следят исполнители, а вслед за ними и зрители, постоянно перемещается. Когда же во время репетиции наше внимание "разваливалось", терялась суть сцены, из зала звучал голос Меркурьева: "Где шайба?" Объяснять нам уже ничего было не надо, мы все моментально понимали и выполняли. Были и другие термины, например: "Смена ракурса при смене куска" (не мельтешить на сцене), "Не сидеть на двух стульях одновременно" (не раздваивать свое психофизическое действие), "Прямая - не есть самый короткий путь" (это о выразительности при перемещениях) и другие.
Однажды Ирина Всеволодовна спросила: "Для чего персонажу нужен текст?" И сама ответила: "Для того, чтобы скрыть свои цели и намерения. Правда, в современной драматургии, к сожалению, чаще всего все говорится впрямую".
Как-то накануне одного из праздников наши парни, жившие в общежитии, сидели в глубочайшей тоске без денег. Стипендия не скоро, а перехватить было негде. Вдруг одному из нас пришла в голову спасительная идея: съездить к мастерам домой и одолжить пару десяток рублей "на ботиночки". Автор идеи умчался, а остальные набрались терпения и стали ждать. Часа через два гонец вернулся... с ботинками!
Выяснилось, что когда "гонец" пояснил причину своего нежданного визита, Ирина Всеволодовна спросила (так, между прочим), какого размера ботинки он носит. И тут произошло то, что называется "переиграл". На голубом глазу наш герой заявил, что нога у него аж сорок пятого размера (а в самом деле он носил сорок третий). Мейерхольд обрадовалась и вынесла из соседней комнаты новенькие, красивые ботиночки, сорок пятый номер, купленные для сына Пети.
Лет через пять, вспоминая эту историю, Ирина Всеволодовна, хитро улыбнувшись, сказала, что сразу догадалась, куда пошли бы деньги, взятые "на ботиночки".
А сколько было взято у мастеров денег в долг! И на наши заверения о возврате с ближайшей стипендии Ирина Всеволодовна, как правило, отвечала: "Вернешь с первой пенсии". Но мы старались возвращать вовремя, "не дожидаясь пенсии". Свинтусами оставаться не хотелось.
На втором курсе (в четвертом семестре) в жизни нашего курса произошло знаменательное событие: мы все вышли на сцену Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и играли рядом с нашим учителем. В это время Ирина Всеволодовна ставила там спектакль "Последняя жертва" А. Н. Островского. Василий Васильевич готовил роль Прибыткова, а мы играли гостей и танцующих в купеческом клубе. Сцены в клубе с массовкой были придуманы Ириной Всеволодовной специально для нас - учителя очень хотели, чтобы мы учились и рядом с мастерами знаменитой Александринки. А в спектакле были заняты замечательные актеры! Это народный артист СССР Константин Игнатьевич Адашевский, народные артисты РСФСР Георгий Константинович Колосов, Галина Тимофеевна Карелина, ученик наших мастеров, заслуженный артист РСФСР Семен Сытник, заслуженная артистка РСФСР Вера Николаевна Вельяминова (она играла небольшой эпизод, также специально для нее выдуманный Ириной Всеволодовной: Вера Николаевна превосходно пела салонные романсы, и в этом спектакле она создавала особую атмосферу в сцене купеческого клуба). Премьера состоялась 28 июня 1971 года.
А 9 ноября 1971 года состоялся первый наш спектакль на сцене учебного театра "В поисках радости" В. С. Розова. Трудно говорить о своем спектакле, но уже один тот факт, что студенты в начале третьего года обучения играют целый спектакль, говорит о многом - ведь обычно спектакли играют только на четвертом курсе.
Самым насыщенным и трудным был четвертый курс. Помимо плановой работы, мы, по разрешению мастеров, репетировали у студентов режиссерского факультета, учеников З. Я. Корогодского Йонаса Вайткуса (ныне известного во всем мире литовского режиссера) и Александра Азаревича. Эти наши опыты ("Рай и Ад" Мериме, "Любовь, джаз и дьявол" Грушаса) смотрели Ирина Всеволодовна и Василий Васильевич. К сожалению, из-за организационных трудностей талантливым ученикам Зиновия Яковлевича Корогодского эти спектакли не удалось показать на сцене учебного театра. По таким же причинам не осуществились задуманные нашими мастерами спектакли "Слуга двух господ" Гольдони и "Тристан и Изольда" А. Я. Бруштейн. А причины - самые прозаические: нехватка средств и загруженность сцены учебного театра.
Но наши мастера все время думали о том, чтобы мы имели максимально большое количество встреч со зрителями. Уже во время нашей учебы на третьем курсе Василий Васильевич договорился о том, что наш курс возьмет шефство над театральной самодеятельностью Выборгского района Ленинграда. Был подписан соответствующий договор между нашим институтом и руководством района. Основная нагрузка, естественно, лежала на нашей мастерской. Мы работали во Дворце культуры завода "Красный выборжец". В этом дворце нам были предоставлены зал, сцена для работы со студийцами. Для ребят студии мы были наставниками и репетиторами, а они в свою очередь были исполнителями массовых сцен в нашем новом спектакле "Два цвета", который мы и выпустили на сцене "Красного выборжца" 11 ноября 1972 года.
Параллельно с "Двумя цветами", где был занят весь курс, мы работали над "Французскими водевилями" ("Пощечина", "Майор Кровашон", "Утка и стакан воды"). Премьера этого спектакля прошла в октябре 1972-го.
Я специально отмечаю даты наших премьер, чтобы было ясно, какую огромную нагрузку навалили на нас мастера (естественно, эту нагрузку несли и они). Мы работали без продыха. Готовя спектакль "Французские водевили", мы "обкатывали" каждый водевиль по отдельности на разных площадках Ленинграда, еще и еще раз проверяя на зрителе нашу работу.
Как-то Василий Васильевич с Ириной Всеволодовной улетели в Семипалатинск. (Василий Васильевич очень много ездил по стране, играя в провинциальных театрах. Причем делал это с огромной ответственностью; выезжал заранее, чтобы как следует отрепетировать спектакль; чтобы, не дай Бог, не унизить местных актеров, не подавить их своей глыбищей, своим феноменальным мастерством! Для него главным в искусстве было - АНСАМБЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ). Естественно, эта поездка должна была быть не более чем на 10 дней: впереди у нашей мастерской был выпуск двух спектаклей. Но в Семипалатинске случилось непредвиденное: у Ирины Всеволодовны - инфаркт, у Василия Васильевича - гипертонический криз и обострение диабета. И возвращение мастеров в Ленинград задержалось аж на два долгих месяца. Наконец врачи разрешили лететь в Ленинград.
Мы встречали наших дорогих учителей прямо у трапа самолета, затем вместе поехали в город, чтобы помочь подняться в квартиру (Меркурьевы жили на третьем этаже дома без лифта, а высота потолков в квартирах - около пяти метров. По современным меркам их третий этаж - как нынешний шестой). Но просто поднять Ирину Всеволодовну и Василия Васильевича и сразу уйти нам не удалось: Мейерхольд (а она была очень слаба! И другая бы на ее месте тут же легла и уснула) приказала девочкам тут же раскрыть один из чемоданов, вынуть на стол все привезенные подарки в виде консервов, колбас, конфет и прочего вкусного содержимого и организовать всем чай.
В доме Меркурьева и Мейерхольд чай приготавливался по рецепту бабушки - мамы Ирины Всеволодовны, Ольги Михайловны Мейерхольд-Мунт. Происходило это так: свежая горячая заварка разливалась поровну во все чашки. Затем в заварочный чайник доливался кипяток и из него доливались чашки уже до верху. Чистый кипяток, не прошедший через заварочный чайник, в чашки не наливался! Чай был ароматным и вкусным.
Но для чая нужны чашки, а такого количества (на весь наш курс) в доме не было! Василий Васильевич тут же позвонил в магазин, сказал, что сейчас придут от него студенты и купят 50 чашек.
Последний спектакль, поставленный на нашем курсе, был "Тартюф" Мольера. Премьера - 17 декабря 1972 года. Здесь хочу добавить, что актеры "Комеди де Франсез", гастролировавшие в то время в Ленинграде, посмотрев наш спектакль, сказали, что мы открыли им глаза на "Тартюфа". А спектакль был удивительно хорош! Над ним под руководством Василия Васильевича работали все педагоги: И. В. Мейерхольд, Л. В. Честнокова, З. В. Савкова, З. С. Стасова (танец), А. П. Олеванов, Э. Н. Жучков, художники В. И. Коршикова и Н. П. Билибина.
Неотъемлемой частью нашей практики было участие в творческих встречах Василия Васильевича Меркурьева со зрителем на разных площадках Ленинграда. Принимали мы участие и в творческом вечере нашего Мастера в Москве.
В 1973 году мы институт закончили. К сожалению, не дали нашему учителю осуществить свою мечту и создать свой театр, хотя на спектаклях нашего курса, где бы они ни проходили, были сплошные аншлаги. Очень ревниво относились главные режиссеры ленинградских театров к возможности возникновения еще одного "конкурента" в городе. Партийное руководство Ленинграда, во главе с Романовым, также было настроено агрессивно-отрицательно. Когда мы показывали "Тартюфа" в Москве, на спектакль пришли многие выдающиеся мастера театра (я вспоминаю Наталию Сац, которая вышла на сцену и сказала: "Я обожаю Меркурьева как артиста, сегодня влюбилась в него как в режиссера, педагога, но больше всего преклоняюсь перед ним за то, что он так любит Ириночку Мейерхольд". Был Николай Крючков, который говорил такие вещи, что у всех на глазах навернулись слезы. А рассказал он всего лишь то, что все мы знали - о том, какие люди наши учителя. Но Крючков это говорил с таким чувством...). Был и министр культуры РСФСР Мелентьев. Василий Васильевич доказывал на всех уровнях, что необходим в Ленинграде реалистический, ансамблевый театр. С ним внешне соглашались, но тут же, очень поспешно, заставляли нас подписывать распределение в разные театры страны. Так я оказался в Омске.
Во второй декаде мая 1978 года в Ленинграде стояла пасмурная, холодная, ветреная погода. Пасмурными были и лица горожан. И не только в Ленинграде. Когда по телевидению сообщили, что 12 мая скончался Василий Васильевич Меркурьев, во всей стране людьми это было воспринято как личное горе. Сразу, как только я услышал горестное сообщение, я отпросился у своего главного режиссера, занял деньги и вылетел из Омска в Ленинград.
После смерти мужа Ирина Всеволодовна смогла чудом прожить только три с половиной года, да и то, наверное, потому, что не видела, как его хоронили. Может, секрет был в том, что каждый из них жил для другого; что не смотрели друг на друга, а вместе смотрели в одном направлении? Без всякой бумажки, что они муж и жена. Свидетельство о их браке было утеряно еще в годы войны, и только после смерти Василия Васильевича, когда понадобилось оформлять какие-то формальности, мне пришлось ехать в архив Ленинградского городского загса, чтобы выписать дубликат, подтверждающий законность их брака. А их самих все эти житейские мелочи нисколько не волновали.
Однажды, когда Василию Васильевичу было уже около семидесяти лет, они с Ириной Всеволодовной, пережидая непогоду, случайно оказались в мебельном магазине. В их квартире мебель стояла, мягко скажем, очень далекая от удобства: простые грубые советские стулья образца 1947 года, да и все остальное - подобного рода. И вот старики увидели в мебельном магазине, какие продаются вещи. Ирина Всеволодовна присела в одно из кресел и, почувствовав всю прелесть этого изделия, вдруг заявила мужу: "Васенька, если ты не купишь мне эту "мебель", я умру". Благо у них в тот день были деньги от проданной машины, и Василий Васильевич оформил покупку. Так люди, всю жизнь свою отдававшие другим, дожив до пенсионного возраста, наконец купили в квартиру красивую и очень удобную декорацию. Правда, только в одну комнату. А в других...
Об одном эпизоде из жизни Меркурьева рассказал нам К. И. Адашевский. Произошло это в Новосибирске, где театр был в эвакуации. Как-то вечером соседи по дому увидели, как Меркурьев притащил домой мешок муки. Утром в труппе пошел ропот по поводу этого "хапуги" в голодное время. Ничего не подозревавший Василий Васильевич притащился с этой мукой на репетицию и раздал всем своим коллегам...
Меркурьев и Мейерхольд воспитали большое количество актеров и режиссеров. Их ученики служат не только в русских театрах, но и в национальных творческих коллективах. И все они, когда учились, были окружены такой же заботой, как и мы, выпускники 1973 года. Родительской заботой.
Василий Васильевич был и остается глыбой во всем, а Ирина Всеволодовна - фундаментом этой глыбы, и отделить их невозможно!
РЕМБРАНДТ
Это было в середине 60-х годов. Однажды мама, папа и я заехали в Отрадное на дачу Игоря Олеговича Горбачева. Тогда он еще был просто актером Театра имени Пушкина, частым партнером папы по спектаклям (они очень много играли вместе: "Годы странствий" и "Потерянный сын" Арбузова, "Артем" А. Хазина, "На дне" М. Горького, "Платон Кречет" А. Корнейчука, "Доброта" Л. Обуховой, "Похождения Чичикова" по "Мертвым душам" Н. В. Гоголя, не говоря уже о последней совместной работе - "Пока бьется сердце" Д. Храбровицкого). Мы сидели, разговаривали и о театре, и о природе, папа даже что-то советовал Горбачеву в области земледелия, на что Горбачев посмеивался:
- Василий Васильевич, родненький! Я никогда этим заниматься не буду! И электричество сюда проводить тоже не буду!
И вдруг, практически без перехода, Игорь Олегович говорит:
- Василий Васильевич! Вам надо сыграть Рембрандта. У Дмитрия Кедрина есть прекрасная пьеса в стихах. Я убежден, что эту роль можете сыграть только вы.
Горбачев стал читать какие-то стихи Кедрина, рассказал об этом поэте, о том, что погиб он на охоте, а в конце прочитал какой-то кусочек из "Рембрандта" - тот, который, видимо, запомнил.
У папы мысль эта засела в голове крепко. Сразу по возвращении в Ленинград он нашел пьесу, стал читать. Но надежды на то, что пьесу примут к постановке в театре, практически не было - и министерство культуры, и "коллегия", пришедшая к руководству театром после смерти Вивьена, старались делать больший акцент на современный репертуар и русскую классику. Да если еще учесть, что в те годы с немыслимой регулярностью шли пленумы ЦК КПСС, "в свете решений" которых театры обязаны были строить свою политику, то о каком Рембрандте могла идти речь? Если даже всемогущественный Георгий Александрович Товстоногов каждый раз с кровью доказывал свое право на творчество!
А отец в театре в эти годы сыграл до обидного мало. Даже в журнале "Театр" крупнейший театровед профессор А. Я. Альтшуллер написал: "Меркурьев выступил с 1 января 1963 года до закрытия сезона в середине июля, то есть более чем за шесть месяцев, ровно 11 раз. От этого страдают обе стороны: зритель, который почти не видит на сцене популярного актера, и сам актер. Ведь Меркурьеву, блестящему мастеру с прочно сложившейся комедийной репутацией, совершенно необходимо развивать и другие грани своего таланта, в его возможностях - сильные драматические роли".
А что играл Меркурьев? Вот его репертуар за последние 15 лет жизни. Посмотрите в конце книги список его ролей и сравните потенциал с реализацией.
В записных книжках отца время от времени появляются пометки о "Рембрандте".
"Говорил с Варпаховским о "Рембрандте". Он очень занят".
И вот, наконец, решение в театре было принято. Но бывший тогда директором И. Н. Киселев все время оттягивал сроки. То надо было ставить какую-то современную пьесу (без Меркурьева), то вмешались гастроли в Львове - словом, все время оттяжки. В театре шла конфронтация между директором Киселевым и художественным руководителем Горбачевым. То, что хотел Горбачев, обязательно не хотел Киселев. А Горбачев хотел, чтобы Меркурьев сыграл Рембрандта. И хотел, чтобы ставила "Рембрандта" Ирина Мейерхольд.
Возражения встречались разные! Кто говорил, что пьеса плохая, что Меркурьев должен играть характерные роли; кто говорил, что совершенно не актуально ставить пьесу о фламандском художнике, надо играть пьесы о наших, исконно русских - и так далее. Но больше всего сомнений вызывало именно амплуа. "Меркурьев - трагический актер? Да это бред!" Я не хочу сейчас называть имена тех, кто так говорил,- они совсем неплохо относились к Меркурьеву и очень любили его в фильмах "Небесный тихоход" и "Верные друзья".
В последние годы жизни отец очень сблизился с Анной - старшей дочерью. В годы, предшествующие последней работе отца в театре (я имею в виду Рембрандта), когда моей старшей сестре было уже 40 лет, когда уже подросла ее дочка - любимая (и, увы, единственная, внучка моих родителей), Анна с трепетом и постоянной тревогой буквально не отходила от отца. На каждый спектакль она его сопровождала, стояла в кулисе, ждала окончания его сцен, отводила в его актерскую уборную - словом, проявляла такую заботу, какой может позавидовать любой родитель. Анна знала наизусть не только каждую из последних ролей отца (а это Флор Федулыч из "Последней жертвы", Бурцев из "Пока бьется сердце", Кичигин из "Чти отца своего", Курослепов из "Горячего сердца"), но и буквально каждое его движение, ощущала каждое его состояние, знала, когда у него сахар в норме, а когда есть какие-то изменения.
Пожалуй, никто, как Анна, не смог бы рассказать о последних репетициях "Рембрандта", о последних - и о самом последнем - выходах Меркурьева на сцену. Только она и была на том спектакле "Пока бьется сердце", когда отец играл практически обессиленным, а публика была абсолютно потрясена искренностью последнего высказывания великого артиста. И только Анна может рассказать о последней репетиции так и не сыгранного Рембрандта.
Свидетелями этой прощальной генеральной были еще и соратники Меркурьева - народная артистка Галина Карелина (любимая партнерша последних лет), профессор Зинаида Васильевна Савкова - человек, у которого отец многому учился и, несмотря на преклонный возраст, многому научился! А учился он до последнего дня своей жизни) и Игорь Олегович Горбачев партнер, режиссер, с которым отец любил работать. Взаимоотношения отца и Горбачева претерпевали многое: бывали отношения изумительной теплоты, бывали охлаждения, досадные взаимные раздражения. Но самый последний период жизни Меркурьева у него с Горбачевым было полное взаимопонимание.
Как готовился отец к Рембрандту, что этому сопутствовало - об этом лучше всего свидетельствует он сам в своих дневниках.
Итак...
ГОД 1976-й
1 января, четверг
Прекрасный новогодний завтрак. Петя в аэропорт к 13 часам. Вернулся (в Москве снегопад). Пообедали, и вновь - на самолет к 16-30. Хоккей с канадцами - 3:3. Замечательная игра! 2-х серийный фильм - Скобцева, Яковлев и др.- интересно.
3 января, суббота
День в постели. 37,2. На спектакль ("Последняя жертва") с Иришей. Сыграли хорошо. Успех. И. Н.2 был в театре, но к нам не зашел.
4 января, воскресенье
Утренний спектакль "Последняя жертва". Утром едва поднялся. Спектакль прошел хорошо. Смотрел хоккей. "Крылья Советов" проиграли 6:12. Читал сценарий Зархи3.
5 января, понедельник
В 14 ч. с Иришей и Савковой4 прогон всего зачета. Курс подтянулся, особо - "Коварство и любовь", слабее - "12-я ночь". В институте сквозняки и холод. На ночь - горчичники. Сценарий Зархи - роль для меня.
6 января, вторник
От Пети из Кишинева открытка. Звонили из "Мосфильма" от Зархи. Ириша из театра в 20 ч. Весь день на растительной и молочной пище.
7 января, среда
Ириша в театре получила зарплату. Звонили из института - ребята моют пол в 15 аудитории. По телефону с Горбачевым - он освободил меня на завтра от совещания. Обещал завтра прислать пьесы: "Рембрандт" и еще какую-то. Ириша уснула с валокордином и эуфиллином.
8 января, четверг
В 12 ч.- на зачет. Начали в 13 до 14-15, перерыв, 14-35 - 16-30. Кафедра. Вел Музиль5. От тренинга в восторге, а сцены из пьес "натасканы", хотя многое органично. Объективно говоря, дуракам полработы не показывают. Мне понравилось, как собрались ребята. Ириша выиграла зачет. Сегодня уснула с лимонадиком. Горбачев пьесы не прислал.
9 января, пятница
Люда прислала "6 тополей". Прочел с интересом, но сразу обнаруживает, как кончится. Баученкова6 привезла анализы. Давление 140/80. Хрипов нет. От Петеньки из Одессы письмо. Горбачеву - о вводе Можаевой7. Он - о "Рембрандте".
10 января, суббота
С Людмилой Владимировной8 о плане постановок, показ их кафедре: "Соловьиной ночи" в мае, "Коварство" в июне. С Горбачевым о "Рембрандте".
11 января, воскресенье
Горбачев дико занят. "Рембрандта" нет. 15 ч. партбюро. Опоздал на 40 мин. Из-за машины. Две игры с американцами. "Крылья" выиграли, ЦСКА проиграл. Врач Арьева9 успокоила, прописала рецепт. На ходу с Киселевым при Горбачеве - трепотня.
12 января, понедельник
Приехал Петушок на 2 дня. Был на гастролях в Кишиневе и Одессе - в восторге10. Обедали всей семьей, кроме Анны. Майербек11 - 45 бутылок "боржоми". Лекарство. Беседа на курсе. Ириша простыла: насморк, кашель. Аспирин, кодеин, димедрол. По телефону с Карелиной, Честноковой. Легли в 2-30. "Мертвые души" по моей просьбе играл Рэм Лебедев12.
13 января, вторник
Ириша всю ночь горела. Аспирин, димедрол. Завтракали в 11 час. Взял "Рембрандта"!!! В 15 час. Партсобрание. В 18 час. Дома за чаем беседа с курсом. Не явились 8 человек. Петя одобрил "Рембрандта" и сценарий. Уехал в Москву "Стрелой".
14 января, среда
Еще раз прочел вслух для Ириши "Рембрандта" Кедрина - замечательная пьеса. Сказали об этом Карелиной и Горбачеву. Активно разделяют нашу точку зрения. "Действуем категорически",- сказали они. Дал Ане прочесть сценарий Зархи. Звонил Гончарову13 - попросил спустить на даче воду, прислать водопроводчика.
15 января, четверг
Звонил Дусе14 3 раза. Гончарову - вода. Ник. Ив.15 Встревожен: без него никто не наладит. Водопроводчик Гончарова спустил воду. Читаю Кедрина - самобытный поэт! Язык сочный, русский, образный. Как мало знаем! А как, когда все это познать? Телефоны, дача, быт заедают... Газеты, журналы, письма, поздравления, болезни и пр. А уже подкрадывается старость.
16 января, пятница
Владимир Александрович приехал домой, сделал примерку костюма. По телефону с Карелиной. Звонил из Москвы Петя, приедет позднее. Готовим план 6-го, 7-го, 8-го семестров, выпуска четырех премьер. Похороны Кости Калиниса16. Врачи запретили выходить из дому - мороз. Ириша поставила банки - легче.
17 января, суббота
10 пачек "геркулеса", сахар, чай, масло - 68 р. Ник. Ив. На такси на дачу. Все дни мороз до 30 град. Звонил Горбачев - наметки на распределение ролей в "Рембрандте".
18 января, воскресенье
Игорь [Горбачев] весь день не звонил. Николай Ив. Привез налима. Отогрел водопровод, поставил в колодце на берегу электронасос. Горбачев - в Москву.
19 января, понедельник
На рынке чеснок, клюква. Ириша сварила уху, а на второе - налим "по-польски". Честнокова была два раза: распределение по четырем пьесам, сроки выпуска. Звонил по этому вопросу Агамирзяну17, Муравьеву18, Музилю. Отказался от участия в пьесе Шукшина.
20 января, вторник
Эльвира19 забрала "Рембрандта". С Никитиным20 отправил пьесу Шукшина. Горбачев приехал из Москвы, не позвонил?! Разговаривал с Людой21 в 22 часа - его дома нет. Боремся с насморком. Обед рыбный, замечательный. Ириша вчера и сегодня - валокордин. "Горячее сердце" играл дублер.
21 января, среда
Игорь молчит? Галя Карелина - о тарификационной комиссии. Вместо Карякиной22 предложила вставить меня. Киселев не возразил (?). Ириша поставил мне банки. Катя пришла поздно и тихо легла.
22 января, четверг
Звонил Киселев. Вынужденно. Сообщил, что включил меня в комиссию по тарификации (?). (Это сделала Карелина). Задержал пьесу для прочтения. Делает вид, что якобы он сам это решил, а не продиктовано Горбачевым. И ты, Брут? Коля привез лампы. Хоккей - сборная с финнами. Наши проиграли 5:3.
Горбачев "на коне"!
25 января, воскресенье
Рождение Кати. "Последняя жертва". Смотрели врачи. Байкова23 восторженная, в сопровождении Киселева пришла в уборную.
27 января, вторник
Ремонт телевизора. Письмо в управление гостиниц для размещения Букеевой с учениками отвезла Чемберг24. Звонил Надежде Савельевне Козловой25 о передаче на телевидении. Приезд Букеевой26. По телефону с Горбачевым, Светлаковой27 о "Рембрандте".
29 января, четверг
Шкуропатова28 привезла из библиотеки Дома искусств материалы о Рембрандте. Совещание со Светлаковой - "Рембрандта" отодвигают. 2Если это серьезно, тогда надо прочесть пьесу,- сказала она.- Встретимся в Москве 2 февраля".
30 января, пятница
Съемка. Сердце получше. Панангин сократил до 1 табл. Изоланид полтаблетки. Вечером - "Мертвые души". На спектакле - 10 студентов-казахов и Букеева с зав. кафедрой. После спектакля - встреча с Букеевой и Наденькой Козловой о передаче по телевидению. Всех развезли на такси.
2 февраля, понедельник
Москва. Репетиция у Зархи с Евстигнеевым и Иришей. У Зайцева29 Демин30, Светлакова о "Рембрандте". С Тарасовым31 о вечере в ЦДРИ. Петя от гостиницы "Украина" с нами до "Мосфильма". Вернулись в номер в 19 час. Петя ждал. Обедали на "Мосфильме", ужинали в гостинице. Ночь до 7 ч. утра учил текст.
3 февраля, вторник
С 11 до 15 ч. "Мосфильм". Грим и фото Ириши. Проба на роль Тверского. Евстигнеев не приехал. Обедали в ЦДРИ. С директором договорились о показе курса на апрель. По телефону с Ждановой32, Бердниковым33, Фирюбиным34, Капраловым35. О "Рембрандте" с Зайцевым, Деминым, Светлаковой. Мелентьеву36 - фото. Петенька проводил на "Стрелу".
6 февраля, пятница
Дуся не подходит к телефону? Позвонил Гончарову - послал проверку телефона. Горбачев не позвонил. Олимпийские: наши по многим видам лидируют.
13 февраля, пятница
Всю ночь возились по телефону с устройством Шимурзаевой с новорожденным. Мрак. Только успех в Инсбруке наших спортсменов как-то вдохновляет.
15 февраля, воскресенье
"Последняя жертва" - с нарастающим успехом. Вернулся Николай Иванович - старушки спасли от пожара дом. Анна продолжает ссорить меня с мамой с рождения Иришки, кормления грудью, педиатрический институт, подружки, лодки, снасти, постоянно посторонние люди. Мать превратилась в няньку внучки.
16 февраля, понедельник
Прогон тренинга. Беседа с курсом. Создать из студентов руководство чтобы сами обеспечивали выполнение плана, а мы чтобы в основном отвечали за творческое лицо театра. Смотрели по телевидению "Василий Меркурьев" - много звонков: не шаблонный, интересный фильм.
17 февраля, вторник
Весь день занимался Курослеповым - не играл с прошлого года. Были врачи. Заехал в институт за Иришей - занимались "Коварством и любовью". Хорошо работали. В театре - стадо без пастуха. Критерий потерян. С здравотделом о Шимурзаевой и новорожденном. Вечером играл "Горячее сердце".
18 февраля, среда
Толубеев37 противопоставляет себя коллективу - не умно. Индивидуальности должны раствориться в коллективе, ансамбле. Когорта талантливых артистов в одном монолитном оркестре - вот будущее театра. Вчера и сегодня выкупался в грязи. Киселев и Игорь звонили Ирише о "Рембрандте". Надо срочно делать программу "Учителя и ученики" для ЦДРИ. Вечером играл "Мертвые души".
19 февраля, четверг
В 13 ч.- институт. Курс проспал. В 15 ч. смотрели концерт - на Совете обсуждение программы. Ввели в танец текст о партии. Домой приехали в 22-30. По телефону с Горбачевым. Гнусные инсинуации Киселева, Толубеева. Москва (Зархи, ЦДРИ, министерство) молчит.
21 февраля, суббота
Звонил Петенька из Москвы. Анна привезла пирожки. У Ириши болит голова. Вечером - "Чти отца своего". Колосова не пришла (?).
22 февраля, воскресенье
Утренник "Чти отца своего". Ириша говорила с Савковой о "Рембрандте". Вчера и сегодня - новый Севка38. Что-то не совсем то для спектакля. Не разберусь. Костюмерши говорят - нет обаяния.
23 февраля, понедельник
Петя приехал в Ленинград. 11-30 худсовет. Генеральная "Приглашение к жизни" по "Русскому лесу" Леонова, посвященный съезду. На скорую руку, очень внешне, примитивно "сколочен" подарок. Худсовет предъявил много претензий к решению, доработке спектакля. Карелина грамотно критически анализировала далеко не доведенный до кондиции спектакль.
24 февраля, вторник
Ириша отказалась от массажа после сердечного приступа вчера (ночью "скорая"). Весь день лежала, слушала по теле открытие XXV съезда, речь Брежнева. Петенька в 6 ч. утра встречал Андрея39. Вечером слушали в филармонии Шестую и Пятую симфонии Шостаковича, дирижировал Е. А. Мравинский. Зашли с Катей к нему. Встреча - взаимотрогательная. Петя уехал в Москву.
25 февраля, среда
Ветер, метель. Просмотр леоновского "Леса" худсоветом города. Из министерства - Скачков. Говорил по телефону с Деминым о "Рембрандте" обещал звонить Киселеву. Пьесу он не получил (?). Звонил Петя из Москвы о Погореловой (больница)40.
26 февраля, четверг
В 14 часов курс параллельно все, кроме "Слуги" до 18 ч. Ребята выросли, берут "на лету". Звонил Дусе на дачу. Заболела. "Нечем кормить кошек"? Бред какой-то! На ночь ванну и душ. Спал без сонных. Проснулся в 8 ч. Из театра ни одного звонка. Работал со студентами на малой сцене.
28 февраля, суббота
Карелина звонила огорчившаяся заявлением Игоря, соединила меня с ним. У него - с сердцем, но просил ничего не предпринимать. Первого марта оба будут в Москве, там решат положительно. Интриги Киселева продолжаются.
29 февраля, воскресенье
Звонил Сагальчик, сказал, что Игорь костьми ляжет, но добьется "Рембрандта" - так он сказал и Гале. Горбачев с Киселевым в Москву.
1 марта, понедельник
По телефону с Э. С. Разниковским (ЦДРИ) о концерте. Зиха - о сценарии от Чурсиной, и с Орловой41 о моей занятости с 20 по 30 апреля. На курсе 9 человек больных(?). До 19 ч. Ириша "Коварство", Игорь - "12-я ночь", я "Соловьиную ночь" сцена в комендатуре.
2 марта, вторник
На сцене - "Дядюшкин сон". Сидел в зале. У Чурсиной сценарий. После заехал за Иришей к 15-30 в институт. Урок биомеханики - опять все с начала: 9 человек больных. Конфликт с Яндиевой. Ириша добилась ее извинения. Сняли мерки. Прослушали музыку с Э. Н. Жуч ковым42 к "Соловьиной ночи".
3 марта, среда
Из Москвы вернулся больной Горбачев. Поздравил с победой. Звонила Зиха, спрашивала мнение о сценарии. Назначил позвонить на завтра 11 часов. Гуля Костоева в слезах звонила Ирише, просила прощения. Из Комсомольска-на-Амуре звонил директор театра, просил в июне на 15 дней Петропавловск-Камчатский, Хабаровск.
8 марта, понедельник
Петя - завтрак, обед, ужин. Катя появилась вечером и исчезла. С Петей на вокзал (на метро), Ириша осталась одна. Звонили с вокзала - Ириша не ответила. Ехали с Петей в 8 вагоне, 8 купе. Ухаживал за мной, как за маленьким.
Поздравил телеграммой коллектив театра с премьерой.
9 марта, вторник
Поздравить Белова с премьерой "Тартюфа"43. Звонил из депутатской в Ленинград Ирише - не ответила. Демин обещал передать со мной бумагу на заключение договора на постановку "Рембрандта" с Иришей. Завтракали и ужинали с Петей в ресторане "Россия". Проба неудачная. Петя подбадривал. Звонили Табакову44 - обещал отпустить Неелову. Она так и не позвонила. На "Стрелу" в Ленинград.
12 марта, пятница
Звонил Зайцеву - опять не застал (?). Сагальчик репетировать не вызывает (?). Все спрашивают: буду ли я играть премьеру? Сам теряюсь, что отвечать. Играл "Горячее сердце" - Курослепов с каждым спектаклем принимается лучше. Илья растерян, Юрка45 злой. Игорь готовится к докладу. Все обещает, просит выступить "за".
14 марта, воскресенье
Звонил Петя - прилетел из Львова по командировке Кабалевского. Смотрел "Дела давно минувших дней" с участием Пети с собакой.
16 марта, вторник
Приехал Петенька (был в Львове). Ириша с Петей к 15 час. В институт. Вернулись довольные в 21 ч. Меня оставили дома. Петенька уехал как-то грустно.
17 марта, среда
Анне вытащили зуб. Ездил на "Ленфильм", смотрел "Черемушки" - хороший музыкальный фильм. Пришел домой - мать, настроенная Анной. Выдала такое! Куда деваться? Делают с нею, что хотят... Я на пределе, а Ириша совершенно невменяемая. Сил нет ни для театра, ни для института. Звонила Энгелиса Георгиевна из ЦДРИ. Вечером - "Мертвые души".
18 марта, четверг
По телефону с Деминым. Зайцев еще не подписал. Два раза звонила Погорелова. Ирише полегче. На курсе - без двоих. Яндиеву "продрали", Вахидов молодец. По всем пьесам идет работа. Плохо с музыкой, пением. Анне Николаевне 4 места на "Элегию".
19 марта, пятница
Анна Николаевна в восторге от "Элегии". Кардиобригада - высокое давление. У Ириши кардиограмма лучше. На биомеханике у Вахидова. Беседа. Похвалил за творческий процесс. Поручил ассистентуру в "12-й ночи" Наурбиеву. Беседовал с Волынкиным о Яндиевой.
20 марта, суббота
Киселев прочел по телефону разрешение министерства на "Рембрандта". Читка на труппе. "Говорите с режиссером",- сказал я. "Да с нею будет говорить Горбач",- ответил он. Вечером - "Последняя жертва". Ириша расстроилась - массовые сцены разбалтываются, нужны репетиции. Анне на дачу - 100 р.
21 марта, воскресенье
Утренник - "Последняя жертва". Худсовет, смотрели актера на Ленина. Меня не позвали - виновата Марина Вивьен.
23 марта, вторник
Горбачев предложил встречу с дирекцией 26-го в 11 ч. Биомеханика. Просмотрели читку "Слуга" без Доскиева. "Коварство" 2-я картина с Мартазановым. С Синявским о Грозном.
24 марта, среда
Встреча с Волынкиным не состоялась. Синявский звонил в Грозный. Статья Пети в "Культуре".
25 марта, четверг
В Грозный не дозвонились - все в районе. Тыршклевич опоздал на урок. Все, кроме Шимурзаевой. Работал "12-ю ночь". Сцена двинулась. Дома в 21 ч. Хоккей СССР-шведы. С Волынкиным о курсе. Договор с Иришей на постановку "Рембрандта".
26 марта, пятница
В 12 ч. у Киселева: Ириша, Горбачев, Анна Ивановна46 и я. К 18 ч. в театр - репетиция "Последней жертвы": 30% молодежи не пришли. Решили с "Рембрандтом": выпуск в 1-м квартале 1977.
27 марта, суббота
У Горбачева с Иришей и Сагальчиком после спектакля "Последняя жертва". Решили, что премьеру Егора47 играть буду я. Взяли такси на дачу. Продукты - фрукты, огурцы, водка, икра, сгущенка, масло. Вечером до часу домино: Жанна, Анна и мы с Иришей.
30 марта, вторник
В 14 ч. "Дети солнца", в 16 - биомеханика. Роза: "Расписание не выполняем, слишком много болтаем". Ириша организовывает коллектив "Рембрандта", очень устала, ослабла, хочет спать. Договорился на завтра в глазную поликлинику - Ирише очки.
5 апреля, понедельник
Приехал Петенька на мое рождение. Закончил курс каргамона. Сагальчик отменил мой приход на репетицию. 15-45 Вахидов: упражнения по биомеханике. скандальное поведение Алероева, Мартазанова, Яндиевой. Ответили на телеграмму Тарасова из ЦДРИ. Синявский не оплачивает счет за костюмы. "Мертвые души" смотрел Петя.
6 апреля, вторник
На репетицию "Детей солнца" не вызывают (??). Видимо, мое вхождение может подчеркнуть лобовое раскрытие Горького! Сегодня 72 года отметили скромно в ресторане гостиницы "Ленинград". Петенька - тамада. Звонила Зиха - Петеньку утвердили на роль в "Опровержении". Большая радость - есть возможность раскрыть себя. Дуся поздравила телеграммой. Тепло и грустно. Ириша и дети трогательны.
7 апреля, среда
Опять репетировали без меня(?). Звонил из Москвы Петя.
8 апреля, четверг
Фото на паспорта. Просмотр заявки из всех 4-х пьес. Все, кроме Шимурзаевой и опоздавшего Вахидова. Отсутствовал Панталоне - Тумгоев. Бекову 3 руб. для Мартазанова. По телефону с Муравьевым о тренировочных костюмах. При показе перегрузил себя. Возможно - гипогликемия.
17 апреля, суббота
Привез Ирише очки. Говорил с Горбачевым, с Деминым о "Рембрандте" все договорено о художнике. Играть Егора сейчас не советуют - учитывая мое верное решение, требующее коренных изменений в спектакле.
19 апреля, понедельник
13 ч.- торжественное вручение диплома коллективу Кировского театра. В президиуме встретился с Зайцевым. Мое выступление было встречено очень тепло. Крастин48 отправил меня на своей машине. Заехали за Иришей на Чайковского и поехали в Дом дружбы обедать. В институте собрание (ревизионное) - отобрали лучших ребят для Москвы. Все подтянулись. Адам привез костюмы.
22 апреля, четверг
Сдал кровь на клинический анализ. Получил зарплату в театре. Беседа с курсом. Прогон с остановками - очень грязно! На грим многие опоздали. Танец в порядке.
25 апреля, воскресенье
Три прогона. Последний - для абитуриентов. Прошел хорошо. Домой на троллейбусе. Хоккей чехи-СССР - 3:3.
27 апреля, вторник
8-30 - Москва. На вокзале встречали Петя с администратором ЦДРИ. Гостиница "Россия", "полулюкс". В 13 ч. репетиция. Ребята безответственны не все успевают. Обедали с Энгелисочкой. Ужинали в гостинице - устали, Петя принес ужин в номер. Петя ушел в 24 часа.
28 апреля, среда
Приехали Горбачев и Карелина (остановились в гост. "Москва"). Втроем (они плюс я) - к Мелентьеву о Киселеве. На концерт пришли Зайцев, Мелентьев, Демин, Сац49. Вел Игорь. Ребята уехали без "пастухов". После банкетик с руководством (Тарасов, Якут50, Демин, Энгелиса, Каюров51). Концерт прошел с успехом. Выступление Сац.
29 апреля, четверг
Весь день в гостинице "Россия". Похороны маршала Гречко. Ириша с Деминым о доцентуре по телефону. Уехали "Стрелой". Петенька провожал.
30 апреля, пятница
В Ленинграде в 8-25. Никто не встретил. Таял снег, скользко. До вечера дома. В антракте чествовали Героя на сцене. Домой приехал с армянским и осетриной. Уснули в первом часу. Звонил Дусе - SOS кричит.
1 мая, суббота
Курс спал. На демонстрации не был. Виноваты педагоги. Пришли с поздравлениями. Пришли с поздравлениями Костоевы, Яндиева. Взяли часть книг. Худсовет смотрел "Арбу"52. Обсуждение отложили. Я не пошел. Всю ночь и день мучился. Дочитал "Рембрандта" - все просто и сложно. Худсовет смотрел мхатовскую молодежь. Меня не пригласили. Звонил Дусе - последнюю картошку сварили.
5 мая, среда
11-10 на индивидуальном мастерстве. Последние три картины "Соловьиной ночи" без Тхостова. Ириша составила две поездочные бригады. Обедали с Горбачевым. За обедом сделали распределение ролей в "Рембрандте". Не до конца распределили - Игорь торопился на концерт. Звонил Цицкиев из Грозного. Катюша натерла меня скипидаром.
8 мая, суббота
Шофер - продукты Дусе. Мешок овсянки, чай, масло, хлеб. На продукты 40 р. Анне 25 р. Дусе за апрель 30 р., шоферу 37 р.
9 мая, воскресенье
Петя приехал на рожденье мамы. Много цветов. Температура вечером 36,9.
13 мая, четверг
В 19 ч. "Сцена под древом" ("Горячее сердце") на юбилее Толубеева. В 21 вернулся домой. На чествование не мог остаться - температура. "Мосфильм" - Никита Михалков предложил сценарий по Чехову53.
17 мая, понедельник
15 час. Читка "Рембрандта". Очень понравилось. Игорь Олегович на высоте. Высказывались восторженно. И то, что ставит Мейерхольд. Для Ириши сегодня праздник.
23 мая, воскресенье
Парник перенесли с солдатиками. Вскопали весь огород. Прекрасный день. Петя приехал из Москвы, ночевал у Бондарь.
24 мая, понедельник
Вернулись на электричке - в 8 утра были уже в Ленинграде. Прогон "Соловьиной ночи" - очень плохо.
25 мая, вторник
15 ч. "Соловьиная ночь". Заехали за Горбачевыми с Иришей, завезли распределение "Рембрандта". Получил роль Бурцева в "Пока бьется сердце".
4 июня, пятница
Звонил В. Г. Тарасову (ЦДРИ), просил, чтобы позвонила Погорелова. Получили зарплату в театре 243 р. с суточными, минус 16 р. в союз по июнь включительно. В институте 178.
14 июня, понедельник. Новосибирск
В 9 утра по новосибирскому гостиница "Ново си бирск". Плохой номер. К вечеру перебрались в "Обь". Шефский концерт на кондитерской фабрике. Дегустация с Иришей диабетических сладостей. От Пети телеграмма.
17 июня, четверг
Репетировали 1 акт Храбровицкого ("Пока бьется сердце"). Вечером "Последняя жертва".
18 июня, пятница
11 ч.- 1 акт репетиция Храбровицкого. День рождения Гали Карелиной, именины Игоря Горбачева. После спектакля ("Последняя жертва") хорошо посидели у Горбачева.
26 июня, суббота
Два письма от Пети из Ленинграда.
27 июня, воскресенье
17 ч.- творческий вечер.
3 июля, суббота
Выезд на Обь. Устали. Концерт в спорт. Вечером "Чти отца своего".
7 июля, среда
Курс ночью вылетел в Магадан. Грим и репетиция "Колец Альманзора". Экспериментальная студия при музее Скрябина - смотрели лазерный луч, решили использовать в "Рембрандте".
8 июля, четверг
В 13 ч. у Демина о "Рембрандте". 14 ч. обед в "России".
11 июля, воскресенье
Рождение Анны. На дачу фрукты, кура, торт, Анне часы, цепочка. Анна строительство в хлеве. Пропал спиннинг, утоплен бредешок.
13 июля, вторник
11 ч. Репетиция "Пока бьется сердце" 2-й акт. Вечером температура, тяжелое дыхание, плохой сон, задыхался.
14 июля, среда
Утром "скорая помощь". Кардиограмма. Весь день лежал.
16 июля, пятница
10 часов "Рембрандт", читка по ролям с Горбачевым.
17 июля, суббота
12 ч. "Пока бьется сердце". 1, 2 картины за столом. 10 ч. "Рембрандт". Читал Горбачев, после высказывался.
18 июля, воскресенье
"Скорая" - Ирише боли сняли. Навестили Катю, отвезли фрукты, овощи. Закрытие сезона - "Сократ". Романов54 на спектакле. Из Москвы вернулись Вахидовы??
20 июля, вторник
Звонили в Москву Марку Семеновичу Малкову - главному инженеру "лазера". С Иришей у Лукиной55. Глазное давление 30 - необходимо оперировать. Звонили Зинаиде Григорьевне - завтра выпишут Катюшу. Ирише рекомендуют оперироваться у проф. М. М. Крас нова - золотые руки, инструменты, нитки. Звонил Тамаре Виноградовой.
21 июля, среда
11 ч. "Знак вечности" - встреча на "Ленфильме". Режиссер Давид Кочарян, молодой, товарищ Пети. У него трое ребят. Ученик Ромма. Ник. Ильич в Пушкин за Катей, потом в театр. Забрал фильм и сумку, отвез домой. Забрал Просаловского и с ним ко мне. Потом втроем - в овощной на Марата, за хлебом, квасом - на Чайковского, забрали Иришу, Катю, и в 2 часа тронулись в Громово. Спал плохо - задыхался.
25 июля, воскресенье
Позвонила Тамара Виноградова - приехать в Москву к проф. Краснову в понедельник, вторник. На такси в город. Ночевали в Ленинграде.
26 июля, понедельник
Ленинград. Анна на картошке. Кате укол. Оказывается, вчера Петя был в Ленинграде, ключа у него не было - ночевал у Бондарь. Звонил нам на дачу, ему сказали, что мы уехали в Москву. Добившись Тамары, узнав, что Краснов занят, решили приехать к Краснову, когда он вернется из отпуска. По телефону с Погореловой.
27 июля, вторник
Помогал ребятам достать билеты в Грозный. Весь день собирались на дачу. Исраил привез грамоты, сувениры. Их поездка была очень полезна. На такси с Иришей, Катей, Петей на дачу.
28 июля, среда
4 подлещика. Петя с Катей и Иришей - нагрудник Шимми. Девочки пропололи огурцы. Георгий Александрович посеял редис, горох, траву. Нашел вторую, запутанную. Ириша с Георгием Александровичем читали "Рембрандта". Шимми загрызла курицу.
29 июля, четверг
Дружно зацвели лилии. Прелестна розочка на клумбе, начинают распускаться флоксы и финские розы. Зацвел картофель. Ириша спала хорошо. Сварила с Катей варенье. Петя во всем подсобляет. 3 машины сухих березовых дров. Петя пошел на почту послать телеграмму Тарасову о большой работе Погореловой. Петя убрал с Катей дрова. Петя - "кухонный мужик". Телеграмма Марецкой56.
30 июля, пятница
Звонила из Ленинграда Анна. Вспахали трактором левую сторону. Все лилии цветут. Пионы, начали флоксы. Клумба зажила. Шимми ноги от "нагрудника" освобождает. Дети собрали клубнику. На ночь - домино с Иришей.
4 августа, среда
Распилили ель и дрова для бани. Петя уехал в Ленинград за лекарством для Кати. С Катей на рыбалку - два подлещика. На озере тихо. Звонила Колосова. Чесалась кожа. Если это аллергия, посоветовала димедрол. На ночь принял весь набор, плюс - димедрол, эуфиллин. Звонил из Ленинграда Петя. Я звонил Просаловскому.
5 августа, четверг
С утра не выходил из дома. Лежал, спал до обеда и после - до 7 вечера. В 20-40 приехали Анна, Петя, Тамара, Георгий Александрович. Петя с Тамарой - к Горбачеву в Отрадное в 21 час. На обратном пути завезли Петю и забрали в город Анну с Иришечкой. Кате укол.
7 августа, суббота
Юра Литовко второй раз настроил пианино. Сыграл Шопена. Замечательный человечек. Паровое: пустили воду. Весь низ разморозили. Читал о Рембрандте. Коля наладил парник, в баню воду от полива.
11 августа, среда
На середине [озера] прилично. Свистуны. Одышка, экстрасистолия. Весь день "градусник" не работал. Вечером наладили. А по городскому ужасная слышимость. На озере тишина. Ветер северо-восточный - холодный. Филипп исчез (?). Лодка подготовлена к шпаклевке. Репетировали "Рембрандта". Интересно Ириша вскрывает взаимоотношения в пьесе.
12 августа, четверг
Петя с Георгием Александровичем в городок за продуктами: мясо, сметана, хлеб. Петя разобрал забор у Шимми. Купали всех собак и собирали ягоды - красную и черную смородину, клубнику. Прислали Пете телеграмму: вызовут, когда понадобится. Гончаров перенес концерт на 15-е. Инна занята. 2 судачка, подлещики.
14 августа, суббота
Приехал Николай Иванович. Съездил на озеро. Гончаров привез арбуз, помидоры, чай, хлеб и уехал, захватив Николая к поезду. В 9 утра на санитарной машине с Петенькой к Владимиру Михайловичу электрокардиограмма. Укол эуфиллина внутривенный. Привез муж Инны. Семья Тихомировых. Петя - "и в дудку игрец" - Кате третий укол.
17 августа, вторник
Четвертый укол Владимира Михайловича. Звонил Петеньке в Ленинград. Звонил Гончарову - завтра обещал прислать ребят. Катя, Лена - грибки, Ириша - беленькие сушить. Ходили встречать Петю четверо: Катя, Лена и старики.
Два Коли закончили отопление. 25 р. Ириша запросилась спать без "косточек" [домино]. Катя весь день на ногах. Петя повесил жесткое расписание приема лекарств.
18 августа, среда
Гончаров прислал троих на 4 часа. Хорошие ребята. Третьей части не раскололи. Петя с Дусей убрали в сарай. Поставил Олежкину. Кондратьевскую Коля не нашел. Ириша нервничает: с рыбкой плохо. Внутривенный пропустил полеты. Прием лекарств под Петиным наблюдением точно.
19 августа, четверг
Коля нашел "подарок Кондратьева". Лариса с Леной собрали хороших грибов. Дуся сушит себе? Картофель едим молодой - первые плоды дачи, не считая смородины и клубники. С рыбкой плохо. Соблюдаю постельный режим. Изотов - 5-й укол. Петенька с ним - в городок за продуктами. Ничего нет. Банки на ночь. Петю вызывают на съемки.
20 августа, пятница
В 8-30 Петя на машине к поезду. Мотор на пирсе в порядке. Лена по грибки. Водяное запустилось - не греют лестничную и ванну. Изотов - 6-й внутривенный. Звонил из Ленинграда Петя. Он у Янушевской. Я звонил туда.
22 августа, воскресенье
Коля с Ниной (маляр) с двумя детьми затопили котел. Джульетта окотилась - три котенка. Лена забыла о своих обязанностях - обедать опоздала. Заставил вымыть дверь. Коля - трех лещей.
23 августа, понедельник
Затопили систему для водопровода. Изотов рекомендует больше ходить на воздухе, дыхательную гимнастику. Ириша искала киноаппарат - масса подозрений. Нашли в "секрете". Ириша репетировала "Рембрандта" с Просаловским. На ночь мне горчичники, дыхание свободное.
25 августа, среда
Утром под помидор опохмел. До обеда без еды и лекарств - вниз не спускались. После обеда лекарства. "Рембрандт" 1 акт с Иришей и Юрой. Вечером с Просаловским "Рембрандт" 2-й акт. Звонила Анна - плохо слышно. Приедет завтра 18-ти часовым. Катя провоцировала скандал: "Уеду в Ленинград".
26 августа, четверг
Проснулся в 6 часов. Репетировал с Просаловским. Ириша - поясница. Ждет детей. Возня с розами. День грибной и картофель с молоком. Лена ушла к бабке. На моторке подъехали Валерий и Воля с дочкой - прекрасно выглядят. Вечером репетировали "Рембрандта".
27 августа, пятница
Уплатили налоги. Затопили баню с Просаловским. Ребята второй раз в лес. Масса малины - принесли 2 бидона. Все, кроме меня и Просаловского - в баню. Сварили варенье. В бутыль - красную смородину.
29 августа, воскресенье
4 леща, щука. Бидон малинового на сахаре. В 18-40 с Ник. Ив. На такси в Ленинград. На даче остались Анна с Шишей.
30 августа, понедельник
Телеграмма от Кочаряна. "Знак вечности". Звонил Петя, я ему - о Краснове. Вызывали Честнокову, Тыршклевича. Была мать Мартазанова с подарком, просила за сына. К Кате приходил Виктор. Ее состояние плохое. Прочитал пьесы "Караван". Катя от болей невменяема.
1 сентября, среда
С 9 утра в Свердловке все анализы. Студенты не все собрались, явилось 20 человек. На рождении Шишки, она с подружками. Катюше значительно лучше.
2 сентября, четверг
Весь день лежал. Получил от "Знания" 144 р. 25 - Анне. Адам привез колбасу, сыр, масло, хлеб. Людмила Владимировна занимается без нас. Звонил Магомадов. Цицкиеву сдавать русский. Звонила мать Мартазанова. "Скорая" внутривенно эуфиллин.
3 сентября, пятница
Магомадов за фруктами: 3 дыни, капуста, свекла. Звонил от Шуры Москалевой Петя. Будет нас встречать 6-го. С Зинаидой Васильевной - правили всю пьесу. Люда привезла заключение врача для Краснова.
5 сентября, воскресенье
Звонил Пете, ответил Струве. Петя снимается. Просил ему передать, чтобы завтра нас не встречал, приедем стрелой 7-го.
7 сентября, вторник. Москва
Встречал Петя. На такси - в институт к Краснову. Уехал в Польшу. Анализы не те, все сызнова. Инсулин в глазном. В 15 ч. обед в "России". Вечером звонили Пете. Режим с лекарствами нарушил. Иришечка мужественно проводит все анализы, а их все больше и больше.
8 сентября, среда
Валя советует лечь, тогда они сами будут все делать, готовить к операции. В 15 ч. переехал в одноместный номер, и поехали в глазной институт. Иришечка оступилась и со всего маху шлепнулась об асфальт. Ужас! Несмотря на адские боли, госпитализировалась. Профессор, доктор наук Сергей Наумович Ефуни повез меня к "России".
10 сентября, пятница
В 9 ч. у Мохова. Звонить Ждановой, Мелентьеву. В 12 ч. у Демина о Рембрандте. Биографические неточности. У Ждановой о "Портрете". На их транспорте к Наумову в министерство сельского хозяйства. Пообедал, оттуда с лимонами к Ирише. Петрушка от тети Шуры Москалевой к маме. Жданова звонила Ирише. Тамара звонила мне из МХАТа по просьбе Ириши.
11 сентября, суббота
У Тылевича устроил места на "Русские люди". Маме на рынке груши, две пары чулок, колготки. Петя на съемке. Навестил Иришечку - рука болит меньше. От нее поехал в Малый театр. Смотрели с Тамарой и Верой. Отвез их домой. Звонил Петя - отснялся. Звонил Ирише - отсыпается.
12 сентября, воскресенье
В 18 ч. у мамы встретились с Петей. Ириша готовится к операции. Привез груши, яйца. Хочет сделать скорлупу с лимоном. Уехали в 20 ч.
13 сентября, понедельник
В 10 ч. у Ириши. Ждали Краснова. Мелентьев назначил на 14-30. Краснов позвонил, что не приедет. Позавтракал и обедал в буфете "России". Мелентьева прождал 2 часа и ушел в гостиницу. Достал для Ириши хороших яблок. Позвонила Анна днем, звонил Петенька после больницы. Не ужинал вечером. Чувствую себя хорошо. Б. Шоу со Степановой и Кторовым замечательно!
14 сентября, вторник
Краснов сначала сказал: "Не надо эндокринолога", потом решил перестраховаться. Послал за тридевять земель за справками. Маркс Михайлович [помощник министра культуры Мелентьева] звонил Игорю [Горбачеву] - не застал, дал мой телефон. Игорь позвонил в 22 часа. Передаст Орловой, что он мне разрешил не быть до 20 сентября. Завтра он в Москве. Был у министра об Иришиной доцентуре - крепко обещал. Звонили Просаловский, Петя, Тамара, Ириша. На ночь горячее молоко, горчичники.
17 сентября, пятница
Анна звонила - беспокоится. Петя звонил маме - не подзывают, готовят к операции. А Краснова еще нет, и ничего не известно. Мама звонила - больше волнуется за меня. Петя радостно взволнован звонком Светланова. Тамара навестила с малиной. Петя угостил ужином.
18 сентября, суббота
Из "кремлевки" "скорая". Кардиограмма, эуфиллин внутривенно. Температура до вечера нормальная. У Ириши Танечка Воробьева с яблочками. Обедал с Петенькой. Он поехал на курский вокзал кого-то встречать. Звонила Ириша - кто-то ее огорчил. Завтра опять анализы. Звонил ей на ночь.
20 сентября, понедельник
Утром 36,6. Звонила Анна Ник. Колосова. Телеграмма от Пети из Еревана. Звонила Сац - дал ей Иришин телефон. Она трогательно разговаривала с Иришей. Звонил Ефуни - он обещал врачам встречу со мной. Тамара привезла инсулин и фото. Надписал. Принесла ужин из буфета. По телевизору "Старинный водевиль" из Куйбышева. Она - неплохо, зрителю нравится. Завтра оперируют Иришечку. Звонила бодренькая.
21 сентября, вторник
Звонили Просаловский, Анна. Иришеньке сделали операцию. Уже дежурит Танечка Воробьева - самая трогательная племянница. Жажда, больно ей, бедненькой. Попросил свету сделать ей лимонный сок. Звонил Петенька из Еревана. Я сказал ему: операцию сделали, ночью у нее дежурит Таня. Он обрадовался. Ефуни прислал мне врача - она поставила мне банки, сама займется бюллетенями.
22 сентября, среда
Звонила Сац (поделилась прошлым, настоящим). Звонил Каюрову. Позвонил мне Ефуни - пригласил лечь в его клинику. Пришел Юра Каюров - собрал меня и мои вещи. На такси заехали к Ирише с арбузом. Расцеловавшись с моей голубкой "беспомощной", пошел в барокамеру клиники Ефуни. Сергея Наумовича не было, но нас с Каюровым отвели в его кабинет, пока готовили палату. Наговорились с Юрой - парень творческий. Спал в непривычной обстановке неважно. Свистуны, кашель.
23 сентября, четверг
Ночью прилетел Петя из Еревана. Сосед по палате - директор совхоза Владимирской области - штат 750 чел. Заходил Сергей Наумович. Врачи меняются. Я - больной "не их прихода". В барокамере женщина с пороком сердца родила хорошего парня. Ирише уже не больно. Через марлю что-то видит. Петя с Андреем навестили маму. Звонила Анна - в институте хорошо. Звонила Савкова - с 27-го приступает к работе. Ночью у меня давление 195/100, задыхался. Уснул в 3 часа.
24 сентября, пятница
Проснулся в 10 час. Инсулин, капуста, яйца. Новый врач. Рентген. Петенька с колбасой и кефиром. Анна полчаса говорила по телефону с мамой. Просаловский растерян: не знает, подписан ли договор с Савковой. Не может поймать Горбачева. Поднял руки перед Музилем. Ефуни зашел, обещал в понедельник заняться мной.
25 сентября, суббота
Петя забежал. Мама хорошо. Просаловский в панике, что мы здесь. Была репетиция с Горбачевым и дали двух актеров. Высокое давление 200/110, масса уколов. Не откашливается.
26 сентября, воскресенье
160/80. Просили лежать. Вечером 190/70. Звонил Каюрову о Тамаре. С мамой говорил 4 раза. С Петей - один раз. Кислород не откашливается. Не знаю, от чего лечат? Отечность в ногах. Заменили одно лекарство на другое.
27 сентября, понедельник
Смотрел Иришу Краснов - хорошо! Предложил оперировать и второй глаз. Ириша сразу не ответила. К концу дня Тамара сказала ему, что И. В. согласна. После работы зашла Тамара. По телефону договорился с Каюровым и Тылевичем о шефстве над ней.
29 сентября, среда
Ирише сделали вторую операцию (правый глаз). На ночь наняли Наташу 10 руб. Завтра Вера, Надежда, Любовь - цветы вере Наумовне. Звонил Петушок - рад, что мамочке сделана операция. После нее она спит. Проснется попить и опять сон. Заходила Тамара, сказала, все хорошо. Отеки у меня не проходят. Опять рентген, кардиограмма.
6 октября, среда
Петушок навестил. Завтра обедаем у "матушки" - Шурочки Москалевой, и от нее на вокзал. 2 раза заходил С. Н. Ефуни - хорошо бы его пригласить консультантом. Был в глазной, проверил глаза, поднялся к Ирише. Простудилась, но бегает как зрячая. Завтра с Петей спланируем, как отблагодарить врачей, сестер. Тамара, Светлана - как родные.
13 октября, среда
Вандер звонил Гончарову - он ничего не знал о телефоне. Ириша с глазиком - хуже видит. Анализ крови на сахар: у Ириши 129, у меня - 142. О Кате с Шердаковым. К вечеру опять без внимания к старикам. Вместо шести, ужинали в семь. Как саранча. На бутылки. Ночевал зять. Дуся веселая.
28 октября, четверг
Укол инсулина - Лида. Мамаева жаждет встречи со мной у Горбачева. Приехала Дуся со снимком и направлением в больницу. Вызвал "скорую", Петенька отвез Дусю в больницу на Комсомола, 16 и дал телеграмму ее сыну Коле. Звонил Демину, Зайцеву. Горбачев забыл об обещании. Петенька в Москву "Стрелой" с подарками Краснову и Ефуни. Навестил Изотов.
29 октября, пятница
Укол инсулина - Лида. Иришеньке банки. Звонил на дачу Екатерине Кузьминичне - страшновато ей. Лег в урологическую клинику. Звонил Зинаиде Вас., Ефуни, Демину (обещал разобраться). Катя просила прощения.
30 октября, пятница
В больнице всюду сквозняки. Савкова была сегодня в дирекции - опять не подписали договор. Ириша переживает. Звонил ей, на дачу. Киселев травит, Горбачев помогает. У ребят концерт у медиков. С 5 утра не сплю. Звонил Ирише - она тоже не спит.
1 ноября, понедельник
Больница. Сестрички не точны с лекарствами - надо следить. Ириша начинает привыкать к интригам Ильи. Кроме швов (глазных) - плеврит. Лечится банками и рондомицином. Питается творогом. Кашель.
2 ноября, вторник
Илья мстит последовательно, издевательски. Кто держит этого подлеца? Горбачев - карьерист, ради пупа своего продаст искусство. Боятся дать ему самостоятельность. Ему стыдно прийти к Ирише и покаяться. Что я, физически слабый, могу сделать?.
3 ноября, среда
Заказал Ирише телефонный разговор с Деминым. На даче опять не работает телефон. Позвонил Гончарову о грейдере - обещал. Анна через маму нажимает. Опять у мамы последние 50 р. на дачу. Ириша с Просаловским активно работает. Орлова подписала, что Савкова произвела большую работу.
5 ноября, пятница
Анна на машине на дачу с Иришечкой и Леной. Машина застряла. Шофер ночевал на даче. Из Киева звонил Петенька.
11 ноября, четверг
Зарема с характеристикой Тхостова. Звонил в милицию - обещали уладить, учесть "чеченский темперамент". Врачи настаивают, чтобы после "Последней жертвы" вернулся в больницу. Гулял полтора часа - хорошо! Учу роль Бурцева - с трудом подвигается. Звонил Ефуни: "Жена написала пьесу". Спрашивал о Кате. Ириша угнетена Катей. При воспалении легких - столько переживаний!
18 ноября, четверг
Бюро к 2 часам. Беседа с комиссией. Местком забыл о "Рембрандте". Киселев оправдывался тем, что "режис сер и Меркурьев больны". Горбачев, напротив: благодарил за работу.
19 ноября, пятница
Киселев с утра начал проверку моих слов на Бюро. Репетировал хорошо, но текст еще заедает. Звонил Гале Карелиной и Горбачеву - просил встречу с комиссией, работающей в театре. Вечером - "Мертвые души". Тамара сказала, что я играл хорошо.
20 ноября, суббота
Смотрел "Мещан" в БДТ.
22 ноября, понедельник
С Савковой подписали договор. Наконец-то. Разродились. Репетиция прошла полезно. У Савчука нарыв - отвезли в больницу Эрисмана. Звонил ему, разговаривал с дежурным врачом. Температура 38, сбили на 37. Вечером играл "Чти отца своего".
23 ноября, вторник
Звонили Савчуку, переведен в 4-х местную палату. Его жена благодарила. И он позвонил. Ему лучше, но опасность заражения не миновала. Вывесили распределение и график "Аэропорта". Роли не согласованы с "Рембрандтом". Звонил Изотов - Дусю надо класть в больницу.
24 ноября, среда
11-30 - "Зеленая птичка", 2-й состав. Много пошлятины и плохой вкус. Актеры работали с увлечением. В 20 ч. репетиция "Рембрандта".
25 ноября, четверг
11-30 - спектакль "Зеленая птичка", 1-й состав. Актеры выложились, и многие - с потрохами. Режиссер Шейко, нахватавши чужого, тоже выложился. Чего там только нет! Пошлятины полно, а вкуса нет, значит и меры нет. На худсовете дружно раскритиковали. Отменили. Горбачев взялся помочь доделать.
26 ноября, пятница
Занимался Бурцевым. Укладывается. Звонил Петенька о возможности приезда с Г. А. Струве к нам на дачу. 19-30 - экстренное бюро - состав будущего месткома без Клейнера.
27 ноября, суббота
Горбачев звонил Ирише: "Включите телевизор - показывают "Рембрандта". Куцая передача. На даче отказал мотор. Ник. Тихомиров поехал, починил. Екатерина Кузьминична уже попросила замену. Нужен уголь. У меня экстрасистолы - принял панангин, наладилось.
7 декабря, вторник
Петушок в новом костюме. Сделал мне укол инсулина. Цицкиев вместо 9 позвонил в 11 - сделал ему внушение. Принес расписание на декабрь. Звонил Гончаренко - обещал сегодня заменить телефонный кабель. Клавдия Федоровна накормила нас.
8 декабря, среда
Инсулин Лида. Катя с милым проспали работу. Звонила Владиславу Николаевичу, тот назначил на завтра, обещал серьезно поговорить с нею. Тамарочка позвонила из Москвы, сказала, что Краснов ждет в пятницу. Встреча в макетной с Савчуком. Ириша многое не приняла. Звонил Кадочников о сыне в аспирантуру.
9 декабря, четверг
11-30 "Слуга двух господ", "Коварство" дома. Катя не ночевала. На работе не была. 3 билета на Москву обеспечил И. М. Лебедь. Вечером приехали ночевать молодожены. Я попросил Клавдию Федоровну пожить у нас в квартире, пока мы будем в Москве. "Стрелой" с Иришей и Петей в Москву.
12 декабря, воскресенье
К Ирише поехала Танечка Воробьева. Я весь день в гостинице. Режим безукоризненный. По телефону с Иришей - запросила очки, глазки не беспокоят. Смотрел фигурное катание, прощание с Пахомовой и Горшковым. Звонил Анне. Несколько раз звонил, замотанный издательством, Петушок.
13 декабря, понедельник
В 7 ч. утра звонил Ирише. 8 ч. трава, в 9 завтрак, в 10 у Зайцева. В 11-30 у Ириши: шустрая, похудела на 12 кг. После осмотра и благословения М. М. выписали ее. В 15-30 на такси в гостиницу. Опять вместе! Тут же появился Петушок. Он занят редактированием книги - весь в этом и телефонах. Побыл часик и уехал. Узнавали координаты вдовы Кедрина. Звонил Погореловой. Завтра встретимся.
14 декабря, вторник
"Стрелой" - "люкс". Утром процедуры. У Демина с "Рембрандтом", об аспиранте (Кадочников), о гастролях студентов летом. Розыск Кедриной. Погорелова с цветами, ужин с шампанским. На такси с Иришей на Ленинградский вокзал. Петушок - сопровождающий.
15 декабря, среда
8-30 - в Ленинграде. Катя опоздала на работу. В 10 с Виктором исчезли, в 16 появились. В обкоме до 19 ч. Пролил свет на Карелину, Горбачева и Киселева. Как будто бы поняли все. Благодарили. Звонили Карелина, Горбачев. Спать лег с горчичниками.
16 декабря, четверг
Утром гимнастика. Ириша с кряхтением готовится к репетиции. 11-30 "Коварство", "Слуга". Катя на работе появилась в 17 ч. Пришла с Виктором, но он не ночевал. Легла, чтоб мы не заметили: знает, что нехорошо. С бухгалтерией из-за Савковой поцапался.
17 декабря, пятница
Ириша после гимнастики сварганила хороший завтрак. Съездил с Горбачевым в медпункт за рецептами и в аптеку за глазными каплями, седуксеном. Купил к обеду курицу, масло, яйца. Поучил роль, уснул и к 19 ч.- на репетицию. Адашевский тоже текст знает.
18 декабря, суббота
Николай Иванович на дачу с новым насосом "Кама". Принял душ - словно я заново родился.
19 декабря, воскресенье
Адашевский потребовал первый репетировать "Пока бьется сердце" и показал свою несостоятельность. Ириша поехала в макетную. Спектакль ("Последняя жертва") прошел академически. У Ириши боль в глазу. Не спали до 2-х часов.
20 декабря, понедельник
В 11 ч. с Иришей у глазника Лукиной. Мешала распустившаяся нитка, удалили ее из глаза - стало легче. У Ириши опять разболелся глаз. Репетировала с ребятами. От Кедриной бандероль. Савкова подписала договор. У меня одышка, свистуны. Катя не была два дня. Пришла - сразу легла. Все сначала!
21 декабря, вторник
В 1 час ночи - "скорая". Через полчаса - кардиологическая бригада во главе с Колосовой. Массу уколов в вену - эуфиллин и для размачивания и т.п. Ириша так уснула, что не слышала как появились и исчезли бригады. Анна ежеминутные звонки. Волнуется.
22 декабря, среда
В ночь на 22-е Ириша сама вызвала неотложную из Свердловки. 8-30 Лида - инсулин. Завтрак - гречневая и кофе. Корреспондент "Известий" Юрий Александрович. Карелиной позвонил о больнице. Орлова интересовалась здоровьем. Баученкова - давление 190/90, направление во 2-е отделение. "Скорая" из Свердловки - безоговорочно в машину и увезла. Кислород, капельница на час. Позвонил Ирише, что в отдельной палате.
23 декабря, четверг
Давление 180/85. Из вены кровь. Завтрак: котлета с морковью, сыр, колбаса, чай с ксилитом. Обед: борщ, печенка с кашей, творог, два яблока. Ужин: свежая капуста, яичница, чай с лимоном и ксилитом. На ночь простокваша. Капельница, эуфиллин, панангин в вену. Попросил Ларису позвонить Ирише. Врач Римма Васильевна. Давление 190/95, пастозность. Образцов С. В. "Искусство, наука" по радио.
24 декабря, пятница
Давление 190/90. Капельница. Постельный режим. Проветрили палату. Позвонил Ирише. Екатерина Кузьминична приехала - уговорили поехать на дачу до моего выхода из больницы. Анна с Шишонком едут завтра на дачу на машине Продукты 130 р. Температура 37,2. Давление 170/70. Решил последние картины.
25 декабря, суббота
Душ, сменили белье. С Иришей разговор. Письмо Тхостова. Встреча с курсом. С Кравчуком - о директорах и руководителях, о дипломатии Юрия. Статья в "Известиях". Каждые 4 часа капельница.
26 декабря, воскресенье
Навестила Ириша с Зинаидой Васильевной. Ириша устает от меня, когда я дома.
27 декабря, понедельник
Пенициллин каждые 4 часа. Давление 165/85. Капельница. Римма Васильевна забежала, на ходу измерила давление: 155/85. Радостная убежала на вызов. Прибавила камфару и горчичник. На даче опять телефон не работает. Карелину в бюро выбрали, но сколько грязи было - совсем разбитая. Я не прошел (?). Ириша поняла, в чем дело, и считает, что так покойнее. Игорь, будто, вел себя пристойно.
28 декабря, вторник
"Музыкальная шкатулка" (Бетховен?) по радио - "Прощание с чудесной жизнью". Зинаида Васильевна приехала с Иришей - сверка текста "Рембрандта". Звонил Анне на дачу - тепло там. Трудятся. "Николай Иванович заболел",говорит Тоня. Много уколов пенициллина и камфары, от этого, мне кажется, зуд - так бы и почесал ниже колен. Смазали зеленкой ноги. Оказалось результат аллергии. Ночью димедрол.
29 декабря, среда
Давление 155/85. Восьмая капельница. Массаж. Укол против аллергии. Исследовали почку и мочевой пузырь - аппаратура из Америки, фиксирующая прохождение мочи. Звонил, 3 раза говорил с энергичной Иришей. Ириша говорила с зав. отделением Анатолием Андреевичем насчет Нового года ничего не вышло.
30 декабря, четверг
Анна приехала с дачи. Ириша навестила меня. Выступила сыпь. Дежурный врач прописала укол димедрола - не помогло.
31 декабря, пятница
Звонил Ирише. Ириша с Анной встречали Новый год у Жанны. Я - в больнице спал. Звонил на дачу, поздравил Екатерину Кузьминичну.
* * *
А здесь я хочу прервать повествование, поскольку свидетелем едва ли не самой великой страницы жизни моего отца я не был. Пусть о ней расскажут те, кто был в ту, последнюю ночь, когда Меркурьев в образе великого фламандца вышел на сцену, рядом с ним.
Галина Тимофеевна Карелина
...Последняя в его жизни репетиция спектакля "Рем брандт" по пьесе Д. Кедрина. Репетиция началась ночью, сразу после очередного спектакля. Василий Васильевич был очень болен и премьеру сыграть не мог. Это было тем более обидно, что о роли Рембрандта Меркурьев мечтал, как только может мечтать человек, художник о самом заветном в своей жизни. Чем так привлекла его философская, бунтарская, исполненная суровой прозы и высокого пафоса драма Кедрина? Что соединяло их - короля живописцев и актера двадцатого столетия?
Вот Рембрандта упрекают в пьесе:
"Мне непонятно, что тебя влечет
К ночлежке, к рынку, к улице, к таверне...
Людей из общества наперечет
В твоем кругу: все больше грязной черни".
"Натуру в них ищу я, может быть,
А может - совесть..."
отвечает Рембрандт.
Вот эта тяга к людям, к жизни, стремление проверить себя ее высшими критериями были близки Меркурьеву.
Меркурьева влекло к этой роли еще и что-то глубоко личностное. И когда я сейчас в спектакле слышу слова:
"Вы, мой Рембрандт, способный человек,
Ваш ум остер и чувство ваше тонко,
Но можно ль оставаться целый век
Таким вот... мягко говоря, ребенком?"
передо мной оживает, властно вторгаясь в условность сцены, именно Василий Васильевич Меркурьев - талант с детски ясным и добрым, каким-то удивительно целомудренным видением мира. С течением времени, которое каждого из нас делает более внимательным к миру, я понимаю, почему тогда, ночью, больной, он пришел на сцену и, собрав все свои силы, репетировал, чтобы хоть раз сыграть эту роль.
Он вышел на сцену в костюме и гриме Рембрандта его последних дней. Здесь, перед нами - актерами, рабочими сцены,- а в общем-то, перед потомками, подводил итог своей жизни великий Мастер, стоящий на пороге небытия. На призыв пастора покаяться, он спокойно, с трагической простотой и мудростью отвечал:
"Как будто не в чем. Я в труде ослеп.
Не убивал, не предавал. Работал.
Любил, страдал и честно ел свой хлеб,
Обильно орошенный горьким потом".
Эту сцену забыть невозможно. Пустой темный зал и освещенная сцена, тьма и свет, и большой прекрасный человек, при виде, при звуках неповторимого голоса которого сжималось сердце в предчувствии невозвратимой трагической потери. Нет, впечатление о предсмертном монологе Рембрандта в исполнении Меркурьева тщетно пытаться передать словами. Это надо было копить в себе всю жизнь, чтобы вот так выйти на сцену и, превратив своих товарищей в потрясенных слушателей, поведать им такие глубины, такие тайны души человеческой. Именно тогда все мы поняли, что это был за актер. И как несправедливо, как обидно, что он умер, так и не сыграв этой роли. Как многого лишились люди, я могу судить по нам, видевшим его тогда. Все мы были объединены одним чувством потрясения. Какое богатство он выплеснул нам из своей души - щедро, безоглядно, как бы предчувствуя, что делает это в последний раз. Какой великий актер! Совсем иной, чем Николай Симонов, Николай Черкасов, он, безусловно, был по-своему велик и в трагедийном плане. Наверное, Рембрандт стал бы вершиной его трагедийного таланта, итогом его жизненных наблюдений, поисков, прозрений, сомнений. То, что мы увидели, убеждало в этом.
В юности, в 1926 году, в период учебы у Леонида Сергеевича Вивьена и благополучного начала своей актерской карьеры Василий Васильевич получил ярлык "ста рика", блестяще сыграв Грознова в комедии А. Н. Остров ского "Правда - хорошо, а счастье лучше". И уже тогда, и потом, через тридцать лет, особенно его Грознов - неповоротливый, дряхлый, но грозный "ундер" из комедии, вызывая смех, вдруг пробуждал в сердцах зрителей какие-то совсем иные чувства. Это только по виду он был "оплотом", охранителем старого порядка, а на самом деле - одиноким, бесприютным стариком, ставшим его жертвой.
К Островскому у Василия Васильевича было особое отношение. Я помню, как мы работали над "Последней жертвой". Он страстно любил этот спектакль, своего Флора Федуловича Прибыткова. И тогда тоже искал что-то очень сложное, неблагополучное, неудовлетворенное в судьбе своего богатого, устойчивого героя. В душе этого московского воротилы, каким его рисовал Меркурьев, шла напряженная внутренняя работа, борьба с самим собой, и за всем внешним блеском и лоском благополучия явственно проглядывало его одиночество, какая-то детская незащищенность, ранимость. И снова повторю: в этом был не только его герой, в этом был он сам, это тема не только еще одного образа - это тема его личности, судьбы. В самых трагических местах своей роли я видела его глаза, глаза человека, понимающего горе другого, чуткого, участливого. "Только бы помочь! Только бы не разрушить! Только бы спасти!" - говорили, молили эти глаза. Мне, актрисе, в этом спектакле казалось, что мой партнер существует только для меня. Он настолько ощущал каждое движение моей души, мою мысль, что как бы растворялся во мне.
Критика не сумела или не захотела понять всю сложность задачи, которую Меркурьев поставил перед собой в образе Прибыткова и которую и решил так тонко, так по-своему, как это было присуще только ему одному. Писали об этом сухо, скупо, через запятую. Он не мог скрыть своего огорчения. Не потому, мне думается, что его не похвалили, а оттого, что не захотели, не сумели понять.
Но как бы ни огорчался Меркурьев этим непониманием, как бы ни подсмеивались некоторые, что вот-де он и Отелло хочет сыграть, он упрямо стремился к тому, чтобы сказать людям свое очень откровенное слово о жизни, о смерти, об одиночестве, о том, как это нелегко - быть на земле человеком.
Как хорошо, что все это понял, услышал этот немой крик души Игорь Олегович Горбачев. Он прямо-таки подарил Меркурьеву возможность такую мечту осуществить, поручив роль Бурцева, боевого медицинского генерала, руководителя института в спектакле Д. Храбровицкого "Пока бьется сердце".
С появлением Меркурьева казалось, что на сцену вылетал гигант, снаряд бронебойной силы, вихрь - вся мощь, вся энергия этого человека были направлены на то, чтобы во имя дела, во имя науки, во имя справедливости ринуться в любое сражение, сокрушить всех и вся, кто мешает осуществлению его благородных идей.
Финальную сцену разговора умирающего Бурцева со своим любимым учеником, другом, соратником - хирургом Крымовым - забыть невозможно. "Сколько же мы с тобой спасли! Дивизию можно собрать! Крымов! Дивизию целую! Не-ет. Хорошо..." - какие непередаваемые оттенки звучали в его голосе. Он говорил как человек, умудренный огромным опытом, прошедший страшное горнило. Он умирал спокойно, без страха, с сознанием того, что, подарив жизнь другим людям, он выполнил свой долг до конца. И перед этим отступало все: и одиночество, и неустроенность личной судьбы, и какие-то ошибки, сомнения, неудачи в той, уже ушедшей жизни.
Это был один из последних шагов Меркурьева к его великому несыгранному Рембрандту.
Он всегда радовался жизни и искусству, был оптимистичным, добрым и открытым, а потому и понятным и близким всем. Существовал только один человек на свете, к которому он был беспощаден - актер Меркурьев. "Человек любой профессии стремится к высокому качеству своей работы,- говорил он.Но признаюсь откровенно, я бываю доволен собственной работой только тогда, когда состав фильма или спектакля силен в целом, когда создается так называемый творческий ансамбль. Я радуюсь, если коллега, товарищ работает лучше меня".
В трагедии Юлии Тугиной мне казалось самым главным не то, что у нее отняли деньги. Не призрак нищеты повергает ее в душевные страдания, а потеря веры в человека. С этим для нее уходило все. И это мое соображение нравилось Василию Васильевичу, было близко ему и понятно, и мы очень часто думали и с волнением говорили об этом друг с другом не только в процессе работы над спектаклем, а просто так, в жизни. Потому что по нашему с ним убеждению истина заключалась в том, что на вере в высокое, на верности ему держится весь мир, все человеческие отношения и в жизни и в искусстве.
Вопрос "во имя чего?" всегда был с ним и в искусстве, и в жизни. Во имя чего приходит в мир человек? Во имя чего призван он жить, трудиться, терпеть лишения и невзгоды, терять и обретать, познавая счастье, дружбу, предательство, бороться и погибать? Во имя чего выбирает себе человек предназначение на земле и служит ему? Что важнее, что нужнее в наш бурный нейтронный век - великая гармония добра и красоты или всесильная алгебра рассудочности и комфорта? Ответы на эти мучительные вопросы он искал в каждой из своих работ, он утверждал его своим подвижничеством в искусстве. Он был глубоко убежден, что театр нужен, необходим всем, что настоящее искусство способно пробудить "душу живу" всегда и везде.
Есть актеры, которые, как и большие поэты, "не гибнут, а гаснут, как звезды", а свет еще долго-долго видят их потомки и по нему определяют свой курс. Есть что-то пророческое в том, что о Рембрандте, в последний раз прожитом Меркурьевым на той незабвенной полночной сцене, говорится в финале спектакля:
"Не верьте, люди. Рембрандт не умер.
Не умирает истинный талант
Пусть надорвался он, но злу не внемля,
Он на плечах широких, как Атлант,
Намного выше поднял нашу землю!"
* * *
И еще один свидетель последних лет жизни и творчества моих родителей:
Зинаида Васильевна Савкова
Много лет я знала Василия Васильевича Меркурьева не только как зритель, плененный его искусством, но и как сотоварищ по совместной работе в Театральном институте, где он, профессор, обучал будущих актеров, а я на его курсах преподавала сценическую речь.
Еще свежи в памяти встречи с артистом, особенно в дни, когда Академический театр драмы имени А. С. Пуш кина готовил к постановке пьесу Д. Кедрина "Рем брандт". В ней Меркурьев должен был играть заглавную роль, а я осуществляла режиссерскую работу над словесным действием в стихотворной пьесе, была редактором ее сценического варианта.
Сыграв много ролей в основном в пьесах, написанных прозой, Василий Васильевич вдумчиво, трепетно приступил к созданию сложного образа Рембрандта в пьесе, написанной стихами. Он изучал литературу о жизни и творчестве великого художника, постигал тайны его живописи, проникал в его сложный внутренний мир, характер взаимоотношений с окружающими людьми и т.д.
С предельной тщательностью работал над словом. Его волновала проблема: как, не теряя естественности звучания речи, сохранять форму стиха, как овладеть особым видом словесного взаимодействия стиходействием, когда слово, вплетенное в ткань стиха, вызывает иное самочувствие, иную взволнованность, особый характер событий, мироощущения, сверхзадачи. И, как старательный ученик, Меркурьев вновь изучал законы звучащего слова в стихотворной пьесе, овладевал искусством паузировки, наполняя стиховые паузы глубоким подтекстом, вырабатывал в себе "внутренний метроном", позволяющий органично жить в ритме стиха, не теряя ритмического чувства ни в процессе речевого взаимодействия, ни в зонах молчания.
Уверовав в полезность рекомендованного приема, артист настойчиво учился говорить в заданном стихотворном размере пьесы Д. Кедрина, написанной пятистопным ямбом. В дни репетиций он пытался вообще разговаривать ямбичной стопой. Однажды он так обратился к нам:
Пора уже идти в театр, друзья,
Лишь час до репетиции остался.
Попробовать хочу сегодня я,
Как в первом акте мне финал удался.
А в другой раз, возвращаясь после удачно прошедшей репетиции, мы услышали опять рифмованные строчки:
Заговорил стихами я во сне,
Чтоб форма не мешала мне творить.
Прием понятен стал и дорог мне:
Он позволяет органично жить.
Когда я в ритме двигаюсь, молчу,
Тогда живу свободно, как хочу.
И всю дорогу мы втроем (Ирина Всеволодовна, Василий Васильевич и я) весело занимались стихоплетством, погружая себя в знакомые уже и ставшие близкими "волны ритма" кедринской пьесы.
Однажды, включив магнитофон, Василий Васильевич попросил меня прочесть вслух всю пьесу. Я это сделала. По записи, к прослушиванию которой он не раз возвращался, Меркурьев проверял себя, полностью ли он владел законами стиходействия.
Большая потеря для нашего искусства, что на пленку не запечатлена последняя подготовленная им роль Рембрандта. Это был бы образец органичной жизни актера в стихотворной пьесе. Романтически приподнятая речь Рембрандта - Меркурьева звучала просто, правдиво. Не было никакой декламации. В стихотворной форме сохранялись все особенности живого действенного слова: разнообъемно звучали главные и второстепенные по значению слова, наблюдалось темпо-ритмическое разнообразие в звучании целых периодов мысли, естественно включался в действие звуковысотный и динамический диапазоны голоса, постоянно менялся тон, тембр голоса в зависимости от смены отношений, чувств, оценок, которыми сопровождалась речь Рембрандта. Особенно искусно оправдывались паузы в конце стихотворных строк в моменты "зашагивания" мысли на другую строку.
Артисты знают, как нелегко овладеть одним из главных законов словесного действия - перспективой речи. Меркурьев владел ею блестяще. Его речь всегда стремилась к логическим центрам мысли, к главному.
Вспоминается роль Флора Федулыча Прибыткова в спектакле "Последняя жертва" по пьесе А. Н. Островского: сцена, когда Флор Федулович отказывается дать взаймы деньги молодой вдове, судьба которой ему далеко не безразлична.
Произнося текст длинной диалогической реплики, Меркурьев не только обращался к Юлии, но, скорее, убеждал себя в том, чтобы не проявить слабости и не бросить деньги на погибель самой же Юлии, горячо полюбившей ветреного, несамостоятельного человека, тоже жертву века. Желая скорее прекратить тягостный разговор, Флор Федулыч - Меркурьев проговаривал слова в быстром темпе. И если в его страстном речевом потоке зрители иногда могли не расслышать какое-то слово, то они всегда понимали главное - мысль и действие героя: в их сознании запечатлевалась последняя фраза, звучавшая с интонацией категорического отказа: "...А на мотовство да на пьянство разным аферистам у меня такой статьи расхода в моих книгах нет-с".
И сегодня, как живой, стоит перед глазами Флор Федулыч, и снова волнуют его слова, звучащие с неповторимой меркурьевской интонацией, которыми он заканчивает встречу с Юлией. Когда не в силах больше видеть унижение женщины, он уступает ее просьбе и дает деньги, а она в порыве благодарности целует его, Флор Федулыч - Меркурьев застывает на минуту, как бы желая продлить, запечатлеть это счастливое мгновение и неторопливо, осознавая, оценивая то, что произошло, говорит: "Этот поцелуй дорогого стоит! Это от души-с!" И вдруг он еще раз, с глубоким подтекстом, в котором слышится и тоска по искренней, бескорыстной любви, и готовность отдать жизнь за истинное чувство, повторяет на более высоком тоне, восклицая слова: "Дорогого стоит!"
И здесь были соблюдены законы перспективы: эти три короткие фразы звучали по-разному. В них была ярко, впечатляюще отражена динамика внутренней жизни "человека-роли".
Меркурьев - актер, соединивший в себе лучшие традиции русского театрального искусства и самый современный стиль игры, в совершенстве владел искусством перевоплощения. Вспомним его Мальволио ("Двенадца тая ночь") с танцующей, летящей на крыльях любви, неторопливой походкой, с отведенными назад, как крылья, руками, с повисающей в воздухе ногой, когда он спускается с лестницы. Еще миг - и он взлетит! Такому физическому состоянию и поведению героя соответствовал и характер речи: голос его тоже парил в небесах. "Она в меня влюбилась!" Эта фраза звучала на высоком, наполненном чудом любви тоне...
Но вот широким стремительным шагом входит в палату главный хирург Бороздин ("Летят журавли"), чтобы остановить истерику раненого бойца, получившего известие об измене невесты. Еще на ходу решительно звучат слова приказа: "Прекратить! Ты боец Красной Армии! Дезертировать?!" И тут же по-мужски, сурово произносятся ободряющие слова утешения: "Подумаешь! Такого красавца, настоящего героя на какую-то тыловую крысу променяла!.." И чтобы окончательно снять боль измены, Бороздин - Меркурьев заканчивает свой все более страстно звучащий монолог гневными словами: "Таким, как она, всеобщее наше мужское презрение! Нет им прощения!" С какой экспрессией, силой, с каким подлинным гражданским темпераментом и мужеством звучали эти слова!
А разве можно забыть Ивана Ивановича (в гоголевской "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"), которому до смерти захотелось иметь ружье, увиденное у соседа - Ивана Никифоровича! Вы буквально прикованы к лицу Ивана Ивановича - Меркурьева. По мимике Меркурьева видишь, как жестоко страдает его герой, как не хочет примириться с мыслью о необходимости отказаться от своей мечты. За мимикой, жизнью рук, тела, следует рождение слова - еще более выразительного, наполненного тончайшими красками живой речи.
Наделенный богатым, разнообразным юмором, Меркурьев не спекулировал им на сцене, не "выдавал юмор на-гора" ради того, чтобы сорвать аплодисменты. Поразителен один диалог с ним. В спектакле "Горячее сердце" А. Н. Островского Меркурьев играл роль Курослепова. В театр я шла, думая, что вдоволь посмеюсь, увидев Василия Васильевича в этой роли, так колоритно выписанной Островским. И каково же было мое удивление, когда я увидела на сцене страдающего человека, который не вызывал бурного смеха, а заставлял внимательно вглядываться в него, пытаясь понять: кто он, чем живет, что его тревожит или он уже к всему безразличен?..
После спектакля на вопрос, почему он так сдержанно играет Курослепова, не вызывая взрывов смеха в первой же сцене, как это делали другие актеры, Василий Васильевич удивленно воскликнул: "Что вы?! Как можно думать об этом? Ведь Курослепову очень плохо. Страшно! Жутко! Подумайте, бьет пятнадцать часов, валится небо! Он в аду!... Я еще не почувствовал до конца странную логику и мотивы его поведения. Вот когда полностью заживу его жизнью, его думами, желаниями, чувствами, тогда только у меня появятся более яркие краски восприятий, оценок, отношений, действий. И тогда-то, не разделяя мои поводы для волнений (они ведь действительно смешны), зритель и станет смеяться более откровенно и заразительно. Но к этому надо идти осторожно от спектакля к спектаклю. Боже упаси наврать!" Так говорил артист, играя не премьеру и не первые спектакли.
Не признавая на сцене суеты, Василий Васильевич часто удерживал своих учеников от чрезмерной хлопотливости: "Зачем так стараетесь, затрачиваетесь? Ведь вы - власть, в ваших руках сила,- говорил он исполнителю Градобоева в спектакле "Горячее сердце",- вы можете, нажав на курок, сделать "пиф-паф" - и нет того, кто вам противоречит. Не забывайте о том, что малыми средствами надо сказать многое. В этом искусство актера". Подчеркивая важность словесного взаимодействия, Меркурьев уточнял: "Дело не в словах. Слова родятся. Следите за партнером, воспринимайте его слова, мимику, жесты, малейшие изменения в интонациях и не торопитесь говорить, не оценив, не родив ответное действие. В процессе восприятия, общения, воздействия обязательно включайте натренированное биомеханическими упражнениями свое тело. Сначала реагирует тело, а за ним рождается слово. Не торопитесь его произносить, пока оно не созрело. Иначе будут преждевременные роды. Речь ваша будет бездейственна и невыразительна".
Уже после того как не стало Василия Васильевича, я прочла в журнале "Театр" такие слова: "Побывал на уроках Зинаиды Васильевны Савковой. Ее метод великолепен! Пожалел, что в мое время меня так не учили. Долго стеснялся, потом попросил ее со мной позаниматься речью"57. "Долго стеснялся, потом попросил ее со мной позаниматься речью",- отмечает в своей записной книжке народный артист СССР, профессор, лауреат Государственных премий!
Помнится, как, набирая очередной курс будущих актеров, он возмущался по поводу того, что один из кинорежиссеров настойчиво предлагал ему сняться в новом фильме: "Вы понимаете?! Я все равно не приму его дочь в свой класс. Она недостаточно одарена. Нет, я лучше не буду сниматься в его фильме". В другом случае он говорил: "Должны были сделать проезжую дорогу к даче. Теперь, наверное, не проложат. Я не возьму его (такого-то должностного лица) дочь - не могу! Есть девушки лучше, одареннее ее".
Однажды афиши, расклеенные по городу, приглашали на творческие встречи с Меркурьевым. Но он неожиданно оказался в больнице с воспалением легких. И, конечно, концерты должны были отменить. Но наперекор всему Василий Васильевич настоял на том, чтобы "врачи вошли в положение зрителей" и "поняли душу артиста". И... два дня подряд шли творческие вечера народного артиста, но никто из зрителей не подозревал того, что он болен.
Он всегда был занят, всегда за кого-то хлопотал. То он помогал студентке быстрее устроить в круглосуточные ясли ребенка, чтобы дать ей возможность продолжать учебу в институте, то помогал актрисе, всю жизнь прожившей невдалеке от театра, в том, чтобы ее не переселяли в другой район города, то добивался, чтобы внезапно заболевшего молодого актера срочно положили на обследование.
Дом Меркурьевых никогда не пустовал. Там всегда были молодые и пожилые, деятели искусства и далекие от искусства люди. И всем было уютно, интересно, всем находилось доброе слово, совет, помощь. И каждый уносил в своем сердце любовь к такому простому и доброму человеку.
Еще один эпизод: мы стояли на Невском, определяя дальнейший наш путь. И вдруг около нас остановился троллейбус, распахнулись его двери, и мы увидели приветливое, улыбающееся лицо водителя, приглашающего Меркурьева войти в машину. И хотя мы еще окончательно не решили, куда нам было целесообразно идти, Меркурьев не мог разочаровать, огорчить водителя. Мы вошли в троллейбус и проехали остановку. Василий Васильевич поблагодарил водителя. И тот счастливый поехал дальше...
Игорь Олегович Горбачев
Я хочу рассказать о том, что значила для меня работа рядом и вместе с Василием Васильевичем Меркурьевым.
Это был интереснейший актер. Уникальность его состояла в том, что он умел быть неожиданным на сцене. Это заключалось, прежде всего, в том, что даже в тщательно отрепетированной и много раз сыгранной роли он мог вдруг предстать иным. Трудно было предугадать, какая интонация прозвучит в той или иной фразе, на чем артист сделает ударение, как обратится к партнеру по сцене. А Василий Васильевич всегда выстраивал роль так, как никому вообще и в голову не пришло бы. Например, там, где по ходу действия его герой должен был плакать, Меркурьев вдруг неожиданно начинал смеяться; где по всем признакам должен был волноваться, был спокоен или пытался иронизировать.
Все это поначалу могло показаться совершенно неожиданным и непонятным. Но когда роль была сыграна, и я начинал анализировать ее, исходя из логики поведения, логики созданного образа, когда виделось все в целом, начинал вдруг понимать, что игра Меркурьева и есть единственно верное исполнение.
Действие, поступок, оценка событий или персонажей у Меркурьева всегда были предельно четкими. Его исполнительское отношение к происходящему просто невозможно было не увидеть, не почувствовать. Этот редкий дар был дан Меркурьеву от природы, хотя, конечно, он существовал в нем не стихийно. Многое не только практически, но и теоретически было глубоко осмыслено им.
Еще одна черта, еще одна грань таланта Василия Васильевича - на редкость обостренное чувство юмора.
Как-то раз в дни предновогодних праздников мы с Василием Васильевичем чуть ли не на час опаздывали на концерт. Приехали в Таврический дворец, идем по многочисленным коридорам, торопимся. Меркурьев очень спешит, я едва поспеваю за ним. Нас встретил молодой человек, сообщил, что концерт подходит к концу, все, как могут, тянут время, чтобы мы успели выступить. И вот уже перед самым выходом на сцену нас встречает другой молодой человек, протягивает Василию Васильевичу руку и долго-долго представляется, перечисляя все свои звания, должности, степени. Меркурьев терпеливо выждал, пока тот все скажет о себе, сделал паузу, протянул руку и как-то совсем просто, даже застенчиво произнес: "Вася".
О Меркурьеве как комедийном артисте читатели хорошо знают по фильмам с его участием и многочисленным ролям в театре. С возрастом же в нем все больше стало проявляться трагедийное начало, и мы, партнеры Василия Васильевича по сцене, особенно хорошо чувствовали это. Остается сожалеть, что режиссеры часто используют в актерах только то, что, как говорится, лежит на поверхности, разрабатывают в основном лишь верхний пласт ценной породы, а в глубину не всегда могут или не хотят заглянуть. Не разглядели они и в Меркурьеве актера-трагика.
А в последние годы работы в театре он все чаще поражал всех тем, что обнаруживал новые и новые краски в выражении именно трагического в своих ролях. Подтверждением тому может служить его генерал медицинской службы Бурцев в спектакле "Пока бьется сердце" Д. Храбровицкого.
Сначала на зрителей обрушивался неистощимый поток юмора, вызывая у них смех и завоевывая все больше и больше симпатий к герою Меркурьева. Но постепенно начинала звучать драматическая нотка: оказалось, что он тяжело болен. Как тонко, с каким удивительным тактом и накалом драматизма артист проводил последнюю сцену! Бурцев - Меркурьев как бы извинялся перед окружающими, перед товарищами по работе и друзьями, что вынужден побеспокоить их своей болезнью, что приковывает к себе столько внимания, заставляет волноваться за свою судьбу. Интересна сцена перед смертью героя. Здесь уже другого рода оптимизм, совсем не тот, что был в начале спектакля. Бурцев прощается с дорогими ему людьми. Он не хочет, чтобы они видели его мучения, не хочет чувствовать к себе сострадания, а тем более жалости. Вот откуда его веселость. От этого драматизм сцены становился еще сильнее, еще глубже.
Уметь рассмешить зал, затем сделать паузу, заставить его задуматься, а иногда и заплакать - какое это счастье! Василий Васильевич Меркурьев обладал этим арсеналом в полной мере.
Редкая удача выпала тем, кто был партнером Меркурьева - ведь каждую минуту пребывания на сцене он творил. Чувство товарищества, умение импровизировать, искать неординарные решения делали его труд по-настоящему увлекательной, творческой, радостной работой, приносящей удовольствие и тем, кто был занят в спектакле, и, конечно же, зрителям, становившимся свидетелями рождения подлинного искусства.
ЭПИЛОГ
Все улыбаются, когда вспоминают Меркурьева. Все вспоминают его доброту, его юмор. А я смею утверждать, что юмор - далеко не главное его качество. Он иногда только чуть-чуть раскрывал створки и выпускал "бациллу" юмора. И этого хватало на всех. А в основном был он задумчивым и молчаливым, страдающим и вздыхающим. Он был одиноким. Не потому одиноким, что около него никого не было,- как раз людей около него было в избытке! А потому одиноким, что не мог никто охватить взглядом эту громадину, эту личность, а уж тем более - встать с ним рядом и это его одиночество разделить.
Как сложно писать о минутах его откровения - все эти отрывки из контекста не смогут быть поняты: "мысль изреченная есть ложь..." Ну как рассказать о таком моменте? Незадолго до смерти, осенью 1977, когда отец лежал в больнице, ему принесли журнал "Амери ка", в котором было опубликовано интервью с великим пианистом Артуром Рубинштейном. И вот, прихожу в больницу (а я только на сутки приехал в Ленинград), и отец сразу же говорит: "Я тебе сейчас почитаю..." Он надел очки, начал читать, но, когда он читал о том, что Рубинштейн не может простить себе, что он живет хорошо, а где-то умирают дети, что ему больно от того, что не сыграл Шестую сонату Прокофьева, слезы душили отца. Он помолчал и тихо промолвил: "А скольким бы людям я еще мог помочь..."
Прежде чем рассказать о том, как отец умирал (а смерть - едва ли не самый высокий акт человеческого бытия), я должен сказать, что в последние (самые последние) годы его работы в театре он, наконец, ощутил понимание. Как я уже писал, еще в 1963 году, когда Игорь Горбачев был просто хорошим актером Александринки, он сказал Меркурьеву: "Василий Васильевич, вам надо сыграть кедринского Рембрандта!" Но какой же длинный путь вел к этой роли! Меркурьев тогда же прочитал пьесу, говорил о постановке с Варпаховским, просил Вивьена. Но Вивьен остался глух к этому душевному крику своего великого ученика - "не видел" он Меркурьева в героических и трагических ролях. И только через 15 лет мечта Горбачева и Меркурьева почти что осуществилась. Почти что...
Судьба пощадила Меркурьева, - не дала умереть немощным. Он ушел в небытие практически прямо со сцены, под шквал оваций. Умирал Меркурьев грандиозно. Да, именно так. В отделении реанимации он лежал на высокой кровати, смотрел в потолок, и было видно, как лихорадочно он размышляет. О чем? Ведь он превосходно понимал, что умирает. Сознание его путалось - азот все активнее проникал в кровь, уремия наступала неумолимо. И вот в этом спутанном сознании он повторял:
- Позвони в театр (безошибочно называл номер телефона), узнай, почему Мольер идет третьим спектаклем и что там будет играть Катя.
Судьба младшей дочери его волновала бесконечно! За нас с Анной он был спокоен.
- Пойди в институт - там есть приказ, чтобы маме без меня дали русскую мастерскую...
И судьба мамы - его обожаемой жены Иришечки - волновала, ибо именно этот фронт был самым напряженным в многолетней борьбе.
А однажды поманил меня взглядом к себе поближе и тихо прошептал:
- Я хочу, чтобы ты жил долго.
Когда удивительный врач-реаниматолог Владимир Иванович Бессонов решился на риск и ввел Меркурьеву максимальное количество очень эффективного препарата - лазикса, вдруг появилась надежда, что отец вытянет! Он зажил, голос стал огромный, мысли, хотя и путаные,- но активные.
- Ириша! Какой я сегодня спектакль видел! Это потрясающе! - громыхал он на кровати (а в жизни он не был "громыхающим").- Надо собрать народ и обсудить!
И далее:
- Где моя Ириша? Я ее обожаю, это потрясающая женщина!
И подходила к нему седенькая, почти слепая старушка-жена, Ирина Мейерхольд, которая была младше его на год, но давно уже выглядела, как его мать. Он же так и не сделался стариком. И даже в самые последние часы, когда сознание совсем покидало его, он особо реагировал на окружающее - с юмором и добротой. Медицинские сестры, думая, что Меркурьев находится в глубокой коме, разговаривали излишне громко. И вдруг услышали, как больной проворчал фразу из старого анекдота:
- Тише, б..., полиция.
За два часа до конца к нему в палату пришел Игорь Горбачев. Он наклонился над ухом Меркурьева и сказал:
- Василий Васильевич! Третий звонок - ваш выход, Артист!
У отца приподнялись брови...
Сердце его остановилось в 13 часов 12 мая 1978 года.
Утром этого дня, когда я собирался в больницу, мне позвонил мой друг Александр Сергеевич Пономарев - руководитель московского детского хора "Весна". Он с хором приехал в Ленинград, и на 13 мая был назначен концерт в Большом зале Ленинградской филармонии. В этот же день из Москвы приехала съемочная группа кинофильма "Беспокойные люди" ("Супруги Орловы") во главе с Марком Семеновичем Донским - на 16 мая была назначена премьера фильма в Ленинградском доме кино (я там играл одну из центральных ролей). Вечером 13 мая в Большом зале филармонии притушили люстры, и А. С. Пономарев сказал: "Должен сообщить вам скорбную весть. Умер великий артист, всеми любимый человек, ленинградец, Василий Васильевич Меркурьев". В зале прозвучал единодушный вздох: "Ах!" Пономарев посвятил памяти Меркурьева исполнение "Магнифи ката" Монтеверди.
14 и 15 мая прошли в хлопотах, суете. Но находилось время, чтобы съездить к маме в больницу. Около нее все время были люди: тетя Галя, из Москвы примчалась референт Института глазных болезней Тамара Куделина (за год до этого маме профессор Краснов делал в своем институте операцию на глазах - там родители и подружились со всеми сотрудниками клиники). Не отходили от мамы Нина Васильевна Мамаева, Тамара Колесникова, Светлана Шейченко, прилетел из Омска и сразу примчался в больницу Женя Массалыга. Врачи категорически отказали маме в выписке или хотя бы в присутствии на похоронах. Многое помню, как в тумане. Но ярко помнится, как 14 мая я полдня провел с хором "Весна". Когда мы обедали в каком-то кафе, Пономарев попросил, чтобы именно я от имени хора сделал запись в книге благодарностей сотрудникам этого кафе. Помню, как ко мне подошла там то ли администратор, то ли буфетчица и сказала:
- Я поздравляю вас.
Я очень удивился:
- С чем же?
- С вашим мужеством и с такими друзьями.- И до бавила: - Для нас всех смерть Василия Васильевича все равно что потеря самого близкого человека. Но, как говорят на Руси, на миру и смерть красна.
16 мая с 10 часов утра был открыт доступ в Театр имени Пушкина. Народ шел несколько часов. Накануне я подобрал музыку из любимых отцом музыкальных произведений. Много там было музыки и, конечно же, "Элегия" Массне и "Сомнение" Глинки в исполнении Шаляпина. У папы всегда появлялись слезы на глазах, как только звучали в исполнении Шаляпина слова: "Уймитесь, волнения, страсти..."
И вот уже после трех часов прощания с Меркурь евым, когда у гроба стояли В. И. Стржель чик, В. П. Ко вель, А. Д. Папанов и, кажется, О. В. Басилашвили, зазвучал голос Шаляпина: "Уймитесь, волнения, страсти..."
Я неотрывно смотрел на лицо покойного отца и вдруг увидел, что по его щеке катится слеза.
- Анна, смотри! - сказал я сестре.
- Плачет! - ответила Анна.
- А он всегда плакал, когда Шаляпин пел это.
- Правда? - совершенно не удивляясь, а очень просто спросил Анатолий Дмитриевич Папанов.
Прошли шесть часов прощания. Упал тяжелый занавес Александринки. Гроб вынесли, обнесли вокруг театра, поставили в катафальный автобус, где уже сидели мои тетушки. Сели и мы с Анной. И тут я почувствовал, что вот-вот кто-то заплачет, и это, как цепная реакция, перейдет на всех - на меня в том числе. И я сказал:
- Ой, я анекдот вспомнил! Встречаются два могильщика. Один говорит другому: "Мы вчера так устали - баскетболиста хоронили, трехметровую яму рыли". А дру гой отвечает: "Что вы устали! Вот мы устали - народного артиста хоронили: шесть раз на "бис" откапывали!"
Кто-то мне тут же сказал:
- Как ты можешь! Это кощунство!
- Да бросьте вы ханжить! Папа был человек с юмором. Он сейчас бы посмеялся с нами! А почему мы должны плакать? Себя жалеть? Это для него оскорбительно. А его жалеть тем более нельзя - он прожил достойную жизнь. И дай Бог каждому так умереть, чтобы его вся страна провожала.
На Литераторских мостках Волкова кладбища процессию встретили четыре очень интеллигентных могильщика, в черных костюмах, в белых рубашках с галстуками. Около могилы я обратил внимание на то, что почти до середины яма была заполнена еловыми ветками.
- Это чтобы Василию Васильевичу мягче лежалось,- сказал могильщик.
У края могилы гроб открыли. Какая-то старушка, взглянув на покойного, сказала:
- Недоволен...
Когда гроб опустили в могилу, а холм покрылся венками, ко мне подошел бригадир могильщиков:
- Петр Васильевич, вы не обидитесь, если я попрошу вас заехать ко мне домой хотя бы на минутку: жена поминки приготовила.
Мы поехали. В комнате накрыт длинный стол. Сидят женщины в платочках, кто-то тихо суетится, накрывая последние приборы, вносят блины. На серванте - фотография Меркурьева, около нее рюмка, покрытая кусочком хлеба... Кто они, эти люди? В тот день я и не спросил, как их зовут, не запомнил, куда меня привезли. Хотел узнать, кто же они, эти люди. Хотел поблагодарить их. И когда этими своими мыслями поделился со своим товарищем - директором картины "Супруги Орловы" М. Айзенбергом, он мне сказал: "Тогда тебе придется познакомиться с тысячами семей во всем Советском Союзе. Ты что, думаешь, только в той семье поминали Меркурьева? Он же был родным для всех, и все оплакивают его, как самого близкого человека".
Этим же вечером в ленинградском Доме кино была премьера фильма "Супруги Орловы" и я, как участник, был на ней. Папа не простил бы мне, если бы я не был на своей премьере.
А спустя месяц, в июне 1978 года, мама полетела в Грозный, где состоялась официальная церемония вручения дипломов выпускникам чечено-ингушской мастерской - последним воспитанникам Василия Васильевича Меркурьева и Ирины Всеволодовны Мейерхольд.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Именем Василия Васильевича Меркурьева не названа звезда ни в одном из созвездий галактики. И это хорошо. Это закономерно. Звезда - это что-то холодное и далекое. А Меркурьев был человеком теплым и очень близким. Для всех - близким. И память о нем должна быть не на географических или астрономических картах, а в душах живых людей. И если память эта будет передаваться по наследству, из души в душу, значит, он заслужил желаемого бессмертия. Но только так - никак иначе.
Я заметил, что когда по радио и телевидению рассказывают об искусстве 1940-1970-х годов, то упоминают многих актеров, перечисляют иногда десятки имен. И никогда не упоминают среди них Меркурьева. Иногда устраивают опросы: "Кто ваш любимый актер?" Звучат имена Смоктуновского, Черкасова, Симонова, Миронова, Леонова. И ни разу - Меркурьева. Что это такое? Неужели ни в чьей душе Меркурьев-актер не занял первого места? Один мой приятель предпринял подобную попытку: он спрашивал людей поколения 30-50-х годов об их предпочтениях среди актеров. Результат был тот же. Но когда он спрашивал: "А Меркурьев?" - респонденты, как один (!), отвечали: "А Мер курьев, разумеется, сам собой".
Я часто думаю о превратностях судьбы: с самого рождения мне суждено быть сначала сыном известнейшего, любимого всеми артиста Меркурьева, артиста, чье искусство поощряется правительством, с одной стороны, и внуком врага народа Мейерхольда, чьи заслуги вычеркивались из всех книг, чье имя не разрешалось упоминать ни в каких статьях, ни в каких научных работах. А если уж его не упоминать было нельзя, то перед произнесением его имени обязано было последовать как заклинание: "формалист, принесший огромный вред..." Целое поколение выросло, казалось бы, все должны были забыть, кто такой Мейерхольд. Но вот его реабилитировали. Медленно стали возвращать его имя в ряды деятелей театрального искусства. Потом наступили новые времена, когда имя Мейерхольда стало не просто можно вспоминать, но было даже выгодно рассказывать о знакомстве с ним. А потом наступил период, когда имя Мейерхольда стало звучать чуть ли не повсеместно. И уже даже люди, никогда и в театр не ходившие, при имени "Мейерхольд" уважительно приподнимаются.
Сейчас тех, кто когда-либо видел спектакли Мейерхольда, практически в живых не осталось. Во всяком случае, таких единицы. Но имя Мейерхольда слышали все. А я стал уже внуком гениальнейшего из гениальнейших, все спешат сказать мне, что я очень похож на Мейерхольда (знаю, знаю! Но это внешне! В остальном на мне природа отдыхает), а когда я говорю, кто мой отец, люди, родившиеся после 1970 года, отвечают: "Не припоминаю..."
Обидно ли мне это? Нет. Нисколько! Ведь все это - суета, столь чуждая моему отцу. Конечно, жаль тех людей, которые обделены встречей с Василием Васильевичем Меркурьевым - общение с ним, с его искусством духовно обогащает, делает людей добрее. И не обязательно, чтобы люди знали его имя. Пусть снова смотрят фильмы, пусть снова верят его героям. А кто их играл какая разница? Главным для моего отца - нет! - главным для Василия Васильевича Меркурьева было, чтобы людям, которым он служил, жилось хорошо! Чтобы побеждало Добро! А если в это внесет и он свой вклад - тогда и будет спокойна душа и его, и его любимой Иришечки, и будет царить Великая Душевная Гармония, созданию которой отдал весь свой талант, всю щедрость своей души Великий Добрый Человек Василий Васильевич Меркурьев.
ГЛАВА САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ
Мысль написать книгу о родителях, о времени, в котором жил, о людях, с которыми встречался, жила со мной многие годы. Я даже начинал писать какие-то обрывочные воспоминания, записывать то, что вспоминалось, но все это было именно обрывочным, бесформенным. И все откладывалось "на потом".
И вдруг (прямо по-булгаковски это "вдруг")... В середине июля 1998 года, когда я оказался в растерянном состоянии после конкурса имени Чайковского, на котором редакция газеты "Музыкальное обозрение", где я имею честь служить, работала в качестве пресс-центра, мне позвонил главный редактор уважаемого издательства "Алгоритм". Через полчаса он уже был в редакции "Музыкального обозрения". Уговаривать меня не пришлось - я сразу же согласился с тем, что обязан написать книгу. Но как выбрать для этого время, условия? И тут же, через полчаса, мне позвонил из Тамбова мой друг, ректор Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова Александр Сергеевич Базиков. Выслушав мои проблемы, он сказал: "У тебя отпуск? Так приезжай ко мне, у меня дома компьютер - будешь сидеть и работать".
Основную часть книги я написал за 24 дня в Тамбове (кстати сказать, не использовав ничего из того, что писал когда-то в качестве заготовок). А когда приехал в Москву, мой друг, коллега, начальник - главный редактор "Музыкального обозрения" Андрей Устинов заявил: "Забирай домой компьютер и заканчивай книгу". (Имя Андрея Устинова вы встретите на страницах дневника Меркурьева. Когда Андрей был еще мальчиком, он часто приезжал в Ленинград, был влюблен в Громово, ходил на папины спектакли, штудировал все книги о Мейерхольде. Весь апрель 1978 года он был с нашей семьей, и уехал в Москву буквально накануне папиной смерти, так как получил повестку в военкомат и должен был с вещами прибыть на сборный пункт 15 мая).
Я не литератор. Отсюда - нестройность книги, фрагментарность. Перечитывая написанное, я вижу, что подчас делаю акценты на несущественном, а многое важное пропускаю. Но пусть будет так! Может, когда-нибудь соберусь с мыслями и силами и сотворю нечто более стройное...
Не я писал книгу - Судьба. Люди, которые рядом со мной. Люди, которые к Василию Васильевичу Меркурьеву относятся... Собственно, как они к нему относятся - об этом и вся книга. Я не стану их благодарить, дабы не обидеть. Но в душе своей сохраню навсегда тепло и к А. С. Базикову, и к Андрею Устинову, и к Катерине Замоториной, и к Марине Брокановой, и к Ольге Генебарт, и к Андрею Долговидову, и к Калерии Долуханян, и к Роману Рыбасу, и к Денису Горбатову, и к Марии Филатовой - ко всем, кто заинтересованно и взволнованно следил за процессом написания этой книги, а также к Федору Филиппову, немало потрудившемуся над "полуфабрикатом" рукописи.
1 Эти с троки были написаны полтора года назад. А весной этого, 2000, года С. Дрейден получил "Золотую маску" за лучшую мужскую роль.
2 И. Н.- Илья Николаевич Киселев, директор театра.
3 А. Г. Зархи приступил к работе над новым фильмом, предложил В. В. Меркурьеву роль старого актера Тверского. Проба была хорошей, но В. В. Меркурьев выглядел значительно старше Е. А. Евстигнеева, игравшего главную роль, а по сценарию - они одногодки.
4 З. В. Савкова уже не работала в ЛГИТМИКе (она в это время заведовала кафедрой в Институте культуры), но продолжала активно помогать В. В. Меркурьеву и И. В. Мейерхольд во всех творческих вопросах.
5 Музиль Александр Александрович - режиссер Театра им. А. С. Пушкина и зав. кафедрой актерского мастерства ЛГИТМИК.
6 Баученкова - врач поликлиники при больнице им. Свердлова (Свердловке).
7 Можаева Мария Александровна - актриса Театра им. Пушкина, играла роль вдовы Пивоваровой (в очередь с В. Г. Савельевой) в спектакле "Последняя жертва" Островского в постановке И. В. Мейерхольд.
8 Людмила Владимировна - Честнокова Л. В., преподаватель актерского мастерства на курсе В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд.
9 Арьева Елизавета Моисеевна - врач-уролог, первая установила у В. В. Меркурьева заболевание нефритом.
10 П. В. Меркурьев, будучи педагогом детской хоровой студии "Пионерия", ездил с хором на гастроли в Кишинев и Одессу.
11 Майербек Магомадов - студент чечено-ингушской мастерской В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд, один из любимейших их учеников.
12 Лебедев Рэм Федорович - артист Театра им. А. С. Пушкина, народный артист СССР.
13 Гончаров Геннадий Иванович - подполковник, начальник воинской части в Громове. Постоянно опекал В. В. Меркурьева во всех дачных вопросах (дорога, медицинское обслуживание, транспорт. На даче Меркурьева в Громове даже был установлен второй телефон, по которому через воинскую часть можно было моментально связаться с Ленинградом).
14 Дуся - Евдокия Ивановна Семашкина. На протяжении 20 лет постоянно жила на даче Меркурьева в Громове.
15 Николай Иванович Тихомиров - ближайший друг Меркурьевых. Водолаз.
16 Калинис Константин Станиславович - актер Театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии.
17 Агамирзян Рубен Сергеевич - режиссер, педагог. Главный режиссер Театр им. Комиссаржевской. Был деканом факультета ЛГИТМИК.
18 Муравьев - директор Учебного театра ЛГИТМИК.
19 Эльвира - сотрудник литературной части Театра им. А. С. Пушкина.
20 Никитин Игорь Сергеевич - ученик Меркурьева и Мейерхольд. Был педагогом их курса в 1971-1975 гг.
21 Люда - Горбачева Людмила Ивановна, актриса, заслуженная артистка РСФСР, жена И. О. Горбачева.
22 Карякина Елена Петровна - народная артистка РСФСР, актриса Театра им. А. С. Пушкина.
23 Байкова Анна Петровна - секретарь Ленинградского обкома КПСС.
24 Чемберг Валентина Ильинична - народная артистка РСФСР и Белоруссии, ученица В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд.
25 Козлова (Виноградова) Надежда Савельевна - тележурналист. Один из самых преданных В. В. Меркурьеву и И. В. Мейерхольд людей. Впоследствии - автор телепередачи о Меркурьеве в цикле "Кумиры" на телеканале "Культура".
26 Букеева Хадиша - казахская актриса и педагог, народная артистка СССР, профессор, ученица В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд. В 1976 приезжала с учениками в Ленинград.
27 Светлакова - работник отдела театра министерства культуры РСФСР.
28 Шкуропатова Лариса Георгиевна - ученица Меркурьева и Мейерхольд. Одно время жила в их доме.
29 Зайцев Евгений Владимирович - первый заместитель министра культуры РСФСР.
30 Демин Вадим Петрович - заместитель министра культуры РСФСР.
31 Тарасов Виктор Георгиевич - директор Центрального дома работников искусств в Москве.
32 Жданова Стелла Ивановна - руководитель телеобъединения "Экран" в Москве.
33 Бердников Георгий Петрович - литературовед, академик.
34 Фирюбин Николай Павлович - зам. министра иностранных дел СССР. Был мужем Е. А. Фурцевой.
35 Капралов Георгий Александрович - журналист, драматург. Заведовал отделом газеты "Правда".
36 Мелентьев Юрий Серафимович - министр культуры РСФСР.
37 Толубеев Юрий Владимирович - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. В этот период начался затяжной конфликт актера с руководством Театра им. А. С. Пушкина, закончившийся уходом Толубеева из театра.
38 В спектакле "Чти отца своего" роль младшего Кичигина более 200 раз талантливо играл Гелий Сысоев. Ввод нового актера прошел не безболезненно.
39 Устинов Андрей Алексеевич - в то время ученик 10-го класса; ныне главный редактор газеты "Музыкальное обозрение".
40 Погорелова Энгелиса Георгиевна - режиссер Центрального дома работников искусств (Москва). В. В. Меркурьев хлопотал об устройстве ее в клинику.
41 Орлова Александра Николаевна - зав. режиссерским управлением Театра им. А. С. Пушкина.
42 Жучков Эдуард Николаевич - педагог ЛГИТМИК по музыкальному воспитанию.
43 Белов - режиссер театра в Комсомольске-на-Амуре.
44 Табаков Олег Павлович - в те годы был директором театра "Современник", где работала ученица Меркурьева и Мейерхольд Марина Неелова.
45 Юрий Владимирович Толубеев.
46 Анна Ивановна - главный бухгалтер Театра им. А. С. Пушкина.
47 Егор - роль в пьесе М. Горького "Дети солнца", которую репетировал, но так и не сыграл В. В. Меркурьев.
48 Крастин М. Э.- директор Театра оперы и балета им. Кирова (Мариинского).
49 Сац Наталия Ильинична - основатель первого в мире детского театра.
50 Якут Всеволод Семенович - актер Московского театра им. Ермоловой, народный артист СССР.
51 Каюров Юрий Иванович - артист Малого театра, народный артист РСФСР, ученик Меркурьева и Мейерхольд.
52 Спектакль Театра им. А. С. Пушкина "Пока арба не перевернулась".
53 Н. С. Михалков приступал к работе над фильмом "Неоконченная пьеса для механического пианино".
54 Романов Григорий Васильевич - первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, член Политбюро ЦК КПСС.
55 Лукина - врач-офтальмолог.
56 Марецкая Вера Петровна - народная артистка СССР, в тот день получила звание Героя Социалистического труда в связи с 70-летием.
57 Меркурьев В. В. Из неопубликованного. Страницы дневника. // Театр, 1979, № 10. С. 76.


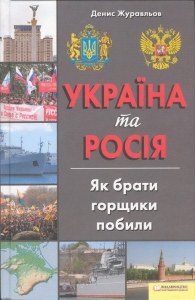
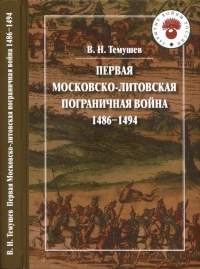

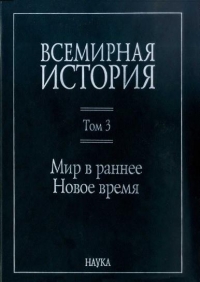
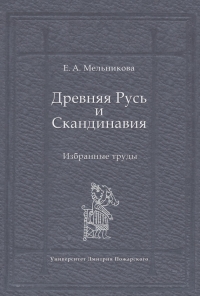
Комментарии к книге «Сначала я был маленьким», Петр Меркурьев-Мейерхольд
Всего 0 комментариев