Вы держите в руках редкостную книгу о той Москве, когда церквей в ней было сорок сороков, ее улицы видели Пушкина, а в Нескучном саду привычным явлением воспринимались кулачные бои, петушиные баталии и голубиная охота… Но более всего замечательна эта книга тем, что написана удивительным человеком, ровесником минувшего столетия, чья жизнь и личность были образцом духовной крепости и чистоты, гражданского мужества и национального достоинства.
Дворянин по происхождению, продолжатель знаменитого старинного русского рода, потомок легендарного мореплавателя адмирала М.П. Лазарева и князей Голицыных, выпускник знаменитого в Петербурге Тенишевского училища, где сидел за соседней партой с Владимиром Набоковым, Олег Васильевич Волков стал свидетелем «великих потрясений России». Крушение иллюзий об Оксфордском колледже, где уже грезил о традиционной мантии… Остановившие наотрез даже от временного отъезда из России слова отца: «Крысы, покидающие обреченный корабль, – образ для русского интеллигента неприемлемый…» Потом – внезапный арест, обвинение в контрреволюционной агитации – двадцать семь лет тюрем, ссылок и лагерей, из них – два срока на Соловках.
…Смотришь на одну из последних фотографий Олега Васильевича (он умер в январе 1996-го, не дожив нескольких дней до своего 96-летия), его апостольское лицо «последнего из могикан» старого русского интеллигента и еще раз убеждаешься, как все-таки права прожитая жизнь, оставляя отраженья след на наших лицах. Никакие круги ада, нечеловеческие условия бытия, муки и страдания не смогли истребить дух этого праведника и правдоискателя, противника террора и насилия, подвижника родной природы и культуры. Таким изобразил его и Илья Глазунов на портрете, который висел над рабочим столом в доме писателя.
Строго говоря, Олег Волков не считал литературу своей профессией. На заре туманной юности, много читавший и слегка сочинявший, примирился с обязанностями переводчика – сначала у корреспондента Ассошиэйтед Пресс, а ближе к концу 20-х, в греческом посольстве, читая посланнику по-французски московские газеты и составляя пресс-бюллетень. И лишь в кругу друзей мог щегольнуть завидной образованностью и неутраченной светскостью.
Писателем стал, вернувшись из заключения, скорее из-за невыносимости таить про себя трагическую правду о пережитом, отказавшись раз и навсегда от любых вариантов полунамеков и недоговоренностей. Но всему свое время. Была середина 1950-х…
Первые годы свободы писал рассказы и очерки в охотничьи журналы. За них-то в 1957-м по рекомендации Сергея Михалкова, чьи сказки и басни переводил на французский, был принят в Союз писателей. Но завоевал тогда «место под солнцем» вовсе не этим, а словом и делом в защиту природы, выступая против психологии временщиков «после нас хоть потоп», за сохранение и восстановление памятников национальной истории и культуры.
Теперь это мало кто помнит, а ведь именно Олег Волков одним из первых боролся за экологическую чистоту Байкала и сибирских лесов – чего стоили тогда только пятнадцать его вылетов в Иркутск, чтобы наконец-то сдвинуть с мертвой точки груды множащихся постановлений и резолюций.
«Все мое прошлое, – объяснял Олег Васильевич, – приготовило меня в ряды защитников природы: юность, связанная с деревней, охота – и прежде всего годы, научившие видеть в окружающем утешение и прибежище, нечто, не причастное человеческой скверне».
Хрущевская «оттепель» навеяла зыбкие иллюзии. Окрыленный публикацией «Одного дня Ивана Денисовича», Волков положил на стол Твардовскому и свою повесть «Под конем».
– Ну вот, – сказал, прочтя рукопись, Александр Трифонович, – закончу публикацию Солженицына, напечатаю и вас. Только не сразу, а то обвинят в направлении.
Но «оттепель» закончилась раньше, чем ожидал редактор «Нового мира». Однако, оставаясь оптимистом, возвращая рукопись, обнадежил:
– Видите, я надписал на папке «до востребования»: мы к вашей повести еще вернемся…
Главная книга его жизни – автобиографическая повесть «Погружение во тьму» – вышла лишь в 1989-м в издательстве «Молодая гвардия». Она и сейчас, через десятилетие «перестройки» и «демократии», потрясает духом человеческого достоинства, выстоявшим в нечеловеческих испытаниях, и неистребимой верой в грядущее величие России. И это вопреки убеждению писателя в конце прошлого столетия, что «все оболгано, искажено: религия, вера, терпимость, демократия, традиции, духовные идеалы…»
– Что же помогло вам тогда выжить, выстоять, какая сила? – помнится, спрашивали Волкова на интереснейшей встрече в Концертной студии «Останкино» в начале 1990-х.
– Православие и мое воспитание, – отвечал писатель. – Я упрямо держался за веру отцов.
Стройный, с благородной статью, в свои девяносто он мог дать фору любому молодому.
Последние годы жизни он работал над «Северной Пальмирой» – книгой, в которой возвращался памятью к красе и диву Петербурга, где родился на самом рубеже XIX столетия. Чуть раньше закончил настоящее издание – о старой, дорогой его сердцу, Москве, о разрушенных и забытых творениях ее выдающихся зодчих. Итогом земного пути писателя стала книга «Век надежд и крушений». О крушениях, кажется, нам известно уже предостаточно. Что же надежды – с чем связывал их писатель?
«В стране уже тлеют очаги пожаров великой смуты, аналогичной той, что едва не погубила Русь в начале XVII века. Мы допустили столько промахов и преступлений, столько нагрешили, что дотла разорили крестьянство, истребили столько выдающихся людей во всех слоях общества, что нельзя надеяться, чтобы Провидение сжалилось и послало нам новых Святого Сергия, Минина и Пожарского… И все же…»
В представлении Олега Волкова русский народ оставался богатырем Ильей Муромцем, который должен осознать свое исполинское начало и потому искать источник возрождения в себе самом. А сила его и надежда – в единении – соборности, в возврате к христианским добродетелям. К этой мудрости прожившего долгую и трагичную жизнь человека нельзя не прислушаться, если все-таки поверить в будущее и пожелать Отечеству лучшей доли.
Татьяна Маршкова
От автораКак-то, звездным сентябрьским вечером, я стоял на одном из верхних балконов нового университета, повисшем высоко над невидной в темноте землей.
Россыпью драгоценных камней сверкали в ночи бесчисленные огни Москвы. Они – в какую сторону ни глянь – уходили за горизонт, похожие на скопления мигающих в потемках звезд. И там, вдали, становились неотличимы от усеявших небосклон звезд. Были это и уличные фонари, и слившиеся в сплошные полосы света окна москвичей, и яркие прожекторы, выхватывающие из ночи тут фронтон с колоннадой, там бронзу памятника на высоком постаменте, и больше всего – строительных кранов, замерших до утра. Они всюду, надо всем каменным разливом. Москва строится, растет: распространившись на десятки километров вширь, она теперь поднимается вверх. В поле зрения тысячи сигнальных огней, предупреждающих пилотов: высотные здания, мачты, вонзившиеся в небо шатры старой Москвы, заводские трубы…
Вглядевшись в таинственное свечение города, начинаешь различать в кажущемся хаосе бесчисленных огней отдельные стройные элементы: тут вытянувшиеся по нитке одинаковые точки, отстоящие на равных промежутках друг от друга, там световое полукольцо, в стороне – скрещение плавных дуг, а за ним – целая купель слившихся сияний. То московские улицы, площади, бульвары, скверы, переулки, виадуки, затихающие в этот час, с поредевшей толпой прохожих и мчащимися по освободившимся магистралям полупустыми троллейбусами.
Когда укладывается дневная сутолока и на тротуарах столицы становится просторно, у несущих свою бессменную службу красных и зеленых огней не скапливаются машины, город как-то по-иному, глубже открывается своим жителям. Они вглядываются в его очертания и начинают задумываться о значении бесконечного разнообразия улиц, бульваров и переулков многовековой столицы Руси, России… У каждого района, каждого уголка – свое лицо, свой характер, свои, в ином случае столетиями складывающиеся, черты. Своя история. Порой восходящая к легендам о строптивом боярине Кучке, не то обнимающая вовсе куцый отрезок времени – это когда попадаешь в достраиваемые новые кварталы, видишь магистрали, продолженные в последние годы. Москва ширится, растет, в облике ее, наряду с чертами старости, милыми, как родные лица дедов и бабок, следы, оставленные близкими поколениями, поднявшиеся всюду ростки современности… В них отражены жизнь и судьбы создавших столицу прадедов, отцов и современников.
Для меня нет более увлекательного и волнующего занятия, как на прогулке по знакомому городу восстанавливать кусочки его истории – истории своего народа, – читаемой на фасадах домов, по названиям улиц и урочищ, их очертаниям. Порой скромный, ничем внешне не примечательный дом оказывается свидетелем громких событий либо служил кровом людям, чьи имена мы окружили любовью и уважением.
Я помню, как надолго застыл на месте, впервые оказавшись перед выходящим торцом на Пятницкую улицу ветхим, покосившимся, вросшим в землю флигельком, отягощенным укрепленной в простенке памятной доской с барельефом: мужицкая борода, высокий покатый лоб, кустистые брови. Здесь проживал молодой Толстой. Он переступал этот порог. Он поглядывал на улицу из этого занавешенного сейчас окна!.. Невзрачное, обыденное строение сразу обрело значительность, его словно опахнуло жаркое дыхание вершин русской славы. Я с благоговением взирал на свидетеля жизни Толстого, на стены, которые были ему «домом», где он писал, встречался с Фетом и Аполлоном Григорьевым, думал, смеялся, страдал…
Есть на площади Ногина [1] , бывшей Варваринской, небольшая церковь с шатровой колоколенкой, не очень приметная – таких еще не так мало в Москве, и стоит она, отчасти заслоненная внушительной громадой купеческой постройки «Делового двора». Но кто невольно перед ней не остановится, не станет вглядываться в ее древние стены со следами очень старой – XVII века – переделки, если узнает, что перед ним та самая церковь Всех Святых на Кулишках, которую Дмитрий Донской поставил в память павших на поле Куликовом на том месте, где отстоял со своим войском молебен перед выступлением в поход и где тогда была ветхая деревянная часовня?
Тут, думается, на минуту отодвинутся тяжелое здание купеческого «Делового двора» и современные постройки, забудется заполненный вереницами машин асфальт, паутины проводов над головой и представится воображению деревянная часовня на сыром лугу, покрытом чернеющей толпой, спешившимися всадниками в кольчугах, с реющими над войском стягами и хоругвями, послышатся ржание коней, звон невзначай задетого оружия, жиденькие песнопения… Ясно увидишь измученные бородатые лица ратников, оторванных от скудных наделов и неизбывных тягот, обиженных и утесненных, но готовых мужественно биться за свою Русь… А потом великий князь московский хоронил здесь привезенные с берегов Непрядвы тела своих самых верных сподвижников, павших в лютой сече.
Но шумит и рокочет вокруг современная жизнь, видение шестисотлетней давности исчезает, лишь силуэт одноглавой церкви говорит о том, что все это было – был великий подвиг русских воинов. И пожалуй, западет в память смешное название: Кулишки. Что означало оно в старину – потный травянистый лужок, где раздолье куликам, или небольшую заводь – «кулигу»? Если склонен докапываться до сути, пожалуй, обратишься к Далю, там множество толкований близких и схожих слов. Но было ли здесь отвоеванное у леса поле или болотце, название Кулишки говорит о древних временах, непомерно суровых и тяжелых, когда наши далекие предки строили Москву.
У кого не воскресит в памяти целую страницу отечественной истории название Красная Пресня? Кто, прочитав его на табличке с названием улицы, не представит себе тотчас героические баррикады, ожесточенные атаки семеновцев, первый открытый бой, данный царскому строю московским пролетариатом? Уже нет в живых никого, кто бы мог отчетливо помнить события тех дней, отдаленных от нас тремя четвертями века, но сохранились дома, видевшие отстреливавшихся от царских гвардейцев рабочих Прохоровской мануфактуры, разбитую в упор из пушек фабрику Шмита, подожженные снарядами дома и переулки. На фотографии того времени – обугленные стены с обрушенной кровлей и зияющие проемы тех же одноэтажных Пресненских бань, мимо которых еще недавно тяжело сворачивал троллейбус и спешили к павильону метро прохожие. Может быть, и в те кровавые дни, когда еще не подожгли все кругом снаряды, защитники баррикад забегали сюда со свертком белья под мышкой, чтобы наспех помыться перед боем? И легли в безвестных братских могилах, никогда не вернулись к семьям, в свои хибарки…
И так – на каждом шагу: воспоминания, далекие и близкие события отечественной истории, оживающие силуэты людей с незабытыми именами, немые свидетели талантов и трудов наших предшественников на священной московской земле. Зацепившееся за крохотный след воображение водит нас по страницам прошлого, и оно яснее предстает перед нами, мы лучше видим его величие и бессилие, красоту и убожество, вещественнее осязаем свою неразрывную связь с ушедшими поколениями и думаем об оставлении после себя нестудной памяти…
Мясницкая – улица Кирова [2]Восприятие улицы – дело очень субъективное. Оно зависит от вкусов человека, его склонностей, от сведений, какими он располагает о ней, наконец, от того, что из этих сведений ему больше по душе. Бывает, не лежит душа к тому, что широко известно, привлекает общее внимание, а тянется человек к малоприметному, интересному или дорогому ему по какому-нибудь воспоминанию, сопоставлениям, по вычитанному и запомнившемуся из полюбившейся книги…
Не люба мне улица Мясницкая, какой оставили ее господа капиталисты, безраздельно ею завладевшие со второй половины XIX века. Улицу сдавили выстроившиеся сплошной стеной по обе стороны громадины доходных домов, банков, всевозможных торговых контор и акционерных обществ московских промышленников и коммерсантов. Вычурность фасадов, декадентские декоры, эклектика стилей говорят о спаде вкуса и нагловатых притязаниях нескудной мошны превзойти соседа. Оседание деловой жизни Москвы на Мясницкой улице привело к тому, что она первой в городе была вымощена брусчаткой, по ней пошли первая конка и первый трамвай и ее осветили электрические фонари, когда прочие улицы довольствовались газом и керосином. Но этот приоритет богатства не трогает нас сейчас. От солидности и тяжести фасадов, с гигантскими окнами и массивными входами, веет холодом забвения человеческой потребности в уюте, в смене созерцания жестких линий архитектуры смягченными – деревьями и кустами, клочком неба над головой. Тут – наступательная деловитость хозяев, желающих произвести впечатление на клиентов и перегруженными лепниной вестибюлями, и размерами приемных комнат и залов заседаний акционеров.
Однако история Мясницкой не упирается в эти последние дореволюционные десятилетия, а насчитывает полтысячи лет, память о которых запечатлелась в некоторых ее названиях и отдельных сохранившихся зданиях. Мясницкая впервые упоминается в связи с постройкой в 1472 году Иваном III церкви Успения «на бору», впоследствии называвшейся Гребневской, по хранившейся в ней иконе Гребневской Божией Матери. Церковь стояла как раз в том самом месте, где ныне улица образует угол с проездом Серова. Церковь считалась придворной, и царь о ней заботился – в стену была вмурована каменная плита с подробной надписью, перечислявшей вклады Ивана III и его семьи.
Мне запомнился древний, неперестроенный силуэт этой церкви, со скромной главкой и почти без украшений. Было что-то трогательное в ее обличии сельской кладбищенской церковки, вдруг оказавшейся на людной центральной площади. Так защемит иной раз сердце при виде дряхлого прохожего в многолюдстве бодрой и шумной толпы. И все-таки эта вросшая по окна в землю ветхая церковь радовала глаз, неравнодушный к поэтической прелести подлинной древности, и выглядела драгоценной жемчужиной по сравнению с большинством храмовых сооружений второй половины XIX века и начала XX – капитальных, просторных, с византийскими куполами, но таких бездушных!
Церковь Успения «на бору», или Гребневской Божией Матери, на Лубянской площади
И еще известно от тех далеких времен, что тот же Иван III поселил вокруг этой церкви после похода на Новгород в 1482 году вывезенных оттуда бояр с семьями. Мясницкая начиналась тогда от Ильинских ворот и шла оттуда по впоследствии Лучникову и Большому Комсомольскому переулкам. С площадью, тогда Лубянской, а позже Дзержинского, ее связывал узкий переулок.
Свое название улица получила от начавших селиться по ней мясников, образовавших самостоятельную слободу в XVI веке. О них хранила память выстроенная в XVII веке внушительная церковь Николы в Мясниках. Она стояла, несколько отступя от улицы, как раз там, где вознеслись позже этажи ЦСУ СССР (бывший дом Центросоюза). Но о нем речь впереди.
И все же не конец XIX века, как я уже говорил, и не XV век влекли меня к улице Кирова (Мясницкой). Не их отпечатка искал я, оглядывая фасады и заходя во дворы с флигелями, остатками служб и конюшен, переделанных и надстроенных, поглощенных и придавленных новыми зданиями за длинную череду лет, что перекроили и раздробили прежние просторные городские усадьбы. На этой улице я более всего представляю себе петровские времена, допетербургский период царствования первого российского императора. Именно тогда Мясницкая приобрела первостепенное значение, сделалась самой модной улицей Москвы. По ней наперегонки селились, выкраивая себе поудобнее усадьбы, выживая мясников и прочий мелкий люд, приближенные Петра, знатнейшие персоны государства. Улица была до них мало застроена: примерно от нынешних Кировских ворот до Садового кольца тянулись дворцовые и патриаршие огороды, сады слобожан. Но тут пролегла дорога, по которой Петр часто ездил в полюбившееся ему Лефортово. По Мясницкой дефилировали полки, здесь устраивались гуляния, маскарадные шествия и «огненные потехи», до которых был охоч государь. И хотелось царедворцам быть поближе к своему солнцу, почаще попадать на глаза Петру, да и угодить ему сооружением каменных палат по образцу виденных в Голландии.
Сделалось традицией: возвращаясь из походов, войска проходили по Мясницкой улице. Так было после побед над шведами в 1709 и 1721 годах. Москва торжественно встречала победителей: на месте Лермонтовской площади сооружалась триумфальная арка. То было скромное сооружение и отдаленно не напоминавшее роскошные монументальные – «трухмальные», как их называли московские извозчики, ворота, какие воздвигались на площадях и улицах города при преемниках Петра.
При нем арки были незатейливые, пожалуй, нечто вроде того, что иной раз наспех ставят руководители ссыпного пункта, готовясь к встрече обозов с зерном. Вкапывались два столба, соединенные наверху перекладиной, к ней прикреплялся аляповатый царский вензель с транспарантом из бычьего пузыря, вешались плошки, все украшалось лапником и – готово! Под дробь барабанов и свист дудок шагают семеновцы и преображенцы со своим венценосным бомбардиром.
Простота тогдашних нравов выглядит ныне неправдоподобной. Возле ворот устраивались качели, всякие потехи, и на Святках и в Масленицу царь развлекался тут со своими друзьями при всем честном народе. Известные кощунственные процессии шутейного собора проходили по Мясницкой. Сохранились рисунки этих шествий, предводительствуемых Никитой Зотовым, прежним дядькой царя, возведенным в сан папы всепьяного собора: развеселые ряженые в церковных облачениях, с кадилами и хоругвями, верхом на свиньях и бочонках, дудочники и скоморохи. Когда вспомнишь, что происходило это в Первопрестольной спустя всего полтора-два десятка лет после «тишайшего» царя Алексея Михайловича, проведшего полжизни в богомольях по монастырям, то открываются крутые перепутья истории!
Бывшие палаты бояр Волковых в Большом Харитоньевском переулкеНелегко, разумеется, находясь на Лермонтовской площади, представить себе, как выглядело это место на рубеже XVII и XVIII веков. И все-таки попытаемся забыть про асфальт, не видеть высотных зданий, раковины метро с ограждениями вдоль тротуара и вообразим себе обширное, мало застроенное пространство, полупустырь, что стал со временем Красной площадью, названной так по проходившей через нее дороге на Красное село, в царский Красносельский дворец. Тут тянулся земляной вал, местность была слабо заселена, к ней примыкала дворцовая Огородная слобода, а с внешней стороны – Басманная, также с большими огородами и дворами. Среди разбросанных тут и там деревянных домиков выделялась каменная церковь Трех Святителей, построенная в XVII веке, да, отступя несколько вглубь, в нижнем конце Хоромного тупика гордо высились щипцы и резные коньки старинных палат бояр Волковых.
Церкви не стало – ее снесли в 1928 году. На ее месте в 1935 году построили павильон станции метро по проекту архитектора И.А. Фомина. А палаты XVII века целы до сих пор. Из рода Волковых они перешли другим владельцам, перед революцией принадлежали князю Юсупову, а позже в них разместилась ВАСХНИЛ. Дом превосходно отреставрирован снаружи и отделан внутри. Стоит упомянуть, что в двадцатых годах, при реставрации, тут был обнаружен тайник – замурованная комната, где помимо драгоценных предметов и картин величайших мастеров нашли связку подлинных писем Пушкина, прежде не опубликованных. Позднейшая застройка отгородила дом ВАСХНИЛ от Хоромного тупика, и мы его видим теперь с заднего фасада, выходящего на Большой Харитоньевский переулок.
Назвав Хоромный тупик, следует сказать о доме Авдотьи Петровны Елагиной, племянницы В. А. Жуковского и матери братьев Ивана и Петра Киреевских, – Елагиной она была по второму мужу. Дом ее, сохранившийся до сих пор, растерял прежний декор, крыльцо, лепной карниз, два ряда голых окон и голая стена придают ему тот анонимный вид, какой сообщают жилым постройкам переделки и разные хозяева: не скажешь, кому он принадлежал; для кого строился. Если бы не благородные пропорции оконных проемов и несколько еле уловимых других признаков, ни за что бы не признал в этом гладкостенном сером доме прежний богатый дворянский особняк.
Но именно перед ним более ста лет назад стояла по воскресеньям вереница карет, швейцар с булавой встречал гостей, из окон лился на улицу свет канделябров и кенкетов… У хозяйки, женщины обаятельной и образованной, собирался на протяжении нескольких десятилетий литературный салон, где в разное время бывали Пушкин и Гоголь, Герцен и Огарев, Чаадаев, Хомяков, Константин Аксаков, еще и еще гости, имена которых не забыты. Тут происходили жаркие сшибки и споры. Вот стоит, прислонившись к доске камина, Чаадаев, ироничный и холодный, с лицом патера, и доказывает – чтобы подразнить гостей или унять свое недовольство порядками в России – превосходство католичества над православием, пустоту и бессмыслие русской истории, требуя безусловного и полного приобщения к европейской цивилизации. В гостиной – на диво заросший волосами Хомяков, которого даже Иван Киреевский считает чересчур церковником и обвиняет в желании всех обрядить в зипуны и лапти… Гости насторожились, прислушиваются – быть жаркой пре!
Молодые Герцен и Огарев неразлучно кочевали из одного салона в другой. Вот несколько строк из «Былого и дум» о том времени: «Москва сороковых годов… принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались – а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А.П. Елагиной».
Прежде чем покинуть Лермонтовскую площадь, я оглядываюсь на серую башню с часами над Министерством путей сообщения: конструктивистский стиль будто бы и не совсем выдержан, нет в нем четкости и логической простоты, свойственных его лучшим образцам. На мой вкус здание даже довольно уродливо, напоминает более элеватор, нежели городскую постройку. Но не будем торопиться хулить архитекторов – они всего лишь перестраивали старый дом, имеющий длительную и интересную историю, да и мало приспособленный для переряживания в новый стиль.
Тут некогда находились провиантские склады, где хранили хлеб и фураж для полков. Старый двор сгорел в середине XVIII века, и Елизавета велела его восстановить. Тогда-то и был возведен простоявший два с лишним века четырехугольник из двухэтажных каменных корпусов, замыкавший обширный внутренний двор. Его стали называть Запасным дворцом и отвели под царские склады и кладовые. Во второй половине XIX века здание отдали Дворянскому женскому институту, надстроившему в девятисотых годах третий этаж. Последние перестройки, с возведением дополнительных этажей, башни и присоединением соседнего дома, были произведены в тридцатых годах. И поныне, несмотря на все переделки, можно увидеть, со стороны внутренних дворов министерства, оконные проемы с типично елизаветинским декором и барочные украшения, а громаду новых этажей по-прежнему несут воздвигнутые в XVIII веке своды.
Направляясь с Лермонтовской площади вверх по Кировской, видишь перед собой улицу, вобравшую все типические черты развития Москвы периода бурного роста промышленности и торговли последней трети прошлого и начала нынешнего столетия.
«С наступлением нового века, – читаем мы в записках того времени, – …мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах поднялись к небу незаметно выросшие каменные громады».
Над всей прежней застройкой улицы Кирова возвышается огромный дом Центросоюза, построенный по проекту французского архитектора Ле Корбюзье в 1928 – 1936 годах. Это здание отмечено печатью смелого и оригинального таланта, угадавшего в первые десятилетия века грядущее изменение архитектурных форм, обусловленное появлением новых строительных материалов. Именно Ле Корбюзье – родоначальник архитектурного стиля, названного конструктивизмом. Его плоские фасады и четкие геометрические объемы прочно внедрились в практику строительства во всем мире. В конце двадцатых годов конструктивизм начал было распространяться у нас – в ряде городов имеются превосходные образцы этого стиля, – но вскоре был вынужден уступить иным веяниям: архитекторы на долгие годы от него отвернулись и возводили дома, отражавшие стремление создать нечто грандиозное и помпезное, укрупняя классические ордера, возмещая обилием украшений недостатки композиции, словно перестав понимать свой век и утратив добрый вкус.
Заметьте: вы идете мимо дома Центросоюза, не думая, что он стоит на очень узкой улице, забыв об огромных размерах здания. Его масса не давит, дом легок и пропорционален, простота его линий, чуждая монотонности, и благородство фактуры радуют глаз. Какая графическая четкость очертаний, строгих без сухости, как все уравновешено и целесообразно! Между тем то, что вы видите, не вполне отражает замысел Ле Корбюзье: им был спроектирован дом на столбах, застроенных впоследствии и ставших цокольным этажом. С пролетами внизу он выглядел бы еще легче, а перспектива улицы – шире.
Тогда же, в начале тридцатых годов, на Кировской было построено в конструктивистском стиле еще одно здание – Министерства торговли. Оно находится почти по соседству с домом Центросоюза и от этого, несомненно, проигрывает: здание выглядит инертным и тяжеловатым, давит своей массой, что, впрочем, нельзя ставить в вину автору проекта – архитектору Велиховскому. По его проекту здание должно было иметь вдвое больше этажей – высоту его ограничили уже во время строительства.
Таковы два самых приметных здания нового времени на Кировской, в целом сохранившей застройку дореволюционного периода. Разумеется, уцелело несколько домов более ранних эпох, причем некоторые принадлежат прославленным русским зодчим, и нынешняя Москва по праву гордится этими первоклассными памятниками архитектуры. Об одном из них я расскажу подробнее.
Наискосок от дома Центросоюза, через улицу, стоит отлично сохранившийся особняк Барышниковых, очень богатых дворян из купцов, заказавших проект Матвею Казакову. Этот дом построен в 1798 году. За высокой нарядной решеткой, связывающей оба его крыла и отгораживающей парадный двор от улицы, высится портик. Архитектор выдвинул его далеко вперед, поставив колонны на высокий цоколь и отдалив их от стены, что скрадывает невыгодное впечатление от относительной тесноты пространства перед портиком и малой высоты крыльев. Архитектура этого дома – превосходный образец классического стиля, который по справедливости называют иногда в Москве по имени одного из самых ярких и талантливых его представителей – казаковским. В каком только уголке старой Москвы не найдешь постройки этого прославленного зодчего – всегда строгие, но не сухие, изящные без манерности, благородные без напыщенности!
В особняке Барышниковых, впоследствии занятом Центральным научно-исследовательским институтом санитарного просвещения, частично сохранились лепнина, роспись плафонов и интерьер нарядного танцевального зала. Мне нравится и вестибюль с приземистыми колоннами у дверей, некогда ведших во всевозможные закоулки тихого барского дома, где ютилась дворня; вероятно, был тут и ларь с дремавшим на нем при свете огарка дряхлым швейцаром… Невольно приходят на память парадные сени в последней картине «Горя от ума» в Художественном театре. О комедии Грибоедова особенно уместно вспомнить именно в этих стенах.
На наследнице Барышниковых был женат полковник Семен Никитич Бегичев, участник Отечественной войны. По выходе в отставку он поселился в Москве, и стены его дома увидели череду выдающихся людей России. Гостей Бегичева привлекало радушие хлебосольного хозяина, угощавшего, по свидетельству современников, изысканными обедами и дорогими винами. Непременным гостем Бегичева был, в свои наезды в Москву, Грибоедов, его друг детства. Случалось, он гащивал подолгу. Так, приехав к Бегичеву в сентябре 1823 года, он уехал от него в июне 1824-го. Постоянными посетителями вечеров и приемов в барышниковском особняке были писатели В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина.Завсегдатаем дома был и композитор А.Н. Верстовский, принимавший участие в музыкальных вечерах. Здесь он исполнял свой романс «Черная шаль», который распевала тогда вся Москва, причем аккомпанировал ему Грибоедов, сам автор музыкальных пьес, не забытых до сих пор. Известно, что взыскательный Глинка считал автора «Горя от ума» первоклассным музыкантом. Можно представить себе, как внимательно слушали их гости Бегичева! Притих и неугомонный «казак-боец» Денис Давыдов – постоянный посетитель бегичевского салона, не сыплет остротами, не развлекает общество красочными рассказами о «гусарах прежних лет»… слушает. Славный партизан и сам автор музыкальных стихов, которые так и просятся на ноты!
К вечеру, когда институт закрыт, нет посетителей и всюду погашен свет, во дворе темновато и пустынно. Слева от ступеней крыльца чернеет проем низких ворот, ведущих на задний двор, перед глазами – высокий рустованный цоколь портика с теряющейся вверху капителью стройной угловой колонны. Все выглядит точно так, как было в один из июньских дней 1828 года, когда возле подъезда стояла тройка, поданная для Грибоедова: назначенный Николаем I послом в Персию, поэт уезжал в далекий Тегеран. Его томили недобрые предчувствия, он был мрачен. «Прощай, брат Семен, вряд ли мы более с тобою увидимся, – говорил он, обнимаясь с Бегичевым, – предчувствую, что живой из Персии не вернусь!» Добрые слова друга не успокоили Грибоедова – он словно знал, что никогда более не увидит ни старого друга, ни его гостеприимного дома, ни России… Вероятно, когда кучер тронул лошадей и под колесами отъезжающей коляски зашуршал мелкий гравий въездной дорожки, седок оглянулся, чтобы, пока не выехали из ворот и не свернули в улицу, в последний раз махнуть рукой провожавшим. Перед глазами его прощально мелькнули колонны, низкая подворотня, кованое железо фонарей у подъездов… То же, что мы видим сейчас, через полтораста лет, покидая бывший барышниковский особняк на Мясницкой!
Дома по соседству с ним – словно крохотный островок старины. Вот через переулок от особняка Барышниковых вытянулся фасад одноэтажного дома с окнами, красиво отделанными лепниной, частично не возобновленной при недавнем ремонте. Внутри, несмотря на перегородки и общую запущенность помещений, еще можно любоваться высокими потолками, богатой отделкой карнизов, прекрасной работы двустворчатыми филенчатыми дверями, какие уже не делают и никогда больше делать не будут, а в нескольких комнатах – бывших парадных – искусно набранным мозаичным паркетом. Этот дом, построенный в начале XIX века, принадлежал некоторое время Надежде Филаретовне фон Мекк, и в нем – правда, в цокольном этаже – жил Чайковский.
Рядом с этим домом совсем врос в асфальт тротуара, обреченно выступив средним ризалитом, с тройкой полуциркульных окон, за красную линию, вовсе ветхий скромный особнячок, некогда принадлежавший сестре Суворова. Под ним – довольно просторные сводчатые помещения из тесаного белого камня старинной кладки. Теперь это – подвалы, но в пятидесятых годах XVIII века, когда строили дошедший до нас особняк, они составляли, очевидно, его нижний этаж.
Дом Лобановых-Ростовских, построен Ф.И. Кампорези, последняя четверть ХVIII векаНа другой стороне улицы, напротив этого особнячка, стоит обширный дом, построенный в начале девяностых годов XVIII века для графа Панина, впоследствии перешедший к князьям Лобановым-Ростовским. Эту постройку приписывают – очевидно, вполне основательно – архитектору Францу Ивановичу Кампорези, много строившему в те годы, преимущественно в Подмосковье. Дом Лобановых несколько своеобразной архитектуры: средняя, выступающая арка опирается на тесно составленные коринфские колонны с крупными пышными капителями. В классической Москве было принято ставить колонны на высокий цоколь, у Кампорези они поднимаются от самой земли – в этом видят влияние деревенских усадебных традиций. Однако следует помнить, когда смотришь ныне на здание, что перед тобой «поколенный портрет», ибо основание его похоронено под землей культурным слоем.
К особняку Барышниковых примыкает вплотную старинный дом довольно мрачного вида: это палаты князя Куракина. Массивный двухэтажный дом XVIII века не сохранил и признаков декора: глухая гладкая стена с редкими проемами больших окон, позволяющими угадать непомерную толщину кладки, тяжелую вековую прочность здания. И в самом деле: во дворе его сохранились остатки построек более раннего времени.
Улица привела нас к Кировским (Мясницким) воротам. Как не вспомнить о легендарных временах, когда на месте павильона метро тут, по описи 1777 года, числились «постоялый двор и дом» купца с нелестной для его предков фамилией Гнусин! Были тут огороженный двор с воротами, коновязи, распряженные подводы мужиков, привозивших обозом оброк своему владельцу… Именно на месте, где сплошной асфальт и ларьки у ступеней под крупной литерой «М». Поистине легенда!
А вот о соседнем владении, где ныне Московский почтамт, мы знаем много больше, начиная с допетровских времен. Тут в исходе XVII века выкроил себе изрядную усадьбу «счастья баловень безродный» – удивительный Меншиков. Садами и оранжереями усадьба выходила на Мясницкую улицу. От всего великолепия роскошного владения сохранилась церковь – знаменитая Меншикова башня. Остальные строения еще до революции снесены либо встроены в возведенные впоследствии здания.
После опалы Меншикова его усадьба на Мясницкой досталась князю Куракину, потом перешла в другие руки. Наконец в 1783 году ее арендовал Московский почтамт у тогдашнего владельца, богача Ивана Лазарева, а спустя девять лет приобрел у него все, что оставалось от раздробленной усадьбы светлейшего. К его хоромам были пристроены новые корпуса, сад обнесен каменной оградой с воротами и превращен в передний двор, откуда во все концы России разъезжались почтовые кареты. В таком виде Почтамт просуществовал более ста лет, пока в 1912 году не было построено новое здание архитектором О. Р. Мунцем и инженером Д. И. Новиковым, братьями Весниными, и он не приобрел свой современный вид.
Пожар 1812 года не пощадил ни одного дома на Мясницкой, но Почтамт уцелел благодаря мужеству своих чиновников. Они припасли вина для факельщиков, сновавших по городу при отступлении французов и поджигавших дома по приказу Наполеона, как следует угостили их, а потом связали.
Именно во дворе Почтамта произошел трагический эпизод, описанный в «Войне и мире», – самосуд над купеческим сыном Верещагиным. Быть может, московский генерал-губернатор Ростопчин и не столь виновен в его гибели, как это представлялось Толстому, но сила гениального художественного воздействия такова, что доброе имя Ростопчина не восстановить никакими архивными документами, хотя бы они доказывали его непричастность к расправе. А о Верещагине теперь известно, что он вовсе не был французским лазутчиком и вражеских воззваний не распространял, а попросту неосторожно выболтал рассказанные ему приятелем – почтовым чиновником – новости депеш, которые военная цензура запрещала обнародовать.
Старый Московский почтамт. Слева – церковь Архангела Гавриила, так называемая Меншикова башняНа здание Почтамта, с его тяжелыми пропорциями и громоздким силуэтом, пожалуй, типичным для «модерна начала XX века», на его серую и безрадостную массу взирает с противоположной стороны улицы, немного наискосок, высоко взнесенная изящная полуротонда с легкой колоннадой дома на углу Боброва переулка. Это одно из примечательнейших по своей архитектуре и истории зданий на Кировской улице. Его построил Василий Баженов для своего друга И.И. Юшкова, известного масона, устроившего в своем доме тайную ложу. Ныне дом сильно перестроен, нет прежних оконных проемов, заделаны фронтоны, однако и сейчас он служит украшением улицы: переделки и изменения не лишили его пропорций и некоторых черточек, обличающих руку большого мастера. Внутри нет и в помине баженовских интерьеров, за исключением ротонды с колоннами на втором этаже и двух вестибюлей.
Как и многие старинные дворяне, выводившие свой род от того или иного «мужа честна», отъезжавшего к великому князю московскому из чужой земли, Юшковы считали своим родоначальником некоего, выехавшего из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Ивановичу, Зеуша, получившего при крещении имя Стефана. От его старшего сына Юрия будто и пошли Юшковы.
Мне более по душе другая версия, согласно которой предком масона Юшкова был московский гость Юшка со странной кличкой Урви Хвост – не легче ли произвести Юшковых от Юшки, нежели от Юрия? Юшка, вопреки разбойному прозвищу, очевидно, был человеком набожным. Летопись сохранила его имя в связи с сооружением им на свои средства церкви Святой Варвары. Перестроенная Матвеем Казаковым, она ныне превосходно отреставрирована и украшает выход улицы Разина – называвшейся прежде по церкви Варваркой, – на Красную площадь. Подклет у церкви сохранился старый – 1514 года и строен он знаменитым Алевизом Новым.
Но не Юшковым и его родословной привлекает внимание летопись баженовского дома на Мясницкой, а длительным периодом, когда он стал одним из главных рассадников русского искусства. С 1844 года в доме Юшкова размещалось Училище живописи, ваяния и зодчества, из которого вышли многие виднейшие русские живописцы. Тут учились или преподавали А.К. Саврасов, В.Г. Перов, И.М. Прянишников, Н.В. Неврев, В.В. Пукирев, И.И. Левитан, А.Е. Архипов, К.А. Коровин, В.Е. Маковский. Долгое время в стенах училища жил преподаватель художник Леонид Осипович Пастернак, отец поэта Бориса Пастернака. Как известно, Лев Толстой дружил с художником и у него бывал. Вот запись биографа Толстого Родионова об одном посещении: «23 ноября (1894 года. – О.В. ) Толстой с дочерьми ездил к художнику Л.О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессоры консерватории скрипач И.В. Гржимали и виолончелист А.А. Брандуков».
Из записок поэта мы дополнительно узнаем, что на концерте присутствовал и художник Н.Н. Ге. В них имеется и красочный рассказ о том, как семья Л.О. Пастернака, его многочисленные друзья и знакомые однажды толпились на балконе юшковского дома, присутствуя на помпезном зрелище. По Мясницкой шла погребальная процессия – везли в Кремль для отпевания в Успенском соборе прах Александра III, следовавший транзитом из Крыма в Петербург.
«…Под погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимой пышности катафалки, герольды в невиданных костюмах другого века. Процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полотнами крепа и обиты черным, и потупленно висели черные флаги».
Читая эти строки записок Бориса Пастернака, я невольно вспоминаю, что несколько ранее аналогичную запись о следовании траурного поезда сделал в Орле другой русский поэт – Иван Бунин.
Весной в залах училища открывалась выставка передвижников, которую привозили из Петербурга.
В начале девятисотых годов во дворе училища была построена мастерская для скульптора Паоло Трубецкого, поселившегося в Москве после многолетнего пребывания в Италии. Уместно напомнить, что он был автором скандально известного памятника Александру III, в массивной, истуканно-тяжелой фигуре которого царская власть, благословившая его установку на Знаменской площади в Петербурге, не разглядела злой карикатуры. Ныне эта конная статуя, некогда насупленно и властно глядевшая с высокого постамента на снующий у ее подножья люд, скромно притулилась в углу одного из дворов Русского музея в Ленинграде – позеленевшая бронза в белых разводах голубиного помета… Конь стоит прямо на земле. Мне, ребенком задиравшему голову, чтобы на него поглазеть, и помнящему дворцового гренадера в медвежьей шапке и с тесаком на белой портупее, ходившего вокруг памятника, по-стариковски волоча ноги, ныне любопытно сблизи разглядывать бородатое лицо царя под шапкой егерского полка, схожей с жандармской, и вспоминать при этом «крамольную» загадку-шутку, ходившую по Петербургу после открытия монумента:Стоит комод,
на комоде – бегемот,
на бегемоте – обормот,
на обормоте – шапка,
на шапке – крест.
Кто угадает,
того под арест!
Если, кстати, вспомнить другую идолообразную статую Александра III, восседавшую у подножия храма Христа Спасителя над Москвой-рекой, можно сказать, что этому царю с памятниками не повезло!
Прежде чем отойти от дома бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества, напомню колоритную черточку сравнительно недавнего и одновременно такого сказочно далекого прошлого этого места. Возле стоявшей в Юшковом (ныне Бобровом) переулке церкви Флора и Лавра, покровителей скота, происходило в день празднования этих святых – 18 августа старого стиля – освящение лошадей. Сюда со всей Москвы съезжались легковые и ломовые извозчики, становилось тут тесно и шумно, как на конской ярмарке!
Дом масона Юшкова, построен В.И. Баженовым, последняя четверть ХVIII векаОтсюда дальше к центру города улица Кирова – каменный глухой коридор. Лишь единичные названия да редкий дом хранят память далекого прошлого Москвы. Так, где-то против Банковского переулка, названного так по первому в России Казенному Ассигнационному банку, открытому при Екатерине II в строгановском доме на Мясницкой, стоял дом графа Брюса, знаменитого сподвижника Петра, командовавшего в Полтавской битве русской артиллерией, прослывшего в народе колдуном за свои занятия астрономией. Брюс автор первого в России календаря, о котором хочется сказать два слова. Еще в начале XX века в отрывных календарях воспроизводились так называемые «брюсовские» предсказания погоды, хотя в его календаре, содержащем, правда, немало курьезов, их как раз и не было. Яков Вилимович Брюс был высокообразованным человеком и выполнял царские поручения главным образом по ученой части. Но, человек своего времени, он отдал изрядную дань еще распространенным тогда астрологическим представлениям, что и отразилось на его календаре. На четвертом листе подлинника читаем заголовок: «Предзнаменование действ на каждый день по течению луны и зодии»; ниже двенадцати знаков зодиака и луны следуют три таблицы, из которых узнаем, когда надо «кровь пущать, мыслить почать, брак иметь или жену пояти», какое время благоприятно, чтобы «кровь и жильную руду пущать, чины и достоинства воспринимать, долг платити, чтобы осуждения не было, прение начати и в чем причины искати».
Неподалеку от брюсовского двора находились хоромы Глебовых-Стрешневых, за ними Дмитриева-Мамонова, далее шли князья Кольцовы-Масальские, князь Куракин, барон Строганов – чуть не вся улица принадлежала знати вплоть до XIX века. Были тут и церковные владения, восходящие к более ранней эпохе. Так, в XVII веке по Мясницкой располагались подворья Рязанского архиерея, Вятского, Псковского, Коломенского и других.
В подворье Рязанского архиерея, выходившего на улицу где-то в районе Фуркасовского переулка, против дома с магазином «Книжный мир», в 1678 году был открыт первый в Москве военный госпиталь. После первой секуляризации церковного имущества Петр отдал подворье под Тайную канцелярию. С упразднением Тайной канцелярии дом отвели «под временное проживание» грузинскому царевичу Вахтангу.
Но у домов, как и у книг, – свои судьбы. Рязанскому подворью пришлось вновь разместить под глухими сводами своих подвалов пыточные камеры, и стены его вновь огласили стоны допрашиваемых и покрикивание палачей. В 1774 году здесь разместилась учрежденная Екатериной Тайная экспедиция, порученная присяжному мастеру сыскных дел императрицы – Степану Шешковскому. В экспедиции допрашивались Пугачев, позднее Новиков. У Пушкина записан разговор Потемкина с Шешковским:
« – Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?
На что Шешковский всегда отвечал с низким поклоном:
– Помаленьку, ваша светлость».
Про Шешковского рассказывали, что, присутствуя на пытках, он читал акафисты и увешивал застенок иконами.
Мы приближаемся к площади Дзержинского. И снова память заставляет остановиться меня у одного дома. Павильон готовой одежды, загораживавший его фасад, теперь убран, и он хорошо виден с улицы. Я имею в виду современный Дом научно-технической пропаганды на углу Фуркасовского переулка. Он богато и безвкусно декорирован в конце XIX века. Таких фасадов с праздными кариатидами, гирляндами, рогами изобилия, головками амуров и лицами роковых женщин с диадемой в виде змей видишь немало на старых дворянских домах, переделанных позднейшими владельцами по моде века. В пушкинские времена этот дом принадлежал А.Д. Черткову, известному библиофилу, чье обширное книжное собрание ныне входит в состав Государственной исторической библиотеки. Чертков длительное время возглавлял Общество истории и древностей российских. У него в 1820 – 1850 годах собирались московские писатели, ученые, артисты. Здесь часто бывали Гоголь, Загоскин, Федор Глинка, Щепкин, Погодин. Посетил его однажды и Пушкин, интересовавшийся книжными коллекциями хозяина. Сильно с тех пор перестроенный, дом сохранил сводчатые помещения нижнего этажа, восходящие, как полагают, к палатам, пожалованным в XVII веке Касимовскому царевичу. Уцелело несколько интерьеров, свидетельствующих о богатстве и вкусе прежнего убранства.
Помимо Черткова Пушкин бывал на Мясницкой у М.П. Погодина, дом которого, стоявший напротив чертковских хором, не сохранился. У Погодина бывали Гоголь и С.Т. Аксаков, который, кстати, и привел к нему молодого автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». А в самом начале Кривоколенного переулка, у первого его «колена», лицом к Мясницкой стоит старинный, средней руки дворянский двухэтажный особняк, принадлежавший родителям поэта Дмитрия Веневитинова. Именно там впервые читал Пушкин своим друзьям «Бориса Годунова». Это произошло 12 октября 1826 года, по возвращении Пушкина из Михайловского.
В небольшой гостиной собрались М.П. Погодин, С.П. Шевырев, С.А. Соболевский, братья Киреевские, братья Хомяковы.
Все «пришли спозаранку и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. В двенадцать часов он является…» – записал Погодин в своем дневнике. И началось…Наряжены мы вместе город ведать,
Но кажется, нам не за кем смотреть.
Москва пуста…
Сидели вокруг стола, Пушкин стоял, держа в руке листки. Его ожидали, а теперь слушали «с трепещущим сердцем». Мы и сейчас, восстанавливая в воображении эти знаменательные минуты, не остаемся равнодушными: нам шире открывается непреходящее значение «Бориса Годунова», чем предчувствовали его друзья, присутствовавшие на чтении… Мясницкая улица была дорога поэту. Он вспоминал ее в «Дорожных жалобах»:
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
Шутливый тон маскировал тоску, лежавшую у него на душе. Стою перед домом Веневитинова и гадаю: за которым из окон сидели московские друзья и знакомые поэта в тот день, почти полтораста лет до нас, когда впервые прозвучали строки, всем нам теперь знакомые с детства и сопровождающие нас через всю жизнь? Пушкин, Пушкин… Слава его имени осветила, как лучом, путь нашего общества. Счастлив и горд своей принадлежностью к его народу. Вероятно, в тот день друзья засиделись у Веневитинова допоздна, потом кто-нибудь отвозил Пушкина домой на своих лошадях. Из переулка экипаж свернул на Мясницкую по направлению к Лубянской площади. Поэт плотнее закутался в шинель и из-за поднятого воротника оглядывал булыжную мостовую, паперть Гребневской церкви с толпящимися вокруг нищими и бродяжками, редких прохожих, обывательские дома на запоре… Все ему знакомое и понятое им, как никем: что есть русские и русский характер, Пушкин знал, как никто больше!
Архитектор Афанасий ГригорьевЯ вглядываюсь в фотографию Афанасия Григорьева, сделанную в последние годы жизни. Суховатое бритое лицо, усталое и сосредоточенное, как у людей, не знающих праздности. Он в глухом сюртуке, на шее орденский крест, вдоль подлокотников кресла – слегка тронутые возрастом руки, с чуть согнутыми пальцами, точно готовые всякую минуту взяться за карандаш и кисть. Основное впечатление, пожалуй, – терпеливый, настойчивый характер, подчиняющий себе обстоятельства и удачу, умение идти к цели. И в самом деле, этот человек мог, перефразируя поговорку, сказать, оглянувшись на длинный пройденный им путь, что «талант и труд – все перетрут».
«Лета 1804 года августа 24 дня я, генерал-майор и кавалер Николай Васильев сын Кретов отпустил вечно на волю крепостного своего дворового человека Афанасия Григорьева, холостого… записанного за мной Тамбовской губернии Козловского округа в слободе Васильевской, и вольно ему с сею отпускною жить, где пожелает…» Гадать ли, как сложилась бы судьба этого дворового человека, не обрати его помещик, выдающийся участник Отечественной войны, внимание на способности своего крепостного и не дай ему впоследствии «вольную». Афанасий Григорьевич Григорьев, будущий крупный архитектор, внесший немалый вклад в строительство послепожарной Москвы, родился в 1782 году, за восемь лет до того, как Радищев опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву».
«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Так начал он свою знаменитую книгу, в которой речь шла именно об утеснениях и угнетенном положении русских мужиков, плотью от плоти которых был Григорьев, росший, несомненно, в уверенности, что он всего только Афонька, которому всю жизнь прислуживать барину да получать тычки…
Сведения о ранних годах Григорьева, проведенных им в деревне, отрывочны и скупы, однако, задумываясь над его наследием, приходишь к заключению, что усадебная обстановка оказала значительное влияние на будущее творчество архитектора. Да, были тяжкие и уродливые стороны жизни, бесправие и жестокость, но наряду с этим – цвела и благоухала благодатная природа Средней России, жили в деревне поэтические предания старины, и была непреходящая красота стильных усадеб, какие строили тогда в своих вотчинах душевладельцы под влиянием прекрасных форм и хорошего вкуса, привитых русскому зодчеству замечательными отечественными архитекторами второй половины и конца XVIII века. Впоследствии в лучших работах Григорьева скажутся запомнившиеся с детства уют и изящество помещичьих домов, где за скромным портиком и колоннами фронтона были расписанные и вылепленные доморощенными художниками плафоны и фризы, воспроизводившие в малых размерах великолепие столичных дворцовых интерьеров.
Еще мальчиком Афанасия Григорьева отвезли в Москву. Там ему суждено было прожить всю долгую жизнь, полностью посвященную архитектурным трудам. Их значение вполне оправдывает наше желание спустя два столетия после рождения Григорьева напомнить об этом удивительном крестьянском сыне.
В Москве мальчика поместили в дом архитектора И. Д. Жилярди, и он рос вместе с его сыном, Дементием, ставшим впоследствии знаменитым строителем Москвы, одним из самых выдающихся представителей блестящей школы Казакова, создавшей тот московский ампирный стиль, произведениями которого мы восхищаемся поныне. Юноши, по всей вероятности, дружили: начав работать одновременно, они потом долгое время служили бок о бок в одном ведомстве. В семье Жилярди позаботились об образовании молодого Григорьева: его определили в Кремлевскую архитектурную школу при Экспедиции Кремлевских строений. Ученики этой школы считались на службе и проходили практику: уже в 1803 году Григорьев числился помощником Жилярди-отца. Именно у него в доме юноша приобщился к архитектуре, там пристрастился к рисованию, и весь его дальнейший жизненный путь – естественное следствие раннего соприкосновения с искусством, совпавшего с природными способностями и вкусами юного Григорьева.
Однако Жилярди-отец рано отправил своего сына в Италию, откуда тот вернулся с дипломом Миланской академии, тогда как Григорьеву не довелось учиться за границей, и свое недюжинное мастерство и основательные знания он вынес из прилежного изучения приемов и практики отечественных архитекторов. В 1803 году был принят проект Джакомо Кваренги для Странноприимного дома Шереметева – нынешнего Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Теперь по материалам архивов установлено, что «прожект» Кваренги рисовал в 1804 году Григорьев; в 1807 году он уже числился архитектурным помощником.
Сохранились документы, указывающие на то, что в 1805 году отпущенный к тому времени на волю двадцатитрехлетний Григорьев поступил на казенную службу, а до этого принимал участие в работах Жилярди-отца. Через три года молодого человека назначают помощником архитектора Воспитательного дома, затем он становится архитектором ряда городских больниц, находившихся в ведомстве императрицы Марии, в котором он прослужил многие годы совместно с Дементием Жилярди в должности его помощника – как-никак, заграничный диплом ставил того в преимущественное положение…
Григорьев принимал участие в строительстве самых выдающихся построек Жилярди – знаменитого Конного двора в усадьбе Голицыных Кузьминки, Опекунского совета на Солянке и других зданий. За Опекунский совет Григорьев был награжден золотой табакеркой и годовым окладом. Вполне обоснованно предположение, что Жилярди, в качестве непосредственного начальника Григорьева, подписывал ряд его самостоятельных проектов.
Опекунский совет на Солянке, построен в 1823 – 1826 годахПрежде чем перейти к работам Григорьева, развернувшимся в основном после 1812 года, скажем, дабы больше не возвращаться к его биографии, что служил он успешно – с годами повышался в чинах, так что к концу жизни стал «статским советником и кавалером», то есть достиг на гражданской службе того, что бывший его владелец генерал Кретов заслужил на военной. Кстати, чин и ордена давали Григорьеву и его детям потомственное дворянство – он стал принадлежать тому же сословию, что и его прежний барин! Приобретя известность, Григорьев выполнил много частных заказов, участвовал во всяких строительных комиссиях и комитетах, познал при жизни и почет и признание, пользовался значительным достатком. Из записи в его расходной книжке известно, что им в 1828 году было уплачено четыре тысячи рублей за вольную сестры. Григорьев выстроил себе небольшой особняк, который и сейчас можно видеть на улице Мархлевского, но позднейшие перестройки делают его неузнаваемым. Не осталось и признаков известного по авторскому чертежу типично «григорьевского» фасада, уравновешенного и тактично декорированного. В этом доме Григорьев и умер в 1868 году, на восемьдесят седьмом году жизни. Один из его сыновей сделался архитектором, другой – живописцем, причем отец руководил ими и, когда они стали взрослыми, давал советы, любил рекомендовать книги. Страстный рисовальщик, он и детям сумел внушить любовь к карандашу и кисти. После Григорьева остались книги, коллекция рисунков и эстампов, которые он собирал всю жизнь.
Листая старые монографии и труды по архитектуре, редко встретишь имя Григорьева. Оно почти не упоминается – его заслонила популярность Жилярди, Бове, других зодчих, создавших лицо послепожарной Москвы. Эти мастера по-своему усваивали и видоизменяли наследие екатерининского классицизма. Тогда, после Баженова и Казакова, стали складываться черты московского ампира, который по своему своеобразию справедливо выделяется в самостоятельный стиль. Быть может, нигде больше уклад жизни и характер жителей так не отразились на архитектурных формах, как в особняках и усадьбах Москвы и Подмосковья первой трети XIX века. Здесь почти не строили крупных дворцовых ансамблей петербургского типа, а более всего возводилось небольших уютных домов.
Именно тут полнее и совершеннее всего воплотилось дарование Афанасия Григорьева, тяготевшего к малым формам и камерности в архитектуре. Правда, известны проект и рисунки обширного дворца, построенного им для великого князя Михаила Павловича. Это давно исчезнувшее здание стояло на углу нынешней Метростроевской улицы и Крымской площади; о нем поныне напоминает уцелевший боковой флигель – двухэтажный корпус с полуциркульными окнами и тамбуром подъезда посередине, выходящий на улицу у самого виадука. Судя по «Архитектурному альбому 1832 года», дворец представлял собою здание с двумя симметричными крыльями, многоколонным портиком и высоким куполом. Над карнизом главного корпуса поставлена красивая скульптура, галереи соединяют его с боковыми флигелями. В целом дворец полностью воплощает классические традиции, и можно, пожалуй, говорить о том, что Григорьев, когда создавал его, испытывал на себе сильное влияние Казакова. Отмечу попутно, как удачно дворец был поставлен против Провиантских складов – оба ансамбля красиво обрамляли улицу.
Но подлинный Григорьев – не в дворце на Остоженке. Его область – те средние городские и загородные дома, о которых писал князь П.А. Кропоткин в «Записках революционера». Знаменитый анархист родился и прожил много лет в одном из Арбатских переулков, отлично знал старую дворянскую Москву.
«В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила «анфилада» парадных комнат… Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор…»
Именно такой особняк, построенный Григорьевым, принес ему известность и признание: в нем с удивительным вкусом и чувством меры воплощены лучшие черты московского ампира. Я имею в виду знакомый всем Музей Л. Н. Толстого на Кропоткинской улице (Пречистенке), который в литературе известен под названием дома Станицкой.
Когда говоришь о признаках этого стиля: симметричном плане и фасаде, строгом орнаменте греко-римского характера, красиво расположенных окнах без наличников, с одним сандриком или замковым камнем с львиной маской в центре; о барельефах за колоннами портика, барельефах тонкой лепки, помещенных на плоском фоне; о фронтонах с венком и ритмическими изгибами лент, а внутри – о высоких комнатах, лепных фризах и расписных плафонах, нарядных лестницах с изящными перилами, гостиных, отделенных от зал двумя или четырьмя колоннами из полированного искусственного мрамора, – словом, когда представляешь себе особняк, выстроенный в ампирном стиле, можно не задумываясь обратиться к упомянутому дому Станицкой. Там все это есть, причем удивительная верность руки мастера, чудесный вкус росписей внутри и тонкость рисунка сложных барельефов на фасаде – все это придает дому удивительную прелесть. Но отделанность деталей не заслоняет общего архитектурного эффекта: перед нами цельное и стройное произведение. Причем оригинальное, отмеченное подлинным дарованием автора. Григорьев создал свой, отличный тип городского жилого особняка, послуживший образцом, широко использованным заказчиками его времени – московскими дворянами и купцами.Тут уместно упомянуть об одной особенности стиля ампир: наши предки любили эмблемы, и архитекторы, потакая их вкусам, щедро к ним прибегали, выбирая мотивы декора. То были упомянутые выше венок с лентами, символизировавшие сочетаемость, дружбу, славу; изящные фигуры лебедей, помещаемые в завитки капителей – символ любви; светильники в простенках и факелы – символы знаний; не говоря о лирах и других атрибутах муз. Григорьев со вкусом и умело украшал свои фасады такими эмблемами, оставив подлинные шедевры в этом роде. Сошлюсь хотя бы на портик Музея Пушкина (бывшего дома Хрущева-Селезнева) на Кропоткинской улице: мастерски вписанные эмблемы на фронтоне, лебеди, угнездившиеся в волютах капителей ионического ордера, медальоны над окнами.
Дом Станицкой на Пречистенке (ныне музей Л.Н. Толстого), построен в 1817 – 1822 годах
Лишь в наше время были обнаружены материалы, позволяющие считать Григорьева автором этого красивейшего особняка Москвы начала XIX века. До революции о Григорьеве-архитекторе упоминали только в связи с домом Станицкой. Все остальное, им созданное, приписывали другим архитекторам, чаще всего Жилярди.
Мне кажется, что, приглядевшись к особняку Хрущева-Селезнева и всей усадьбе, можно угадать руку Григорьева не только по тонкому рисунку отдельных деталей. Более всего она чувствуется в общей планировке участка, особенно если видишь усадьбу на старых фотографиях, до современных переделок, когда еще стоял угловой павильон парка, не было школы, выстроенной на месте прежней старинной церкви.
Усадьба Хрущевых-Селезневых на Пречистенке (ныне Музей А.С. Пушкина), построен в 1814 годуВсе здания по-деревенски живописно расположены на небольшой территории городской усадьбы. Григорьев при этом подчинил свою планировку красной линии улицы, как это умели делать лучшие архитекторы ампира. Усадьба ограничена с трех сторон улицей и двумя переулками, и зодчему надо было найти решение, как отгородить ее от городской суеты, одновременно не закрываясь наглухо. Он использовал для этого деревья парка, ограду, белокаменные ворота и высоко поднял над землей этаж с жилыми комнатами. Думаю, что в этом сказались воспоминания Григорьева о сельской тишине, о свободной планировке деревенской усадьбы.
Если подлинное значение Григорьева-архитектора и масштабы его деятельности только сейчас открываются благодаря исследованиям и архивным изысканиям, то Григорьева-рисовальщика, автора непревзойденных по вкусу и точности исполнения рисунков, орнаментов и проектов, знали всегда. И недаром! Приуроченная к двухсотлетию со дня рождения Афанасия Григорьева выставка его рисунков в Научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве рассказала нам о поразительном карандаше этого полузабытого мастера…
Рассматривая листы ватмана с его подлинными рисунками, не знаешь, чем больше любоваться: в одних – античная классическая простота, в других – усложненная изысканность позднейших школ, и всюду – равновесие верного безошибочного вкуса, смелость, покоящаяся на уверенности в приобретенном мастерстве. Карандаш Григорьева не боится уйти в запутанный завиток, увлечься подробностью орнамента: он всегда находит, как создать общее гармоническое целое, остановиться на грани, за которой – перегруженность. Чертежи Григорьева восхищают блестящей техникой исполнения: иные из них можно рассматривать только через лупу. Так же, как рисунки карандашом, привлекают и акварели Григорьева. Всматриваясь в его приемы и манеру исполнения, не только чувствуешь, что эти работы принадлежат иному веку, но невольно думаешь о почти утраченном ныне искусстве старых мастеров-акварелистов. Разнообразие современных живописных средств повело к тому, что писать акварелью так, как их предшественники сто пятьдесят лет назад, нынешние художники уже не умеют.
Графическое наследие Григорьева говорит о его незаурядной эрудиции, о внимательном изучении мастеров предшествующих поколений и школ, о знании различных национальных стилей. Свежесть и непринужденность орнаментов с растительными мотивами отражают живые наблюдения природы. Стенды григорьевской выставки в нарядных залах бывшего Талызинского особняка наглядно убеждают в значительности его работ и вызывают мысль о желательности и полезности издания альбома произведений этого мастера.
Григорьев оставил после себя много чертежей неосуществленных проектов. По ним можно заключить, что, строя небольшие дома и особняки, архитектор мечтал и о создании крупных, монументальных зданий. Его занимало – какими им следует быть? В его бумагах встречаются соответствующие записи. «…Дворец, – писал Григорьев, – должен быть великолепным для зрения. Сие получается при умеренной высоте здания – не более двух этажей – и совершенстве пропорций…» Или: «…тем, что архитектор положит верное отношение между вышины и длины, он обойдет большую обыкновенность и сделает разные со вкусом украшения, и даст этим ход своей композиции…»
Пока трудно ответить на вопрос – удалось ли когда Григорьеву построить что-либо монументальное, кроме дворца на Остоженке? В последнее время некоторые историки архитектуры высказывают предположение, что им создан проект церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, на авторство которого в разное время существовали различные взгляды: церковь приписывали и Баженову, и Казакову. Но, кем бы она ни была выстроена, она по праву считается прекрасным образцом классического стиля, и силуэт ее – стройный и пропорциональный – служит украшением этого уголка Москвы.
Дальнейшие исследования помогут окончательно установить автора этого прекрасного храма, и, если подтвердится версия его принадлежности Григорьеву, мы порадуемся тому, что этот талантливый и трудолюбивый, скромный русский мастер увидел при жизни осуществление своей мечты – создание по его проекту монументального здания в любимой Москве, которой он отдал без остатка все свое творчество.
Оно еще далеко не открыто во всей полноте. Известно, что Григорьевым в 1828 году построена церковь в селе Ершове, под Звенигородом, принадлежавшем Олсуфьевым, и еще несколько усадебных домов в Подмосковье; что им после 1812 года возобновлено здание бывшего Екатерининского института (Центральный Дом Советской Армии), причем большой зал и домовая церковь с интересным иконостасом сделаны им заново; что Григорьеву принадлежат проекты пристроек и лабазов Воспитательного дома; часть корпусов Павловской больницы; что он участвовал в проектировании и постройке ряда общественных зданий Москвы. Однако многое из того, что за свою долгую жизнь создал этот неутомимый труженик, пока приписывается другим зодчим или остается безымянным.
Но и того, что о Григорьеве известно и что коротко изложено в этих заметках, достаточно, чтобы имя этого выдающегося архитектора и человека примечательной судьбы навсегда сохранилось в благодарной памяти москвичей. Своим не исчезнувшим за полтора века обаянием и прелестью, своим уютом и поэзией некоторые старые московские улицы обязаны, в числе других, и Афанасию Григорьевичу Григорьеву.Басманные улицыВ старых московских справочниках говорится, что названия этих двух улиц – Старой Басманной, переименованной в 1922 году в улицу Карла Маркса, и Новой Басманной, сохранившей свое название, – восходят к профессии живших здесь когда-то мастеров «басманного шитья» и тиснения по металлу – меди, серебру и золоту, которыми славилась средневековая Москва. Современные исследования опровергают это объяснение, и теперь считается установленным, что в этих названиях отражено пекарское ремесло: район этих улиц занимала слобода хлебников, выпекавших «басманы» – караваи казенного хлеба для войска и царского двора, на которых ставилось клеймо дворцовых пекарей.
Изначальные названия улиц ли, урочищ или районов – неоценимое подспорье, когда за давностью утрачены сведения о прошлом. Они способны иной раз дать в руки потомков ключ к разгадке всяких неясностей и спорных заключений. Приведу запомнившийся случай.
Однажды в Калининской области мне встретился незначительный хуторок со странным названием Шелдомежский. Ломать бы мне долго над ним голову, не узнай я от местного краеведа, что некогда стоял здесь древний монастырь, основанный на том месте, на той черте или меже, до которой дошли полчища Батыя. «Дошли до межи», очевидно, не пущенные дальше русскими… Славное название, рассказывающее о знаменательном для наших предков счастливом повороте в тягостном ходе событий и удержавшееся на русской земле более семисот лет! Вот почему так не лежит подчас сердце к переименованиям, как бы отсекающим кровные наши связи с минувшим, с давними делами Родины…
Старая Басманная начинается от Земляного Вала, служа как бы продолжением идущей от Китай-города извилистой артерии Маросейка – Покровка. Отсюда начинался и Скородом – часть города за внешней линией укреплений, названная так, как известно, из-за быстроты, с которой она застраивалась после очередного вражеского набега или пожара.
По этой улице, мимо изб басманников, шла главная дорога из Кремля в село Рубцово на Яузе, переименованное в 1627 году в село Покровское, по которой цари ездили в свою загородную резиденцию, а Алексей Михайлович – с 1650 года – в любимое свое село Преображенское. Маршрут этот продержался до Петра, начавшего ездить другим путем, о чем будет рассказано ниже.
На углу Земляного Вала (Садовой) и Старой Басманной, в четном порядке домов, на месте нынешнего небольшого сквера, еще в конце двадцатых годов нашего столетия стоял старинный дом, принадлежавший бригадиру Румянцеву, отцу знаменитого победителя Фридриха II, героя Семилетней войны, фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского.
При Петре I по Старой Басманной стали селиться офицеры солдатских полков. Усадьбы нарезались им городским магистратом из прежних обширных огородов кремлевского Вознесенского монастыря. И уже в конце XVII века район Басманных улиц стал называться Капитанской слободой.
От этого, и даже более раннего, времени на Старой Басманной улице уцелел ряд домов, перестроенных и надстроенных, но сохранивших неуловимо во всем облике и вполне осязаемо в толстостенных, сводчатых нижних этажах отпечаток далеких веков.
В нескольких десятках метров от моста через железнодорожную выемку, перерезавшую Старую Басманную в 1870 году, если идти от Садового кольца – по левую руку, выделяется дом, выдвинувшийся из ряда соседних едва ли не вплотную к проезжей части улицы, так что от тротуара остается узкая полоска.
Равнодушный взгляд скользнет по нему, не обнаружив ничего примечательного. Разве покажется странным, чего это он вылез на самую улицу. Гладкие стены, регулярные проемы окон безо всяких украшений – такой дом мог построить себе в прошлом веке безгрешно скопивший капиталец за долгую службу чиновник, и средней руки торговец, и отставной военный в небольшом чине, люди, озабоченные прочностью и поместительностью дома и не думающие о красоте архитектуры. Однако, если присмотреться внимательнее, замечаешь над оконными проемами нижнего этажа наполовину стесанные украшения в форме кокошников да угадываешь по некоторым признакам невероятную толщину стен. Поднявшаяся улица похоронила глубоко под землей основание дома и подступила своим тротуаром к подоконникам нижнего этажа.
Вид Старой Басманной улицы в начале XIX векаПеред нами – редчайший памятник гражданской архитектуры XV – XVI веков, путевой дворец Василия III, отца Грозного! В древности здания легко убедиться, если, зайдя со двора, спуститься по ступеням каменной лестницы в помещение, ставшее полуподвальным, а некогда представлявшее приемные и жилые покои царя: об этом говорят высокие сводчатые потолки, кое-где проступившие из толщи штукатурки нервюры арочных проемов, да и произведенные архитекторами зондажи показали, что стены сложены из крупных квадров белого камня, а перекрытия усилены толстой свинцовой прокладкой.
Когда-то, в глухой XV век, по лесным непроезжим подмосковным дорогам к пристани на Москве-реке мужики, наряженные дворцовым приказом, везли на тощих своих животинах увязанные бечевой из конопли либо лыками аккуратно опиленные камни с великокняжеских каменоломен в Мячкове, где добывался тот известняк, из-за которого Москву прозвали белокаменной… Камень доставляли и сюда, в Басманную слободу, где царь затеял выстроить себе дворец, чтобы можно было передохнуть с приближенными в дальней дороге, на кою мы ныне затрачиваем двадцать минут… И вот возникли тут палаты с резными щипцами, затейливыми флюгерами и крытым крыльцом с пузатыми столбами, под нарядной бело-красной крышей.
А в помещениях, где ныне беленые дощатые перегородки, трубы отопления и потемневшие полы рабочей раздевалки, вдоль ярко расписанных стен чинно стояли обитые сукном лавки и лари, на которых сидели, подремывая, ближние люди из свиты, может быть, дожидался приема прибывший из дальних пределов царства гонец. Пышный государев поезд стоял у крыльца, и слобожане издали глядели на нарядных царских конюхов и стражу с золочеными бердышами…
Как же много видели и помнят камни этих простоявших пятьсот лет стен, сколько превращений испытал дом, пока шли мимо столетия, стирая с него отблески дворцового сияния и все глубже погружая в безымянную толщу обывательских строений! Вид этого немого свидетеля нашей истории располагает если не сравнивать «век нынешний и век минувший», то во всяком случае задуматься над удивительным свойством человеческих творений доносить до потомков глубокую суть создававших их поколений.
Встав спиной к путевому дворцу Василия III, увидишь в том месте, где Гороховский переулок, отходя от Старой Басманной, образует колено, нарядный и величественный фасад дома с колоннами, фланкированный двумя старинными флигелями – внушительный монумент размаху и роскоши гремевшей тут некогда жизни. Право, царь в начале XVI века строил куда скромнее, чем два столетия спустя могущественный Николай Демидов, самый богатый подданный Екатерины, владелец бессчетных душ и миллионов, заводчик, внук тульского крестьянина Демида Григорьевича Антуфьева и сын знаменитого Никиты Демидовича, возвысившегося при Петре кузнеца-оружейника. Любопытно, что этот Никита, только по личному приказу царя согласившийся принять пожалованное ему в 1720 году в ознаменование его подлинно огромных заслуг на поприще развития отечественного горного дела потомственное дворянство, наотрез отказался от орденов, чинов и других наград: в нем, вероятно, жила гордость знающего себе цену мастерового человека. Но не таковы были его наследники, в большинстве множившие доставшиеся им богатства, добивавшиеся почестей, титулов и отличий. Их судьба – фантастическое смешение злодейства и благородного служения России, дикости и просвещенного покровительства наукам и искусствам, щедрой благотворительности и непостижимой скаредности, чудачества и дальновидной деятельности. Евдоким Акинфович Демидов творил чудовищные преступления на своих Невьяновских заводах и жертвовал отцовский кабинет минералов де сиянс академии (Петербургской академии наук). Брат его Прокофий занимался ростовщичеством и преподнес Екатерине один миллион рублей на Воспитательный дом; он же пытался посадить в долговую тюрьму поэта Сумарокова, снимавшего квартиру в принадлежавшем ему доме и не уплатившего в срок грошовую аренду.
Проект дома в Гороховском переулке Николай Демидов заказал Матвею Казакову, который и построил его в 1780 году.
За истекшие двести лет дом подвергся лишь незначительным переделкам, фасад сохранился почти в первоначальном виде, кроме балюстрады, обегавшей по верху аттик, и заделанного в средней части здания арочного сквозного проема, ведшего во двор: на его месте вестибюль с тяжелыми колоннами. Этот дом заслуженно считается одним из лучших произведений великого московского зодчего. И кстати: можно ли догадаться, что, возводя хоромы Демидову, архитектор искусно встроил в них стоявший тут одноэтажный каменный дом? Зодчие в старину были, пожалуй, много бережливее нынешних, предпочитающих сломать и срыть все, выстроенное до них на месте сооружаемого ими, хотя бы тут находились и вполне пригодные капитальные постройки…
Особенно прославились интерьеры демидовского дома, отделанные с неслыханной роскошью: целая анфилада парадных покоев украшена вызолоченными резными узорами, фризами, карнизами и панно. Если бы не высокое мастерство исполнения, это изобилие золота выглядело бы чрезмерным, но каждая деталь, каждый вершок рисунка сделаны так искусно, столь художественно, они настолько разнообразны по манере, характеру позолоты, стилю узоров, что, переходя из одного зала в другой, только поражаешься удивительному вкусу и воображению художника, талантливости трудившихся здесь рук: перед глазами подлинные шедевры русского декоративного искусства.
В настоящее время дом занимает Институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и в нем ведутся реставрационные работы, рассчитанные на полное восстановление казаковских интерьеров, одних из самых роскошных по богатству и совершенно исполненных не только в Москве, но и во всей стране. Добавим, что дом недолго оставался во владении Демидовых, он перешел сначала к князьям Куракиным, а потом был приобретен в казну, и в нем разместился Константиновский межевой институт. Первым его директором был Сергей Тимофеевич Аксаков, проживший здесь несколько лет на казенной квартире. Значительно позднее, в семидесятые годы, в Межевом институте проживала сестра Достоевского В. М. Иванова, и писатель, приезжая в Москву, останавливался у нее. Старая Басманная, вероятно, напоминала ему детство: именно на этой улице, в не дошедшем до нас доме, помещался старейший в Москве пансион Л. И.Чермака, в котором Достоевский провел три зимы (1834 – 1837).
Дом князя М.П. Голицына на Старой Басманной. Середина XVIII века, школа КазаковаНапротив Института геодезии высится величественный силуэт церкви Никиты Мученика, построенной известным архитектором князем Д. В. Ухтомским в 1751 году. То было время увлечения стилем барокко, и в этом здании воплощены его самые яркие черты. Закругленные формы, пышный декор, богатый орнамент, нарядные верхние оконца в причудливого рисунка наличниках, выступающий портик – все призвано придать церкви парадный вид и угодить вкусам прихожан, в большинстве дворян, наслышанных о Версале и европейских архитектурных модах. Предполагается, что под сооружением Ухтомского сохранились остатки кладки более древней церкви, поставленной здесь в 1517 году царем Василием III, торжественно встречавшим на этом месте иконы, которые перевозили из Владимира спустя почти двести лет после того, как митрополия была переведена в Москву и окончательно закатилась слава прежнего стольного города на Клязьме.
Сразу за церковью тянется ряд двухэтажных домов, построенных в XVIII веке. Большинство неузнаваемо переделаны, но нижние этажи в некоторых из них на старинный фасон – сводчатые. Один из этих домов, на углу Токмакова переулка, со следами неоднократных переделок и остатками первоначальной разделки на стенах, причастен истории русского искусства. В этом уцелевшем в пожаре 1812 года и позднее приспособленном под жилье доме находилась мастерская Федора Степановича Рокотова, одного из наших виднейших живописцев XVIII века, создавшего, вместе с Аргуновыми и В.Л. Боровиковским, жанр русского портрета.
Мы странно мало знаем о Рокотове, даже дата его рождения установлена по косвенным данным – исповедным книгам церкви Никиты Мученика. И поныне нет уверенности: родился ли он в 1735 или 1736 году. Точно так же не вполне выяснено его происхождение. Прежде считалось, что художник принадлежит смоленскому роду дворян Рокотовых, и его известный ранний портрет молодого человека в гвардейском мундире принимали за автопортрет. Ныне же обнаружено дело об освобождении племянников Рокотова, крестьян подмосковного села Воронцова, принадлежавшего князю Репнину, что дало повод считать самого художника крестьянским сыном, отпущенным на волю своим владельцем. Однако версия эта не вполне вяжется с другим документом: Рокотов находится в списке лиц, подписавших правила московского Английского клуба, членами которого могли быть только потомственные дворяне.
Известно, что Рокотов учился в Петербурге у Лоррена и Ротари, но большую часть жизни прожил в Москве, где был длительное время настолько популярен, что чести быть написанным им домогались знатнейшие московские особы. Кто-то, очевидно недовольный отказом художника писать с него портрет, отметил в своих записках, что «Рокотов за славою стал спесив и важен».
В славу же он вошел с легкой руки Екатерины, которой очень понравились написанные им в 1763 и 1765 годах портреты, особенно тот, на котором она изображена в профиль. За последний, поясной, сделанный в Москве, Рокотову было пожаловано пятьсот рублей. В том же году он получил звание академика. Естественно, что обласканный при дворе художник был принят москвичами с распростертыми объятиями. Впрочем, не справедливее ли объяснить необычайный прижизненный успех Рокотова достоинствами его живописи, восхищающей нас наравне с его современниками? Артистичная легкость манеры, задушевность его портретов, живость характеров, на них изображенных, – все это должно было пленять глаз и воображение, привыкшие к парадности живописи того времени с неизбежной холодностью и академической зализанностью; совершенно особые, приглушенные, пепельные, серебристо-зеленоватые и розовые, оттенки рокотовской палитры придают поэтическое звучание его портретам, и нам теперь порой трудно почесть их написанными в середине и второй половине XVIII века – настолько они по своей человечности и лиризму опередили время…
Именно за стенами этого нескладного дома на углу Токмакова переулка создавал Рокотов свои шедевры. А жил он в скромном двухэтажном доме рядом с мастерской: нижний, каменный этаж, уцелевший в пожаре 1812 года, был впоследствии надстроен. Как тут жил художник, какова была его семья – мы ничего об этом не знаем. Известно лишь, что имя его значится в списке домовладельцев Старой Басманной за 1782 год, да сохранились имена трех его учеников, живших в мастерской: Петра и Ивана Андреевых да Зяблова, крепостного помещика Струйского. Здесь Рокотов и умер в 1808 году, на восьмом десятке лет, если считать достоверным, что он родился в 1735 или 1736 году.
Казаков, Рокотов, XVI век – одних этих имен и старины достаточно, чтобы привлечь внимание к Старой Басманной, но улица эта видела, помимо этих прославивших наше искусство людей, и Пушкина, бывавшего на ней неоднократно. В детстве семья поэта жила поблизости, в приходе церкви Харитония, а на Старой Басманной, там, где ныне сквер на углу Токмакова переулка, жила Анна Львовна Пушкина, сестра его отца, и мальчика приводили в гости к тетке. Позднее поэт навещал своего дядю Василия Львовича Пушкина, квартировавшего в доме матери Н. X. Кетчера, первого переводчика Шекспира на русский язык и члена кружка Герцена и Огарева. Исчезли портик с колоннами, украшавшая стены гипсовая лепнина, но домик под № 36 сохранился по сие время.
Ранним утром 8 сентября 1826 года бричка с поэтом и сопровождавшим его фельдъегерем императора, посланным за ним в Михайловское, проехала заставу. Пушкина прямо с дороги, не дав ему отдохнуть и привести себя в порядок, повезли во дворец.
В большом кабинете Кремлевского дворца царь принял поэта наедине. Их беседа продолжалась два часа.
Из Кремля он направился в гостиницу «Европа» на Тверской, оставил в номере свои вещи и поспешил на Старую Басманную к дяде Василию Львовичу. В тот же день и в те же вечерние часы на этой же улице, в упомянутых нами золотых залах дома князя Куракина, сданного им французскому послу маршалу Мармону, герцогу Рагузскому, на время коронационных торжеств, был большой бал, на который приехал Николай I. Подозвав к себе графа Блудова, товарища министра народного просвещения, царь сказал ему:
– Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России.
В ответ на вопросительный взгляд Блудова Николай назвал Пушкина.
Тем временем собравшиеся у Василия Львовича друзья и почитатели опального поэта приветствовали его и поздравляли с возвращением из ссылки. Впрочем, общительный характер и гостеприимство автора «Опасного соседа» постоянно собирали в кетчеровский домик московских литераторов и поэтов. Тут бывали Иван Дмитриев, Петр Вяземский, Денис Давыдов и другие.
…На противоположной стороне улицы, у Бабушкина переулка, обращает на себя внимание вытянутый фасад классического одноэтажного особняка с колонным портиком и барельефами отличной работы на мифологические темы. В начале XIX века он принадлежал сенатору Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу, умершему в 1851 году и пережившему, таким образом, двух из трех своих сыновей-декабристов, Ипполита и Сергея. Ипполит, младший из них, родившийся в 1806 году, был ранен в стычке Черниговского пехотного полка с царскими войсками 3 января 1826 года у села Ковалевка и тут же застрелился. Тридцатилетний Сергей, возглавивший восстание черниговцев, был ранен в один день с братом и повешен вместе с Пестелем, Рылеевым, Бестужевым-Рюминым, Каховским 13 июля 1826 года. И лишь старший, Матвей, осужденный к двадцати годам каторги и отправленный на поселение в Ялуторовск, пережил отца, умер девяноста трех лет от роду, в 1886 году, в Москве и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.
Отец декабристов Иван Матвеевич был образованнейшим человеком, и в доме его постоянно бывали видные литераторы, историки и ученые: муравьевский салон пользовался заслуженной известностью в исходе XVIII и начале следующего столетия. Гостиные и приемные, в которых бывали друзья хозяина, и поныне сохранили отдельные черты того времени. Несмотря на перегородки, канцелярские столы разместившегося в муравьевском доме учреждения, голый вестибюль с белеными стенами и обшарпанным полом – частично уцелевшие расписные плафоны, лепные украшения и разделяющие покои проемы с колоннами напоминают об изяществе и богатом убранстве прежних интерьеров. Думая об их давнишних хозяевах и гостях, о трех росших в этих стенах братьях, самоотверженно отдавших жизнь во имя высоких идеалов, представляешь себе этот дом поновленным и обращенным в музей памяти декабристов. Как особняк Хрущевых на Пречистенке прекрасно подошел, чтобы почтить память Пушкина, так и дом замечательной семьи Муравьевых-Апостолов мог бы стать достойным хранилищем декабристской традиции в Москве, не имеющей, кстати, музея деятелей 14 декабря 1825 года.
…Старая Басманная оканчивается у перекрестка с Новой Басманной, составлявшей прежде отрезок Стромынской дороги. Это место по старой памяти величают Разгуляем – названием как нельзя более им заслуженным. Здесь в допетровское время было открыто кружало или фартина, иначе говоря – кабак, о котором упоминали иностранцы, приезжавшие в то время в Москву.
«Перед городом есть у них общедоступное кружало, славящееся попойками… у них принято отводить место бражничания не в Москве», – писал в 1678 году чешский путешественник Бернгард Таннер, входивший в состав польского посольства. Бражничать в городе запрещалось, и питейные заведения учреждали за чертой внешних укреплений. Несмотря на строгость тогдашних правил, о соблюдении которых особенно заботилось духовенство, следившее, чтобы поблизости от церквей не было кабаков, допускались исключения. Так, известно, что при Иоанне Грозном был в 1552 году открыт кабак на Балчуге, правда, «закрытого типа»: он предназначался исключительно для опричников. Особенным буйством прославилось кружало, поставленное возле Колымажного двора, на месте, где устраивались кулачные бои. Его прозвали Ленивкой, и память о нем сохранилась до сих пор в нынешнем названии одной из улиц на Волхонке.
Ограничивать бражничание было крайне невыгодно для казны, чем, вероятно, и объясняется, что уже в 1626 году, несмотря на запрещения, в Москве насчитывалось 25 царевых кабаков. Спустя полтораста лет, по переписи 1775 года, их стало 151. При Александре I количество кабаков в Москве убавилось – в 1805 году их осталось всего 116. Не потому ли, что сей монарх не терпел пьянства и удалял от себя лиц, приверженных к горячительному зелью? Известен случай, когда Александр упорно отказывал в повышении одному заслуженному генералу на том основании, что у того был красный нос пьяницы, хотя бедняга в рот не брал спиртного, чему император отказывался верить, несмотря на сделанные ему представления… Зато шестьдесят лет спустя, при внуке его и тезке, в 1866 году, Москва могла похвастаться 1248 кабаками.
Как бы то ни было, чтобы вольно разгуляться в Москве XVII века, надо было отправляться в Скородом, где на перекрестке Старой Басманной со Стромынкой, под боком у первого кружала, возникли другие, и скоро углы обеих улиц облепили кабаки, постоялые дворы и трактиры.
Именно на Разгуляе, в соседстве шумных питейных заведений, возникла и прекрасно обстроилась одна из примечательных московских барских усадеб XVIII века, о которой нам сегодня напоминает выкрашенное в розоватый цвет здание Инженерно-строительного института имени Куйбышева. Оно сильно обезображено возведенным в XIX веке третьим этажом и позднейшими пристройками, однако сохраняет следы благороднейшей архитектуры, позволяющей безошибочно приписать дом большому мастеру. И в самом деле он принадлежит Казакову, построившему его в восьмидесятых годах XVIII века для жены графа А. И. Мусина-Пушкина. К ней усадьба перешла от генерал-аншефа Шепелева. Девяносто гектаров, занятых садом и цветниками. Теперь и представить себе трудно участок таких масштабов в черте города! Перестройки пощадили изящную полуротонду с легкими колонками и тонкого рисунка лепным медальоном, притулившуюся к зданию с тыльной стороны на втором этаже. Глядя на эту грациозную прихоть архитектора, можно вообразить выходивших сюда гостей Мусиных-Пушкиных, любующихся раскинувшимися внизу цветниками или слушающих песни, оглашающие кущи старого парка. Если, разумеется, и сюда не доносились кабацкие шумы и крики…
Гостями этого дома были выдающиеся люди того времени. У Мусина-Пушкина подолгу живал Карамзин, гостили Вяземский и Жуковский. Среди частных собраний книжных и рукописных сокровищ Москвы конца XVIII – начала XIX века славилась библиотека А. И. Мусина-Пушкина, собирателя древностей, археолога и коллекционера, президента Академии художеств. Старинные рукописные сборники, летописи, редкие печатные книги библиотеки Мусина-Пушкина давали обильный материал Карамзину для работы над «Историей государства Российского». В конце XVIII века Мусин-Пушкин приобрел у бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря рукопись, которая содержала список «Слова о полку Игореве». В 1800 году Мусин-Пушкин издал рукопись. Над ее художественным переводом впоследствии работали поэты Пушкин, Жуковский, Майков, Мей и многие другие. Так это славнейшее произведение древнерусской письменности стало доступным широкому кругу читателей.А в черный 1812 год дом Мусина-Пушкина сгорел. Тогда погиб в огне список «Слова о полку Игореве». Разумеется, сейчас собрано достаточно научных доказательств, подтверждающих подлинность этого памятника русской литературы XII века, и можно не придавать значения попыткам обесславить его, выдавая «Слово о полку Игореве» за подделку XVIII века, и все же… каким величайшим благом было бы наличие этого единственного списка в наших хранилищах!
Для современного Разгуляя характерны фигуры студентов – их более всего, с портфелем в руке или папкой под мышкой, в торопливой толпе. В дверях института под стройным портиком всегда тесно: одни протискиваются внутрь, спасая свертки с чертежами высоко над головой, другие – наружу… Залов старого здания не хватает. К нему сзади пристроен обширный четырехэтажный корпус. Нет, отнюдь не гуляет на древнем Разгуляе нынешняя молодежь. Тысячи инженеров, разбросанных по далеким городам страны, будут всю жизнь помнить свою «альма матэр» на скрещении двух старых московских улиц с развеселым названием…
На известном «Мичуринском плане» Москвы 1739 года Новая Басманная значится в нынешних границах – от бывшей Красной, ныне Лермонтовской, площади до Разгуляя. И хотя раскинувшиеся тут прежде обширные огороды стали застраиваться усадьбами военных с конца XVII века, Новая Басманная превратилась в улицу знати позднее, во второй половине XVIII века, когда нахлынувшее из поместий дворянство захватило под свое жилье и эту улицу Москвы. Тут поселились князья Трубецкие, Голицыны, Куракины, граф Головкин, Нарышкины, Головины, Лопухины, Сухово-Кобылины и другие самые знатные фамилии России.
На этой улице и ныне по обе стороны старинные дома, правда, всего больше богатых особняков конца XIX и начала XX века, построенных наряду с доходными домами этого периода промышленниками и купцами на месте дворянских усадеб. Именно из остатков старинных парков составился Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана. Где-то в его пределах стоял дом, принадлежавший прежде Левашовой, а затем ставший собственностью некоего почетного гражданина Шульца, у которого во флигеле безвыездно прожил более двадцати пяти лет Петр Яковлевич Чаадаев, литератор и мыслитель, близкий друг Пушкина, человек, оставивший заметный след в истории русской мысли своими «Философическими письмами», вызвавшими примечательное распоряжение Николая I, повелевающее считать их автора невменяемым.
Именно здесь, во флигеле на Новой Басманной, Чаадаев и сочинил свои «Письма», по поводу которых Пушкин написал ему ответное письмо, содержащее поразительную по точности аргументации и верности патриотической позиции критику взглядов своего друга, чохом отметавшего положительные начала истории России и проглядевшего за фасадом казарменных николаевских порядков огромное значение русской культуры. Правда, узнав, что публикация «Писем» навлекла на Чаадаева крупные неприятности, Пушкин не стал отсылать ему свое письмо, полагая невозможным обрушиваться с критикой на человека, подвергшегося преследованию властей. Он написал П. А. Вяземскому, сославшись на Вальтера Скотта, что «ворон ворону глаз не выклюет». Но свое письмо он сохранил, оно дошло до нас, и я часто вспоминаю его строки, когда доводится знакомиться с превратным толкованием событий нашего прошлого или с предвзятой оценкой исторической роли ряда русских деятелей. Вот что писал Пушкин:
«…Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. (…) Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?.. У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения… (…) Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».
Чаадаев занимал во флигеле небольшую квартиру из трех комнат, в которой и принимал своих многочисленных гостей. Был он большим домоседом, никогда не ночевал вне дома – и любил беседовать с заезжими знаменитостями. Тут бывали: Лист, Берлиоз, Мериме, маркиз де Кюстин, печально известный своими мемуарами, не обегали его дома и отечественные звезды. Друзья Чаадаева, чтобы сделать ему приятное, как-то уговорили поехать к нему Гоголя, однако из этого приглашения получился конфуз. Гость повел себя донельзя странно: явившись в дом, Гоголь облюбовал удобное кресло и, продремав в нем весь вечер, не перемолвившись ни с кем ни одним словом, удалился. Салон Чаадаева был, впрочем, одним из самых посещаемых в Москве, о чем сохранился ряд свидетельств в мемуарах современников.
На той же стороне улицы, что и сад Баумана, находится больница его имени, прежде называвшаяся Басманной и пользовавшаяся широкой известностью у москвичей. История здания больницы возвращает нас к именам, уже нами названным. Строил его Казаков как жилой дом для внука Акинфия Никитича Демидова – Николая. Человек этот был сказочно богат, о чем может дать представление неполный перечень сделанных им разновременно пожертвований на общественные нужды.
Родившись в 1773 году, Николай Демидов начал свою службу на флоте в должности адъютанта Потемкина. У нас нет сведений о его достоинствах морского офицера, однако российскому флоту он, несомненно, принес пользу, построив на свои средства фрегат. В 1807 году он отдал свой дом Гатчинскому сиротскому институту. В 1812 году содержал на свои средства Демидовский полк. В 1813 году передал утратившему все свои коллекции и библиотеку Московскому университету богатейшие демидовские собрания и коллекции; тогда же соорудил четыре чугунных моста в Петербурге. В 1819 году пожертвовал сто тысяч рублей на инвалидов, в 1824-м – пятьдесят тысяч рублей беднейшему населению столицы, пострадавшему от наводнения. В 1825 году, за три года до смерти, отдал свой дом на Новой Басманной под «Дом трудолюбия» и сто тысяч рублей на его содержание. Несмотря на значительность демидовских пожертвований, я полагаю, что они нимало не отягощали его бюджет. Приведу лишь одну цифру: чистый доход дяди Николая Демидова – Анатолия Никитича – достигал двух миллионов рублей в год!
Неподалеку от больницы, против Бабушкина переулка, стоит дом, столько раз перекраивавшийся и надстраивавшийся, что сейчас и угадать невозможно, как он первоначально выглядел, хотя имеются сведения, что был он построен в XVIII веке и поражал современников величиной «цельных зеркальных окон». Ныне в нем отделение милиции, а до революции помещалась полицейская часть, в которой в 1876 году сидел арестованный Владимир Галактионович Короленко. Рядом с этим нелепым зданием – деревянный особняк, сохранивший благородные черты ампира: целы фронтон, гипсовая лепнина, декор оконных проемов. Он принадлежал Денисьевой, матери братьев Перовских, прижитых ею от графа Алексея Кирилловича Разумовского. Фамилия Перовских и позднее графский титул были присвоены потомству Разумовского по названию одного из его имений: «Перово». Два сына его – Лев и Василий – были декабристами, Алексей – писателем, печатавшимся под псевдонимом Погорельского, наконец, Василий Перовский был губернатором в Оренбурге, и у него – своего давнего приятеля – жил и пользовался его содействием Пушкин, когда собирал в Оренбургском крае материалы для «Истории пугачевского бунта». К той же семье Перовских принадлежала и Софья Перовская, член террористической организации «Народная воля», казненная по делу «первомартовцев».
Запасной дворец был построен по приказу Елизаветы Петровны на месте старых провиантских складов, дважды перестраивался (позже Министерство путей сообщения)
Имя позднейшей владелицы дома Е.А. Денисьевой тесно связано со славой русского Парнаса: именно к ней обращено проникновенное стихотворение Тютчева «Последняя любовь»; ее смерти он посвятил одно из самых ценимых Толстым стихотворений – «Весь день она лежала в забытьи». Специально занимавшимся историей денисьевского дома известным исследователем московской старины писателем В. Н. Осокиным было установлено, что тут в свои приезды в Москву бывал Ф. И. Тютчев. Гостил здесь мальчиком и А. К. Толстой. Словом, вполне оправданы заботы Московского отделения Общества охраны памятников истории и культуры сохранить этот дом, связанный с именами, оставившими глубокий след в народной памяти.
Заслуживает упоминания еще один старинный дом на Новой Басманной, построенный в первой половине XVIII века. Он дошел до нас в неперестроенном виде, и по-прежнему с фронтона его горделиво смотрит на улицу массивный герб со всеми геральдическими атрибутами. Он принадлежал знатнейшей особе, русскому послу во Франции, обер-шталмейстеру, тайному советнику, действительному камергеру и кавалеру князю Александру Борисовичу Куракину, прозванному за богатство и усыпанные драгоценностями кафтаны «бриллиантовым» князем. Вельможа этот оставил по себе память тем, что учредил в 1742 году первую в России богадельню на двести человек, а девять лет спустя отдал под нее свой дом на Новой Басманной и капитал на ее содержание. К дому принадлежали дошедшие до нас флигели и церковь. Куракинская богадельня просуществовала вплоть до революции, находясь уже в ведении городской управы.
От начала XVIII века уцелела на Новой Басманной и церковь Петра и Павла, построенная в 1705 – 1723 годах. Известно, что Петр сам сделал рисунок и чертежи этой церкви и повелел сооружать ее в годы, когда было запрещено возводить где-либо в России каменное строение и всех каменщиков сгоняли на постройку Петербурга. Почему Петр так заботился именно об этой церкви – не ясно, но он не только сделал для нее исключение из указа, изданного им самим, но еще и отпустил на постройку две тысячи рублей из собственных средств.
Рассказ о Басманных я заключу несколькими штрихами биографии одного видного деятеля XVIII века – Михаила Матвеевича Хераскова, долгое время жившего на Новой Басманной в домах, давно исчезнувших: сначала в собственном доме (№ 21), сгоревшем в 1812 году, а затем у своего сводного брата – князя Н. И. Трубецкого (дом № 29). Ныне Хераскова почти не помнят, разве отчасти знают как баснописца, автора басни «Осел-хвастун», да, пожалуй, еще слышали о «Россиаде» – длиннейшей эпической поэме на сюжет покорения Казанского царства, которое Херасков, кстати, спутал с Золотой Ордой и потому отождествил падение Казани с освобождением Руси от татарского ига. Между тем этот человек оказал выдающиеся услуги делу просвещения.
Михаил Матвеевич Херасков родился в 1733 году и, по обычаю дворянских семей того времени, был отдан в шляхетский корпус – он происходил из знатной валашской семьи Хереско, – но затем рано бросил Петербург и переехал служить в Московский университет, где ведал типографией в должности университетского асессора. По службе ему помогал отчим, князь Трубецкой, за которого вышла, овдовев, мать его, известная красавица, воспетая Сумароковым. Уже в тридцать лет Хераскова назначили директором университета, в котором он упорно и последовательно вел борьбу за внедрение в его обиход русского языка. В 1778 году он становится куратором и, пользуясь своим положением, устраивает переезд Н. И.Новикова, с которым его связывали давнишние отношения еще по Петербургу, в Москву и отдает ему в аренду университетскую типографию, книжную лавку и издание «Московских ведомостей», а затем всячески способствует его просветительской деятельности. Херасков добился чтения лекций на русском языке, учредил пансион при университете, открыл педагогический институт, издавал журналы «Невинное упражнение» и «Свободные часы» и сам в них сотрудничал.
Любопытно отметить, что успеху университетской карьеры Хераскова способствовала Екатерина, благоволившая баснописцу за его участие в устройстве знаменитых коронационных торжеств в Москве в 1763 году, красноречиво названных «торжеством Минервы». Грандиозный уличный маскарад было поручено организовать актеру Федору Волкову и Хераскову, причем участие в нем последнего выразилось главным образом в сочинении куплетов, вложенных в уста сатирических масок, изображавших Взятколюба, Кривосуда, Обдиралова и других персонажей, характерных для российской действительности того времени. В куплетах высмеивался двор, обличались пороки вельмож, всевозможные недостатки. Стишки Хераскова настолько полюбились москвичам, что, по свидетельству мемуариста, их распевали долгое время после празднеств. Он, правда, не сообщает, насколько они пришлись по вкусу Екатерине и ее приближенным, однако, если судить по милостям, оказанным устроителям «торжества Минервы», императрица осталась довольна, справедливо заключив, что поносились в куплетах кто угодно, только не она – всемудрая Минерва!
Шествие с мифологическими персонажами, сатирическими масками, хорами, музыкой, аллегорическими сценами двигалось от центра города по Мясницкой улице к Красным воротам, далее по Новой Басманной, поворачивало на Старую Басманную и возвращалось к Кремлю по Покровке и Маросейке при огромном стечении публики – город мог убедиться, что, если богиня и торжествует, трон ее поддерживают отнюдь не светлые гении…
Красные ворота и церковь Трех Святителей на бывшей Красной (Лермонтовской) площадиОтмечу, что, когда в конце царствования Екатерины начались преследования масонов и обрушилось гонение на Новикова, опала коснулась и Хераскова. Не припомнились ли постаревшей царице мерзкие хари шествия в честь Минервы и острые слова распеваемых ими куплетов, сочиненных куратором университета, подозрительно горячо ратующим о народном просвещении?..
Херасков умер в 1807 году в Москве, основательно забытый, сохранив, однако, почетную репутацию «патриарха современных поэтов».
Я смотрю на Лермонтовскую площадь и вижу на месте сквера против Министерства путей сообщения Сенной торг, заполненный крестьянскими возами, обывателей, приценивающихся к товару у мужиков в длинных армяках. Шумно, людно… Вдруг оживление стихает, и на площади становится тихо. Все оборачиваются в сторону ворот в Земляном Валу, торопливо обнажают голову. Оттуда показались всадники, вольно едущие со стороны Мясницкой. Впереди, на статной сивой лошади, маленькой под рослым седоком, едет царь Петр. Изменив обычай отцов, он выезжает за город из Кремля новой дорогой – по Мясницкой улице. И ездит он более не в село Преображенское, а в любезную ему Немецкую слободу.
Возле Сенного торга Петр останавливает лошадь и слезает. Тут находится лучшая австерия Москвы, и царь неизменно заходит сюда, чтобы на перепутье опорожнить чарку анисовой водки, которую торопится вынести ему навстречу трактирщик. Этому царю никаких путевых дворцов не требовалось – он всегда спешил.
Спешит и время…Красная Пресня«Солдатушки, бравы ребятушки…» Конь с места понесся вскачь, офицер выхватил шашку и, увлекая за собой строй угрюмых солдат, устремился на чернеющую поперек улицы цепочку рабочих. Те стоят плечом к плечу, чтобы не отступить перед натиском… Над молчаливыми домами словно повисла зловещая тишина, и чудятся багровые отсветы вспыхнувших вокруг пожаров… Пылает подожженная снарядами Пресня.
Эта картина Валентина Серова всегда встает перед глазами, когда слышишь о Пресне или попадаешь в этот район, некогда арену ожесточенной схватки пролетариата Москвы с самодержавием, громкие отзвуки которой прокатились по всей России, говоря о близком крушении старых порядков. Героическая история Московского восстания, перегородивших Пресню баррикад, сопротивления брошенным на его подавление лучшим полкам императорской гвардии – все это, отдаленное более чем тремя четвертями века, уже перестало быть живой историей, живыми событиями – очевидцами которых являлись наши современники; теперь нужны вещественные свидетели тех дней, чтобы полнее представить себе их истинное значение и обстановку, в которой они происходили. Бродя по улицам и переулочкам старой Пресни, вглядываясь в фасады домов, уцелевших от начала века, лучше понимаешь, какие мужество и одушевление понадобились безвестным рабочим и жителям этого района, чтобы отважиться на единоборство с вооруженной до зубов властью…
Я вновь обращаюсь к серовской картине, проникнутой трагедией самоотверженной борьбы пресненцев против беспощадной решимости защитников поколебленной царской власти, с бешенством отчаяния бросившихся на возникший перед ними призрак грядущего поражения…
На Большевистской улице Краснопресненского района, в доме под № 4, размещен историко-революционный музей «Красная Пресня». Этот неказистый одноэтажный деревянный домик выбран не случайно: в нем в октябре 1917 года помещался военно-революционный комитет Пресненской части, руководивший восстанием в этом районе города.
Экспонаты музея рассказывают посетителям о знаменитой массовой демонстрации рабочих Пресни 10 декабря 1905 года, которую возглавили две девушки – ткачихи Прохоровской мануфактуры Мария Козырева и Александра Быкова (Морозова). Современница – работница фабрики – так описывает этот день: «Казаки скакали вперед с офицером во главе, прямо на толпу, офицер уже командовал: «Бей их!»… Но в этот момент две девушки, несшие красное знамя с надписью: «Солдаты, не стреляйте в нас!» – вышли из толпы и встали перед всадниками. Казаки как будто остолбенели, опустили нагайки и… ни с места».
Баррикады на Пресне в 1905 году
Фотографии и документы подробно рассказывают о Николае Павловиче Шмите, студенте Московского университета и сыне владельца мебельной фабрики, ставшей главной цитаделью восстания. На фабрике в 1905 году возникла подпольная революционная организация, деятельным членом которой стал Николай Шмит. Он был непосредственным участником восстания. Известна трагическая судьба этого юноши. В ночь на 17 декабря 1907 года Николай был арестован у себя на квартире. В тюрьме, где он содержался четырнадцать месяцев, двадцатитрехлетний революционер был зверски умерщвлен черносотенцами. На месте мебельной фабрики Шмита, разбитой царскими артиллеристами, в ознаменование 15-летия восстания был сооружен обелиск, а в 1922 году весь район был переименован в Краснопресненский.
История этого старинного и своеобразного района Москвы начинается, однако, не с революции 1905 года, а насчитывает несколько веков, связана со славнейшими именами нашего прошлого и стоит того, чтобы мы шагнули в давно отошедшие эпохи и попытались воспроизвести отдельные штрихи и черточки, сообщающие неизъяснимое обаяние сохранившимся свидетельствам отцов наших и дедов.
Итак, до 1922 года нынешняя Красная Пресня называлась Большой Пресней. Еще в XII – XV веках она составляла часть Волоцкой дороги в Москву из Новгорода через Волоколамск. Ее начало пересекала река Пресня, имевшая в XVII – XIX веках пруды по обеим сторонам улицы. Из них сохранилось только два, находящихся за оградой Московского зоопарка.
История этих прудов уводит нас в седую древность. Уже в XIV веке река Пресня была перегорожена у устья плотиной и на ней стояла деревянная мельница, принадлежавшая владельцу обширных угодий села Кудрино серпуховскому князю Владимиру Андреевичу, прозванному Храбрым, герою Куликовской битвы. Эта мельница позднее перешла в ведение великокняжеского, а затем царского двора. Она просуществовала более четырехсот лет: не стало ее лишь в исходе XIX века. В 1682 году Мельничный пруд был подарен патриарху, и тот распорядился выкопать еще три пруда и завести в них рыбное хозяйство.
Река пересекала улицу Большую Пресню в самом начале, где-то против нынешнего павильона метро, проходя в старину – под деревянным, а с 1805 года – под каменным мостом. К югу от улицы тянулся «государев сад», ставший с конца XVII века патриаршим, а с северной стороны к ней примыкало дворцовое село Воскресенское. Замечу, что уже тогда на месте нынешнего зоопарка находился небольшой царский зверинец. Не знаю, тесно ли были размещены его питомцы – вероятнее всего, их держали, по тогдашнему обычаю, в глубоких ямах, – а вот про нынешний Московский зоопарк можно положительно сказать, что он, по малым своим размерам, скученности обитателей и тесноте, давно перестал отвечать масштабам столицы. Даже удивительно, что в Москве и Ленинграде, главных городах Российской Федерации, сохранились почти без изменений унаследованные от дореволюционного времени зоологические сады!
Пресненские пруды некогда пользовались большой известностью: с 1806 года здесь устраивались Пресненские гулянья. Самые пруды и земли вокруг были скуплены для города начальником Кремлевской экспедиции Валуевым, топкие берега укреплены, по ним разбиты аллеи и цветники. Дважды в неделю на прудах играла музыка. Средний пресненский пруд, занимавший всю площадь от нынешней Красной Пресни до моста 1905 года, был отведен для катания на лодках.
Такой взыскательный и избалованный красотами человек, как К.Н. Батюшков, живавший в Италии, писал о Пресненских прудах языком хвалебным. «Пруды украшают город, – читаем в его «Прогулке по Москве», – и делают прелестным гулянье. Там собираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки. Большое стечение экипажей со всех сторон обширного города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище из приятнейших. Здесь те же люди, что на булеваре (Тверском. – О.В. ), но с большею свободою».
С Пресненскими прудами связан любопытный обычай: еще в середине прошлого века московское купечество устраивало тут на Духов день смотр невест. На садовых скамейках чинно сидели насурмленные и накрахмаленные купеческие дочки, по аллее прохаживались кавалеры в длиннополых сюртуках с низкой талией, поглядывая на выставленный товар и, уж разумеется, справляясь у юрких свах, сновавших в толпе, о приданом, на какое может рассчитывать посватавшийся к приглянувшейся девице молодец…
Впрочем, и в более поздние годы, но уже не в начале лета, а зимой Пресненские пруды привлекали молодежь. Правда, барышни и кавалеры знакомились друг с другом уже без свах, а катаясь на коньках. О катке на Пресне рассказал в «Анне Карениной» Толстой.
В 1831 году можно было читать в московских газетах: «…на большом пруде устроен для желающих кататься катер. Пресненских прудов всего четыре, на последнем к Москве-реке находится мельница, принадлежащая Кремлевской экспедиции…»
Скупой на похвалы мемуарист Ф.Ф. Вигель посвятил Пресненским прудам восторженные строки: «…я жил поблизости, и случалось мне с товарищами проходить (раньше. – О.В. ) по топким и смрадным берегам запруженного ручья Пресня. Искусство умело здесь из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотами, через них прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошей железной решеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими прудами. С великим удовольствием был я на этом гулянье: оно и по сию пору (1830 г. – О.В. ) существует в прежнем виде, но почти оставлено посетителями».
Пресненские пруды в начале XIX века…Но неузнаваемо меняется на протяжении веков облик городских урочищ, и нам сейчас куда как трудно представить на месте той же станции метро «Краснопресненская» лоно вод «озеровидного пруда», бесследно исчезнувшую с лица земли речушку Пресню, ныне текущую где-то – если верить справочникам – в трубах, проложенных глубоко под асфальтом улиц Красной Пресни и Дружинниковской. Там, где тянулись нескончаемые царские сады, лениво вились тишайшие улочки с деревянными домиками и длинными заборами да ставились первые фабричонки, там ныне шумно, в напряженном темпе вершится современная городская жизнь и выросли на асфальтовом разливе плоские башни многоэтажных зданий. Следы прошлой Москвы стираются, исчезают прежние названия… Тем интереснее должно быть нынешнему горожанину, зачастую спешащему по своим делам мимо анонимных домов, примелькавшихся и не возбуждающих в нем никаких мыслей и чувств, вдруг обнаружить, что ходит он по любопытнейшим местам, хранящим память о громких делах или известных людях минувших времен… Как часто за немым фасадом обыденного здания оказывается исторический уголок старой Москвы. Для того, кто чуть любознателен и пытлив, московские улицы берегут неожиданные находки…
…Мчатся по Садовому кольцу потоки машин, и скапливаются у светофоров возле площади Восстания группы прохожих. Если стоять у выхода улицы Герцена на площадь, напротив высотного здания, за спиной окажется двухэтажный дом № 46, в котором жил Чайковский. Но не вид на густо-зеленый сквер, разбитый ныне у подножия здания со шпилями и башенками, взнесшими свою позолоту к небу, открывался композитору из его окон. Перед ним привычно белел непритязательный силуэт церкви Покрова на Кудрине, прихожанами которой были в свое время Грибоедов, чей дом на Новинском бульваре сохранился в сильно перестроенном виде поныне (вернее – заново воспроизведен в камне), и живший поблизости Кюхельбекер. Небоскреб возведен как раз на месте этой церкви. Зато незыблемо, как и ныне, тянулся вдоль площади массивный фасад дома с грузным дорическим портиком, выстроенного словно на тысячелетие – Институт усовершенствования врачей. Это здание в XVIII веке принадлежало генералу Глебову, затем перешло в казну и с 1811 года, вплоть до революции, было занято Вдовьим домом – богадельней для вдов и сирот военных и чиновников. Постройку Вдовьего дома приписывают Казакову, и доподлинно известно, что после пожара 1812 года его восстанавливал Дементий Жилярди. Примерно тогда же, в двадцатых годах, был надстроен второй этаж.
За институтом, если спускаться от площади по Красной Пресне, минуешь стоящие за ним старинные здания пожарного депо, потом идешь мимо большущего доходного дома, типичного для начала нашего века, и выходишь к небольшой площади перед входом в зоопарк. Вправо уходит Большая Грузинская улица…
Словно и нет вокруг ничего примечательного: фасады современных многоэтажных домов и в разрывах между ними – уходящие в глубь квартала застроенные дворы. В ряду их – здание Министерства геологии СССР. Можно пройти за его решетчатые ворота во двор и заглянуть в тыл министерства. Слева за оградой – добротный двухэтажный особняк музыкального училища с громадными проемами окон: за ними, несомненно, просторные комнаты и залы с высоченными потолками, в которых славно разносятся голоса и музыка. За этим особняком – длинный фасад одноэтажного дома, выстроенного по всем канонам барского уклада. Его отреставрировали лишь в самом конце семидесятых годов. До того он стоял запущенный и разоренный. И все же, несмотря на все изъяны, на безобразившие фасад ветхие, кое-как слепленные крылечки, обвалившуюся штукатурку, другие признаки отслужившего свой век здания, что-то не позволяло скользнуть по нему равнодушным взглядом и отвернуться с мыслью: почему не уберут окончательно эту развалину? С заколоченными окнами, давно оставленный жильцами, дом этот все же привлекал к себе внимание. Так бывает, когда в силуэте старого дома, в его пропорциях, остатках лепных украшений чувствуется рука мастера, угадывается произведение искусства.
Вдовий дом (Институт усовершенствования врачей) построен И.Д. Жилярди в 1775 годуТеперь, когда дому возвращен фронтон, восстановлен фриз благородного и скромного рисунка, стены расчертили четкие геометрические линии руста, величаво смотрят на улицу восстановленные окна, – одного взгляда достаточно, чтобы оценить высящийся перед тобой великолепный образец классического стиля…
Еще в XVIII веке, двести лет назад, этот дом выстроил для себя князь М. М. Щербатов, известный историк и публицист первоначального периода царствования Екатерины II. Щербатов участвовал в составлении знаменитого «Наказа о новом уложении», каким объявлялось о предстоящих пересмотре и изменении законов империи в духе передовых идей энциклопедистов… Вольномыслие и просветители были одно время в моде при русском дворе, Екатерина давала понять, что готова вводить либеральные реформы, пока пугачевская гроза не переполошила весь стан крепостников с царицей во главе: от вольномыслия и реформ остались изящная переписка с философами и игра в просвещенный абсолютизм. Щербатов, впрочем, занимал позицию русского Сен-Симона – мемуариста царствования Людовика XIV – и отстаивал привилегии крупных феодалов.
После Щербатова домом владели Толстые, Аксаковы, Бутлеровы. А в погожий осенний день 1859 года к нему подъезжал Владимир Иванович Даль, переселявшийся с многочисленной семьей из Нижнего Новгорода в Москву. Тогда со стороны Пресненских прудов открывался вид на щербатовский дом, колонны которого выглядывали из-за деревьев старых садов, покрывавших весь взгорок от Большой Грузинской улицы до Большой Садовой улицы.
Владимир Иванович Даль прожил большую, насыщенную событиями жизнь: искусный хирург, учившийся вместе со знаменитым Пироговым и до конца дней сохранивший с ним тесную дружбу, офицер русского флота, друг адмирала Нахимова, человек, коротко знавший Пушкина. К Далю были обращены последние слова смертельно раненного поэта…В свое время Даль был широко известным писателем: если мы теперь знаем лишь составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», то современники его зачитывались рассказами Казака Луганского (литературный псевдоним Даля), высоко оцененными Белинским. Даль родился в Луганске, где его отец был врачом.
Две дочери Даля, Ольга и Мария, были прекрасными пианистками и обучались у Николая Рубинштейна, основателя Московской консерватории.
В этом доме у Даля долгое время жил писатель П.И. Мельников (Андрей Печерский), написавший здесь роман «В лесах». Бывали тут и друзья хозяина – актер Щепкин, историк Михаил Погодин, другие профессора Московского университета, многочисленные почитатели, участливо и ревниво следившие за завершением труда всей его жизни – знаменитого «Толкового словаря». Его огромная ценность очерчивается все яснее и внушительнее по мере того, как отступает от нас то время: теперь только «у Даля» удается установить значение и корни иного вышедшего из употребления слова, верно понять происхождение забытых выражений, особенно местного характера или связанных с прежним крестьянским обиходом, промыслами и деревенскими обычаями. Кто не обращался к «Толковому словарю» в минуту сомнения, ведомую каждому, в ком последовательные реформы, которым русское правописание подверглось на протяжении нынешнего века, пошатнули уверенность в знании правильного словонаписания и падежных окончаний? И чем гуще будет зарастать – злаками ли, плевелами ли – добротная основа нашего языка, и чем равнодушнее мы, приученные низким уровнем современной «книжности», будем относиться к его обеднению и деградации, тем глубже и шире обнаружится непреходящая значимость труда Даля, призванного служить маяком и компасом многовековому пути развития русской речи.
Во дворе перед домом, в котором Даль прожил последние четырнадцать лет жизни, растет лиственница, посаженная знаменитым лексикографом. Ей наш последний взгляд, прежде чем покинуть двор и снова выйти на улицу с ободряющей мыслью: не бесплодны были хлопоты московской общественности, вот и осуществлена реставрация дома В.И. Даля! Теперь можно думать и о том, что со временем воплотится и идея разместить в этих стенах музей русской словесности или иное учреждение, которое бы увековечило память жившего здесь выдающегося деятеля России…
По узкой извилистой улице в один ряд бегут машины, с двух сторон ее – решетки зоопарка: это современная Большая Грузинская улица. Есть еще Малая Грузинская, да и весь район продолжают называть по старой памяти Грузинами. Название восходит к началу XVIII века. Вот несколько штрихов истории этих мест.
Каланча Пресненской пожарной части в начале XIX векаКак сказано выше, в XIV веке они принадлежали серпуховскому князю Владимиру Храброму, из великокняжеских рук перешли в царские, и старший брат Петра, Федор Алексеевич, облюбовавший себе здешнее село Воскресенское для проживания летом, важивал сюда будущего императора. Резиденция утопала в садах. По сохранившейся описи несколько более позднего времени – от 1700 года, – было в царском саду 65 гектаров, «а в том саду садового строения: 2400 яблоней, по местам на грядах, 560 прививков, 34 гряды кочен, 2500 кустов вишнягу, 112 гряд смородины красной… Садовники садят в том саду капусту, огурцы и иной летний овощ про себя и на продажу».
В 1711 году село Воскресенское без сада было пожаловано Рязанскому епископу, а в 1729 году перешло к грузинскому царю Вахтангу Левоновичу, отъехавшему в Россию с двумя сыновьями и свитой в три с лишним тысячи человек. (После неудачного похода Петра I в 1722 – 1723 годах против Персии, в котором Вахтанг VI принимал участие.) Петр II велел отпустить царю строительные материалы и пожаловал на обзаведение огромную по тому времени сумму в десять тысяч рублей. И вскоре возникли в Москве грузинские слободы. Дворец грузинского царя находился на Георгиевской площади, названной так по выстроенной тут царевичем Георгием в 1788 – 1800 годах церкви, целой и поныне. На месте исчезнувшего дворца стоит богатый особняк, в котором долгое время размещалось Постоянное представительство Грузинской ССР.
Церковь Георгия в Грузинах, построена в конце ХVIII векаС годами в отведенных грузинам слободах стали селиться посторонние и были понемногу отменены льготы, пожалованные первоначально грузинам (они были освобождены от постоя, не платили некоторых податей и так далее). Теперь только в названиях улиц сохранилась память об истории вступления Грузии в состав России.
Бывал в Грузинах и Пушкин.
В одном из Тишинских переулков он навещал душевнобольного поэта Константина Батюшкова, жившего в уединенном домике под присмотром врача. Пушкин очень любил Батюшкова, считал своим учителем, в лицейских стихотворениях часто подражал ему, называя «харит изнеженным любимцем… с венком из роз душистых, меж кудрей вьющихся, златых…». Больной поэт, однако, тогда уже не узнавал своего друга.
Не раз приезжал Пушкин к цыганам, которые издавна селились в Грузинах. Тогда было принято ездить слушать пенье веселыми компаниями. В одном письме Пушкин шутливо упоминает о «старом хрыче Илье» – это был известный в то время глава хора Илья Соколов, живший в Грузинах.
Как-то зимой, в один из своих приездов, Пушкин, придя к цыганам, забрался на лежанку. Цыганка Таня – знаменитая Татьяна Демьяновна, которую приезжала слушать гастролировавшая в Москве итальянская певица Каталани, подарившая ей на память шаль, – эта Таня пела поэту любимые им романсы, учила говорить по-цыгански, читала строки из поэмы «Цыганы»… Она и описала, как Пушкин послал в харчевню за блинами, потом ел сам и угощал ими ее сбежавшихся подруг: «…на лежанке сидит, на коленях – тарелка с блинами, смешной такой, ест и похваливает: нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал!..»
То были последние дни холостой жизни поэта. Но привлекали Пушкина на Пресне не только цыгане. Полюбил он ездить в бывшую Среднюю Пресню, переименованную в улицу Заморенова. Это была тихая малолюдная улица, застроенная скромными одноэтажными домиками, стоявшими в зелени садов и огородов, за палисадниками и оградами, в полудеревенской обстановке: тут кричали петухи и по утрам мычали коровы, выгоняемые по рожку пастуха, а по чердакам ворковали голуби…
Пусть эта сельская картинка не покажется нынешним москвичам маловероятной. Сын художника В.Д. Поленова, скончавшийся в восьмидесятилетнем возрасте в 1965 году, рассказывал автору этих строк, что в школьные свои годы, возвращаясь из гимназии домой, в Кисловский переулок, он обычно встречал коров, шедших с пастбища из-за заставы, и стоявших у ворот своих домов на Никитских улицах и в смежных переулках женщин, поджидавших своих буренок с ломтем посоленного хлеба в руке. То было на заре нашего века…
Средняя Пресня была и впрямь захолустной улицей. Упоминание находившейся там церкви Рождества Иоанна Предтечи значилось в документах 1685 года: «…за рекою Пресней на горе меж дворов новоселенных, из оброка живущих всяких чинов людей». В первой трети XVIII века тут стали селиться небогатые дворяне, отставной мелкий чиновный люд, позаботившийся о замене прежней деревянной церкви каменной (1714 – 1731).
Еще несколько лет назад был цел дом под № 16, который в пушкинские времена принадлежал вдове Ушаковой, матери двух дочерей – Екатерины и Елизаветы. Пушкин был представлен Ушаковым своим другом С. Д. Киселевым на балу в Дворянском собрании, поэт стал у них бывать, а потом и вовсе коротко сблизился с этой семьей.
Дом купца П.И. Щусева, собирателя русских древностей (Биологический музей им. К.Т. Тимирязева)Известен «Ушаковский альбом» со стихами и рисунками Пушкина, одно время увлекавшегося младшей – Елизаветой Ушаковой; поэт посвятил обеим сестрам несколько стихотворных посланий. Он писал из Петербурга Екатерине:
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.
В 1829 году Пушкин напоминал о себе Елизавете Ушаковой:
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал,
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.
Поле, упоминаемое Пушкиным, лежало в конце Средней Пресни, за Большим Трехгорным переулком. Его в те годы начинали застраивать и, очевидно, оградили забором, о котором сказано в стихотворении.
По улице Заморенова бегут машины, нет и в помине прежней тишины, и все же, если не торопясь пройтись по ней, внимательно присматриваясь кругом, кое-где можно обнаружить следы времени, когда тут бывал Пушкин. Особенно в конце ее, выходящем на Дружинниковскую улицу. Это отдельные деревянные особнячки со скромными притязаниями на принадлежность московскому ампиру – стилю, как известно, сделавшемуся едва ли не обязательным для всей дворянской Москвы первой трети прошлого века и настолько ей полюбившемуся, что тогда можно было встретить собачью конуру, украшенную колоннами с ионической капителью!
Вот облупившийся домик с колоннами миниатюрного портика, дальше эффектные полуциркульные проемы окон, симметрично расположенные по низкому фасаду, кое-где уцелевшие лепные украшения из гипса по обшитым тесом стенам, мезонины – все говорит о более чем вековой давности этих домов. Я вижу их новенькими и нарядными, со сверкающими свежим тесом крышами, веселыми красками оштукатуренных стен, белыми колоннами… Хозяйку в чепце с лентами и платье с оборками, поглядывающую на улицу со своего крыльца. Она непременно проследила за проехавшими дрожками: чего это зачастил к соседкам заезжий петербургский франт? Говорят, сочинитель какой-то…
Средняя Пресня упирается в Дружинниковскую улицу, названную так в память о боевой дружине фабрики Шмита, оборонявшей в 1905 году Пресню от семеновцев. Стоит напомнить, что в 1810 году жил на ней выдающийся врач Матвей Яковлевич Мудров (1776 – 1831), которого называют отцом русской терапевтической школы. В свое время его знала вся Москва, он был близок с Карамзиным, Жуковским, Александром Тургеневым, дружил с Чаадаевым. Его знания и популярность подтвердил Толстой, упомянув в «Войне и мире» его имя: «Мудров… лучше определил болезнь». Мудров умер в холерную эпидемию в Петербурге, заразившись от больного; на могиле его высечены слова: «Пал от оной жертвой своего усердия».
Целый обширный район Пресни занимали издавна владения Трехгорной мануфактуры, история которой тесно связана с развитием города. Ее основал в конце XVIII века пивовар из Хамовников Прохоров. В компании с купцом Рязановым они затеяли построить ситценабивную фабрику и купили для этого березовую рощу на Нижней Пресне «у Трех гор», пониже церкви Иоанна Предтечи, потом стали округлять свое приобретение. В дальнейшем мануфактура неуклонно разрасталась, и если в 1842 году на ней работало 500 человек, то к 1914 году она нанимала более 8000 рабочих. Выдающаяся роль рабочих Прохоровки в революции 1905 года повела к тому, что ее история хорошо исследована и описана.
Рассказ о временах, когда улицы Пресни и Грузины видели Пушкина, звучит сейчас, как старая легенда, но места эти связаны и с воспоминаниями об именах и годах, нам близких. Еще совсем недавно, в начале века, на Большой Пресне находилась много лет подряд мастерская известного скульптора С. Т. Коненкова. Другими словами, эта улица неотделима от истории русского искусства.
Сохранились снимки этой мастерской, откуда вышли знаменитые скульптуры, выставленные ныне во многих музеях, в которой побывало немало интересных людей. Вот несколько строк из воспоминаний Коненкова:
«Глубокая осень. Москва 1917 года… Умолкают последние залпы орудий с Ходынского поля по юнкерскому училищу на Арбатской площади.
Повсюду – музыка и пение: народ празднует победу. В мастерской на Пресне я открываю выставку… У входа в студию большое красное знамя.
В первый же день на выставке появился Есенин. Голубые глаза, живой вид, волосы цвета спелой ржи, сам стройный, походка легкая. Я стою и любуюсь им, и мне кажется, что мы знакомы давным-давно.
А народ валом валит в студию. Народ новый: взволнованный, интересующийся. Вся Пресня здесь. Целые фабрики пришли. Рассматривают, дают свои суждения, спрашивают.
Растроганный Сережа встает на стул, читает новые стихи:Звени, звени, златая Русь!
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь!
Но вот и над этим эпизодом пронеслось полстолетия, и оно стало достоянием истории, живет в письменных источниках, и мы благодарны мемуаристу, запечатлевшему какие-то грани облика любимого поэта. Так же думаем мы о тех, кто помогает сберечь память о прошлом и делах наших предшественников. Ныне на месте прежней Пресненской заставы открыта станция метро – бывшая Большая Пресня оказалась на обоих концах связанной с остальным городом нитями подземной дороги. Еще шире развернется строительство, и сюда распространятся оживление и многолюдство центральных улиц. Красная Пресня будет быстрее нынешнего утрачивать свое старое лицо, неотделимое от представлений о ее революционном прошлом и старомосковском быте. Тем важнее знать и хранить воспоминания последних свидетелей некогда вершившихся тут исторических событий.
ЗамоскворечьеТо, что Москва старинный город – с чертами последовательно наслаивавшихся столетий, запечатлившимися в облике улиц, их названиях, в характере застройки и планировки, сильнее всего ощущаешь, пожалуй, в Замоскворечье с его еще не совсем стершимся абрисом ушедшей жизни. Разумеется, очутившись за стенами Кремля, проникаешься величием и совершенством оставленных предками памятников искусства, постигаешь отразившийся в камне образ могущества и славы российской, но там не осязаешь потока никогда не пресекавшейся обыденной жизни, продолжаемой теперь и нами, – со времен, когда по той же Большой Ордынке скакали гонцы из ставки грозного золотоордынского хана или по ней отправлялись к нему на поклон русские князья и православные иерархи… В Замоскворечье до сих пор прослеживаются этапы преобразования и исторического развития России. Там следы Руси допетровской и по соседству Москва Островского и Москва Боборыкина, все это еще очень ощутимо, несмотря на вторжение нового времени. Замоскворечье и в нынешнем своем виде – интереснейший район для тех, кто не прочь, гуляя по городу, поразмышлять о переменчивой чреде лет, уносящей старые формы жизни, чтобы основать на их месте новые. И разумеется, для тех, кому любы образцы русского зодчества, открывающиеся в обрамлении городского пейзажа, близкого времени их постройки, да и тем, кому хочется освежить в памяти имена и события нашей истории.
«…К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за ней широкая долина, усыпанная домами и церквами, простирается до самой подошвы Поклонной горы…»
Эти написанные полтораста лет назад строки принадлежат Лермонтову, описавшему открывшийся ему с колокольни Ивана Великого вид на Замоскворечье. Ныне многочисленные церковные главки и колокольни уже не возвышаются над низенькими домами, тонущими в зелени садов, а если мы посмотрим откуда-нибудь с верхних этажей одного из высотных зданий, окруживших Кремль, то увидим силуэты современных плоских домов. Они теснят старую застройку, отгораживая от нас прежний, пленивший Лермонтова облик этой старинной части города. Неузнаваемо изменилось за истекшее время Замоскворечье… И все же узкие его улицы и угловатые переулки развертывают перед нынешним москвичом не одну страницу истории его родного города.
Правобережье реки Москвы против Кремля когда-то называлось Великим лугом и представляло отличные заливные покосы. Восточнее луга еще в конце XV века был разведен государев Красный сад и образовалась слобода, где жили садовники. Берег был овражистый, о чем и сейчас напоминает название улицы Балчуг, что по-татарски означает – грязь. У самой реки простиралось болото, на месте которого издавна находилась торговая площадь, где в XVI веке происходили кулачные бои. «Болеть» приезжал сюда, по преданию, Иван Грозный. А спустя два столетия, 10 января 1775 года, на Болотной площади были казнены Пугачев и Перфильев. Теперь она называется площадью Репина, на ней разбит благоустроенный сквер с памятником художнику. На запад от площади, где ныне улица Полянка, была низина, по-старинному дебрь, откуда название церкви Григория Неокесарийского, «что в дебрицах».
Низменное в основной своей части Замоскворечье на западе ограничивается взгорьями: Бабьим городком, о котором напоминает название Бабьегородской плотины, Васильевским (Нескучным садом) и далее Воробьевыми, ныне Ленинскими, горами.
До того как был прорыт канал, река часто затапливала Замоскворечье, и все же селиться тут стали рано. Об этом свидетельствует название сохранившейся церкви Иоанна Предтечи, «что под бором»: ставили ее, еще когда кремлевские холмы были покрыты сосновым лесом. Оседали вдоль торговых путей, сходившихся у переправы через реку.
В Замоскворечье проживали и мирные татары, приезжавшие в Москву торговать. Об этом свидетельствуют многочисленные сохранившиеся названия. Большая Ордынка – широкая, прямая улица, упиравшаяся прежде в реку, представляла начало дороги в Золотую Орду. Восточный район Замоскворечья поныне зовут Кожевниками: тут некогда находился Ногайский двор, где татары-ногаи еще в XV веке производили торг лошадьми и разными товарами, особенно кожами, которые здесь же и выделывали. Где кони – там и их покровители, святые Флор и Лавр: церковь этим святым стоит поныне невдалеке от Третьяковской галереи. Напоминает о татарском владычестве и Черниговский переулок, названный так в память замученного в XIII веке в Орде вместе со своим боярином князя Михаила Черниговского.
Открытое с юга Замоскворечье нуждалось в защите от нашествий с «поля» и рано опоясалось укреплениями. От них остались поныне монастыри-сторожи: Данилов, основанный в XIII веке, и более поздний – Донской.
Уже к XVII веку эта заречная часть города приобрела свое лицо, обзавелась постоянным населением. Здесь находились слободы, жители которых были связаны с обиходом царского двора. Так, середину замоскворецкой части Земляного города занимали «кадашевцы», ставившие ко двору холст и полотно. В районе этой богатой слободы было пять церквей. Далее лежали слободы царских монетчиков, огородников, садовников, толмачей-переводчиков, кузнецов, оставивших след в названиях улиц и переулков Замоскворечья. Отсюда и обилие замоскворецких церквей, не превзойденное никаким другим районом Москвы: слободы ремесленников были отделены друг от друга обширными пустырями, жили в них обособленно, у каждой был свой патрон и особо чтимый праздник, в честь которых воздвигался храм.
Другой элемент здешнего населения – посадские люди и торговцы, селившиеся в Замоскворечье по мере укрепления государства и уменьшения угрозы нападения: они строили здесь себе дома, оставляя в Китай-городе одни лавки.
Наконец, третьим, и очень важным, элементом были военные. В XVI веке Василий III поселил в Замоскворечье своих телохранителей, а Иван IV – новое войско – стрельцов. Позднее здесь расположились казачьи слободы. Стрельцы, как известно, в мирное время торговали и занимались ремеслами.
Многое повидало Замоскворечье на своем веку. Постоянные набеги татар, нашествия Литвы, а в Смутное время шайки поляков и казаков: все, кто зарился покорить или пограбить Москву, шли через Серпуховские ворота по Замоскворечью. Да и коренное население Замоскворечья отличалось беспокойным характером: в XVII веке тут был очаг мятежей и восстаний. Отсюда подымался народ московский, гостиные и черные сотни, отсюда начинались и стрелецкие бунты…
С правлением Петра характер населения Замоскворечья совершенно переменился: им были уничтожены стрелецкие полки, а перенесение столицы в Петербург разорвало связи с царским двором. Замоскворечье становится купеческим и постепенно превращается в глухое захолустье. Немногочисленные дворянские дома появились здесь лишь в исходе XVIII века.
Пожары и время давно унесли деревянные постройки слобод Замоскворечья, и от далеких веков до нас дошли одни церкви.
Некоторые из них – значительные памятники древнерусского зодчества. И все же рассказ о заречной части Москвы нельзя вести, не предварив его упоминанием о ее знаменитом уроженце и бытописателе. Наши представления о Замоскворечье, место его в системе исторических и живописных образов, какие каждый создает себе о минувших эпохах и людях прошлого на основе прочитанного, неотделимы от картин и характеров московского заречья, оставленных великим драматургом А. Н. Островским, как нельзя вспомнить Петербург тридцатых годов прошлого века без того, чтобы не возникли в памяти образы гоголевского мира. Пока не стерлось понятие «Замоскворечье», будут живы и строки о нем Островского: «У нас по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным. Мода – постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди, при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления: человек потерянный. Будь лучше пьяницей, да не одевайся по моде.
…У нас говорят: «…надо уметь одеться к лицу, что кому пристало». И одеваются к лицу. В костюмы своего изобретения. Например, зеленый плащ и белая фуражка без козырька или узенький фрак, до бесконечности широкие шаровары и соломенная шляпа.
…Вы увидите часто купца в костюме времен Грозного и рядом с ним супругу его, одетую по последней парижской картинке.
…В четыре часа (пополудни. – О.В. ) по всему Замоскворечью слышен ропот самоваров; Замоскворечье просыпается и потягивается.
…Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубахе для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам.
…Общества совершенно нет, в театр не ездят. Разве только на Святках да на Масленице… смотреть ездят: Русалку, Аскольдову могилу… Вот что еще замечательно, что водевиль, дающийся после пьесы, считается продолжением ее.
…Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит. Извозчика и не ищите».
Прожив в Замоскворечье значительную часть своей жизни, Островский знал его изнутри, ощущал суть сложившихся в нем нравов и понятий. Он родился в 1823 году «в церковном доме Покровской церкви, что в Голиках», находившемся в районе нынешних Монетных переулков. Спустя семнадцать лет, в 1840 году, отец будущего драматурга приобрел владение в Николоворобьинском переулке, названном так по церкви Николы на Воробьине, выстроенной стрельцами. Никаких гимназий в годы юности Островского в Замоскворечье, само собой, не было, и он учился в Первой московской гимназии, открытой еще при Екатерине. Она помещалась на Волхонке, улице, на которой впоследствии поселился Островский и прожил девять лет, вплоть до своей смерти 2 июня 1886 года.
Аполлон Григорьев писал в сороковых годах, что, где Островский, там и кружок. И действительно, кто только не перебывал у него в доме по Николоворобьинскому переулку! Писатели самых разных и подчас враждовавших направлений, музыканты, художники… Черта знаменательная – всех тянуло к Островскому. Его постоянными гостями были Достоевский и Толстой, Тургенев и Григорович, Писемский, Плещеев, Салтыков-Щедрин, Майков, Николай Рубинштейн и Чайковский, не говоря о соседях, с которыми он общался почти повседневно – Аполлоне Григорьеве и Фете, живших на Полянке. Что ж, если прибавить Толстого, поселившегося в 1857 году на Пятницкой улице, окажется, что Замоскворечье в середине прошлого века сделалось одним из средоточий литературной жизни Москвы, пришедшем на смену затухающим салонам аристократических улиц города.
Но разумеется, не присутствием и деятельностью видных и знаменитых писателей определялись лицо и уклад Замоскворечья, вылившиеся в устойчивые формы, которых перемены века касались лишь поверхностно, задевая внешность, а не существо. Приведу несколько строк из рассказа молодого Белинского о его первых московских впечатлениях. В них, разумеется, растерянность приезжего, привыкшего к патриархальным нравам своего пензенского захолустья, однако отдельные черты старой столицы, не поторопившейся раскрыть объятия перед оробевшим провинциалом, отмечены будущим критиком верно и интересны: «Везде разъединенность, особность; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее в Замоскворечье, этой чисто купеческой и мещанской части Москвы: там окна завешены занавесками, ворота – на запор, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или, лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду».
Это описание интересно сопоставить с тем, что говорилось о Замоскворечье спустя почти семьдесят лет в «Путеводителе по Москве» за 1913 год:
«Длинные деревянные заборы, бесконечные сады, ворота на запоре, за воротами псы, – деревянные дома на каменных фундаментах. Целый день, особенно в будни, ни проезжего, ни прохожего. Ворота заперты, окна закрыты, занавесы опущены…
…За воротами тихо и однообразно. В доме чистота в нежилых комнатах, где принимают гостей, и духота, неряшливость в жилых. Мебель тяжелая, красного дерева; в углу киот; на стенах часы с боем; в окошке клетка с канарейкой».И все же, если предрассудки оставались старыми, дома строили новые… После реформы 1861 года вместе с остальной Москвой меняется и внешний вид Замоскворечья, и жизненный уклад его обитателей. Сады вырубаются, деревянные домики уступают место богатым особнякам либо многоэтажным доходным домам. Исчезают понемногу и дореформенные типы Островского: картуз и старомодный цилиндр сменились котелками, долгополый сюртук – смокингом и визиткой, вместо сапогов бутылками появились американские щиблеты, вместо окладистых бород – бритые лица, или по-европейски подстриженные эспаньолки, или буланже. Ушли в прошлое и знаменитые купеческие выезды. Замоскворечье стало обзаводиться учебными заведениями, однако на правом берегу реки была основана лишь шестая по счету гимназия в Москве. Появилось и высшее учебное заведение – Коммерческий институт (впоследствии Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова), на который купцы не жалели денег, приглашая выдающихся профессоров и преподавателей.
Замоскворечье в старину тяготело к Большой Ордынке: самые пышные его церкви и богатые дома сосредоточены на этой улице и в прилегающих к ней переулках. Когда-то, до прорытия канала, Большая Ордынка выходила на реку против кремлевской Константино-Еленинской башни, и с улицы открывался вид на Кремль. Но его еще в прошлом веке загородило Софийское подворье – самое большое здание своего времени в Москве. Оно служило отчасти гостиницей, отчасти складским помещением и было построено откупщиком-миллионером Кокоревым. Отсюда и прозвание подворья – Кокоревка. Этот предприниматель – характерная фигура периода бурного развития капитализма в России. Родом из крестьян, он составил себе крупное состояние на винных откупах, был не чужд прогрессивных течений своего времени и оставил след в истории русской общественности. На обеде литераторов в Купеческом собрании 28 декабря 1857 года, устроенном по поводу высочайшего рескрипта Назимову, положившего начало освобождению крестьян от крепостной зависимости, Кокорев должен был произнести речь о необходимости свободного труда для успешного развития хозяйственной жизни России. Правда, выступить ему не удалось: «отец» Москвы граф Закревский, сановник старого закала, не мог допустить «митинга» и распространения либеральных идей, тем более позволить возвысить голос представителю третьего сословия, и он запретил Кокореву выступить. Речь его напечатал Катков в «Русском вестнике». Она произвела огромный эффект и была справедливо расценена, как смелый призыв покончить с закрепощением земледельцев.
В конце прошлого века Большая Ордынка была обстроена невзрачными домиками, в которых помещались мелкие лавки, трактиры, постоялые и извозчичьи дворы. В старину же весь район улицы принадлежал Кадашевской слободе и назывался Кадашами. Название далеко не ясное: существует догадка, что «кадаши» значит – бондари (от слова кадь, кадка), которые были поселены здесь, по соседству с садовниками и огородниками для надобностей царского Сытного двора. Такому толкованию противоречит свидетельство Г.К. Котошихина, писавшего в XVII веке, что Кадашевская слобода принадлежала приказу царицыной Мастерской палаты: кадашевцы были ткачами «белой казны», «хамовниками». У Каменного моста, построенного в 1658 – 1661 годах, стоял обширный каменный Кадашевский ткацкий двор.
В центре слободы высилась уцелевшая до сих пор изящнейшая из московских церквей – церковь Воскресения в Кадашах. В главных своих частях храм построен за время с 1657 по 1713 год при ревностном содействии богатейших московских гостей Добрыниных. В основе его традиционный московский пятиглавый храм XVII века, построенный «кораблем», с принятым здесь размещением пяти глав посредине и между сторонами основного креста. Но есть в нем и новые, типичные для конца XVII века барочные мотивы: вместо привычных кокошников – два ряда «петушиных гребешков» – фронтонов, поставленных один над другим. По-новому решен декор стен и окон. С трех сторон верхнего храма идет открытая терраса – гульбище. Позднейшие пристройки XVIII века в ложноготическом стиле несколько испортили церковь. Зато гармонически сливается с первоначальным храмом современная ему стройная колокольня. Сохраняя традицию шатра, колокольня эта, обработанная мотивами барокко, представляет собой ряд постепенно уменьшающихся кверху восьмигранных барабанов, поставленных один на другой. Некоторые архитекторы видят в этой «ярусности» влияние украинского барокко, как, впрочем, и в открытых гульбищах под звоном. Колокольня вместе с пятиглавым храмом составляет чарующую группу, особо выделявшуюся на фоне прежней панорамы Замоскворечья. Однако интерьер церкви, неоднократно поновлявшийся, считается малоинтересным. В летнем верхнем храме заслуживают упоминания богатый золоченый иконостас с резной лозой прекрасной работы, входная железная дверь.
Дом купца А.И. Долгова, родственника В.И. Баженова, на Большой Ордынке, построен в 1770-е годы, школа КазаковаВозле церкви, во 2-м Кадашевском переулке, стоит построенное на средства основателя Третьяковской галереи П.М. Третьякова «Убежище для вдов и сирот русских художников» с фасадом, отделанным по рисунку В.М. Васнецова. Замечу, что жители Замоскворечья, усердно воздвигая храмы, пеклись, пожалуй, не менее об учреждении всевозможных богаделен, приютов, домов призрения. Едва ли не все именитые коммерсанты заречных улиц содержали на свои средства какое-нибудь благотворительное учреждение. Были тут «Дамское попечительство о бедных», «Московское человеколюбивое общество» и другие филантропические организации. Если жертвователи в «Ведомство учреждений императрицы Марии» достигали наград, удовлетворявших их тщеславие, успешного продвижения по службе и иных вполне осязаемых благ, то частные благотворители в большинстве откупались своими взносами на «богоугодное» дело от окружавших их нищеты и общественных зол.
На Большой Ордынке стоит церковь Всех Скорбящих Радости, выдающийся памятник архитектуры и вещественное воплощение тщеславия замоскворецких тузов, не пожалевших средств, чтобы воздвигнуть нечто, способное поразить богатством убранства и царской роскошью. К строительству этой церкви были привлечены лучшие архитекторы Москвы. Основная часть ее, круглый летний храм Преображения Господня, построен во второй половине XVIII века. В 1783 – 1791 годах была воздвигнута по проекту Баженова совершенная по форме круглая классическая трехъярусная колокольня и трапезная с ионическими портиками. Позднее был приглашен Осип Бове. Ему принадлежит орнаментация храма, придавшая всему ансамблю ампирный характер. На куполе под крестом стоит: «1836 год», который принято считать датой окончания постройки.
Исключительно богато отделан круглый главный храм, трапезная украшена несколько скромнее. Внутрь храма входишь, как в дворцовый зал. По обе стороны центральной арки, ведущей в летнее помещение, мраморные, отделанные бронзой клиросы с двумя парами мраморных ангелов. С правой стороны от входа помещена хорошая фламандская картина – изображение Христа, несущего крест.
Арка ведет в летний храм. По круглому его периметру – торжественная колоннада с верхним светом; все нарядно и пышно необычайно. Великолепен иконостас, чугунные плиты пола образуют красивый рисунок… Все тут напоминает петербургские парадные храмы, и, находясь под куполом этой церкви, никак не представишь себе над ним московское небо.
Возле церкви выходит на Большую Ордынку Климентовский переулок с величественной церковью Климента, папы римского. Она построена в 1754 – 1774 годах учеником Растрелли архитектором А.П. Евлашевым, вполне в духе его знаменитого учителя. И вблизи, и издалека храм производит сильное впечатление своей спокойной уравновешенной громадой. Он, по старой московской традиции, о пяти главах, но обработан в новом духе. Богатые детали в стиле рококо, идущая по верху здания ажурная железная решетка, пышный декор окон верхнего этажа – все выполнено с большим вкусом и удивительно гармонирует с общим обликом храма. Очень хороша и церковная ограда, с вазами на столбах.
Климентовская церковь лучше всего смотрится с угла Пятницкой улицы. Она как бы «успокаивает» бывшую бойкую и шумную, несколько грязноватую торговую артерию Замоскворечья.
…Как я уже упоминал, Лев Толстой в 1857 году снимал квартиру на Пятницкой, в доме № 12. Именно в этом невзрачном, вросшем в землю, одноэтажном, торцом выходящем на улицу флигеле он писал «Казаков» и «Альберта». Здесь навещали его Островский и Фет, приезжал к нему сюда и Тургенев. Фет жил недалеко, в нескольких минутах ходьбы, в доме отца Аполлона Григорьева, на Полянке, 12. Об этом доме напоминают уцелевшие каким-то образом ворота, да знаем мы хорошо о нем по запискам современников, посещавших кружок Григорьева.
«…Гостеприимные двери А.А. Григорьева отворялись каждое воскресенье, – писал актер и писатель И.Ф. Горбунов в своих воспоминаниях, – шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения… А.Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа «Тысяча душ». За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т.И. Филиппова; ходенем ходила гитара в руках М.А. Стаховича; сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского».
На одном из таких вечеров Островский читал «Бедность – не порок». Думаю, что и сам хозяин с его разносторонней одаренностью придавал блеска и оживления своим вечерам. Если Аполлон Григорьев основательно забыт ныне, то современники очень хорошо знали этого талантливого и кипучего литератора, поэта и критика, писавшего всегда искренне и страстно, откликавшегося на волновавшие тогда русское общество споры и разногласия между славянофилами и западниками. В переписке Достоевского, Толстого, Тургенева и многих видных литераторов прошлого века неоднократно упоминаются статьи и очерки Григорьева, никогда не проходившие незамеченными. Его смолоду занимали вопросы истории, и он склонен был, вслед за декабристами, идеализировать древнюю новгородскую вольность. Ранние стихи Григорьева исполнены верой в ее возрождение – недаром он назвал одну из своих поэм «Одиссеей о последнем романтике». Приведу несколько его строк о вечевом колоколе:
Да, умер он, замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода,
И камни вопли издадут…
И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой…
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг…
Читая эту поэму, а также стихи Григорьева о Минине, я невольно думаю о героических страницах истории вскормившего поэта Замоскворечья. Должен же был он, родившись и прожив почти всю жизнь на Полянке, слышать местные предания и легенды, рассказ о том, как за двести с лишним лет до него, в 1612 году, в этих самых местах, точнее – в районе Климентовского переулка, стояли войска князя Пожарского, и именно здесь завязался бой с польскими интервентами, рвавшимися на выручку своих войск в осажденном Кремле. В решительный момент битвы Кузьма Минин с отрядом в пятьсот человек переправился через Москву-реку и внезапно напал на вражеский резерв, что и решило исход сражения: поляки отступили за Воробьевы горы. Несколько менее полутора столетий отделяло Григорьева от лихих «медных» и других московских бунтов, сотрясавших «мирное» царение «тишайшего», от залитых кровью попыток стрельцов отстоять старину. Все эти движения сплошь и рядом начинались в заречных слободах.
Дом поэта Аполлона Григорьева на ПолянкеНе текла ли в жилах этого неуемного русского человека, метавшегося всю жизнь в поисках какой-то недающейся «правды жизни», непоследовательного и противоречивого в проповедуемых и отстаиваемых им позициях (Тургенев говорил, что Григорьев, начиная писать, сам никогда не знает, чем он закончит), неудовлетворенного и, как многие его талантливые соотечественники, обманывавшего глубокий душевный разлад хмельным разгулом, не текла ли в нем кровь непокорных замоскворецких стрельцов? Стихи и критические работы Аполлона Григорьева известны ныне лишь в узком кругу специалистов и любителей забытой литературы, но кто не знает знаменитой «Цыганской венгерки»:
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли…
С детства памятный напев,
Старый друг мой – ты ли?
Или:
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Оба стихотворения, слившиеся по воле полюбивших их исполнителей в один романс, принадлежат Аполлону Григорьеву.
В этой части Замоскворечья что ни название – живая память о многовековом прошлом Москвы. Вот Кузнецкая улица, проложенная на месте старинной допетровской слободы, населенной царскими кузнецами. Интересно, что, по городской описи 1867 года, значилось в этом районе, принадлежавшем бывшей Серпуховской части, двадцать четыре кузницы, а предприятия кожевенной промышленности в Кожевниках существовали вплоть до революции. Ремесленники, раз осев где-нибудь, надолго определяли колорит места своего поселения.
Дом купца Коробова на Пятницкой близ Климентовского переулка, построен в конце ХVIII векаВ Климентовском переулке, возле Новокузнецкой улицы, стоит массивное старинное здание, в котором до революции помещалась частная женская гимназия. Прежде оно принадлежало известному железнодорожному подрядчику, купцу-миллионеру Петру Ионычу Губонину, яркому представителю складывавшегося в те годы сословия российских промышленных предпринимателей. Как и упомянутый мною Кокорев, Губонин пришел в Москву из деревни в лаптях и в артели таких же гонимых нуждою на заработки мужиков копал землю и возил тачку на постройке чугунки, как в поэме Некрасова или на картине Савицкого. Сметливый и грамотный мужичок Губонин скоро шагнул на ступень десятника, потом осуществил головокружительный подъем свой и сделался фигурой всероссийского масштаба.
Тут же неподалеку – Лужниковский переулок, названный так по старинному урочищу Лужники, луговой, открытой местности, где, по преданию, паслись коровы Марфы Ивановны, матери царя Михаила Федоровича. В этом переулке, по левой его стороне, вплоть до Староболвановского переулка и Пятницкой улицы, занимая целый квартал, тянулось огромное владение Третьякова, родича основателя галереи, с вековым липовым парком, оранжереями и службами. Этот Третьяков принадлежал к старинному московскому купечеству, но в нем словно уже иссякла кипучая предприимчивость, свойственная первым поколениям купеческих родов или деятелям новой формации вроде Кокорева и Губонина. В нем купеческий размах и традиционная привязанность к семейному делу уживались с тяготением к культуре и меценатству, с появившимися дворянскими повадками и потребностями. В его доме были повсюду развешаны образа и теплились лампады, постоянно совершались церковные службы, проживали всякие странники и «божьи люди», однако хозяин более всего увлекался коллекционированием и брался за всякие дела, смахивающие на барские прихоти. Он завел прекрасный сад, образцовый птичник, учредил в своем имении ферму с породистым молочным скотом и собрал коллекцию скрипок. Все это при жизни роздал по назначению: Обществу поощрения птицеводства, Обществу содействия сельскому хозяйству, свои бесценные скрипки завещал Московской консерватории.
Замоскворецкий дом Третьяковых представляет типичный барский особняк с флигелями и службами, свидетельствующими о том, что тут жили на широкую ногу. На монументальных воротах была укреплена дощечка с надписью: «Свободен от постоя» и рядом другая: «Дом потомственных дворян Третьяковых». Эти замоскворецкие купцы давно получили дворянство за свою деятельность на поприще промышленности.
На углу Лужниковского переулка и Пятницкой улицы стояла мемориальная церковь Живоначальной Троицы, «что в Больших Лужниках» или «в Вешняках». Ее в 1678 году поставили на свои средства стрельцы – головы, пятидесятники, десятники и рядовые приказа полковника Вешнякова, вернувшиеся домой после «осадного сидения» в Чигирине.
Упомяну и о другой стрелецкой церкви, сохранившейся поныне. Церковь Николы, «что в Пыжах», была построена в 1657 – 1670 годах стрельцами приказа полковника Пыжова. Кресты на церквах, воздвигнутых на стрелецкий кошт, по традиции увенчаны коронками. Никола в Пыжах – типичный храм середины XVII века. У него нет ни приделов, ни подклета, что позволяет отчетливо видеть простоту его плана. Трапезная и колокольня на одной оси, пятиглавый верх покрыт кокошниками вперебежку, однако играют они только декоративную роль. Тщательно и искусно выполнена кирпичная обработка стен, пышный карниз, строгие наличники.
В Большом Толмачевском переулке никак не пройдешь, не обратив внимания, мимо великолепной ограды с литыми вазами на чугунных столбах и кованой решетки сложного и стильного рисунка. За этой редкой по красоте и богатству высокой оградой – курдонер и дом с колоннами, выстроенный «покоем» в типичном классическом стиле XVIII века. Его некогда подарил своей дочери – графине Соллогуб – богач Демидов, владелец заводов на Урале: оттуда и чугунное литье решеток. До революции в доме помещалась частная женская гимназия.
Как указывает название переулка, здесь в старину жили царские толмачи. По соседству с ними помещался в XVII веке Монетный двор, память о котором – в названии ближайших переулков. Поодаль возвышается сказочно красивый храм Григория Неокесарийского, «что в дебрицах» или «при Полянке», построенный в 1662 – 1669 годах «из казны великого государя Алексея Михайловича», по настоянию его духовника Андрея Саввинова, бывшего ранее настоятелем здешней деревянной церкви.
Особенно украшает эту церковь «ценинное убранство» – пояс цветных изразцов XVII века. Сохранилась и древняя раскраска храма, характерная для той эпохи. Упомяну о горестной судьбе попика, порадевшего перед царем о своем бывшем приходском храме и добившегося от него средств, вопреки желанию патриарха, очевидно считавшего, что если уж сооружать церкви на средства царской казны, то только по его, патриарха, воле и указанию. По смерти Алексея Михайловича патриарх лишил сана Андрея Саввинова, оставшегося без покровителя, и заточил его в монастырь.
Эти заметки о некоторых наиболее выдающихся церквах Замоскворечья мне хочется заключить упоминанием о сохранившихся на Большой Ордынке постройках ансамбля Марфо-Мариинской обители, сооруженного в 1908 – 1912 годах по проекту архитектора А. В. Щусева, иначе говоря, принадлежащих новому времени. Этот полумонастырь или полублаготворительное дамское учреждение было основано Елизаветой Федоровной после смерти ее мужа, великого князя Сергия Александровича, убитого революционером Каляевым. Сделавшись членом русского царского дома и приняв православную веру, эта немецкая принцесса (сестра царицы Александры Федоровны) стала «более католиком, чем папа», и потому основываемая ею обитель должна была быть истинно русской, в придворном понимании этого определения, рассадником пресловутого «стиль рюсс» во всех смыслах… Вот и возникли на Большой Ордынке этакие декорации в былинно-билибинском духе. Арка главных ворот, кладка в старинном вкусе, звезда в кирпичной стене, навес над кружками для пожертвований, каменная тесаная скамья у входа – любая мелочь тут была призвана воспроизводить что-то виденное где-то в старинных памятниках русской архитектуры и переносить посетителей в идеализированную древнюю богомольную Русь. Прорезные фигурные четырехугольники в створках ворот позволяют бросить взгляд внутрь обширного двора, распланированного по мотивам пейзажей Нестерова. Тут и небольшой храм по подобию церкви Спаса «на бору», расписанный этим художником…
И неискушенному человеку очевидна разница между церковью подлинно старой русской архитектуры и копией с нее, снятой, несомненно, грамотно, даже талантливо, со знанием канонов древнего нашего зодчества, выполненной добросовестно и добротно, на основании изучения множества храмов и обителей Древней Руси, но лишенной одного из главных элементов полноценного произведения искусства: печати своего времени и оригинальности. Бывшая Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке – образец такой имитации, попытка воскресить архитектуру, отражавшую давно исчезнувшие из обихода современников простоту жизненного уклада, а главное – чистоту неискушенного религиозного чувства. Высокое искусство может быть только идейным, вдохновленным высокими идеалами: это верно и в отношении церковного зодчества. Все шедевры его относятся к эпохам непритупленного и сильного религиозного чувства, гасшего столь же быстро, как росло мирское – государственное и общественное – значение церкви, ставившей храмы все более грандиозные и пышные, однако бессильной оживить в сердцах веру.
Бывшая Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке, построена архитектором А.В. Щусевым в 1908 – 1912 годахЯ стараюсь себе представить, каким было Замоскворечье до нас, понять, чем именно прельщались видные деятели прошлого, поселяясь в лабиринте его улочек и тупиков. Мне, например, кажется, что переехавшего из Петербурга в Москву Н.И. Новикова побудили приобрести на Большой Ордынке дом и в нем поселиться укромность и тишина Замоскворечья; он нуждался в них для своих занятий и, быть может, негласных встреч с друзьями-масонами. А Тропинин, приехавший на склоне лет в Москву и облюбовавший себе на Малой Полянке дом, окруженный густым садом? Уж его-то наверняка привлекла живописность Замоскворечья, узорчатая его красота…
В самом деле: можно ли переоценить прелесть улиц, в которых тенистые деревья и сирень палисадников подчеркивают достоинства нарядных и стильных домов и милостиво скрадывают непривлекательные черты рядовой и убогой застройки? Улиц, что приводят к зубчатым стенам и башенкам сказочных городков-монастырей, за которыми лес золотых крестов и тонких прорезных шпилей колоколен, или открывают перед пораженным взором посетителя, остановившегося у монументальных белокаменных ворот, простые и величественные корпуса и флигели созданного Матвеем Казаковым ансамбля Павловской больницы? И на каждом шагу – церкви: львиная доля тех «сорока сороков», какие насчитывала Москва. И в каждой – по-своему понятый и воспринятый стиль эпохи, отражение индивидуальных вкусов и таланта архитектора. Один вложил всю душу в белокаменный декор, другой отверг соблазны лепнины и тесаного камня, увлекшись яркой игрой цветных изразцов, третий думал более всего о гармоническом силуэте здания, о стройных певучих пропорциях… И еще была забота – как поставить церковь выигрышно, чтобы украсилось ею место вокруг и не выбилась она при этом из общей градостроительной схемы Москвы. Замоскворечье, как и остальные районы Земляного и Белого города, было в подчинении у центра и служило как бы обрамлением, в котором должны были лучше смотреться главные, драгоценнейшие сооружения Москвы – Кремль с его соборами и теремами.
Тропинин поселился в Замоскворечье за два года до своей смерти, в 1855 году. Тогда с заречных улиц открывалась незагороженная панорама Покровского собора с башнями и куполами Кремля по одну сторону и с церквами и колокольнями улицы Варварки – по другую. Престарелый художник, вероятно, не раз сиживал у окна своего дома и любовался оттуда неповторимым видом стольного города великого народа, с блеском и размахом созданного русскими каменных дел мастерами – градостроителями Москвы.
В Замоскворечье селились художники и в более близкое к нам время. В конце прошлого века тут длительное время жил Н. В. Неврев, причем занимал, по воспоминаниям Гиляровского, «первый этаж дома, в котором находились квартиры извозчиков, битком набитые людьми. Во дворе всегда стояли извозчичьи сани, телеги, лошади… на дворе шум, гам».
Другой художник, современник Неврева, И.М. Прянишников, писал о Замоскворечье: «…где вы найдете в России такие типы – и мелкого торговца, и мелкого чиновника, и богатого купца… Иной раз невольно заглядишься не только на какую-либо типичную сцену на улице, но и на самую улицу, на характерную постройку и внешнюю особенность всех этих лавочек, заборов, всех этих кривых переулков, тупиков. Москва – клад… дает такой обильный материал, что художникам и пера и кисти есть над чем поработать».
Мы теперь не ищем, как передвижники или русские бытописатели прошлого, жанровых сцен на стогнах Замоскворечья: время стерло самобытные грани, привлекавшие художников. Ныне жанр, подсмотренный на Полянке или на Ордынке, неотличим от жанра Арбатских переулков или Преображенской заставы. Отвыкаем мы и от просторных городских панорам – современная высотная застройка все более преграждает взгляду обозрение широких видов. Заречье облачается в те же бетон, металл, стекло, что любой другой район Москвы. Камни ее, каждый из которых хранит, по словам Лермонтова, «надпись, начертанную историей», один за другим исчезают. Уже только вкраплениями, отдельными островками сохранились в ней «исторические древности и памятники», которыми, по свидетельству Белинского, гордилась Москва.
Тем дороже, думается, обнаруживать во властно и неотвратимо затапливающем историческую старую Москву приливе нового тут подлинный шедевр старой архитектуры, там достоверное памятное место, а там уголок городского пейзажа, воскрешающий обстановку давно исчезнувшей жизни, еще не стертые следы нашего прошлого.…Если выйти из метро на станции «Новокузнецкая» Горьковской линии – попадешь в самое сердце Замоскворечья. И отлично, что сразу, едва покинешь павильон, перед глазами на противоположной стороне улицы окажется превосходный старинный особняк в стиле ампир, со стройными колоннами, украшенными капителями, с симметрично расположенными окнами первого и цокольного этажей, со скромно декорированным фронтоном. Постройку дома приписывают архитектору Бове: может, это и так – достоинства его архитектуры неоспоримы. Однако суть не в авторстве: перед нами здание, несомненно украшающее улицу, придающее ей своеобразный колорит, характерное для целой блистательной эпохи русской архитектуры. Особняк александровского времени – и через улицу от него – павильон метро. За ним, чуть подальше, – еще один образец современной архитектуры в виде громадного здания Гостелерадио… И мы, имея все это в поле зрения, приглядываемся и задумываемся.
Пречистенка – КропоткинскаяЯркий весенний день с шумно и весело бегущими по оттаявшей земле ручьями, резкими синими тенями на осевших под белой стеной сугробами, и порывистый ветер, шелестящий в голых ветвях берез и доносящий оттуда – с колоколен и звонниц Кремля – беспорядочный праздничный колокольный перезвон.
На дороге возле ворот скопилась толпа. Золотом и серебром сверкают облачения многочисленного духовенства, важно и чинно стоят в длинных своих цветных шубах и высоких горлатных шапках бояре, степенные гости и купцы в бархатных кафтанах. Вокруг них опирающиеся на бердыши стрельцы в островерхих шапках, выстроились верховые в латах, с разукрашенным драгоценными камнями и насечкой оружием, тут и там оттеняют пестроту одежд черные мантии и клобуки монахов. Над головами реют хоругви и стяги, летают встревоженные грачи и галки. Из ворот все подваливает народ и становится вокруг молчаливой центральной группы. Все поглядывают на дорогу, откуда должны показаться вершники, и ждут…
Было это 30 апреля 1598 года. Депутация бояр, духовенства и торговых людей Москвы вышла с хлебом-солью навстречу избранному на царство Борису Годунову, ехавшему из Новодевичьего монастыря, куда он удалился после смерти царя Федора. Едва покажется царский поезд, грянут торжественные песнопения, могучий соборный протодьякон затянет громоподобное многолетие, и широко разнесутся окрест приветственные крики толпы, бряцание тяжелых кадил и нетерпеливое ржание застоявшихся коней…
Царя ждали на том самом месте, где ныне бегут, шурша шинами по асфальту, машины и сворачивают с Гоголевского бульвара на Кропоткинскую и Метростроевскую неповоротливые троллейбусы.
В исходе XVII века тут тек проворный и своенравный ручей, подмывая, «роя» свои берега, за что и был окрещен Чертороем. Он тек к Москве-реке вдоль нынешнего Гоголевского бульвара и там, где сейчас бассейн. От ручья круто в гору поднималась дорога, проложенная от Боровицких ворот Кремля к одной из крепостей, составлявших оборонительный пояс Москвы, – Новодевичьему монастырю – и пересекавшая на полпути стрелецкую слободу полковника Ивана Зубова: о ней и сейчас напоминают названия бульвара и площади.
Тянулась тогда вдоль Чертороя стена Белого города, с воротами как раз там, где ныне широкая площадка перед павильоном метро «Кропоткинская».
Ворота назывались Черторьскими или Чертольскими, а дорога Черторьем. Благочестивому царю Алексею Михайловичу такие названия показались столь неподобающими, что он повелел указом от 16 апреля 1658 года переименовать и то и другое по церкви Пречистой Богородицы Смоленской в Новодевичьем монастыре. И стали ворота и дорога, превратившаяся впоследствии в улицу, Пречистенскими. Эти названия продержались без малого три столетия, до 1921 года, когда улица и ворота стали называться по имени революционера-анархиста князя Петра Кропоткина, родившегося в одном из прилегающих к Пречистенке переулков. Всего любопытнее, что переименовались и не существующие двести лет ворота: мы и сейчас частенько говорим, что едем к Кропоткинским воротам! Людская память цепка… О строптивом ручье, давно заключенном в подземные трубы, напоминает название Чертольского переулка на Кропоткинской. Первые дома Пречистенки, служившей продолжением Волхонки, начинались там, где ныне Музей изобразительных искусств имени Пушкина. От расположенного тут прежде Колымажного двора, где стояли придворные кареты, возки и колымаги, не осталось и следа, а вот палаты князей Голицыных и Долгоруковых, сильно перестроенные, существуют и поныне в глубине переулка за музеем. В них размещаются научные учреждения. О былых масштабах княжеских усадеб красноречиво свидетельствуют выходящие на улицу каменные трехпролетные ворота в ограде бывшего голицынского владения.
Вероятно, не одним любителям исторических курьезов будет интересно узнать, что хоромы обоих соседей и примыкающий дом Лопухина были однажды объединены промежуточным сооружением – деревянным дворцом с церковью, галереей и множеством помещений.
…Московское начальство сбилось с ног. Надо было за считаные месяцы подготовиться к приезду императрицы, решившей праздновать в Москве заключение Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией. Торжества по этому поводу должны были затмить все, что когда-либо прежде праздновал пышный русский двор. Разумеется, замирение с Портой и сделанные в ходе войны приобретения стоили богатого праздника, однако Екатерина II преследовала и другие цели. И приезд ее с наследником – будущим императором Павлом I, и намеченные всенародные увеселения в сердце Российской державы были призваны заглушить отголоски восстания Пугачева, потрясшего крепостническую Россию и отозвавшегося во всем мире: надо было убедить европейских монархов и подданных империи, что по-прежнему незыблем самодержавный российский престол! Ведь шел тогда 1775 год, начавшийся с казни Пугачева…
Денег на торжества не жалели. На Ходынском поле был выстроен аллегорический город с бальными и тронным залами, театром, павильонами для приема послов. Искусники создали панораму Черного моря с всамделишными кораблями, инсценировавшими победоносные сражения с турецким флотом. Подготавливались грандиозные шествия, маскарады, пантомимы, фейерверки: празднества должны были продолжаться две недели – с 10 по 25 июля. Свидетелям смерти Пугачева на Болоте предстояло спустя семь месяцев убедиться своими глазами в мощи и недосягаемом великолепии самодержицы.
Но как быть с размещением гостей? Поселить прибывавший двор в Кремле было нельзя: дворцы его пришли в ветхость. Чинить же их не собирались из-за предстоящих работ по коренной перестройке всего Кремля, едва не осуществленной Екатериной по проектам Баженова, предлагавшего ни больше ни меньше, как срыть все строения и создать на их месте один грандиозный дворец с перистилями, наподобие нероновского. По счастью, проект вовремя был отвергнут.
Многочисленную свиту и челядь решили разместить по частным домам, расположенным поблизости от палат Голицына и Долгорукова, которые сняли для царицы. Однако тут же выяснилось, что для «пышной Екатерины» они тесны: ей, настроившей за свое правление больше дворцов, чем все ее предшественники и преемники на троне, взятые вместе, такие «квартиры» предлагать было нельзя… Тогда и приступили к постройке нового дворца.
Строился он наспех, по эскизам Казакова – на проект времени не было. Сей скороспелый Пречистенский дворец стоил огромных денег – более 70 000 рублей и был выстроен столь затейливо, что в письме к барону Гримму в Париж Екатерина не преминула позлословить над его архитектурой: «Вы хотите иметь план моему дому? Я вам пришлю его, но не легка штука опознаться в этом лабиринте. Я здесь пробыла два часа и не могла добиться того, чтобы безошибочно находить дверь своего кабинета, это торжество путаницы. В жизни я не видела столько дверей! Я уже полдюжины велела уничтожить, и все-таки их вдвое больше, чем требуется…»
Екатерина жаловалась, что вынуждена сидеть «между дверей и окна» и что поселили ее в грязном квартале с невероятным зловонием. По этому поводу уместно вспомнить о заботах Управы благочиния, заблаговременно принимавшей меры, чтобы упрятать от зорких глаз царицы и ее наперсников обычные грязь и запущенность – антисанитарное состояние, сказали бы мы сейчас – города. Приставам было предписано осмотреть и все церкви вокруг, включая церковь стоявшего поблизости женского Алексеевского монастыря, дабы проверить, содержатся ли в надлежащем благолепии и порядке храмы божии, а заодно и церковнослужителей: требовалось удостовериться, «какого они поведения по трезвости и благочинию». На всякий случай было приказано им «без нужды по улицам не бродить»!
Нечего и говорить, что обогреть эту громаду было трудно, и в холодную пору года люди во дворце коченели. Однако недовольство царицы не отразилось на судьбе строителя дворца: именно за Пречистенский дворец Матвею Казакову было присвоено звание архитектора.
Спустя три года после торжеств, в 1778 году, Пречистенский дворец разобрали и перевезли на Воробьевы горы, где воздвигли вновь на фундаменте, оставшемся от старых царских хором.
Ближе к бульвару, в Знаменском переулке, вторым от угла стоит старинный дом, занимаемый Министерством лесной промышленности, примечательный тем, что в нем в 1766 году было открыто первое в России Главное народное училище, новшество по тому времени чрезвычайное. Дом уступил казне прежний владелец князь Волконский. Об открытии училища, сильно занимавшем умы современников, сохранились любопытные записки.
Торжество возглавлял генерал-аншеф, сенатор и кавалер Петр Дмитриевич Еропкин, тогдашний главнокомандующий Москвы, любезный Екатерине расторопным усмирением чумного бунта. Предварительно «через Управу благочинья почтеннейшей публике было сообщено о новом сем опыте благотворительного и милосердного попечения о своих верноподданных Премудрой Самодержицы, Великой Екатерины, удивляющей вселенную предприятиями своей высочайшей воли», – пишет некий мемуарист и тем свидетельствует потомкам, что лесть и превозношение неотделимы от представления о властеносителях, лишь облачаются в слова и выражения, свойственные эпохе…
Архиепископ Платон выделил училищу – все по той же высочайшей воле! – двадцать семинаристов, учившихся риторике и философии; обучаться «изъявили желание малолетние разного звания – обоего пола 89 человек». Преосвященнейший Платон сказал соответствующее «сему знаменитому учреждению краткое, наполненное важностью слово», в котором подчеркнул, что «Монархиня открывает новый путь к блаженству через просвещение».
Заводчик действительный статский советник и кавалер Прокопий Акинфович Демидов поспешил внести на училище 5000 рублей серебром, памятуя, что нет вернее пути к милостям и почестям, чем пожертвование на дело, занимавшее в ту минуту Екатерину. Ему, кстати, нужно было заставить снисходительно отнестись к дошедшим до Петербурга сведениям о чудовищных злоупотреблениях и обмане казны на его Алтайских серебряных рудниках.
В 1804 году Александр I отдал дом под Московскую губернскую гимназию. Она просуществовала в нем под названием «Первая гимназия» вплоть до революции.
Однако эти дома, как и расположенный через улицу наискосок бассейн, уже не принадлежат нынешней Кропоткинской улице, а находятся на Волхонке, и я передал короткие о них сведения лишь в силу их чрезвычайной занимательности. Однако, прежде чем ступить на Кропоткинскую, следует, вероятно, сказать несколько слов об истории места, где стоял упомянутый мною вскользь Алексеевский женский монастырь. Его перенесли отсюда в Красное село в Сокольниках, а старую двухшатровую, оригинальной архитектуры, монастырскую церковь разобрали (это, увы, практиковалось не только в наше время!) в 1837 году, когда на этом месте закладывали памятник русским воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года, – храм Христа Спасителя. В строительстве его участвовали лучшие архитекторы (утвержден был проект К.А. Тона) и живописцы того времени, и обошелся он казне в пятнадцать миллионов рублей. Все делалось богато, на широкую ногу, из самых дорогих мраморов, гранитов и бронзы. Правда, пять куполов и кровли храма не были покрыты чистым золотом, как распространилась легенда, однако на позолоту медных листов обшивки действительно пошло более двадцати пудов драгоценного металла, пожертвованного московским купечеством.
Храм Христа Спасителя был грандиозным сооружением, со шлемовидным центральным куполом, по размерам мало уступающим Айя-Софийскому в Константинополе, высотою в сорок восемь с половиной сажень (около ста метров). По гладким стенам, разделенным лопатками, шел тщательно выполненный пояс горельефов, изображавших сцены русской истории, переплетенные с библейскими сюжетами. Две главные литые бронзовые двери весили восемьсот пудов каждая. Храм вмещал одновременно десять тысяч человек… Словом, все тут должно было быть величественнее, чем построенное когда-либо раньше. Добавим, что для храма было найдено очень удачное место – и стоял храм выигрышно над Москвой-рекой. И все же… Архитектура его была явным подражанием греко-византийским храмам, безнадежно, на мой взгляд, проигрывавшая при сопоставлении со своими прототипами древних веков, да и с любой церковью, построенной, «как велит время», а не «под старину»…
Храм Христа Спасителя – памятник русским воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года. Архитектор К.А. Тон. Строился с 1837 по 1883 год
Век храма оказался недолгим: выстроенный на столетия, он в законченном виде простоял немногим более полувека. Сооружение его заняло сорок пять лет и было окончено лишь в 1883 году, а в начале тридцатых годов храм Христа Спасителя был взорван, чтобы воздвигнуть на его месте Дворец Советов.
Но разработанный и готовый проект осуществлен не был: успели только подготовить котлован и главные опоры здания – началась война…
Вступая в район Кропоткинской улицы, прежней Пречистенской части Москвы, хочется напомнить, что он один из наиболее пострадавших в пожар 1812 года. Тут были уничтожены не только следы допетровской Москвы, но и город XVIII века. Сейчас несколько утрачено представление о том, какое разорение кроется за официальными цифрами убытков, понесенных городом. Из 9151 деревянного и каменного дома Москвы уцелело после пожара всего 2626, разбросанных по огромному пепелищу. Во всем квартале от Кропоткинской набережной до Арбата из 427 домов осталось 8! Обгорелые развалины, мертвые сады, погибшие в огне несметные богатства – мебель, картины, архивы, библиотеки, склады, полные товаров… Казалось, конец. Можно ли воспрянуть после такой погибели? Но случилось чудо: через пять лет, в 1817 году, в Москве насчитывалось больше домов, чем до пожара: город подымала вся Россия! «С нами, – писал вскоре после ухода французов профессор университета А. Ф. Мерзляков, поэт и переводчик, – совершаются чудеса божественные… Топор стучит, кровли наводятся, целые опустошенные переулки становятся по-прежнему застроенными…»
Уже в сезоны 1814 и 1815 годов в Москве было больше гуляний, балов, вечеров и прочих увеселений, чем в 1810 и 1811 годах… Потерявшие свои дома в городе владельцы не утратили своих крепостных в подмосковных. Оброк все так же собирался неукоснительно. В воззвании к крестьянам генерал-губернатор Ростопчин, предлагая им остерегаться неповиновения, напоминал, что «капитан-исправники и заседатели по-прежнему на месте…». Мужик, отложив рогатину партизана, снова надел ярмо барщины. И московские баре снова могли давать «балы нельзя богаче от Рождества и до поста», а чиновники «переходить к перу от карт и к картам от пера…».
На развилке Кропоткинской и Метростроевской улиц еще несколько лет назад стоял двухэтажный, неприметной архитектуры дом, с короткого рассказа о котором мне хочется начать эту прогулку в прошлое названных улиц – тогдашних Пречистенки и Остоженки. Вид его решительно не мог привлечь к себе внимания, разве великим количеством окон, как на подбор одинаковых. Владельцы его, видимо, мало заботились о красоте фасада, а растягивали свой двухэтажный дом по двум улицам, лишь бы настроить побольше помещений, отдаваемых внаем квартирантам, если судить по множеству крылец и входов со стороны двора. Дом принадлежал Лопухиным, и в нем проживал основатель «Союза благоденствия» Н. П. Лопухин. И еще вот почему нельзя не вспомнить об этом скучном и нескладном угловом доме – в нем находилась первая московская квартира Василия Ивановича Сурикова.
«Я как в Москву приехал, – писал художник, – прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись… решил «Стрельцов» писать. Задумал я их, еще когда в Петербург из Сибири ехал… Тогда еще красоту Москвы увидал. Памятники, площади – они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на живых людей, смотрел – расспрашивал их: «Вы видели, вы слышали, вы свидетели». Стены я допрашивал, а не книги».
Читая письма Сурикова, вспоминаешь слова Островского о Москве: «…через Москву вливается в Россию великорусская народная сила… которая через Москву создала государство Российское».
Дом ЛопухиныхМолодой красноярец, впервые попав в древнюю столицу, ходил как в угаре по Кремлю, Красной площади, возле древних церквей, видел паперти их, облепленные нищими, и толпу богомольцев у Иверской часовни, впитывал дух Москвы – всенародной святыни и возвращался, утомленный ходьбой и переживаниями, под вечер в этот дом, за одним из окон которого находилась снятая им квартира… Начав свою московскую жизнь под сенью храма Христа Спасителя, в украшении которого он принимал участие в конце семидесятых годов, Суриков и закончил ее поблизости – в доме против Музея изящных искусств, где, став знаменитым художником, снимал этаж и умер в 1916 году.
…Внушительная парадная дверь облеплена дощечками: «Советский славянский комитет», «Комитет защиты мира», «В защиту Вьетнама»… За ней стильная лестница с великолепными мраморными перилами вводит в Парадные покои дома (Кропоткинская, 8), некогда принадлежавшего Михаилу Федоровичу Орлову, генерал-майору, участнику войны 1812 и заграничных походов, принимавшему капитуляцию Парижа, известному своей видной ролью в «Союзе благоденствия». После событий на Сенатской площади он был привлечен к следствию, несколько месяцев содержался в Петропавловской крепости и – носить бы ему кандалы в Нерчинске или на Петровском заводе, не отнесись к нему снисходительно Николай I, справедливо приписывавший мужеству и преданности командира лейб-гвардии конного полка Алексею Орлову, брату декабриста, успешное подавление бунта Московского полка. Михаилу Федоровичу было запрещено на несколько лет проживание в обеих столицах – тем и ограничилась обрушившаяся на него кара!
Уже в 1831 году Михаил Орлов поселился в Москве, на Пречистенке. Герцен, знавший его в ту пору, записал о нем: «Бедный Орлов похож на льва в клетке. Везде стукался он о решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела… Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку».
Дом Орлова сильно перестроен и снаружи, и изнутри, но в тишине его прибранных зал и сейчас мерещится энергичная фигура изнывавшего от вынужденного безделья, обреченного на поднадзорную жизнь и ходившего тут из угла в угол или сидевшего за трактатом о финансах империи отставного генерала.
У Орлова собиралось многочисленное общество, бывали люди, имена которых памятны и нам. В бумагах Пушкина сохранились его заметки о знакомстве и встречах с Орловым. Михаил Орлов долгое время состоял одним из трех директоров художественного класса, который, зародившись как кружок любителей рисования, сделался, при энергической его поддержке и денежной помощи, Московской школой живописи. Орлов содействовал первым шагам Тропинина, которого он привлек к занятиям в художественном классе, преобразованном в 1843 году, через год после смерти Орлова, в Училище живописи, ваяния и зодчества, ставшее колыбелью многих русских художников второй половины XIX века.
Напротив дома Орлова высится колоннада тяжеловатого трехэтажного здания с барельефом в память событий октября 1917 года, когда красногвардейцы штурмовали помещавшийся здесь штаб Московского военного округа. Дом настолько перестроен, что в нем трудно признать роскошный особняк богача – владельца железоделательных заводов на Урале В.А. Всеволжского, отца Никиты Всеволжского, дружившего с Пушкиным и основавшего кружок «Зеленая лампа», напоминая о котором поэт писал «счастливому сыну пиров» о звучавших на его заседаниях речах:Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.
В начале прошлого века пользовались известностью и музыкальные вечера хлебосольного хозяина, на которых бывали все заезжие знаменитости. В 1812-м дом сгорел. Обгоревший его остов, с заколоченными проемами окон, простоял более полувека, пока в 1870 году не был куплен с торгов купцом Степановым. Новый хозяин оборудовал часть здания по улице для Яхт-клуба, а по переулку – под квартиры; с 1878 года здесь разместился Политехнический музей. Именно тут изобретатель П. Н. Яблочков произвел свои выдающиеся опыты, завершившиеся созданием электрической лампочки. Позднее дом перешел в военное ведомство.
На противоположной стороне улицы, несколько вверх по ней – Музей Пушкина, размещенный в одном из самых красивых домов Москвы. О нем как о создании Афанасия Григорьева я уже писал в очерке, посвященном этому архитектору, и здесь мне хочется сообщить лишь несколько дополнительных штрихов.
Дом имеет свою длинную историю. Он был построен вскоре после московского пожара, в 1817 году, гвардии прапорщиком Александром Петровичем Хрущевым на месте сгоревшей усадьбы князя Барятинского. От прежних построек сохранились до нашего времени длинный флигель по переулку, службы и остов дома. Новый владелец насадил сад с цветниками, куда вела двойная каменная лестница, существующая и сейчас, а угол ограды, отделявший владение от улицы и Чертольского переулка, украсил изящнейший павильон в стиле ампир. На месте входившей в ансамбль церкви Нерукотворного Спаса выстроена в наше время школа, сильно исказившая его общую композицию. Впритык к школе со стороны Чертольского переулка стоит небольшое здание с толстыми стенами и редкими крошечными проемами окон – это остатки жилых палат, воздвигнутых еще в XVII веке Салтыковыми. Сколько эпох прошло перед ними за эти триста лет! По ступеням крутой лестницы поднимались гости боярина, не то хозяин, стоя тут, глядел, насупившись, как съезжает со двора золоченая колымага с его женой, отправившейся на богомолье в сопровождении гайдуков и скороходов, а нынче на них резвится школьная детвора, не ведающая страха перед боярами и докуки длинных церковных служб…
В 1863 году дом купил богатый помещик, штабс-капитан Селезнев, потомки которого в 1910 году пожертвовали свое владение на Пречистенке московскому дворянству для устройства в нем детского приюта. Дом очень скоро пришел в запустение, карнизы пообвалились, ветшали портики и разрушались барельефы работы Витали. Отдельные помещения сдавались внаем под лавочки: в угловом павильоне открылось зонтичное заведение, хозяин которого пристроил к нему уродливое, обшитое тесом крыльцо, обезобразил фронтон вывеской. В печати того времени забили тревогу – город мог потерять одну из своих достопримечательностей… Положение осложнялось тем, что существовало высочайшее запрещение не только строить, но и ремонтировать деревянные дома в ряде московских кварталов, в том числе и на Пречистенке: город собирались таким путем сделать каменным…
Глядя, как великолепно реставрирован ныне бывший особняк господ Хрущевых, с удовлетворением думаешь об изжитых тревогах за этот шедевр московского зодчества. И еще о том, что его интерьеры – один другого красивее и изящнее – так гармонируют с занимающей помещения экспозицией музея: именно в таких залах храниться нетленной пушкинской традиции. Вещи поэта, документы эпохи, подлинные предметы его времени должны помочь нам и будущим поколениям верно представлять себе вольнолюбивый облик поэта, понять – как он мог любить Петра и одновременно ненавидеть произвол и непререкаемый авторитет единодержавной власти.
Церковь Спаса входила в ансамбль усадьбы Хрущевых-СелезневыхПочти напротив Музея Пушкина другой особняк архитектора Афанасия Григорьева стал сокровищницей, где собрано наследие Льва Николаевича Толстого. Пожалуй, дата открытия музея – 1920 год – наиболее знаменательная веха в истории дома, хоть и переменившего за свой дореволюционный век несколько владельцев – выстроенный Афанасием Григорьевым для Лопухина, он потом долгое время принадлежал некой г-же Станицкой, а затем, вплоть до 1917 года, Челнокову, – но не связанного с памятью о выдающихся людях и делах. Интересен и ценен он в качестве одного из совершеннейших образчиков московского позднего ампира.
Зато, следуя дальше по Кропоткинской в направлении Зубовской площади, встретишь один за другим дома, хранящие любопытные сведения о прошлом и связанные с известными именами. Пречистенка и прилегающие переулки издавна составляли районы, занятые усадьбами служилого боярства, здесь находились дворцовые слободы и дворы опричников, а к двадцатым годам прошлого века улица сделалась московским Сен-Жерменским предместьем, дворянской улицей, на которой жили не только те, кому, по меткому наблюдению В. А. Левшина, «делать более нечего, как свое богатство расточать, в карты играть, ходить из дома в дом», но и те, кто принадлежал к образованной части тогдашнего общества. Биография иных домов – своеобразная летопись Москвы.
Дом купчихи А.И. Коншиной, построен в 1816 году (Дом ученых)Вот хорошо известный москвичам Дом ученых со своими грустными львами на воротах. Немало раз перестраивался он – в последний раз уже и вовсе в недавнее время, – менял владельцев, горел, вновь возникал из руин, хорошел и приходил в упадок за те два с половиной столетия, что стоит он тут, на углу переулка, называвшегося прежде Мертвым – ныне Н. Островского. Переулок был проложен по соседству с «убогим домом» – моргом, на месте старинного кладбища, принадлежавшего церкви на Могильцах, – отсюда и мрачноватое название. Глядя ныне на Дом ученых, я стараюсь угадать, сохранились ли под поновлениями и переделками, определяемыми вкусами владельцев или модой, под вновь выкладывавшимися после пожара стенами старые кирпичи первоначальной кладки, камни, положенные в основание дома, под который расчищался участок леса или снимался плотный дерн луговины.
Первое сохранившееся в московских архивах известие об этом доме относится к 1731 году. Его владельцем был тогда генерал Сукин, однофамилец (или родственник?) будущего коменданта Петропавловской крепости генерала от инфантерии Александра Яковлевича Сукина, взысканного Николаем I за преданную службу по части содержания декабристов: умер он генерал-адъютантом, членом Государственного совета и сенатором. Жаловал этот царь подобных преданных служак!..
В 1751 году дом перешел к подполковнику Дашкову, а в конце века – московскому полицмейстеру Ивану Петровичу Архарову, от фамилии которого произошел незабытый по сие время нелестный эпитет «архаровец»: так прозвали подчиненных ретивого блюстителя порядка, отличавшихся грубым обращением и разбойными нравами. Не менее, чем распущенностью своих квартальных, Архаров прославился гостеприимством и задаваемыми им по воскресеньям балами, на которые съезжалась вся Москва. В 1812 году дом сгорел и был заново отстроен спустя четыре года новым владельцем Бахметьевым. Именно тогда он приобрел те общие внешние черты, которые сохранил и поныне. После Бахметьева тут доживал век важный генерал-майор Алексей Тимофеевич Тутомлин, продавший его в 1829 году Ивану Александровичу Нарышкину, обремененному тремя дочерьми, «непомерно гордыми и некрасивыми»: их в глаза называли тремя грациями, а за спиной – тремя парками. Московские хроники сохранили многочисленные отклики на наделавшую в свое время много шума дуэль сына Нарышкина с Толстым-Американцем, на которой Нарышкин был убит.
В следующие тридцать пять лет дом меняет еще трех владельцев: после Нарышкина он попадает в руки некоего отставного капитан-лейтенанта флота Мусина-Пушкина, от него к княгине Гагариной, от той к ее дочери Анне Владимировне Миклашевской. В 1865 году его наконец приобретает потомственная почетная гражданка верховажская купчиха Александра Ивановна Коншина. Она утверждается в нем прочно, настолько, что уже больше до революции дом не менял владельцев: он оставался в семье «сей известной благотворительницы-миллионерши», как писали о Коншиной дореволюционные путеводители. И звала уже Москва этот дом «коншинским». В 1908 году он был капитально перестроен и заново отделан изнутри архитектором Гунстом, в полном соответствии со вкусами буржуазии начала века: богато, добротно, в новейшем стиле модерн.
Через переулок от Дома ученых еще несколько лет назад стоял дом Елизаветы Петровны Яньковой, урожденной Римской-Корсаковой, состоявшей в родстве и свойстве со всей дворянской Москвой, свидетельницы жизни города на протяжении пяти поколений. «Рассказы моей бабушки», опубликованные ее внучатым племянником И.О. Благово, записывавшего их с ее слов, составляют интереснейший материал для историка и любителя старины, право, стоящий иных объемистых мемуаров или генеалогического свода! На глазах Яньковой оскудевало московское дворянство, о чем она красноречиво сокрушалась: «…живут в меблированных комнатах (эти слова относятся к пятидесятым годам XIX столетия. – О.В. ), по городу рыщут на извозчиках, едва наберешь по всей Москве десятка два карет с гербом, четверней; письма печатают незабудкой, а то облаткой – все пошло навыворот. Поднял бы наших стариков, дал бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы – на что она сейчас похожа! Да, обмелела Москва, измельчала жителями, хоть и много их!»
Рядом с Яньковой в начале прошлого века жил князь Хованский, театрал и поэт, державший шута Ивана Савельевича, известного всем москвичам своими чудачествами. Он изображался на лубочных картинках того времени – в женской юбке и шитом мундире, наряде, в котором не раз появлялся на гуляниях под Новинским. Этот Савельич на старости лет, после смерти хозяина, растузился, торгуя вразнос: нажил капиталец и приобрел собственный дом.
И в соседнем доме проживала, также попавшая в хроники, карлица-шутиха Матрешка, принадлежавшая графине Е.Ф. Орловой. Она садилась у ограды – насурмленная и в бальном платье – и хватала прохожих, требуя, чтобы с ней целовались. Рассказывают, что однажды, когда по Пречистенке проезжал Александр I со свитой, она громко приветствовала его по-французски: «Бонжур, мон шер!» Высланному к ней царем адъютанту она нашлась ответить: «Я орловская дура Матрешка!» – и будто бы получила за это от царя сто рублей на румяна. Подобные рассказы ярко рисуют московские нравы тех времен.
На противоположной стороне улицы тянулась ограда обширного парка с вековыми деревьями усадьбы Толмачева. Ныне там огромный доходный дом. Однако парк был вырублен по особому случаю, еще задолго до постройки дома. Австрийский посол князь Эстергази, приехавший в Москву на коронацию Александра II, снял дом Толмачева, чтобы дать в нем бал. Однако помещение оказалось тесным, и владелец разрешил вырубить сад для устройства шатра… за 15 000 рублей!
Широко известен не раз воспроизводившийся в разных изданиях эстамп начала XIX века, изображающий выезд пожарной команды Пречистенской части: дроги с бочками и рогатым насосом, тележки с пожарными, украшенными воинственного вида касками, скачущие во весь опор тонконогие кони, глазеющие вокруг обыватели и неизбежные на старинных гравюрах лающие псы – все это очень старательно выписано художником, имя которого осталось неизвестным. Воспроизведен и пейзаж улицы. Мы узнаем на эстампе дошедшее до нас здание Пожарного управления, мало перестроенное, но лишенное венчавшей его прежде каланчи. А рядом с «пожаркой», ближе к углу Мертвого переулка, видны колонны обширного барского дома – не дошедшего до нас. Он принадлежал генералу Алексею Петровичу Ермолову, знаменитому участнику Отечественной войны, герою Бородина и Кульма, бывшему в опале при Александре за резкую оппозицию иностранному засилью при дворе и у Николая – за независимый нрав и смелые суждения. Его наместничество на Кавказе было средством держать его подальше от столиц.Пречистенская пожарная часть в начале XIX века
Известно о дружеских отношениях Ермолова со многими декабристами, о надеждах, возлагаемых некоторыми из них на поддержку им восстания; как будто подтверждены факты предупреждения Ермоловым Грибоедова о предстоящем обыске, сочувственного его внимания к сосланным на Кавказ разжалованным офицерам, он высоко ценил Пушкина, однако подлинное лицо этого недюжинного русского человека, талантливого и умного, честолюбивого и властного, мне кажется еще не вполне раскрытым.
Дом Ермолова на Пречистенке строил Казаков, которому приписывают авторство и упомянутого здания Пожарного управления. Некогда оно также принадлежало родственникам Ермолова, но уже в 1835 году его приобрела казна, и отведено оно было под пожарное депо. В те времена пожарное депо было чем-то вроде показательной мастерской, где изготовляли нужный инвентарь и обучали присылаемых из губерний пожарных.
Тут кстати вспомнить, что «регулирование уличного движения» – не порождение автомобильного века. С быстрой ездой по городу боролись и предшественники современного ГАИ, однако методами, от которых приуныли бы наши автомобилисты, подчас сетующие на прокол в книжечке или полученную в обмен на полноценный рубль бесполезную квитанцию. В дореформенной Москве пожарные обозы укомплектовывались отчасти за счет лошадей, конфискованных у владельцев за быструю езду по улицам. Замечу, однако, что мера эта, отдающая духом павловских распоряжений (вроде приказа всем, попадающимся ему навстречу, в любую погоду и грязь выходить из экипажа для поклона или реверанса по придворному этикету или запрещения носить «круглые шляпы», олицетворяющие тлетворное влияние якобинцев), – «архаровская» эта мера довольно скоро изжилась сама собой. Как, впрочем, и монополия московского депо на изготовление пожарного инвентаря. Пооткрывались частные мастерские, из провинции стали присылать меньше рабочих, и депо сделалось пожарной командой Пречистенской части.
Под той же крышей помещалась и полицейская часть, в которой в 1834 году недолго находился под арестом Герцен, вскоре переведенный оттуда на гауптвахту Крутицких казарм.
Чуть наискосок от Пожарного управления, на противоположной стороне улицы, на углу Полуэктова переулка, вытянулся длинный, богатый, украшенный портиками, лоджиями и нишами для скульптур, фасад палат московского генерал-губернатора князя Долгорукова, построенный Казаковым в 1780 году. Позади дома был разбит сад с фонтанами и беседками, куда вели с улицы шесть арочных проемов, позднее заделанных, но заметных и по сие время. Сын владельца дома – Илья Долгоруков – был членом «Союза благоденствия», это о нем упомянул Пушкин:Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты (Всеволжского. – О.В. ),
У осторожного Ильи (Долгорукова. – О.В. ).
В долгоруковском доме очень долго, вплоть до революции, помещался Александро-Мариинский институт благородных девиц для обучения дочерей офицеров, военных чиновников и врачей, служивших в Московском военном округе.
Подальше, на углу Дурновского переулка, привлекает внимание эффектно декорированный дом с подъездом, обрамленным спаренными коринфскими колоннами, соединенными высокой аркой, отделенный от улиц курдонером. У дома лишь одно крыльцо, другое поглотили этажи доходного дома. Этот старинный богатый особняк принадлежал Гавриле Павловичу Бибикову, стяжавшему известность усмирением Пугачевского восстания и пользовавшемуся исключительным расположением Екатерины, бывавшей, кстати, у него в этом доме.
Крепостным этого вельможи, «в особливости щеголявшего своей музыкой», как пишет о нем современник, был известный в свое время и популярный в Москве музыкант и композитор Даниил Никитич Кашин (1773 – 1844), прозванный «соловьем русских песен». Бибиков рано отпустил его на волю, что создало Кашину благоприятные условия для занятия музыкой. Он слыл выдающимся пианистом и дирижером, занимался педагогической деятельностью и всю жизнь неутомимо собирал русские песни.
Сохранилось известие о двух концертах сезона 1798/99 года, в которых Кашин дирижировал двумястами музыкантами и хором из трехсот певцов. Будучи преподавателем музыки в университете, он издавал «Журнал отечественной музыки», писал романсы и патриотические кантаты. На события 1812 года Кашин откликнулся «Авангардной песней», посвященной Милорадовичу, и ораторией на слова Карамзина «Гремит ужасный гром». Ему принадлежит и опера на сюжет карамзинской «Натальи, боярской дочери». Однако ценнейшим делом его жизни было составление «Сборника народных русских песен», дошедшего и до нас. Этот труд был известен Гоголю, и – кто знает? – не навеяны ли отчасти знакомством с ним знаменитые строки об отечественных песнях. «Покажите мне народ, – писал Гоголь, – у которого бы больше было песен… Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни… пеленается, женится и хоронится русский человек».
В 1817 году дом Бибикова приобрел партизан Денис Давыдов. Должно быть, с налету, как и полагается лихому кавалеристу. Во всяком случае, уже через три года, обнаружив, что ему не по средствам содержать вельможные хоромы, он его продает, причем обращается к директору Комиссии для строения Москвы с шутливыми стихами:Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых.
Список этого стихотворения Давыдов послал Пушкину. Частым гостем партизана – пока он был хозяином «пречистенского дворца» и держал в нем открытый дом – был двоюродный брат его и сосед генерал Ермолов, многие видные писатели и поэты того времени. Позднее Давыдов жил на Пречистенском бульваре (ныне Гоголевском), где работал над военными записками героического 1812 года, в который он «врубил» свое имя. «Огромная мать Россия! – пишет Давыдов. – Изобилие средств ее дорого стоит уже многим народам, посягавшим на ее честь и существование, но не знают они еще всех слоев лавы, покоящихся на дне ее… Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется».
Переменив после Давыдова несколько владельцев, дом этот в исходе XIX века и вплоть до революции занимала частная женская гимназия Варвары Васильевны Арсеньевой (урожденной Бибиковой), жены видного тульского земского деятеля врача Александра Николаевича Арсеньева, исключенного дворянством его губернии из своих рядов за революционные взгляды и неподобающее дворянину и помещику сочувствие крайним антимонархическим течениям. Гимназия прославилась в Москве демократическими порядками.
Дом, непосредственно примыкающий к долгоруковскому, был в 1889 году приобретен одним из основателей знаменитых Морозовских мануфактур Абрамом Морозовым у тогдашней его владелицы Сушковой, дамы, ничем не прославившейся, кроме своего несколько странного замужества: влюбившись в Италии в уличного парикмахера, она купила ему графский титул, после чего сочла возможным с ним обвенчаться и стала графиней Грациани. Мне кажется интересным попутно упомянуть и о давнишней владелице этого дома – С.П. Потемкиной, сестре декабриста Трубецкого и посаженой матери Пушкина на его свадьбе.Когда Потемкину в потемках
Я на Пречистенке найду,
То пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду, —
написал поэт после того, как долго проплутал по плохо освещенным улицам, разыскивая дом Потемкиной.
Вторжение Морозовых и Коншиных на Пречистенку – знамение времени: российские заводчики и коммерсанты теснят и сталкивают со своего пути дворянство, оскудевшее к тому времени не только средствами, но и дарованиями и умами. Отныне меценаты уже не Всеволжские и Виельгорские, а Морозовы, Третьяковы и Мамонтовы. Они обычно внуки или сыновья – что реже – основателей династий русских миллионщиков.
Сыновья Абрама Морозова (Михаил и Иван) коллекционировали картины, оказывали покровительство художникам. Унаследовав от отца дом на Пречистенке, Иван Абрамович Морозов открывает в 1899 году в нем галерею французской живописи. Доступ свободен – москвичи и приезжие знакомятся с одним из самых полных в мире собраний французской живописи последней трети XIX века. Отмечу, что другой известный русский коллекционер П.И. Щукин, позднее переехавший в Грузины и выставивший там свое собрание картин Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Матисса и других французских современных живописцев, составившее впоследствии, вкупе с морозовским, богатейшую экспозицию Эрмитажа, начинал свою собирательскую деятельность тоже на Пречистенке, неподалеку от Морозова, но несколько раньше его, в не сохранившемся ныне доме № 13.
Вдумываясь в обстоятельства, при которых составлялись эти коллекции, невольно удивляешься художественному прозрению людей, умевших угадать великое искусство в живописи непризнанных, осмеянных и бедствовавших художников в те годы, когда во Франции владычествовали Винтергальтер и Мейссонье и мерилом прекрасного был успех в «Парижском салоне»! Морозов и Щукин покупали картины Сезанна, Гогена и Матисса, объявленных соотечественниками шизофрениками и шарлатанами.
После 1917 года в доме Морозова был создан Музей Западной живописи, а ныне в нем помещается Академия художеств.
Упомянув в начале очерка о связях Сурикова с Пречистенкой, я хочу напомнить и о других художниках, проживавших на этой улице. В доме № 10 недолго жил в меблированных комнатах Левитан, два года – с 1898-го по 1900-й – снимал квартиру в доме № 38 Валентин Серов. Одновременно с ним и едва ли не напротив его квартиры жил на Пречистенке Врубель, создавший именно в этот период «Пана» и «Царевну-лебедь». Его квартиру в доме на углу Зубовского бульвара, принадлежавшем купцу Шакеразину, неоднократно посещал Н.А. Римский-Корсаков: в его опере «Царская невеста», поставленной С.И. Мамонтовым, пела Н.И. Забела – жена художника. Композитор считал ее непревзойденной исполнительницей некоторых партий своих опер, Врубель писал для них декорации. Художник признавал доброе влияние Римского-Корсакова, приохотившего его к русским сказочным сюжетам. Расписывая обновляемый после пожара театр Солодовникова (ныне Театр оперетты), Врубель написал на плафоне Леля. «Демона поверженного» он называл московской работой. Впрочем, и без признаний художника очевидно, насколько глубоко отразилось на его работах влияние Москвы, художественной атмосферы города, не утратившего обаяния и поэзии древней архитектуры и живописи. Думаю, что именно это помогло Врубелю с такой силой художественного воплощения передать в своих картинах поэзию и очарование преданий и истории русского народа.…Заканчивая свой беглый рассказ о Кропоткинской, я вижу, что далеко не исчерпал все примечательное, что можно было бы сообщить о проживавших по ней видных деятелях прошлого – декабристах, художниках, ученых, литераторах, философах, старинных чудаках – и случившихся здесь курьезах. Не говоря о смежных переулках, каждый из которых может рассказать об Аксаковых и Нащокине, Герцене и Герье, Лопатиных и декабристе Штенгеле, Нестерове и Танееве, поэте Языкове и Станкевиче, Бакунине и актрисе Семеновой, архитекторе Щусеве и кружке «чайковцев», собиравшемся в семидесятых годах в доме № 29 по Малому Власьевскому переулку…
Немало интересного связано и с домом № 32 на Пречистенке. Он принадлежал когда-то пензенским богачам помещикам Охотниковым и был построен крупным архитектором, возможно, самим Казаковым: Он и сейчас привлекает внимание внушительной колоннадой, лепными балконами, строгим декором, уравновешенностью несколько тяжелых пропорций. Внутри превосходный двусветный зал с богатой лепниной… Долгое время дом занимала гимназия выдающегося педагога и литературоведа Льва Ивановича Поливанова. В ней учились сыновья Льва Толстого, поэт Брюсов… Но разве обо всех и обо всем расскажешь…
Уже с последней трети прошлого века Пречистенку стали застраивать многоэтажными капитальными домами, безжалостно потеснившими стильные особняки, в большинстве построенные лучшими московскими зодчими. Однако отдельные сохранившиеся дома, мною отчасти упомянутые, служат и сейчас украшением улицы, придавая ей старомосковский облик, напоминающий современнику о плодотворной поре русского градостроительства.Московские городские ансамбли архитектора О.И. Бове«Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым… Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».
Это писал Пушкин в начале тридцатых годов, как всегда поразительно верно и просто, исчерпывающим образом определив сущность им описываемого. Именно в те первые два десятилетия после Отечественной войны 1812 года в облике Москвы сказался огромный сдвиг, произошедший в развитии России, в которой промышленники и купечество стремительно отвоевали себе права и блага жизни, прежде безраздельно принадлежавшие дворянству.
Изменения, отразившиеся в упоминаемой Пушкиным смене владельцев роскошных палат, построенных в екатерининский, золотой для дворян век, существенно повлияли и на характер новой застройки. Отныне у градостроителей новые цели и задачи. Отходят или отошли в прошлое заботы о возведении отдельных обширных, раскинувшихся на целые кварталы усадеб с домами-дворцами, поставленными там, где приглянулось вельможному владельцу или где удалось ему захватить участок земли.
Наступило время домов-особняков, призванных создавать лицо улицы. Они выстраиваются вдоль нее по обе стороны, и фасады их, уже не укрытые в глубине дворов, за службами и садом, теперь подчиняются некоему общему архитектурному облику города. Наряду с частными особняками возводятся здания общественные – учебные заведения, больницы, торговые помещения, присутственные места. Их строят как дворцы, но уже не по вкусу и прихоти отдельного лица, а поставлены они там и выглядят так, где и как того требует план города, разработанный специальными комиссиями и утвержденный правительством.
В этой опеке правительства сказывается стремление придать Москве величественный внешний вид, воплощающий могущество государства и блеск правления, однако в этих новых градостроительных планах отражены и потребности современного растущего города, нужды санитарии, благоустройства и удобства.
Первый генеральный проект усовершенствования планировки Москвы и ее модернизации восходит к екатерининскому времени. Он был утвержден императрицей в 1775 году, однако осуществить его не удалось, во всяком случае, в сколько-нибудь цельном виде. Вероятно, еще не пришло время для подобных крупных начинаний, исходивших из взгляда на город как единый общественный организм. План недостаточно сообразовался с тогдашними возможностями развития города и его нуждами. Главнокомандующие Москвы усердно отписывали в Петербург, открещиваясь от плана и доказывая его невыполнимость: он требовал слишком большой ломки существующих строений, разбивки ненужных и излишне просторных площадей.
Но уже в начале XIX века необходимость в существенном упорядочении и совершенствовании планировки Москвы сделалась столь настоятельной, что приступили не только к составлению проектов, но и к организации работ. Большую подготовительную работу проделал специально учрежденный Комитет для уравнивания городских повинностей, преобразованный в 1813 году в Комиссию для строения Москвы. Именно ей суждено было сыграть решающую роль в создании того города, общий облик которого дошел до нашего времени.
Суждение Скалозуба о пожаре, способствовавшем украшению Москвы, следует признать справедливым. Действительно, в опустошенном городе не только вырастали новые дома, но одновременно делались попытки строительство упорядочить, подчинить общим правилам и по возможности улучшить прежнюю планировку: послепожарный город должен был сделаться краше и удобнее старого. Сразу после изгнания французов главнокомандующий Москвы граф Ростопчин предлагал Александру I воспользоваться тем, что «многие безобразные и стоящие не у места церкви сожжены и… теперь не представляется неудобства их снести», не вызывая ропота и ненужных толков.
Но если целые кварталы Москвы и лежали в развалинах, это все же не означало, что их можно застраивать как пустырь: комиссия не могла не считаться с исторически сложившейся сеткой городских улиц, проложенных в соответствии с естественно возникшими причинами, утвержденными традицией.
Московским градостроителям пришлось преодолевать и другое осложнение: опеку Петербурга. Оттуда присылались планы и давались указания, свидетельствовавшие о недостаточном знании особенностей и условий строительства в древнем городе, отчасти и о пренебрежении ими. Петербургским архитекторам, привыкшим строить на ровном месте и ставить свои здания на природных пустошах, не приходилось принимать в расчет, как в Москве, рельеф – знаменитые «семь холмов» и овражистые долины между ними с впадающими в Москву-реку ручьями и речками, обилие древнерусских памятников, которые заставляли зодчих старой столицы заботиться о достойном обрамлении для них в новой городской застройке. Высочайше утвержденный проект петербургского архитектора В.И. Гесте, пользовавшегося расположением Александра I, представлял схему, в которой система площадей, соединенных магистралями, механически накладывалась на план Москвы, словно на пустое место.
Естественно, что члены Комиссии для строения – крупные московские архитекторы, знатоки своего дела, готовые крепко стоять за родной город, воспротивились осуществлению одобренного императором проекта и стали доказывать его практическую нецелесообразность, отдавая должное ценности теоретических предпосылок, талантам составителя и прочее… Пересмотра проекта москвичи добились, но не обошлось без жертв. Одному из членов комиссии – архитектору Кесарино пришлось подать в отставку. Такая принципиальность специалистов заслуживает упоминания.
В состав Комиссии для строения входил архитектор Осип Иванович Бове, о некоторых сторонах деятельности которого мне хочется рассказать. Она в целом настолько многогранна и обширна, что полный очерк ее – тема самостоятельной монографии. Здесь я остановлюсь лишь на выдающейся роли Бове в создании архитектурных композиций, составивших центральную часть Москвы.
Первоначально Бове был поставлен во главе четвертого участка комиссии, ведавшего несколькими центральными кварталами города, но менее чем через год талант и энергия молодого архитектора выдвинули его на первые роли. Уже в 1814 году на Бове возложили руководство всеми вопросами, связанными с выполнением архитектурных и художественных проектов. Комиссия поручила ему непосредственно надзор «за всеми казенными, публичными и общественными строениями, строящимися или приводящимися в прежнее или лучшее состояние, поручив ему также заведовать и частью фасадическою за всеми обывательскими строениями, наипаче составляющими значительный капитал». Иными словами, Бове становился фактически главным архитектором Москвы, без одобрения которого не строилось ни одно здание. В этой должности Бове оставался до своей смерти в 1834 году. Два десятилетия он решал вопросы застройки и планировки послепожарной Москвы.
Дом Протковой на Большой Садовой (позже один из корпусов детской Филатовской больницы)
Время его жизни совпадает с расцветом русского классицизма, выдающимся представителем которого он и был, оставив подлинные шедевры этого стиля.
Бове принадлежал к обрусевшей итальянской семье. Его отец, неаполитанский живописец Винченцо Джованни Бова (1750 – 1818), приехал в 1782 году в Петербург, где работал в Эрмитаже. В девяностых годах он с семьей переселился в Москву. Сыновья Винченцо Джованни сделались на русский лад «Иванычами» и стали все трое архитекторами: младшие, Михаил и Александр, впоследствии служили помощниками старшего, Осипа.
Осипа в восемнадцатилетнем возрасте отдали в Архитектурную школу при Экспедиции Кремлевского строения, возглавляемую в ту пору выдающимся архитектором И.Е. Еготовым. Как и Еготов, Осип Бове учился у Матвея Казакова, которого считал своим учителем, наравне, впрочем, с Францем Ивановичем Кампорези, много строившим в те годы в Москве и Подмосковье. В 1809 году Бове был командирован в Тверь, где под руководством К.И. Росси принимал участие в отделке путевого дворца, построенного еще при Екатерине.
Именно в кремлевской школе, откуда вышли многие выдающиеся зодчие, Бове и стал тем мастером градостроительного дела, которому Москва обязана своими лучшими ансамблями. По отзывам экзаменаторов, им были показаны «по части архитектуры отличные познания и искусство».
Уже в 1809 году Осип Бове работает в должности помощника архитектора; в Отечественную войну он уходит добровольцем в армию, по возвращении из которой получает в 1813 году звание архитектора. Вскоре после этого Бове подал заявление о зачислении его в Академию художеств, однако стать академиком ему не было суждено: перегруженный множеством дел в комиссии и заказами, он не нашел времени для выполнения конкурсного задания – проекта театра на три тысячи мест.
Добавлю, что женат Осип Бове был на московской аристократке, княжне Трубецкой, в доме которой в Богословском переулке (позже улица Москвина), дошедшем до нас в перестроенном виде, он и прожил жизнь.Комиссия для строения Москвы руководствовалась в своей работе основным принципом: создать цельный архитектурный облик города. И за три десятилетия своей деятельности – ее упразднили в 1843 году – комиссии удалось сделать многое. Была в основном претворена в жизнь давнишняя цель зодчих древней столицы – разбить вокруг Кремля полукольцо парадных площадей, которые бы служили ему достойным обрамлением. Старые рисунки и акварели Бове и его коллег того времени показывают, насколько они понимали необходимость органического сочетания старой архитектуры с новыми зданиями, задачу совмещения нужд центра обширного города с развитой промышленной и торговой деятельностью, с требованиями эстетики и привязанностями москвичей.
Особенно интересны в этом отношении две акварели Бове: на одной – Красная площадь, с взорванными отступающими французами домами (на первом плане развалины Аптекарского приказа, отданного при Екатерине университету), на другой – предложенный им проект застройки. Бове расширил площадь за счет загораживавших ее прежде лавок и амбаров, выстроившихся вдоль кремлевской стены; он перестроил торговые ряды, убрав выступы и создав в средней части мощный дорический портик и плоский купол, перекликавшийся со зданием Сената, освободил пространство вокруг Покровского собора, и силуэт его, причудливый и живописный, стал как бы вольно парить в небе, являя незабываемый вид гуляющим по проложенной на месте прежних земляных брустверов и крепостного рва эспланаде. Северный конец площади венчали шатры Воскресенских ворот и главы Казанского собора. Здесь Красная площадь смыкалась с вновь созданной Воскресенской площадью (площадь Революции), переходившей в Театральную (площадь Свердлова).
Панорама бывшей Театральной площади в 1830-е годыТеатральная площадь Бове разрешила нелегкую задачу – создание единого архитектурного ансамбля столицы на стыке древней традиционной застройки с современными зданиями, где вдобавок пересекались главные улицы города. Ныне мало что сохранилось от Театральной площади Бове, но еще недавно стоявшие здания позволяли видеть, как цельно и просто было осуществлено им оформление этой важнейшей площади Москвы.
Башням и шатрам Кремля и Китай-города Бове противопоставил величественные и мощные объемы Большого театра. Это здание господствовало над строгим прямоугольником площади, обстроенной невысокими двухэтажными домами с выступами на углах выходящих сюда улиц и непрерывной линией аркад в нижнем этаже. Большой театр сделался средоточием вновь организованного городского пространства. Исчезли топкие берега Неглинной с непросыхающими болотами, площадь была ровно спланирована и замкнута с трех сторон стройной колоннадой с центральным зданием театра. С четвертой стороны, обращенной к Китайгородской стене, Бове разбил «цветочный рынок», служивший переходом от новой архитектуры к архитектуре прежних веков.
Театральную площадь Бове закончил в 1824 году. Она сразу сделалась предметом гордости москвичей. Современники писали: «Много знаменитых городов европейских хвалятся площадями своими, но мы, русские, теперь можем сею перед всеми гордиться…» О Большом театре сохранились отзывы восторженные – открытие его стало славной вехой в истории города. Здание не только поражало своими размерами – уступая в этом отношении только Миланской опере, – но и пропорциями. После старого театра Медокса, сгоревшего в 1805 году, Москва долгое время не имела театрального помещения, и постройка Большого театра явилась долгожданным событием. Проект его был сделан петербургским архитектором А.А. Михайловым, получившим первую премию на конкурсе, но Бове, которому было поручено его осуществление, значительно изменил пропорции и декор здания.
Большой театр в 1830-е годыПожалуй, именно на примере этой работы Бове особенно выступает его огромный такт градостроителя и поразительное чувство ансамбля. Так «подогнать» размеры театра к масштабу площади мог только выдающийся мастер. Бове уменьшил высоту здания на три с лишним метра, убрал проемы переднего фасада, изменил пропорции аттика, выдвинул вперед квадригу с Аполлоном и в результате достиг удивительной соразмерности театра и площади. Вертикали могучих колонн портика противопоставились горизонтальному ритму арочных галерей и скромной архитектуре обрамлявших площадь зданий.
Из составлявших Театральную площадь построек уцелели до нас лишь бывший дом купца Варгина – он был перестроен под Малый театр – да сам Большой театр, однако также, после пожара 1857 года, в измененном виде. Здание Сенатской типографии, в котором до недавнего времени помещалось стереокино, было снесено в последние годы.
С Театральной площади – строгой, с четким ритмом архитектурных линий и уравновешенными объемами – открывалась панорама старой Москвы, многокрасочной и живописной, поражающей взгляд разнообразием силуэтов.
Малый театр в 1830-е годыЧтобы слить Театральную площадь со всей системой городского центра, Вове искусно осуществил переход ее в соседнюю – Воскресенскую. Сохранив аркады углового дома, выходившего на эту площадь, он изменил высоту расположения окон и ввел несколько иную архитектурную обработку. Этим Вове как бы переводил пешехода с одной площади на другую. Воскресенская площадь с казаковским зданием Присутственных мест, уступившим впоследствии место аморфной массе Городской думы, выстроенной в той же ложнорусской манере, что и Исторический музей, эта площадь замыкалась Александровским садом, также распланированным Бове на участке от Собакиной башни до Троицких ворот. Им же установлена решетка, сделанная по рисунку архитектора Евгения Паскаля. В соответствии со вкусами своего времени Бове соорудил в саду грот с могучими дорическими колоннами и деталями в модной тогда манере античных развалин «а ля Юбер Робер». Под кремлевской стеной возникло сооружение, отозвавшееся эхом на дорический портик университета. В павильоне над гротом играла полковая музыка, привлекая москвичей, для которых Александровский сад сделался на длительный период любимым местом гулянья.
Театральная и Манежная площади через Воскресенскую сливались в единое целое с Красной площадью, откуда, после перепланировки территории вокруг Василия Блаженного (Покровского собора), освобожденной от построек Живорыбного ряда и окаймленной новыми Средними и Нижними рядами, открывался вид на Москворецкий мост и Заречье. Так удалось московским градостроителям первой трети XIX века, объединенным в Комиссию для строения Москвы, создать в центре ряд площадей, раскрывающих во всем блеске и величии красоту древнего Кремля, при этом не только не пожертвовав примечательными особенностями традиционной планировки, не потревожив любезный москвичам привычный облик города, но и сохранив чтимые и памятные постройки. Они умело и согласно вписали новые ансамбли в старый город.
Выдающееся значение деятельности Осипа Ивановича Бове в осуществлении градостроительных начинаний тех десятилетий нельзя переоценить. Именно его вмешательству и авторитету Москва обязана тем, что были отвергнуты проекты, предлагавшие рассечь центр города несколькими широкими «першпективами»: одна из них предполагалась от Манежной площади к Кудринской, другая должна была соединить Лубянскую площадь с набережной Москвы-реки. Подобные планы, отражающие непонимание их авторами органической связи между планировкой и естественным развитием старинных городов и пренебрежение к истории нации, выдвигались как в то время, так и позднее. Они, пожалуй, – то как неизбежное зло, а иногда как полезный стимул – сопутствуют градостроительству с его зарождения, с тех пор, как Нерон придумал сжечь Рим, чтобы воздвигнуть на его месте мерещившийся ему новый город. И счастье для народов, если участь дорогих, воплощающих всю их судьбу городов находится в руках таких талантливых, просвещенных и чутких к пониманию национального своеобразия специалистов, как унаследовавшие традиции казаковской школы Осип Бове и его коллеги.
Осипу Бове принадлежит проект и постройка ансамбля Первой градской больницы, определившего, вместе с соседней Голицынской больницей, построенной Казаковым, архитектурный облик Большой Калужской улицы (ныне Ленинского проспекта) .
Одной из его последних работ было сооружение у Тверской заставы (теперь площадь перед Белорусским вокзалом) Триумфальной арки с двумя павильонами кордегардий, соединенными с ней полукруглыми решетками. Этот торжественный ансамбль служил как бы парадными воротами для въезда в Москву со стороны Петербурга. Арка была воздвигнута в честь удачных походов русской армии в Закавказье во время русско-турецкой войны 1828 – 1829 годов, хотя ныне ее сооружение иногда приписывают памяти побед 1812 года. Открытие ее состоялось уже после смерти архитектора – 20 сентября 1834 года. Бове умер 15 июня того же года и похоронен на кладбище Донского монастыря.
Триумфальная арка у Тверской заставы. 1834 год…Еще в 1818 году, подавая прошение о присвоении звания академика, Бове представил чертежи тридцати трех оригинальных построек, им самостоятельно выполненных. Всего ему принадлежит около полусотни зданий, среди которых такой совершенный образец классического стиля, как особняк Гагарина на Новинском бульваре (ул. Чайковского), разрушенный фашистской бомбой, ряд домов, построенных им для московских купцов, торговые помещения и несколько церквей. И всегда, что бы ни создавал Бове – общественное здание или частный особняк, – он мыслил его составной частью целого и подчинял планировочной системе города. В этом его огромная заслуга, и ему по праву принадлежит одно из ведущих мест в создании архитектурного облика Москвы: если была Москва казаковская, то можно с полным основанием говорить и о Москве архитектора Осипа Ивановича Бове.
Из истории старого Московского университетаТеперь, когда думаешь о времени основания Московского университета, кажется чудом, как при тогдашних обстоятельствах и порядках могло учредиться такое отвечающее национальным интересам начинание, причем столь прочное, что никакие позднейшие попытки власти не могли умалить его самостоятельность и истребить заложенные в нем идеи общенародного служения.
То были годы, когда вовсе свежа была память о бироновщине – сам герцог Курляндский еще дожидался своего часа в ярославской ссылке; когда после Миниха и Остермана всплыл авантюрист Лесток и был всесилен при русском дворе посол Людовика XV вкрадчивый маркиз де Шетарди; когда де сиянс академия была прочно в руках немецких ученых и немецких невежд; когда современники помнили уплывавший по весне с невским льдом Ледяной дом, в котором, на потеху царице и ее двору, игралась свадьба полузамерзшего придворного шута князя Голицына; помнили, как «Правительница России», непричесанная и неприбранная, с утра до вечера играла в дурачка в спальне со своими шутами, предоставив ненасытному временщику разорять поборами целые уезды и ее именем, по «слову и делу», расправляться с русскими людьми по подозрению в замыслах против его всевластия; когда, наконец, все непререкаемее утверждались сословные различия и власть роковых слов: «Быть по сему»…
В том, что именно в глухую пору, почитавшуюся некоторыми позднейшими историками «самым бедственным временем в истории русского государства», был основан «рассадник просвещения», как тогда выражались, открытый с первых дней для всех сословий, включая и податные (кроме крепостных, не получивших вольную), наделенный вольностями и начавший борьбу за самостоятельность и достоинство русской науки и русской мысли, во всем этом следует, думается, видеть проявление сил здоровой нации, самосознания, покоящегося на длительных преемственных связях с прошлым, достаточно прочных, чтобы выстоять лихолетье.
Возникновению Московского университета Россия обязана: Михаилу Васильевичу Ломоносову, Ивану Ивановичу Шувалову и Елизавете Петровне – последней русской царице на русском троне.
В наше время, если зайдет разговор о Московском университете, беседующие непременно представят себе поднявшиеся над городом шпили и башни своеобразного пятиглавия нового здания, оседлавшего Воробьевы (Ленинские) горы. И только потом вспомнят Старый университет, вытянувший величественные свои фасады против кремлевской стены на прежней Моховой улице. Однако здания, что мы видим теперь, воздвигнуты много спустя после даты основания Московского университета. Ею считается 12 января 1755 года, день, когда дочь Петра Великого подписала указ об открытии в Москве университета.
Указу предшествовала весьма длительная подготовка события. Уже 19 июля 1754 года Сенат получил доношение Ивана Ивановича Шувалова, пользовавшегося тогда большим влиянием у царицы, в котором он обосновывал необходимость открытия университета в России, чтобы избавиться от необходимости приглашать ученых и специалистов из-за рубежа. Сейчас может вызвать недоумение – почему первый в России университет было решено открыть в Москве, а не в Санкт-Петербурге, властно присваивавшем себе ведущее положение во всех областях деятельности?
Молодая столица не могла отнять у Москвы значения центра всей России, на что и указывал Шувалов в своем доношении. «…Великое число живущих в Москве дворян и разночинцев, положение ее в сердце Русского государства, а также дешевые средства к содержанию, обилие родства и знакомства у студентов и учеников, как и великое число домашних учителей, содержимых помещиками в Москве» – предрешали, по его мнению, выбор города. К тому же попытка открыть университет при Академии наук в Петербурге окончилась полной неудачей, которую Ломоносов отчасти правильно объяснял стремлением академической канцелярии не допускать к обучению разночинцев. Как бы то ни было, ограниченные цели онемеченной петербургской академии не отвечали общенациональным, почвы для создания в Петербурге просветительного учреждения не было, тогда как в Москве уже существовали предпосылки, сулившие успех предприятию. Одной из них было, бесспорно, существование открытой в конце XVII века Славяно-греко-латинской академии, заложившей подобие основ высшего образования: в ней преподавались «семена мудрости», под которыми разумелись в то время науки гражданские и духовные. И было это образование общедоступным: в академию принимали выходцев из посадских и крестьян. Обучались в ней помимо Ломоносова и другие видные деятели русского просвещения: достаточно назвать окончивших курс Славяно-греко-латинской академии Леонтия Магницкого, Василия Тредиаковского, Степана Крашенинникова, Антиоха Кантемира.
Открытие университета в Москве было предрешено, и еще до подписания указа отвели для него место. Выбор пал на «Аптекарский дом» – обширное трехэтажное здание, с вышкой и богатым декором во вкусе второй половины XVII века, у Воскресенских ворот, на месте Исторического музея. В этом доме помимо аптекарского управления находилась австерия, помещения которой были переделаны в актовый зал, где и произошли торжества открытия университета 26 апреля 1755 года. Отпраздновали это знаменательное событие с подобающей пышностью, фейерверками и аллегорическими представлениями – в тот век без них не обходились.
Московский университет, 1790-е годы, проект М.Ф. Казакова
И сразу обнаружилось, что «пожалованный для университета близь Никольских ворот дом как местом, так и построенными покоями тесен». Наступил довольно долгий период постепенного разрастания университетских помещений за счет покупки или аренды частных домов, ходатайств об отпуске денег на новое большое здание. Вплоть до восьмидесятых годов XVIII века университет продолжал жить утесненно, что препятствовало расширению его деятельности. Правда, университет еще с 1756 года завел свою типографию, содержал две гимназии для учеников, увеличил штат профессоров, но количество слушателей росло, и это заставляло все настойчивее испрашивать средств на возведение нового здания. Наконец в 1783 году был утвержден проект Матвея Казакова.
В то время кое-кому в Москве хотелось вынести университет за черту города: предлагалось основать «достойную его храмину» на Воробьевых горах. Сторонники этого плана обосновывали его отчасти тем, что там «нет утеснения и ограничения, во всем помешательства, происходящего от обыкновенного в городе шума». Но что предприняли бы почтенные господа кураторы и попечители университета в пудреных париках и торжественных кафтанах, которых беспокоили цокот копыт и тарахтение проехавшей тележки, голос разносчика, изредка – крики форейторов и щелкание бича кучера на козлах кареты, куда бы порекомендовали они укрыться, доводись им услышать нынешний рев моторов, треск мотоциклетов, непрерывный шум механизированного транспорта под стенами университета?!
Именно для университета на Воробьевых горах составил проект Василий Баженов, но возобладало мнение тех, кто хотел обосновать его в сердце столицы. Проект Баженова был отвергнут, отчасти, правда, из-за вмешательства недолюбливавшего архитектора всемогущего Прокофия Демидова, особенно много жертвовавшего в ту пору на постройку и содержание публичных учреждений Москвы. Казне было невыгодно с ним спорить. Была приобретена усадьба князя Репнина на углу Большой Никитской и Моховой улиц со смежными владениями, где и сложился со временем ансамбль Московского университета.
Занятый на постройке Сената в Кремле, Казаков приступил к сооружению университета в 1786 году и завершил его через семь лет – в 1793 году. Рассказ о самом здании уместно предварить несколькими словами о задуманном тогда московскими зодчими плане полукольца центральных площадей, которые бы составили ядро города. Здание университета должно было, по мысли Казакова, обрамить выход Большой Никитской (улица Герцена) к Кремлю. На другом конце задуманной площади, против предусмотренных генеральным планом 1775 года прудов на реке Неглинной, стоял высоко вознесенный дом Пашкова.
В этой цепи парадных площадей, охватывающих Кремль с северо-запада, новое здание университета – главнейшего средоточия русской науки – должно было стать одним из опорных сооружений намеченной тогда архитектурной системы Москвы.
Следует подчеркнуть, что Москва конца XVIII века, при всем ее неблагоустройстве, была одним из красивейших и непревзойденных по своеобразию городов своего времени именно благодаря умелому сочетанию новой и исторически сложившейся архитектуры. В этом бесспорная заслуга Матвея Казакова и его школы. Московские зодчие стремились упорядочить планировочную систему развивающегося города, соображаясь при этом с архитектурной ролью отдельных зданий в общей системе городской застройки. Если в генеральном плане Петербурга середины XVIII столетия отражено желание открыть панораму Невы, то Казаков и другие видные зодчие Москвы стремились показать Кремль во всем его великолепии.
Говоря о роли Казакова в застройке Москвы, нельзя не упомянуть его «фасадический план» города, над которым он работал в последние годы жизни. Этим планом зодчий хотел закрепить «классический» облик Москвы, увиденный с «птичьего зрения». Это задуманное широко дело (Казаков предполагал издать около двухсот таблиц аксонометрических планов главных ансамблей и зданий Москвы большого размера) не было доведено до конца из-за недостатка средств – казна скупилась, первую таблицу Казаков гравировал за свой счет – и вследствие смерти самого архитектора, бывшего душой и вдохновителем всего начинания.
Рассматривая многочисленные чертежи казаковского проекта университета – архитектором было сделано последовательно три варианта, – видишь, как он постепенно упрощал композицию, отказывался от декоративной скульптуры, богатого оформления центрального портика и все больше развертывал фасад, отвечавший идее площади, открытой к кремлевской стене. В результате Казаков создал величественное монументальное здание строгих и простых форм. Придерживаясь планировки усадебного типа, он отодвинул в глубь двора главное здание с маловыступающим восьмиколонным портиком, несущим высокий аттик, и плоским куполом в центре, приблизив к красной черте его крылья.
Однако знакомое нам здание Старого университета на углу улицы Герцена – уже далеко не то, что построил Казаков. Московский пожар оставил от него одни стены. От всех университетских зданий – а к 1812 году они, разросшись, занимали целый квартал – уцелели только больница, один жилой флигель да находившаяся на отшибе, у Страстного монастыря, типография. Особенно пострадало главное здание: в огне погибли архивы, книжное собрание, коллекции, все научные материалы университета.
Пожар университета произвел на современников огромное впечатление. Знакомясь с воспоминаниями о том времени, видишь, как близко к сердцу восприняло русское общество гибель «рассадника отечественного просвещения». И стало деятельно помогать его восстановлению. Настолько, что уже в следующем, 1813 году, 1 сентября удалось возобновить занятия. Еще раньше открылась университетская типография: 23 ноября 1812 года вышел, после перерыва, очередной номер «Московских ведомостей», газеты, издаваемой университетом. Пожертвования стекались со всех сторон: помимо денег, университету отдавали свои библиотеки, коллекции, гербарии, кабинеты минералов, заводчики и помещики помогали строительными материалами.
Министерство просвещения, однако, не спешило: целых четыре года университет ютился в нанятом у купца Заикина, уцелевшем в пожар доме, в других случайных помещениях по соседству, пока не приступили к восстановлению сгоревших построек. Работами, начатыми в 1817 году, руководил Дементий Жилярди. Он внес значительные изменения в постройку Казакова, поднял среднюю часть здания почти на три сажени, укрупнил оконные проемы, переделал фасад и купол.
Московский университет, восстановленный Д.И. Жилярди после пожара 1812 годаВглядываясь в здание Жилярди – простое до суровости, скупо украшенное, но такое пропорциональное, с его монументальным величественным портиком, и сравнивая его с казаковским, осязаемо чувствуешь смену эпох, наступившую тягу к предельному упрощению форм и античным образцам. Особенно впечатляет фронтон дорического ордера, точно принадлежащий древнегреческому храму. Что ж, тогда и говорили об университете как о храме науки!
Жилярди мало изменил внутреннюю планировку, полностью сохранил тыловой фасад здания. В те же годы были заново построены здания аптеки, медицинского института и анатомического театра. Автором этих работ считается брат Афанасия Григорьева – Дормидонт, оставивший поразительного совершенства исполнения чертежи и рисунки. Числился он также «из вольноотпущенных».
Произведенное Жилярди укрупнение здания обусловливалось новым окружением: был выстроен Манеж, Бове закладывал ансамбль Театральной площади, против Кремля вытянулись длинные фасады новых Торговых рядов, обозначились иные масштабы городской застройки. Восстановление главного корпуса и крыльев университета заняло два года. Однако строительство университета на этом не закончилось: дальнейшее обстраивание его продолжалось, в сущности, на протяжении всего XIX века. В царствование Николая I были осуществлены переделки зданий по другую сторону Большой Никитской, возведенных на месте прежней усадьбы князя Барятинского. Архитектору Евграфу Дмитриевичу Тюрину принадлежала постройка университетской церкви Св. Татьяны, где ныне помещается студенческий клуб. Она была освящена в 1837 году.
Если и ныне широко известно, что до революции Татьянин день – 25 января (12 января по старому стилю) – был студенческим праздником во всей России, меньше знают, почему именно эта святая сделалась патроном университета, а потом и всех высших учебных заведений. Чтобы рассказать об этом, придется вернуться к далеким дням основания Московского университета.
Университетская церковь Святой Татьяны, архитектор Е.Д. Тюрин, построена в 1837 годуСправедливо считать идейным вдохновителем создания университета Ломоносова: кипучий и настойчивый, он заражал своей верой в предпринимаемое дело окружающих, смело опровергал его противников и недоброжелателей. Именно им были разработаны планы и программы обучения, структура университета, он подобрал первых русских профессоров, составлял записки, легшие в основу доношения Шувалова и указа правительства. Однако осуществление замыслов Ломоносова, практическая организация дела принадлежат его всегдашнему другу и покровителю Ивану Ивановичу Шувалову, по заслугам прослывшему просвещеннейшим человеком своего времени. В эпоху создания университета Шувалову, родившемуся в 1727 году, не было тридцати лет, он пользовался большим влиянием на Елизавету и, не в пример попадавшим «в случай» людям того времени, употреблял его не в целях личного обогащения и возвышения. Он принадлежал к скромной по происхождению и достатку семье и до смерти не стяжал себе богатства, в отличие от родственников своих и однофамильцев, особенно генерал-фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. Тот получил графский титул и сделался несметно богат не только благодаря милостям царицы, но и вымогательствам, к которым он прибегал, прибирая к рукам то доходы соляного налога, то промыслы на Белом море – и умер, задолжав казне более одного миллиона рублей.
Иван Шувалов ценил более всего свою репутацию русского мецената и покровителя наук. Помимо Ломоносова ему многим обязаны Фонвизин, Херасков, Богданович… «Шувалов всегда бескорыстен, – писал о нем современник, – действовал мягко и со всеми ровно и добродушно». От титула и обширных поместий, предложенных ему Елизаветой, Иван Шувалов отказался, как и от медали, которую она хотела выбить в его честь.
Нет, думается, ныне основания гадать, руководили ли им тщеславие или истинное понимание значения наук и искусств: положительные следствия его деятельности очевидны. Судя по переписке Шувалова, его высказываниям, воспоминаниям современников, он был недюжинным человеком, патриотом, боровшимся с иноземным засильем и поставившим себе целью «насадить отечественные музы и промыслы».
Разумеется, в указе об учреждении университета ни словом не упоминается Ломоносов, заслуга его создания приписывается одной инициативе Шувалова, названного в нем «изобретателем того полезного дела». И лишь в наш век, в 1911 году, в двухсотлетие Ломоносова, профессор Московского университета М.Н. Сперанский впервые поставил великого русского ученого на подобающее ему первое место. Нам теперь известно, что если Шувалов ходатайствовал «об учреждении в Москве университета для дворян и разночинцев, по примеру европейских, где всякого звания люди свободно наукою пользуются», то внушал ему эти слова Ломоносов, что его опыту и усилиям университет обязан предоставленным ему с основания правам и привилегиям, скопированным с устава ломоносовской «альма матэр» – Гейдельбергского университета.
Мать Шувалова звали Татьяной, и он дал подписать царице указ в день празднования ее именин, дабы связать с этим днем успешное завершение дела и свое назначение куратором университета. Этот высокий пост приравнивал его по положению к графу Кириллу Разумовскому, президенту Петербургской Академии наук, с влиянием которого на императрицу Шуваловы соперничали.
Как я упоминал, университет был открыт 26 апреля 1755 года, и этот день долгие годы был университетским праздником, пока Николай I в 1835 году не повелел перенести его на 12 января – день подписания указа.
Легкая рука была у Ломоносова на начинания, принесшие неоценимую пользу России и прочно вошедшие в ее историю! Так было и с Московским университетом. Проглядываешь ныне документы университета, объемистые фолианты отчетов, знакомишься с историей его факультетов и кафедр и только диву даешься – как неуклонно он рос и развивался, как, несмотря, а часто и наперекор разным обстоятельствам, он все увереннее и увереннее становился ведущим просветительным учреждением в государстве. Из года в год росло число студентов, учеников подготовительных гимназий и благородного пансиона, утверждалась его роль всесословного заведения. В век необоримых сословных перегородок и предрассудков университет сделался подчеркнуто демократическим заведением, более половины состава студентов уже в XVIII веке составляли разночинцы, ими становились крестьяне, получившие вольную.
В основу традиций Московского университета легло едва ли не с самого начала слияние науки с требованиями жизни, органическое совмещение служения научной истине со служением общественному благу. Это привело к тому, что к нему льнули все прогрессивные общественные силы и в конце концов история русской общественной мысли стала неотделима от истории Московского университета.
Разумеется, у университета бывали и черные дни, когда тускнел блеск просветительной славы его профессуры и кафедр, правительству удавалось подчинить его своим охранительным видам, но заложенное в нем с основания здоровое зерно – доступность для всех сословий и университетские вольности и привилегии – позволяло выстаивать и в самые мракобесные времена.
На праздновании первой годовщины Московского университета 26 апреля 1756 года профессор Николай Никитич Поповский, ученик Ломоносова, выражал в своей речи надежду на то, что «дождемся блаженного оного времени, когда из сего премудрой государыней учрежденного места произойдут судьи, правду от клеветы отделяющие, полководцы, на море и земле спокойство своему отечеству утверждающие, когда здесь процветут мужи, закрытые натуры таинства открывающие…».
Листая бесконечно длинный список имен деятелей России, вышедших из Московского университета, можно ответить Поповскому, первому русскому преподавателю университета, что чаяния эти не только сбылись, но и превзошли во много раз его ожидания!
Если Поповский искренне верил в то, что университет даст России благородных и просвещенных деятелей, то сорок три года спустя после него, на университетском акте 1799 года, в царствование Павла I, Иван Андреевич Гейм, один из влиятельнейших профессоров университета в те годы, открыто благословлял мракобесие от имени университета. Он держал такую речь: «Мудрую прозорливость свою император Павел доказал в споспешествовании истинному преуспеянию наук через учреждение строгой и бдящей цензуры книжной… Сколь счастливой должна себя Россия почитать потому, что ученость в ней благоразумными ограничениями охраняется от всегубительной язвы возникающего всюду лжеучения…»
Казалось бы, такая апология мерам, поощряющим держиморд и подавляющим живую мысль под лицемерным предлогом ее охраны, высказанная с высокой трибуны университета, – отходная всем вложенным в него надеждам Ломоносова сотоварищи, мечтавшими о независимости науки…
Приведу, однако, выдержку из негласного указания министерства народного просвещения университету, сделанного много спустя, в семидесятых годах XIX столетия: «…Чтобы устранить от поступления в Университет молодых людей, никакого наружного образования не получивших в домах бедных и низкого происхождения людей и не вознаграждающих сей недостаток отличными способностями, поставить правилом, чтобы желающие поступить в Университет подавали прошение и документы лично попечителю, который, по совещании с ректором, мог бы всегда под благовидным предлогом устранить от вступления оных лиц…»
Вот к какому трусливому языку приходилось прибегать министру, чтобы попытаться не допускать «кухаркиных детей» до высшего образования! Он был вынужден искать для этого благовидных предлогов, в обход незыблемому уставу Московского университета, твердо охранявшему его демократическую основу…
Сумасбродное правление Павла заставило Александра I утвердить в 1804 году устав университета, исключавший любые ограничения для поступления по сословным или имущественным признакам, и предоставить университету автономию. Любопытно, что Николай I, склонный приравнивать студентов к вымуштрованным нижним чинам, а профессоров – к фельдфебелям, в 1835 году особым указом снова подтвердил все университетские привилегии.
Они были многообразны. Университет обладал своим судом, наделенным широкими полномочиями, должности ректора и деканов были выборными, причем избирались они на один год – «во избежание злоупотреблений власти». Университет имел право издавать ученые сочинения под собственную ответственность, выписывать из-за границы книги без разрешения цензуры, а журналы – помимо почтамта… И это в век узаконенной перлюстрации частной корреспонденции, свирепейшей цензуры, кар за вольномыслие! По счастью, и наиболее самовластные правители не могли и не решались преступать законы, установленные в империи их предшественниками… Добавлю к этому, что для облегчения доступа в университет было отменено обязательное знание латыни.
Именно опираясь на свои права и привилегии, восходящие, как я уже упоминал, к Ломоносову, Московский университет пронес через два столетия, вплоть до нашего времени, свою славу оплота русской передовой науки, неотделимой от прогресса и гуманности.
Н.Н. Поповский был не единственным учеником Ломоносова, ставшим одним из первых русских профессоров Московского университета. Одновременно с ним начал преподавать и А.А. Барсов, составитель русской грамматики и автор трудов по языкознанию. Он же был бессменным редактором университетской газеты «Московские ведомости» до своей смерти в 1791 году.
Видную роль в развитии русской материалистической философии сыграл Дмитрий Сергеевич Аничков, диссертация которого о происхождении религии привела к крупному столкновению с влиятельным московским духовенством. Против Аничкова, отстаивавшего материалистическую точку зрения и утверждавшего, что религия держится на темноте и невежестве одних и корыстолюбии других, ополчилось духовенство во главе с небезызвестным московским архиепископом Амвросием, хотя автор, маскируясь, все выпады свои направлял против язычества. После длительной борьбы диссертация была, по настоянию Амвросия, сожжена на Лобном месте, но сам Аничков не пострадал – вольности университета не были пустым словом!
Большую известность стяжал юрист Семен Ефимович Десницкий, развивавший поразительно смелые по тому времени взгляды на роль собственности в становлении государства и семьи. Он стал первым читать лекции по русскому праву и его истории. Участвуя в Комиссии по составлению нового Уложения, доказывал необходимость ограничения единовластия выборным Сенатом, равноправия народов Российской империи, постепенной отмены крепостного права и учреждения независимого суда. И – вовсе опережая свое время – писал о «власти денежного мешка, подчинившего себе тьмы народов».
Мною названы лишь немногие родоначальники прогрессивного направления в Московском университете, получившего впоследствии широкое развитие во взглядах Герцена, Станкевича и других известных его питомцев и преподавателей. Следует отметить, что Герцен очень ценил труды Десницкого, умершего в 1789 году.
Приумножил славу Московского университета историк Тимофей Николаевич Грановский, учившийся в Петербурге и начавший преподавать в Москве с 1839 года. Он известен благодаря трем циклам организованных им лекций по истории Средних веков: в критике феодальной и средневековой Западной Европы слушатели справедливо усматривали выпад против российских порядков. Эти лекции пользовались неслыханной популярностью, слушать их стекалось огромное количество народу, овациями выражавшего одобрение смелому лектору, изобличавшему крепостничество и самодержавие. Ораторский недюжинный талант Грановского придавал особый блеск его выступлениям. Правда, после революции 1848 года Грановский отошел от своих позиций и стал проповедовать «мирное и зрелое развитие общества в рамках самодержавия», но его публичные лекции остались вехой в истории русской передовой общественной мысли.
О Грановском, профессорах и студентах своего времени, об университетских нравах и курьезах оставил свои воспоминания Герцен. Яркие и меткие, они дают верную и глубокую картину Московского университета тридцатых – сороковых годов. Именно Герцен не раз подчеркивал его демократичность.
«Пестрая молодежь, – писал Герцен много лет спустя, – пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречали в английских школах и казармах… Студент, который бы вздумал у нас похвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами». С годами, писал Герцен, «университет рос влиянием. В него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, изо всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».
Немалое влияние на студентов оказывал, как известно, сам Герцен, вокруг которого сплотился кружок, собиравшийся в доме его друга Огарева. Примерно в одно время с ними в числе студентов университета были Белинский, Станкевич, Лермонтов, Тургенев, молодой Иван Аксаков, и нам издали теперь понятно, какие угли подспудно тлели в здании на Моховой в годы, когда наверху едва ли не поздравляли друг друга с окончательным подавлением крамолы…
Моховая улица в начале XIX века«Московский университет свое дело делал, – читаем у Герцена. – Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского… могут спокойно играть в бостон, и еще спокойнее лежать под землей».
Не менее лекций и профессоров развивали студентов споры, живой, без боязни, обмен высказываемыми мыслями, чтения, устраивавшиеся в многочисленных кружках. В воспоминаниях современников читаем о влиянии кружка Станкевича, у которого собирались ежедневно друзья, товарищи студенты и окончившие курс. Существовало и студенческое общество под названием «Литературные вечера».
Все это – кипящие задором и мечтами о благородном служении отечеству студенты, вольные речи, увлечение ходившими по рукам нелегальными стихами и памфлетами, прорывающие казарменные порядки и бдительность педелей, свойственное свободолюбивой молодежи задирание и поддразнивание властей и авторитетов – все это бросавшее им вызов и ускользающее из-под их ферулы прогрессивное движение подрастающего поколения прочно свило себе гнездо в стенах Московского университета. Оно окрепло в непрестанных столкновениях с охранителями, пытавшимися посягать на самостоятельность университета, однажды исторгнутую у самодержавной власти, но нетерпимую для нее по самой своей природе.Свое назначение «рассадника российского просвещения» Московский университет исполнял на разных поприщах, являясь всюду зачинателем полезных и дальновидных начинаний. Не тщась охватить и малую часть их, я укажу хотя бы на создание при университете, уже в год его основания, художественных классов для детей разночинцев, которые были «определены учиться языкам и наукам, принадлежащим художествам». Из них вышли архитекторы Василий Баженов и Иван Старов. С художественными классами связана и история русского театра. Еще в пятидесятых годах XVIII века поэт Херасков организовал студенческий театр, ставший полупрофессиональным; в студенческую труппу поступили первые русские актрисы – Татьяна Троепольская и Авдотья Михайлова. В 1760 году в университетской гимназии содержалось на казенный счет восемнадцать воспитанников, предназначенных для русской труппы, и, когда Федор Волков приехал в Москву для пополнения своей, он выбрал актеров из состава студентов университета. Известный актер Петр Плавильщиков также был питомцем художественных классов университета.
В 1804 году при университете были открыты два общества: «Испытателей природы» и «Истории и древностей российских».
Еще Шуваловым была в 1758 году основана в Казани гимназия, которой руководил университет. Оттуда вышел Г.Р. Державин. В университетском пансионе учились Жуковский и Лермонтов. В 1828 году университет выстроил на Пресне свою обсерваторию, пятью годами позднее открыл кабинет сравнительной анатомии и физиологии, в 1846 году – госпитальную клинику и анатомический кабинет.
Листая материалы университета, я обнаруживаю, что в его типографии было опубликовано в 1770 году, в журнале «Пустомеля», первое произведение Фонвизина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». Фонвизин, кстати, с отличием окончил учрежденную при университете гимназию, куда его отдали в десятилетнем возрасте в 1755 году. В 1760 году его «произвели в студенты». Им был опубликован труд профессора Рейхеля «Собрание лучших сочинений к распространению знаний и к произведению удовольствий». Университетская типография печатала и другие его произведения. С нею, как известно, тесно связана книгоиздательская деятельность публициста и просветителя Николая Новикова.
При Московском университете был оставлен в должности надзирателя за классами окончивший его курс Ипполит Федорович Богданович, автор повести в стихах «Душенька». Она снискала ему огромную популярность, неоднократно переиздавалась. И когда Пушкин в «Евгении Онегине» писал:
Мне галлицизмы будут милы,
Как первой юности грехи,
Как Богдановича стихи, —
он, разумеется, имел в виду «Душеньку». Остальные сочинения Богдановича (повесть «Добромысл», «Сугубое блаженство» и прочие) канули в Лету еще при его жизни. Когда он умер, кем-то была предложена красноречивая эпитафия:
Зачем нам надписьми могилу ту чернить,
Где «Душенька» одна все может заменить.
Однокашником Дениса Фонвизина был и Григорий Потемкин. Он, правда, никаких отличий не стяжал, а был в 1760 году исключен из гимназии по решению конференции университета «за леность и нехождение в классы»… Но это уже из области университетских анекдотов! …В читальном зале библиотеки университета на прежней Моховой тихо и особенно покойно: над столиками, освещенными лампами под зеленым абажуром, склонились студенты. Ни одного свободного места. С портрета на стене глядит на них полнолицый человек в елизаветинском кафтане и пудреном парике, открывающем величественный лоб… Ломоносов. Не это ли мечтал видеть основатель университета? Тут поистине – храм науки.
По периметру полукруглого помещения стоят десять полированных мраморных колонн, поддерживающих обширный куполообразный потолок зала, искусно расписанный гризайлью. С потолка свисают старинные люстры. В прекрасных пропорциях и величественном облике зала чувствуется рука великого мастера: им был Казаков. Роспись выполнена по рисункам Жилярди, возобновившим декор актового зала после пожара.
Великолепны покои старого университетского здания – что и говорить! Аудитории с высокими, как в церкви, потолками, монументальная лестница, просторные сводчатые коридоры… Однако это все уже не отвечает современным требованиям, наступившему веку массового обучения в высших учебных заведениях. Стало тут тесно. Жизнь переплеснулась отсюда за Москву-реку, на те самые Воробьевы горы, где собирались основать Московский университет двести лет назад.
В 1953 году, за два года до двухсотлетнего юбилея Московского университета, 1 сентября, открылись новые аудитории и залы в многоэтажных зданиях, возведенных на Ленинских горах (проект архитекторов Л.В. Руднева, С.Е. Чернышева, П.В. Абросимова, А.Ф. Хрякова и инженера В. Н. Насонова). Они своими масштабами как бы показывают, насколько расширился ныне «рассадник отечественного просвещения».
В этот день прежние здания Московского университета сделались Старым университетом. Его аудитории по-прежнему полны. Современная учащаяся молодежь наполняет помещения, где сидели Герцен и Тургенев, ее голоса разносятся под сводами, слышавшими горячие речи Грановского… Ломоносовское детище живет полнокровной жизнью.
Петровский зодчий Иван ЗарудныйВот несколько слов из старых, старых записок:
«Помните, бывало, приближаясь к Москве, на первой высоте, с которой открывается столица в необъятном пространстве, вы намечали: вон златоглавый Кремль с храмами; высокие башни вокруг Кремля, как бы вековые стражи кремлевской святыни; там вдали, на северо-востоке от Кремля, башни: Сухарева и Меншикова – памятники петровского времени. И вы, полные глубоких дум о прошлом, с благоговением вступали в Москву. Совсем не то ныне… с шумом и визгом вторгает вас в Москву длинновязый паровоз».
Что написал бы сей благостный россиянин, если бы сегодня вторгали его в Москву не гремучие паровозы, а ревущие воздушные лайнеры!
Между тем записки приходятся на семидесятые годы XIX века, когда потянулись от Москвы рельсы в разные концы страны, а в Кремле были осуществлены казарменно-помпезные затеи Николая I, руками безвкусного архитектора К.А. Тона исказившего тот поистине сказочный облик кремлевских ансамблей, о которых дает представление скупой иконографический материал. Уже свидетели постройки Большого Кремлевского дворца с негодованием писали о варварском разрушении палат и хором московских царей, стоявших на его месте.
Кремль как национальная святыня, об устроении и торжественной красоте которого на протяжении веков радели его владыки, не жалея средств на отечественных и зарубежных мастеров, этот Кремль просуществовал лишь до перенесения столицы в Петербург. После того стали пустеть и приходить в упадок царские терема, ветшать дома знати, переселявшейся из родовых гнезд внутри кремлевской ограды на необжитые невские берега, беднеть соборы и монастыри, прежде щедро одаряемые из царской казны. Но в конце XVII века еще поддерживался со всей пышностью блеск московского двора, усердно поновлялись главки и купола соборов, золотились кресты и флюгера, стены и островерхие кровли палат расписывались свежими яркими красками, следили за тем, чтобы каждая мелочь в резиденции царей «Великая, Малыя, Белыя Руси и прочая и прочая…» отвечала представлению об их могуществе, славе и богатстве. Крытые галереи и гульбища, оконца и высокие крыльца, бочки и щипцы с вызолоченными флюгерами, все легкое, узорчатое, затейливое и праздничное, резное и воздушное, в соседстве с белыми соборами и колокольнями, окруженное зубчатой стеной с вонзенными в небо шатрами башен, – все это, воздвигнутое на вершине холма с сотами домиков у его подножья, разбросанными в зелени рощ и садов церквами и строениями богатых слобод, должно было казаться приезжему волшебным видением, восточной расцвеченной легендой…
Мне хотелось бы представить, какое впечатление могла произвести златоглавая, белокаменная Москва на юношу с пылким воображением и увлеченного зодчеством, когда он впервые ее увидел в конце XVII века… Не знаю, в сверкании ли синих снегов, опушенная инеем, со стынущими в алом морозном небе сизыми столбами дымов открылась она ему, или подъезжал он к ней тихим теплым вечером, и кудрявились над ней светлые летние облака, далеко разносился по реке округлый звон колоколов, созывавших к вечерне, и горели в лучах заходящего солнца главы кремлевских соборов и колокольни Ивана Великого, но приворожила его Москва к себе на всю жизнь, безвозвратно, и ей отдал он все силы своего незаурядного таланта. И когда несколько лет спустя оттуда, с родины юноши, будут о нем запрашивать, требуя, чтобы вернулся, он все же не покинет Москвы, уже никогда, до смерти…
…Присланного гетманом Малороссии Мазепой для участия в переговорах по церковному строительству на Украине молодого гонца Ивана Зарудного помещают в отведенном Посольским приказом дворе. В те годы московское правительство придавало большое значение возведению православных церквей в Малороссии, сорок лет назад окончательно вошедшей в состав Русского государства. Отсюда были посланы в Киев Дмитрий Аксамитов и Осип Старцев «со товарищи» – виднейшие московские зодчие того времени. Они должны были обучить своим приемам и канонам местных архитекторов, находившихся под сильным влиянием католического Запада.
Нет сведений о том, на какой почве произошло знакомство Ивана Зарудного с московскими зодчими, можно, однако, с уверенностью сказать, что в Киеве он принадлежал к их кругу, что и повело к его поездкам в Москву по делам строительства. Посланника Мазепы принимали с почетом, заботились о его содержании: в делах Малороссийского приказа сохранилась «Расходная книга денежной и соболиной казны, сукон и других товаров» с записями о выдаче в 1690 и 1691 годах «довольствия, дров, и кормов лошадям, гонцу гетмана Ивану Зарудному и его людишкам». Известно и о других его приездах в Москву, причем возросший размер содержания позволяет заключить о росте значения посланца и важности его поручений при московском дворе.
Триумфальная арка на Никольской улице. 1720-е годыСпустя некоторое время Зарудный окончательно переселился в Москву – его имя встречается в связи с сооружением в столице первых триумфальных ворот в честь победоносных походов Петра, а затем он оказывается в переписке с Меншиковым по поводу строительства знаменитой церкви, о которой упоминает приведенный выше анонимный летописец – Меншиковой башни. Свои письма более позднего времени Иван Зарудный подписывал: «главный над жилищами директор», что дало повод некоторым исследователям считать, что он какой-то период руководил строительством в Москве или, во всяком случае, наблюдал за ним. Так это или нет, окончательно не установлено, однако, судя по этим письмам, указам Петра и другим документам, можно с уверенностью говорить о выполнении Зарудным ряда самостоятельных работ, вопреки мнению, что он был только декоратором. Это подтверждается и сопоставлением дат строительства разных сооружений, в том числе и Меншиковой башни, главного создания архитектора, которого и одного достаточно, чтобы причислить его к самым талантливым и оригинальным архитекторам того времени, даже если он «мастер одного произведения».
Скудость сведений о жизни Зарудного – и на родине, где не сохранилось бесспорных свидетельств о его происхождении, семье, годах учения, и после переселения в Москву – окружает его имя некоей легендой, дающей место различным догадкам и предположениям, как умаляющим, так и преувеличивающим объем и значение его работ. Пока дальнейшие исследования или счастливые архивные находки не обнаружат новых данных о деятельности Ивана Зарудного, рассказ о нем поневоле сводится к Меншиковой башне – одному из самых поэтических и совершенных памятников русской архитектуры.
Церковь Архангела Гавриила, Меншикова башня, после перестройки ее в 1787 году архитектором Г.З. Измайловым…На ее месте стояла деревянная церковь, первое упоминание о которой восходит к 1551 году. Она называлась тогда церковью Архангела Гавриила в Мясниках. С учреждением в 1589 году на Руси патриаршества церковь, в ту пору уже каменная, была причислена к «патриаршей Гавриловой слободе».
Наступили крутые петровские годы, и извечную нерушимость московского уклада стали расшатывать вводимые нетерпеливым царем новые обычаи. Невиданное дело – в Москве был воздвигнут памятник в честь гражданского подвига: Петр решил увековечить заслуги полковника Л.П. Сухарева, единственного, оставшегося ему верным со своим полком во всем стрелецком войске во время бунта, и повелел соорудить в честь его… добро бы часовню или церковь положенному святому, как велит обычай, а то башню! Да еще царь отвел в ней помещения под школу математических и навигационных наук и морской арсенал, без меры дивившие вековое сухопутное мышление его подданных!
От царя не отстал любимец его Меншиков, затеявший возвести в своей усадьбе у «Поганого пруда» на месте старой церкви Архангела Гавриила новую, которая бы служила украшением городу, была бы, наравне с царской Сухаревой башней, памятником Петрову правлению и его самого прославила в веках. Честолюбивый замысел Меншикова осуществился полностью. Давно не стало памятника верности стрелецкого полковника – его разобрали в наше время, – а Меншикова башня, причисленная к высшей категории национальных памятников архитектуры, стоит и по сие время над прудом, ставшим, правда, с той поры Чистым. И знают это сооружение только под этим названием – Меншикова башня, церковью Архангела Гавриила ее никогда не звали.
Теперь башню отгородили от пруда позднейшие строения, она утеснена со всех сторон так, что и посмотреть на нее как следует стало неоткуда, и все же это удивительное сооружение остается жемчужиной Москвы, архитектурным чудом, заставляющим поражаться искусству и вкусу строителя.
Кстати, о названии пруда. Поганым он стал из-за близости боен, откуда в него стекали отходы. Существует предание, что Петр как-то гневно упомянул о том, что «вор Данилыч», владелец пруда, мог бы его за свой счет вычистить. Умный Меншиков, разумеется, не стал медлить – пруд был мигом вычищен.
Земли на Мясницкой улице Меншиков начал скупать в 1699 году и, постепенно расширив свое владение, создал здесь великолепную усадьбу с дворцом, оранжереями, службами и обширным садом. В 1704 году по его приказу была сломана церковь Архангела Гавриила и приступили к постройке новой, под руководством Ивана Петровича Зарудного. Завершили постройку в невиданно быстрые сроки: освящение церкви состоялось уже в 1707 году.
Смелой и неслыханной была для того времени постройка храма-колокольни, дерзкой мысль – вознести ее надо всем, что было до нее выстроено в Москве: шпиль Меншиковой церкви был выше тридцатисаженной Сухаревой башни и на полторы сажени – самого Ивана Великого! Знай, мол, наших: строил не кто-нибудь, а «полудержавный властелин», взысканный неслыханными милостями, почетом, ставший знатнейшей персоной в государстве, во вчерашнее безродство которого уже невозможно верить…
Москвичи не только должны были отовсюду видеть церковь, зиждителем которой является «Светлейший князь Российский, генералиссимус, Военной коллегии президент, сенатор, Верховного тайного совета член, генерал-губернатор Санкт-Петербургский и Ингерманландский, кавалер орденов Св. Андрея Первозванного и прусского Черного Орла, и прочая и прочая», но она напоминала им о себе курантами: из Англии за изрядные деньги выписаны и установлены в поднебесье знатные часы, отбивающие не только четверти, но производящие в двенадцать часов колокольную музыку, продолжающуюся полчаса.
Но особенно порадел светлейший об уборе храма, о его украшении. Снаружи и изнутри он роскошно декорирован: лепнина, живопись, скульптура… Именно этот поразительный по красоте, изяществу, блеску и богатству, по изумительному чувству меры сплав архитектурных форм с лепниной, росписями и скульптурой позволяет считать автора Меншиковой башни крупнейшим и оригинальным мастером, создателем своего отличного стиля.
Можно, вероятно, согласиться с И.Э. Грабарем, назвавшим Меншикову башню поэтическим дифирамбом красоте русского иконостаса. В самом деле, в ее архитектуре – многое от него. Прогулки молодого Зарудного по Москве не прошли бесследно! На всю жизнь запомнились ему первые впечатления от знакомства с невиданным у себя на родине великолепием иконостасов столичных соборов и церквей: войдешь внутрь, и перед тобой – вызолоченная стена с яркой пестротой ярусов икон, резьбой и росписью тябл, живописное и праздничное видение, способное придать жизнь и блеск полупотемкам под церковными сводами…
Вглядываясь в тонкие резные колонки портика церкви Архангела Гавриила, обрамленного монументальными завитками боковых волют, в пилястры по краям восьмерика, карнизы с полукруглыми завершениями посередине и другие детали фасада, невольно вспоминаешь сооруженные Зарудным иконостасы собора Петропавловской крепости и Преображенского собора в Ревеле (Таллине): там так же перекинута между выступающими коринфскими колонками арка, словно воспроизводящая один из мотивов портика Меншиковой башни.
Пленяют роскошь и вкус ее внутреннего убранства. Зарудный широко применял декоративную скульптуру, вводил неведомые московскому церковному зодчеству кариатиды, убирал стены лепными гирляндами, цветами, покрывал росписью плафоны и простенки. Если оглядеть помещение церкви с хоров – в поле зрения не окажется вершка пространства, свободного от рельефных узоров, картушей, моделированных карнизов, скульптурных головок херувимов, стилизованных эмблем, и это, вместе с необычайностью совмещения церкви с колокольней-башней, заслоняет религиозный характер сооружения, придает ему светский вид. Перед тобой точно дворцовый зал или пышный гражданский монумент, далекий от своего подлинного назначения. Недаром эта постройка вызывала и нарекания ревнителей старых церковных традиций, злорадствовавших по поводу ее недолговременного красования, неугодного, поясняли они, божественному провидению.
Церковь Меншикова в первоначальном виде – с тонким шпилем, увенчанным металлической фигурой Архангела Гавриила и с музыкальными часами, какую мы видим на гравюре А. Зубова 1711 года «Въезд Петра I после Полтавы» или литографии голландца Яна Бликлайта, – простояла всего полтора десятка лет: в 1723 году ее подожгла молния и пожар уничтожил весь верх башни. Шпиль обвалился, упали часы, а колокола – их было пятьдесят – обрушили при падении своды. Впрочем, она и до этого была запущена.
С перенесением столицы в Санкт-Петербург Меншиков перестал интересоваться своей московской башней. Тщетно отписывал ему туда Зарудный, что кровля течет, шпиц, глава и все деревянные строения, где часы, от сырости и гнили грозят падением, иконостас не доделан и народ ропщет, что церковь стоит «аки в запустении», светлейшему было не до того…
Была, кроме того, увезена в Петербург главная святыня храма – икона Богоматери, привезенная Меншиковым из Полоцка, после похода, и написанная, по свидетельству духовенства, самим евангелистом Лукой! После пожара этот образ вынесли в придел Введения Пресвятой Богородицы, построенный по распоряжению Меншикова в память одноименного храма в селе Семеновском, где были похоронены его родители. Образ был отсюда вытребован в 1726 году в Петербург больным князем для его домовой церкви на Васильевском острове. В дальнейшем след этой иконы затерялся. После опалы Меншикова и его ссылки в Березов в 1727 году, «пожитки его были розданы, образ пропал, киота же к нему осталась в Москве», – узнаем мы из записи в церковном синодике, составитель которого, впрочем, осмелился упомянуть, что «Полоцкая богоматерь находится в собственной образной Елизаветы». Так это или нет, очевидно одно: от затеянного великолепия церкви светлейшего ко времени пожара оставалось уже немного, все нуждалось в поновлении и ремонте. Огонь разорил церковь окончательно.
Целых долгих шесть десятилетий церковь не возобновлялась: открытым оставался один Введенский придел. По сведениям географического словаря Щекатова, ее перестроил в 1787 году московский архитектор Гавриил Захарьевич Измайлов. Не стало ни дерзко вознесенного шпиля, ни заморских курантов. Верх башни больше уже не переделывался – мы теперь видим его в Измайловском варианте. Нижние ярусы башни были восстановлены в первоначальном виде. Именно в те годы церковь попала в руки мартинистов: в приходе жили влиятельные масоны – не был ли среди них и друг Василия Баженова И.И. Юшков, для которого он строил дом на Мясницкой, потомок Юшки Урви Хвост? – чем и объясняется характер новой росписи храма, частично дошедшей до нас. То были латинские надписи и мистические эмблемы, столь чуждые православному учению, что против них почти полвека спустя ополчился всемогущий московский митрополит Филарет и в 1852 году добился распоряжения Синода их уничтожить. Однако церковным властям оказалось не так-то легко это осуществить: лишь в 1863 году, после смерти Филарета, эти надписи были стерты, и то частично.
Внутри башни можно и сейчас увидеть не слишком искусно нарисованные на стенах пламенеющее сердце с крыльями, корону на верху столпа, другие изображения. Владыке, кстати, казалась особенно творящей соблазн надпись, сопровождавшая эту корону: «Existimatione nixa» – «утверждена на уважении», тогда как власть монарха – это Филарет внушил себе твердо! – ниспосылается небом и утверждается божественным промыслом! Некоторые надписи не перегружены смыслом: «Candor non loeditus auro» – «белизна не портит золота», или «sine fna» – «без конца», «Ascendit» – «возносится» и тому подобное.
Об этих масонских затеях раздраженно писали современники, для которых Меншикова церковь, поправшая старозаветные каноны устройства московских храмов, была вообще бельмом на глазу. Приведу два отрывка из записок начала прошлого века.
«Нашелся человек нового времени, – рассказывает хронист о постройке церкви, – который разобрал церковь, устроенную по обычаю православных церквей о трех шатровых главах, и, сам неважного звания, достигнув необыкновенной высоты звания светлейшего князя, вопреки обычаю православных церквей (при которых разве колокольня устроялась высоко), по широкой своей фантазии, выстроил церковь необыкновенной высоты, какая бы на полторы сажени превышала колокольню Ивана Великого. Удар грома разрушил на церкви длинный шпиль и часы с курантами; затейливый строитель сам низвергнут был с высоты своего величия и закинут в дальний край Сибири.
…Наконец нашлись ревнители, – продолжает он историю церкви, – которые отстроили эту церковь также в оригинальном виде, а именно, не по обычаю православных церквей, а с измышленными эмблематическими изображениями и латинскими надписями. Мистический смысл таких эмблем и значение латинских надписей разве самим изобретателям хорошо были понятны».
Бегло очерчивая дальнейшую судьбу Меншиковой башни, добавлю, что во времена Филарета уже не сохранялось и памяти о дворе Меншикова на Чистых прудах. После опалы всемогущего фаворита он был конфискован, а затем отдан в 1730 году князю Куракину, в 1783 году перешел к армянину, статскому советнику Ивану Лазареву, который продал его шесть лет спустя в казну. Церковь с 1821 года была причислена к почтовому ведомству, определившему на жалование причту и церковные расходы 3000 рублей ассигнациями в год. Далее начальство Почтамта расщедрилось еще больше, стало отпускать ежегодно по 2600 рублей серебром, содержало отличный хор, пользовавшийся в Москве известностью, не скупилось на благолепие храма. То был период расцвета церкви, длившийся до 1867 года, когда в Петербурге спохватились и решили, что Московскому почтамту не к лицу содержать ведомственную церковь, наравне с министерством, и отпуск средств был с 1872 года прекращен. Меншикова башня превратилась в скромную приходскую церковь. Однако со времен переделок Измайлова Меншикова башня не была восстановлена так близко к первоначальному виду, как это сделано теперь, когда была изучена документация храма.
…Итак, зная в подробностях историю созданной Иваном Зарудным церкви, как и нескольких его других работ, располагая исчерпывающими сведениями о заказчике Меншиковой башни, петровском сподвижнике, все деяния которого, как и смерть в 1729 году в Березове, составили предмет обширных жизнеописаний, панегириков и исследований, мы почти ничего достоверного об этом талантливом сыне Украины не знаем. Когда и где он родился, принадлежал ли роду генерального судьи Самойлы Богдановича Зарудного, входившего в состав посольства, отправленного в 1652 году к царю Алексею Михайловичу для торжественного закрепления присоединения Малороссии к Московии, или был его однофамильцем; у кого учился, в каком возрасте умер и на каком кладбище покоится – на все эти и многие другие вопросы ответа пока нет.
Известно все же, что в 1704 году Зарудный был москвичом: за ним числился двор с пристройками и баней в приходе Архангела Гавриила. Назван Иван Зарудный и в описи московских дворов 1716 года, рядом с Меншиковым, генералом Головиным, Нарышкиными и прочими дворовладельцами этого прихода. Упоминается в документах и усадьба под Дмитровом, принадлежавшая ему в 1726 году, однако нет никаких сведений, когда он ее приобрел, или она была ему пожалована. А вот по следующей переписи 1737 года, владелицей двора в Гаврииловском приходе значится «вдова Зарудная, Улита Ивановна». Долго ли она вдовела, были ли у них дети, где похоронила Улита Ивановна своего мужа, привез ли он ее с собой из родных мест или присватал москвичку… ничего этого мы не знаем.
Много больше известно о деятельности Зарудного, а дошедшие до нас работы позволяют уверенно судить о его таланте. В подписанном Петром I 18 октября 1721 года указе об определении архитектора Ивана Зарудного строителем триумфальных ворот на Никольской улице у Казанского собора (Красная площадь), воздвигаемых по случаю Ништадтского мира, уточнено: «того Ивана Зарудного, который наперед сего у строения прежних Полтавской баталии ворот был».
Гравюры Зубова и Пикарта оставили нам изображение этих ворот, сооруженных в 1709 году, а по документам установлено, что ворота в честь Азовского похода 1696 года были также поставлены с участием Ивана Зарудного.
Упомянутый мною замечательный иконостас Преображенского собора в Таллине (Ревеле), в котором воспроизведены в дереве спадающие тяжелыми складками штофы, Зарудный ставил в 1719 году, а с 1722 по 1726 год работал над монументальным иконостасом Петропавловского собора, выстроенного, как известно, Доменико Трезини. Здесь уместно упомянуть, что в сооружении Меншиковой башни принимали участие лепщики и декораторы, работавшие с Трезини. Некоторые черты Петропавловского собора, построенного после Меншиковой башни, дают основание говорить о влиянии ее архитектуры на облик собора. И мне представляется, что заброшенный в Петербург московский зодчий, подходя по утрам к собору в крепости и оглядывая его стройную колокольню, могучие завитки волют у ее подножья, вероятно, вспоминал свою башню, тогда еще возносившуюся во всем блеске. Вспоминал – и воспроизводил ее линии и тонкие, изысканные архитектурные формы в золотом диве, каким стал его иконостас…
Эти работы Зарудного говорят о прижизненном признании его заслуг – иначе ему вряд ли поручили бы возводить иконостас в царской усыпальнице. Надо полагать, что рекомендовал его царю, как и для иконостаса в Ревеле, Меншиков, которому Зарудный еще в 1717 году ставил иконостас во дворце на острове Котлин. Впрочем, еще в 1706 году Петр поручил Зарудному постройку в Москве деревянного госпиталя («Военной гошпитали»), находившегося на месте нынешнего Главного военного госпиталя (архитектор И.В. Еготов), Московский синодальный дом был также построен Иваном Зарудным в 1723 году.
Ни триумфальные ворота, ни деревянные постройки Зарудного до нас не дошли, однако мы и сегодня можем любоваться, помимо Меншиковой башни, его церковью Иоанна Воина на Якиманке, построенной в 1713 году на месте старой, сгоревшей в 1709 году, по личному распоряжению и на деньги Петра. Оставленные пожаром стены Зарудный встроил в новое здание, сохранив общую планировку, но полностью изменив высоту и общий облик. Эта церковь по праву считается одним из лучших московских памятников петровского времени. Она и сейчас в отличном состоянии. В этом сооружении воплотились главные достоинства Зарудного – многогранность его дарования, сила воображения, высокая образность его созданий, фантазия – словом, все то, что позволило Грабарю сравнивать его с могучими мастерами эпохи Возрождения.
В Москве в Кожевниках стоит и поныне церковь Троицы, верх которой, по заключению исследователей, принадлежит Зарудному. Это выглядит правдоподобно – колокольню этой церкви строил он: в безупречных пропорциях, верности каждой линии, грамотности общего рисунка колокольни специалисты узнают уверенную руку этого мастера.
В 1713 – 1714 годах Зарудный построил в Донском монастыре надвратную Тихвинскую церковь. Ему же принадлежит фасад палат думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной.
Словом, двадцать пять – тридцать лет, всю первую четверть XVIII века Иван Зарудный строил в Москве, очевидно выполняя устные приказы царя. В те же годы он наезжал в Петербург, был в Ревеле, где руководил архитектурно-декоративными работами. Существует предположение, что знаменитая, не схожая ни с какой другой церковь Знамения в селе Дубровицы под Подольском принадлежит Зарудному. Во всяком случае, сейчас исследовано достаточно материалов о творчестве этого блестящего мастера, позволяющих говорить об его огромном вкладе в русскую архитектуру.
Сам же он видится нам в дымке исторических неясностей, отчасти как бы легендарным мастером из сказки: явился с дальних приднепровских взгорий и, как добрый волшебник, щедро оделил полюбившийся ему город…Нескучный садВзгляду, приученному к жесткости современного городского пейзажа, утомленному его унылым однообразием, отдых и отрада остановиться на панораме Москвы-реки, если смотреть на нее с Крымского моста, вверх по течению. Высокий берег покрыт деревьями, из-за которых виднеются здания прекрасной архитектуры, и убегают под сень дорожки, берущие начало у самой воды. Старые дубы и липы спустились к реке, заставляя вспоминать о возможной лесной прохладе и живых запахах листвы. Поближе к мосту круглится мощный купол старой Голицынской больницы, подальше белеют стены Мамоновой дачи и очерчиваются полузакрытые зеленью линии ее фронтона и крыш. Над рекой застыл точеный силуэт беседки в строгом ампирном стиле.
Вид усадьбы Н.П. Голицыной (Пиковой дамы) в конце XVIII века
И дальше, пока изгиб берега не уведет реку в сторону, перед глазами все будут густые древесные кущи, словно перед тобой деревенское приволье, уголок прежнего Подмосковья, богатый лесистыми угодьями и тенистыми садами, а не зажатая в тиски одного из крупнейших городов мира река…
Все это – речная опушка обширного садового массива, некогда составлявшего единый парковый ансамбль, пользовавшийся на протяжении длительного периода любовью москвичей и справедливо считавшийся прекрасным образцом русского садового искусства. Перед нами знаменитый в летописях Москвы конца XVIII и начала XIX века Нескучный сад, прошлое которого отразило некоторые любопытные штрихи развития московской жизни.
…Перенесемся назад на сто девяносто лет. Июль 1796 года. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский дает в доме, ныне занимаемом Академией наук, большой праздник, с народным гулянием и катанием на убранных лодках по Москве-реке, по случаю рождения у Павла сына – будущего императора Николая I.
Гремит музыка, вечером вспыхивают фейерверки, дом и сад заполнены гостями и съехавшимися со всего города москвичами. Слава о широком хлебосольстве Орлова, его умении изобретать развлечения, милые сердцу большинства его сограждан, установились давно и прочно: сюда идут званый и незваный, тороватый вельможа угощает всех!
Алексей Орлов любит все русское, ценит национальные простонародные забавы и, в век моды на все иноземное, устраивает, наряду со снискавшим громкую славу его рысакам конским бегом, кулачные бои, тешится скоморохами, пляской, цыганами, хоровым пеньем, петушиными состязаниями и голубиной охотой… Когда граф вздумает сам полюбоваться полетами своих турманов, ему подносят серебряный таз с водой – в ней, как в зеркале, отражается небо, и шестидесятилетний охотник может, не утруждая шею, вдоволь наглядеться на воздушные кувыркания своих питомцев!
Герой Чесмы граф Алексей Орлов уже более двадцати лет безвыездно живет в Москве, и мало кто в ней так популярен и заставляет так много о себе говорить, как этот не то опальный, не то надувшийся на двор вельможа, владелец многомиллионного состояния, тридцати тысяч душ, живущий по всей своей воле, гораздый на причуды и сумасбродства. Он упомянут едва ли не во всех записках современников-москвичей. Любопытный отзыв оставил его сосед Прокофий Демидов, сам великий чудодей и человек недюжинного склада. «Спасибо Алексею, – пишет он о графе Орлове-Чесменском, – проворен и догадлив, а паче всего, что имеет ко всякому ласковую благоприятность, и так здесь его любят».
Нам, сквозь призму двух столетий, Алексей Орлов представляется довольно типичным для восемнадцатого столетия смелым и одаренным авантюристом, обязанным своим головокружительным возвышением не менее, чем везению, своим незаурядным способностям и целеустремленности, удали, отваге, уму и сметливости, сочетаемым с неразборчивостью в средствах, жестокостью и решительностью, не останавливавшейся перед преступлением ради достижения высокого положения, богатства, славы…
Напомню, что Алексей Орлов был братом фаворита Екатерины II Григория и моложе его на три года, однако тот во всем следовал указаниям младшего брата. К его советам прислушивалась и императрица. Вплоть до возвышения Потемкина Алексей Орлов был всесилен, руководил политикой Петербурга, выполнял важнейшие дипломатические поручения – именно ему было поручено обезвредить авантюристку, известную под именем княжны Таракановой, что и было им самым коварным образом выполнено; он был душой борьбы с Оттоманской Портой, организатором действий русского флота и его побед в Средиземном море.
Вернувшись из Европы и поняв, что звезда Орловых померкла перед восходящим светилом Потемкина, Алексей Орлов тотчас покинул Петербург и отошел от государственных дел, к которым уже никогда не захотел вернуться, хотя Екатерина впоследствии пыталась вновь его к себе приблизить. Он зажил в старой Москве жизнью несметно богатого, удалившегося на покой вельможи.
В его подмосковной – постоянное шумное веселье, толпы гостей, роговая музыка, маскарадные выезды, самого графа частенько видят в одиночных санках, на знаменитом Барсе I, в малиновой бархатной шубе и при звезде… И сколь ни были современники приучены к расточительным прихотям и пышности екатерининского царствования, жизнь в Нескучном поражала их воображение.
Алексей Орлов сначала поселился в невзрачном деревянном доме, уступившем место зданию нынешней Первой градской больницы, так что Екатерина, посетившая его в свой приезд в Москву, попеняла: «Долго ли тебе жить в таком доме?» На что он ответил: «Изволишь знать, матушка, русскую пословицу – не красна изба углами, красна пирогами; у меня же их много по твоей милости!» Что и говорить, Екатерина без меры щедро наградила едва ли не главного пособника переворота 1762 года, давшего ей трон и избавившего от ненавистного мужа. Тогда поговаривали, что именно Алексей, сильный и ловкий, как медведь, расправился с тщедушным Петром III.
По смерти Алексея Орлова в 1808 году все состояние перешло единственной его дочери Анне. Подсчитано, что годовой доход двадцатитрехлетней графини достигал одного миллиона рублей. По этой цифре можно судить о количестве и размерах «пирогов», доставшихся от его «милостивицы», всю жизнь раздававшей деньги и земли с крестьянами, принадлежавшие казне.
Впрочем, Алексею Орлову и впрямь пришлось жить в скромном доме недолго. Земли по соседству с его владением, в том числе и дворец П. Демидова, были скуплены его братом Федором, умершим холостым в 1796 году и сделавшим своей наследницей племянницу – дочь Алексея. Тогда-то герой Чесмы поселился в доме Демидовых и завел праздники, конские ристалища и стал поражать москвичей своими затеями.
«После скачки перед беседкой графа Орлова, – пишет в своих известных записках Степан Жихарев, – пели и плясали цыгане, из коих один немолодой, необычайной толщины… в белом кафтане с золотыми позументами… После цыганской пляски завязался кулачный бой, в который вступая, соперники предварительно обнимались и троекратно целовались.
По окончании всех этих проделок граф сел с дочерью в подвезенную одноколку, запряженную четырьмя гнедыми скакунами в ряд, ловко подобрал вожжи и, гикнув на лошадей, пустился во весь опор по скаковому кругу и, обскакав его раза два, круто повернул на дорогу к дому и исчез как ураган какой».
Вид на Москву с Воробьевых гор в начале XIX векаЗамечу, что запись относится к 1805 году, Орлову шел шестьдесят восьмой год. На народные гулянья он имел обыкновение выезжать со свитой разряженной челяди человек в сорок, сам, участвуя в бегах, надевал парадный генерал-аншефский мундир, увешанный орденами, упряжь сверкала золотом и драгоценными каменьями. Кстати, Алексей Орлов первый привез в Москву из Молдавии цыган и завел на них моду.
Мною выше упомянуто имя прежнего владельца дома – Демидова: о нем стоит сказать несколько слов именно в связи с Нескучным садом. Прокофий Демидов был сыном знаменитого уральского заводчика и богача Акинфия Демидова, однако меньше интересовался доставшимися ему по наследству заводами, чем садоводством, к которому пристрастился не в шутку. Начав с посадок яблонь и устройства цветников, он настолько увлекся делом, что собрал редчайшую ботаническую коллекцию и на своей даче по Большой Калужской улице разбил ботанический сад, по-нынешнему – дендрарий, – первый в России и, по отзыву академика Палласа, один из самых полных в мире. Этот ученый составил «Каталог растениям, находящимся в Москве в саду Его превосходительства действительного статского советника и императорского воспитательного дома знаменитого благодетеля П.А. Демидова».
На пяти террасах, ступенями спускавшихся от «преогромного», по словам Палласа, дома к Москве-реке, тянулись теплицы, каменные оранжереи, парники для ананасов, за которыми смотрела армия садовников. Семьсот человек в течение двух лет разравнивали холм, на котором Демидов разбил свой сад. Следы его приметны и сейчас. Кроме того, сохранились от того времени «Ванный павильон» над прудом и «Летний домик» с коринфским портиком. Обе постройки типичной для того времени архитектуры.
Прокофий Демидов умер в 1786 году. Владение его сначала попало к княгине Вяземской, потом, в 1793 году, было куплено Федором Орловым и уже после его смерти перешло брату Алексею. При новом владельце демидовский сад был постепенно заброшен. Орлов, страстный лошадник, понастроил на месте оранжерей и теплиц просторные конюшни, манеж, службы. Часть этих зданий уцелела до нашего времени.
Старинные владения, составившие впоследствии Нескучный сад, тянулись вдоль Большой Калужской улицы, ныне входящей в Ленинский проспект. Она начиналась от Калужских ворот у опоясывавшего заречную часть Москвы Земляного вала и кончалась у заставы, где теперь площадь Гагарина.
Прежние названия московских улиц, лучами расходившихся от Кремля, обычно соответствовали названию города, к которому вела продолжавшая их дорога. Так было и с древней Калужской улицей, начинавшей уже в XIV веке дорогу из Москвы на Калугу и Боровск. Она стала свидетельницей многих исторических событий, связанных с тяжкими испытаниями Родины. По Калужской дороге шли татары, совершавшие свои опустошительные набеги на Москву, по ней же проникали сюда польско-литовские шайки. В 1591 году возле Калужской дороги, на месте, где два года спустя был заложен Донской монастырь, расположился русский стан, выдвинутый против подходившего к Москве крымского хана Казы-Гирея. Проиграв сражение, татары отступили на юг, преследуемые русскими.
В 1612 году по Калужской дороге уходили окончательно выбитые из Москвы остатки полков гетмана Хоткевича, а спустя двести лет по ней двигалась армия Наполеона, пытавшегося прорваться к Калуге. Об этом рассказал Толстой, и, вероятно, для многих представление о Старой Калужской дороге неотделимо от сцен московского пожара и отступления французов мимо заставы, описанных в «Войне и мире».
Московская знать издавна облюбовала себе местность, расположенную между Калужской улицей и рекой, и ставила здесь свои загородные дворцы. Еще в XV веке на Воробьевых горах, возле Калужской дороги, стоял дворец Софьи Витовтовны, бабки Ивана III, купившей сельцо Воробьево на крутом берегу Москвы-реки. В 1547 году в этом дворце спасался от бушевавшего в Москве пожара Иван Грозный, позднее бывал здесь Борис Годунов, летом наезжал сюда с семьей Алексей Михайлович, чтобы потешиться в окрестных поемных лугах соколиной охотой и подивиться отсюда на свою белокаменную, именно при этом царе обстраивавшуюся и украшавшуюся особенно усердно, в соответствии с единым градостроительным планом, долженствующим представить Москву – третий Рим.
Имеется известие, что застигнутый внезапным набегом крымских татар во дворце на Воробьевых горах Василий III схоронился в стоге сена. Разграбив усадьбу, татары ушли, не обнаружив зарывшегося в сено царя…
Дворец на Воробьевых горах, срубленный из дубовых бревен, простоял очень долго и окончательно опустел лишь в середине XVIII века – от него к тому времени оставалась одна высокая каменная подклеть, послужившая фундаментом для Пречистенского дворца, перевезенного сюда в 1778 году. В царствование Елизаветы тут была разбита «регулярная перспективная роща», остатки которой – огромные дуплистые березы – еще стояли тут в начале нынешнего века.
Теперь на месте дворца павильон над резервуаром Рублевского водопровода. Отмечу мимоходом, что его сооружение вызывало восхищение современников, пораженных грандиозностью затеи: воду провели на Воробьевы горы от села Рублево за целых пятнадцать верст!..
Именно с этой точки – недаром ее облюбовали цари! – открывался восхитительный вид Москвы, и патриоты города любили привозить сюда гостей, чтобы поразить их необычайной панорамой. Отсюда налево, если стоять лицом к реке, видны Дорогомилово, Поклонная гора, храм в Филях – места и названия, неразрывно связанные с памятью о славном 1812 годе! По правую руку открываются Мамонова дача, Нескучный сад и строения больниц.
Рядом с царским дворцом на Воробьевых горах находилось сельцо Васильевское, принадлежавшее во второй половине XVIII века московскому главнокомандующему князю Долгорукову-Крымскому, не раз устраивавшему тут праздники, на которых бывала Екатерина II. От Долгоруковых имение перешло к Юсуповым, от них – графам Дмитриевым-Мамоновым и с тех пор стало известно москвичам под именем Мамоновой дачи. Род этот угас в середине прошлого века, и дачу купил московский купец Ноев, устроивший на ней садовое хозяйство, которое вскоре приобрел город, присоединив угодья дачи к публичному парку.
Возле Мамоновой дачи пролегает глубокий овраг, на южной стороне которого находился Андреевский монастырь XVII века, упраздненный еще при Екатерине. Монастырские постройки были сначала использованы под «покои для безумных», затем под женский работный дом, а в исходе XIX века Московское купеческое общество разместило тут богадельню.
Противоположный – северный – скат оврага принадлежал усадьбе князей Трубецких, от которых в первой четверти прошлого века перешла она прапорщику князю Шаховскому, поспешившему ее продать. Покупатель сыскался незаурядный – сам царь Николай Павлович, пожелавший после коронации подарить жене подмосковную. Как раз имение Шаховского называлось «Нескучным»; это название впоследствии распространилось на все три крупные усадьбы и несколько мелких участков (которые были скуплены казной в промежуток между 1826 и 1843 годом), образовавших знакомый нам Нескучный сад.
Упоминая отдельных владельцев усадеб, позднее в него вошедших, мне хочется назвать соседа Голицынской дачи обер-провиантмейстера Николая Максимовича Походяшина, уж никак не принадлежавшего к заселившей этот район знати. Отец его был сибиряком, простым извозчиком, возившим руду на Алтайских заводах. Ему посчастливилось открыть медные рудники, на которых он составил себе миллионное состояние. Любопытна фигура Григория, брата обер-провиантмейстера. Он сблизился с Николаем Ивановичем Новиковым и стал давать ему крупные суммы на благотворительность. Раздав таким образом свое состояние, он умер в нищете.
«Ванный павильон» Нескучного сада, построен в ХVIII векеТруднее всего казне оказалось поладить с владелицей третьей усадьбы – княгиней Голицыной, прозванной Пиковой дамой. Старуха была нравная и не уступила Николаю свою усадьбу. Ему, чтобы округлить свои приобретения над Москвой-рекой, пришлось ждать смерти княгини, с которой она не торопилась: княгиня умерла только в 1837 году, на 93-м году жизни. Ее сын, московский военный генерал-губернатор, уступил царю усадьбу в 1843 году. К тому времени бывшее демидовское владение было уже в руках казны, заплатившей графине Анне Орловой за него 800 000 рублей; начались крупные переделки и приспособление Нескучного под царскую резиденцию. Все работы царь поручил архитектору Е.А. Тюрину, ученику Казакова, до того участвовавшему в восстановлении университета.
Возле старого демидовского дома был выстроен павильон гауптвахты, превосходный образец николаевского ампира, пришедшего на смену более легким и изящным канонам раннего классицизма. Павильон невелик по размерам, но производит монументальное впечатление благодаря массивным дорическим колоннам, поддерживающим грузный аттик. Архитектор скупо украсил постройку лепными медальонами и фризом, придав ей подчеркнуто суровый вид, от павильона веет холодом казармы, однако в лаконизме линий, рассчитанных пропорциях и всей композиции ощущается талант строителя, отразившего дух своего времени. Гауптвахту и массивные ворота со скульптурами, приписываемыми Витали, интересно сопоставить с уцелевшими постройками Нескучного XVIII века – «Летним домиком» и «Ванным павильоном» над прудом: две близкие по времени и вовсе разные эпохи в истории русской архитектуры…
Дом Демидова подвергся сравнительно незначительным переделкам, хотя существует мнение, что придавшие фасаду известную сухость и дробность металлические балконы и некоторые другие детали принадлежат Тюрину, шедшему навстречу вкусам новых владельцев. Дом стал называться Александрийским дворцом, по имени жены Николая Александры Федоровны. Конюшни Орлова пришлось расширить: место его рысаков заняли лошади размещенного в Нескучном эскадрона кавалерии.
Наряду с архитекторами – Е.Д. Тюриным и Н.Л. Мироновским, – занятыми переделками дома и остальных строений усадьбы, в Нескучном работали садовники под руководством известного садовода Пелецеля, разбившего на месте прежнего регулярного сада версальского типа парк в английском вкусе общей площадью в 57 десятин (несколько больше 60 гектаров). В путеводителе 1831 года он описан следующими словами:
«Сад сей, своим местоположением, неправильностью и огромностью дерев, оставленных расти по назначению природы, походит более на рощу с расчищенными дорожками. Деревья не подстригаются, не образуют ни павильонов, ни аллей, ни боскетов; всюду видна природа в безыскусственном ее образе».
Нескучный (Александринский) дворецРассказывая о Нескучном саде, следует упомянуть об огромной его популярности среди москвичей. После того как отгремела по вельможным усадьбам праздничная и пышная жизнь последних могикан екатерининского времени и они опустели, стали перестраиваться под резиденцию царского двора, сад был открыт для публики, и этим широко пользовались. Особенно привлекло горожан открытие в Нескучном «Воздушного театра», то есть театра на открытом воздухе, в котором декорациями служили кусты и деревья сада. Начиная с 1830 года в этом театре, рассчитанном на полторы тысячи мест, спектакли ставились два раза в неделю. Вот как описывает их князь П.И. Шаликов в «Московских ведомостях»:
«Театр открыт 15 июня водевилем «Два учителя», дивертисманом Семик и заключился большим фейерверком. Вторым спектаклем, 18 июня, была национальная опера наша «Мельник», прекрасно разыгранная, с русским дивертисманом и с фейерверком же. В третий раз 22 июня дана комедия «Новый Стерн», опера «Жидовская корчма» и дивертисман «Колонист».
…Из репертуара Императорского московского театра выбираются для сего театра такие пьесы, которые не требуют иных декораций, кроме созданных рукою природы, не везде оживотворяемой кистью Гонзаговой. В особенности русские пляски и русские песни чрезвычайно милы на этой русской сцене. Есть и балеты, которые могут украситься ею, и танцы наших Терпсихор, наших Зефиров покажутся еще блистательнейшими. Полковая музыка, нередко сменяющая оркестр сего театра, придает новую прелесть прелести сцены. Мы видели дам и в креслах. Должно еще заметить, что в сем театре везде слышно очень хорошо.
…В русском Колизее недоставало мест для бесчисленной публики, стекавшейся в сад… Гуляющие не могли, казалось, насладиться ни прекрасным вечером, ни пленительным местом. Знаменитая гостья наша, г-жа Зонтаг, любовалась им и, стоя на чрезвычайном возвышении пред изгибающейся Москвой-рекой, за которой расстилается прелестная долина с Девичьим монастырем, увенчанная Воробьевыми горами и красующейся картиной столицы, говорила, что не много видела подобных мест. Сия видевшая почти целую Европу певица-актриса отзывалась с непритворным восхищением о нашем Колизее и нашем балете».
В театре Нескучного сада неоднократно играл знаменитый актер Мочалов.
Театральные представления продолжались в Нескучном саду четыре года, а затем они прекратились, и мода на посещение Нескучного сада прошла, как это случилось прежде с гуляньями на Пресненских прудах. Москвичи потянулись в Петровский парк, где стала себе строить дачи знать. Здесь был открыт театр, куда перенесла спектакли труппа императорских театров. Здание Колизея было продано купцу Смирнову на слом, и сад сделался местом праздничного гулянья демократических слоев населения, чиновничества и учащейся молодежи. Припомним, что здесь, с учебником Кайданова под мышкой, бродил молодой герой повести Тургенева «Первая любовь».
Эти гулянья устраивались в Нескучном саду по праздникам. Бывали иллюминации, фейерверки и то, что ныне называется аттракционами. В сороковых годах привлекали сюда всю Москву «поднятия на воздушном шаре».
«Знаменитый Робертсон, – читаем мы в современной хронике, – в Нескучном саду два раза предпринимал свои воздушные путешествия с аэростатом огромной величины, а неустрашимый Александер, ученик известного Гарнерена, поднявшись на высоту тысяча двести сажень, с парашютом опустился на землю».
Писатель Загоскин, автор поныне читаемого романа «Юрий Милославский» и, того более, запомнившийся по «Ревизору» Гоголя, был большой патриот Москвы и, как он рассказывает в своих записках, не упускал случая похвалиться городом перед приезжими иностранцами. Усадив гостя в коляску, Загоскин первым делом вез его на Воробьевы горы, чтобы оттуда показать места, связанные с поучительной для иностранцев судьбой Наполеона. Затем не спеша ехал по Большой Калужской улице. С особенной гордостью давал он объяснения по поводу огромных больничных палат, выстроенных в начале тридцатых годов на средства князя Голицына, русского посла в Вене. Не успевал гость выразить свое восхищение размахом благотворительности русских, подивиться размерам и дворцовому облику больницы, как коляска уже ехала мимо Первой градской больницы, и тут Загоскину было раздолье превозносить человеколюбие своих соотечественников и заботы правительства.
И нас спустя полтора века вид этих двух больниц не оставляет равнодушными. Разумеется, мы уже не можем по-загоскински восхищаться щедростью богачей, не возвращавших, думается мне, стране своими пожертвованиями и малой доли средств и благ, достававшихся на их долю далеко не всегда по заслугам, но нас и сейчас поражает заложенный в этих постройках расчет на будущее, на выросший город, побудивший проектировщиков размахнуться на палаты, составляющие и ныне весомое звено в больничном фонде современной Москвы с многомиллионным населением. Восхищает нас и художественное совершенство возведенных ансамблей. И Казаков, построивший Голицынскую больницу, и Бове, автор проекта и строитель Первой градской больницы, создали здания, составляющие украшение города.
Церковь при Голицынской больнице, XIX векВладение с садом и прудами, занимавшее около двадцати гектаров, было куплено основателем больницы князем Голицыным у прежнего владельца, барона Строганова, в 1795 году, специально для нее. Упомянем мимоходом, что Строганову усадьба была уступлена Екатериной I, женой Петра, владевшей ею совместно с князем Прозоровским, в 1728 году, а соседняя с нею усадьба принадлежала Салтычихе… Кто знает, не сохранились ли под зданиями больницы остатки фундаментов проклятой усадьбы с подвалами, где терзала своих дворовых бесчеловечная владелица?..
Строить больницу начали в июле 1796 года и открыли ее через шесть лет – в 1802 году. Голицынская больница считается одним из лучших творений Казакова. Архитектор почти отказался от декоративных украшений, однако достиг поразительного эффекта величественными пропорциями и планировкой здания, окаймляющего обширный курдонер. Центром ансамбля является главное здание со строгой колоннадой и мощным куполом. Позади больниц Казаковым разбит великолепный парк, спускающийся к Москве-реке, где он оканчивается каменной набережной с двумя прекрасными беседками-ротондами по краям. Они находятся сейчас на территории Парка культуры и отдыха имени Горького. Нельзя не указать на поразительно точно выбранное Казаковым место для возведения больницы: она прекрасно смотрится с улицы и составляет величественную картину со стороны реки.
В 1828 году дочь графа Орлова-Чесменского продала часть владений по Большой Калужской улице городу за 200 000 рублей для устройства больницы. Главное здание по проекту О. Бове было заложено в мае того же года и окончено в 1832 году. Центральный корпус больницы имеет мощную ионическую колоннаду. Здание увенчано куполом с широкими полукруглыми окнами в барабане и украшено скульптурным орнаментом. Вместе с пристройками больница составляет один из лучших архитектурных ансамблей Москвы тридцатых годов прошлого века.
На территории этих двух больниц много зелени – это остатки садов и питомников Демидова, о которых говорилось выше. Сохранившиеся аллеи где лучами расходятся от центральной площадки, где прихотливо вьются меж стенок подстриженных кустов, отмечают лестничками прежние террасы, нарытые крепостными Демидова. Искусно использованы для создания живописных поворотов дорожек овраги; через них перекинуты мостики, за которыми – холмики, некогда увенчанные беседками со скамьями, откуда открывался особенно живописный вид на реку и левый берег… Все здесь свидетельствует о высокой культуре русских садоводов, умело использовавших рельеф и особенности места, чтобы создать ландшафт, в котором искусство и природа сливаются в согласное целое. Нескучному саду, в который входили прежде больничные территории, принадлежит почтенное место в ряду прославленных парковых ансамблей отечественных садоводов, таких, как Гатчинский, Павловский и другие. В нынешнем виде Нескучный сад наряду с Измайловским парком, Сокольниками, остатками садов Коломенского составляет драгоценную часть зеленого наследия Москвы.АрбатВ ныне уже далекие дни моей молодости я жил в Арбатских переулках, в доме, выходившем углом на небольшую, вымощенную булыжником, кособокую площадь со странным названием Собачья площадка и с журчавшей посередине старозаветной, затененной купой чахлых деревцев водоразборной колонкой, оправленной в камень. Из таких колонок в старину наливали ведра и наполняли нескладным черпаком бочки на колеснях. Я так и не доискался в то время, откуда такое прозвище, а ныне, когда она сделалась понятием отвлеченным, уже не лежит душа этим заниматься…
Знал я только, что в небольшом одноэтажном деревянном доме напротив моего жительства, где помещались булочная и зеленная, жил в свое время Сергей Александрович Соболевский, друг Пушкина, у которого поэт непременно бывал в московские свои наезды. И я, не думая об истинной хронологии жизни поэта, видел уже свой уткнувшийся в Собачью площадку Борисоглебский переулок кое-как вымощенным и еле освещенным масляными коптящими фонарями, и слышались мне доносящиеся из распахнутого окошка голоса, обрывки оживленного рассказа поэта, взрывы смеха… Потом оба друга показывались на крыльце и отправлялись, может быть, по переулку в сторону Поварской и дальше, за Никитские ворота, к Вяземскому, не то поближе, через Арбат, в Гагаринский переулок, в нащокинский дом. Впрочем, жили тут, в Арбатских переулках, многие друзья и приятели Пушкина, и тем более – знакомого со всей Москвой Соболевского, и не в одном доме по соседству гостеприимно растворялись перед ними двери…
Особняк, где я помещался в вестибюле, находчиво приспособленном прежними его владельцами под неуютное студенческое жилье, со ступенями закопченного подъезда, с двором, по-деревенски заросшим гусятником, по-московски широким и застроенным, с ветхим флигельком дворника, с пахнущей затхлым порожней конюшней, с погребком обращен был к Молчановке – длинной извилистой улице, названной по стоявшему на ней некогда двору стрелецкого полковника Михаила Молчанова, отличившегося в сражении с поляками у Арбатских ворот. Не заходил ли этот храбрый рубака в видную с моего угла церковку Николы «на курьих ножках»? Проходя мимо, я гадал, где тут грудились выбрасываемые из царских поварен, расположенных поблизости, остатки или обглоданные царскими гостями птичьи косточки, возле которых возвели церковь?.. Или представлял себе на этом месте расчищенный бор с полянкой, где на оставшихся от сваленных сосен пнях срубили часовенку, похожую на избушку на курьих ножках… Какой легенде верить? Достоверно лишь то, что здесь, у дороги из Кремля в Новинский монастырь, где жил митрополит, русские люди, грудью отстаивавшие Москву от чужеземцев, поставили три с лишним века назад церквушку и поселены тут были военные: чуть подальше переулок все еще назывался Каковинским, по стрелецкому полку полковника Каковина. Где-то жили тут и царские кречетники.
Молчановка, Кречетниковский переулок, Серебряный… Ежедневно я попадал в заключенный в них мирок, всякая черточка которого хранит отпечаток минувшего. Тут было тихо и несуетно. Не затолкают спешащие прохожие на узеньких тротуарах, выложенных кое-где плитами, с низкими покосившимися каменными тумбами по обе стороны воротных проемов, чтобы заезжавшие во двор экипажи и подводы не черкали концами осей по штукатурке, придающей деревянному дому вид каменного. Они в моих переулках на каждом шагу, эти обветшалые особнячки с отшелушившейся с тесовой обшивки краской, со щербатыми балконами, на которые давно нельзя ступить – дверь на них забита, искривилась и выпирает из пазов, набухнув от дождей, – с непременным подобием фронтона с колоннами, иногда просто обозначенными выступающей, закрашенной в общий цвет доской с заменяющим капитель реечным карнизиком наверху. Нет и крыльца перед парадной дверью, жильцы шмыгают в калитку или лишенные створок ворота, заходят в дом через прежний черный ход во дворе.
Была у меня в те поры тетка, коренная москвичка. Мне приходилось изредка провожать ее, когда она выбиралась навестить кого-нибудь из своих знакомых. Ни одного номера дома, мимо которых мы шли, переходя из одного переулка в другой, она, по старой московской привычке, не знала, а попросту говорила: «Это рядом с теми-то» или: «Напротив той-то», «В доме того-то»… Живая летопись старой арбатской Москвы, о которой мне, петербуржцу, доводилось только читать!
Мы шли, и тетушка показывала дом на углу Молчановки и Серебряного переулка, у прабабки последнего владельца которого жил в 1815 году автор «Семейной хроники»; чуть дальше – подробно передавала историю особнячка, где влюбленный Лермонтов навещал Вареньку Лопухину, и это задолго до того, как особняк сделался музеем поэта. Как ей было этого не знать, если кто-то из лопухинских потомков доживал век в одном из этих переулков, где знали друг друга по-деревенски, от одного конца улицы до другого! И в родстве до седьмого колена разбирались в этих особнячках, как нигде больше.
Домики рассказывали. В Трубниковском переулке когда-то против подъезда дома дочери знаменитого генерала Ермолова – старой девы – тротуар в день ангела хозяйки застилался красной дорожкой и съезжавшихся со всей Москвы поздравить именинницу визитеров встречал дряхлый швейцар в шинели с поблекшими позументами, а дежуривший возле околоточный цыкал на подъезжавших кудлатых «ванек» и почтительно косился на грузных кучеров карет и колясок. Я заглядывал в потускневшие стекла окон дома Хомяковых на Молчановке, в Спасо-Песковском останавливался против нарядного фасада двухэтажного особняка: его хозяйка, жена славянофила Дмитрия Николаевича Свербеева, дочь декабриста Трубецкого, принимала здесь гостей своего литературного салона и слушала стихи, посвященные ей Боратынским.
Передавала тетушка и всякие анекдоты, напоминавшие герценовские, и мне жаль теперь, что я их не записывал.
«Вот эту разукрашенную бонбоньерку, – рассказывала тетушка, указывая на богатый, затейливый особняк на Поварской, – выстроил себе чайный фабрикант Высоцкий. Он любил ходить по соседям: придет и развлекает общество забавными рассказами. Принимали его охотно и в самых чванных домах; двери распахивали его миллионы, да и был он неподражаемо остроумен. Так вот он говорил о своем сыне, тогда одном из лидеров эсеров, эмигрировавшем потом за границу: «Он будет, возможно, управлять Россией, но моей чайной фабрикой – никогда!»
У одного из подъездов огромного серого доходного дома, охраняемого геральдическим львом с лапой на щите, тетушка мне поведала, что построил его легендарный русский силач борец Иван Поддубный: клал себе всю жизнь на обе лопатки противников, дома и за границей, ни разу никому не поддавшись, и так же успешно накапливал капиталец, решив, что надо прочно обеспечиться ко времени, когда сдадут мышцы, и зажить благополучным домовладельцем…
Церковь Иоанна Предтечи, стояла в Староконюшенном переулке, построена в 1653 году
На Спасо-Песковской площадке ( «Знаешь ли ты, что это «Московский дворик» Поленова!» – не забывала поинтересоваться тетушка) частично загораживал вид на знатный особняк с центральным куполом бедный и невзрачный двухэтажный дом, поставленный у чугунной ограды.
Владелец его, скромный отставной военный, живший на ничтожную пенсию, умер, так и не соблазнившись великими тысячами, с какими набивался сосед, миллионер-коммерсант Второв, желавший приобрести его владение, чтобы убрать мозолившую ему глаза убогую постройку. Этот кряжистый сибиряк сумел вытеснить англичан с их манчестерскими ситцами с персидского и китайского рынков, заторговал своими, русскими, а вот с мелюзгой, упершимся строптивцем: «Не позволю растузившемуся богатею ломать родительский дом!» – не мог справиться…
Переулки рассказывают… Воображение воскрешает важные и пустяковые дела прошедшего, населяет их милыми и немилыми призраками, они возникают не отделенными от тянущихся над тротуарами домов и выглядывающих из-за вековых деревьев флигелей, видевших эту отшумевшую жизнь, из которой вытекала наша…
Когда-то постаревший Тургенев, вдалеке от Родины, одинокий в окружении близкой семьи, друзей и почитателей, стал писать отрывки, в которые вкладывал всю мучительную свою, безысходную тоску по ушедшему, стремясь удержать, увековечить в легших на бумагу словах память об умерших чувствах, отговоренных речах, горечь бесследного забвения всего, что составляет неповторимую человеческую жизнь, обреченную исчезновению… Строки его приумножили богатство русской литературы, их читают, смакуя язык и отточенность фраз, скульптурно облекающих каждую мысль, каждый оттенок чувства, но… нужно ли людям это ничего не меняющее и ничего им не дающее оглядывание назад? В самом деле, нужны ли теперь места, населенные воспоминаниями?Это небольшое элегическое вступление к рассказу о прогулке по проспекту Калинина должно, как мне кажется, подготовить читателя к впечатлениям и размышлениям, отличным от тех, какие могут возникнуть у человека, не оставившего частицу своего «я» в закоулках старой Москвы, о каких тут шла речь. Справедливости ради мне необходимо добавить, что на задворках крохотных домовладений арбатских улочек скапливалось изрядно грязи, что жить в кое-как приспособленных, разгороженных ободранными перегородками прежних «покоях» и всяких зальцах со щербатыми паркетами, прогнившими, промерзающими зимой углами, подтекающим водопроводом и неутихающими сварами между жильцами, обреченными устанавливать очередь на пользование видавшей лучшие дни ванной комнатой и толкаться в полутемной кухне с полудюжиной шипящих примусов, было отнюдь не сладко. Поэзия арбатских переулков не существовала для тех, кому приходилось годами ютиться в мансардах набитых народом особнячков, некогда предназначенных для жизни одной семьи…
А теперь к делу.
Строительство проспекта Калинина вызвало, как известно, много споров и разногласий, не разрешенных, пожалуй, по сие время. У магистрали есть защитники, горячие сторонники, готовые считать авторов ее достойными премирования, но есть у нее – и немало – критиков, не менее убежденных отрицателей. Это вполне закономерно: прокладывание широкой магистрали на месте давно обжитой, застроенной части старинного города – дело в целом новое, глубоко отзывающееся на его исторической самобытности. Да и масштабы дела, как и неясность дальнейших перспектив развития новой трассы, объясняют страстность порожденных дискуссий – они идут вокруг проблем, затрагивающих будущее города.
Выиграла ли древняя столица от произведенных изменений, в корне преобразивших целый район, складывавшийся столетиями, или проиграла? Вопрос этот отнюдь не риторический, ибо ответ на него должен указать, следует ли и дальше подобным образом перекраивать прежний, средневековый центр Москвы, или надо находить другие пути для ее роста, дальнейшего благоустройства и модернизации.
…Что, помимо Кремля, возникает перед мысленным взором при словах «старая Москва»? Вспоминаются такие улицы, как Кировская, с домами, воплотившими в малых масштабах обаяние целых эпох русской архитектуры: классический особняк Барышниковых, построенный Матвеем Казаковым, дом с пышным фасадом, воздвигнутый архитектором Франческо Кампорези; в контрасте с ним – четкие линии здания Центросоюза, иллюстрирующие изменение архитектурных форм. Вспоминается великолепная Меншикова башня, непревзойденный образец отечественной архитектуры XVIII века. И Старая Басманная, ныне улица Маркса, непостижимо сохранившая дворец отца Грозного, щеголяющая пышным барокко церкви Никиты Мученика и палатами Демидова со знаменитыми золотыми залами… Далее Кропоткинская улица с Музеем Пушкина – типично московским особняком, могущим служить образцом вкуса и стиля; кущи Нескучного сада с белеющими за деревьями колоннами и портиками старых построек; кокошники, главки и пояски гребешков церквей Замоскворечья; и, разумеется, поэтические Арбатские переулки…
Всему перечисленному – не охватившему и малой доли примечательностей московских – присущ свой облик, своя стать – своеобразие города, сохранявшего на протяжении веков свое неповторимое лицо и планировку, определявшиеся его местоположением и легшие в основу градостроительных идей и представлений, выработанных историей. Тут эволюция, основанная на преемственности и национальных традициях.
Но вот мы на проспекте Калинина, и сразу ощущение, что попал в иной мир. Та Москва, с ее привычными масштабами и пропорциями, осталась за его пределами. Перед глазами нечто принципиально отличное, у нас невиданное, разве только на киноэкранах… Не сочтешь этажей вознесшихся кверху плоских зданий – непременно собьешься! Они снизу доверху однородны, без единого разделяющего признака: бесчисленные стандартные проемы одинаковых окон, как поставленные вертикально шашечницы с несколько удлиненными квадратами полей. Глаз, утомленный бесплодными поисками детали, способной остановить внимание, заинтересовать, покидает горние высоты…
Церковь Николая Чудотворца «на песках», стояла в Серебряном переулке. XVII векВнизу – уходящая вдаль стенка стекла под нависшими козырьками карнизов с растянутыми надписями, и ощутимо многометровые расстояния. Если для автомобилиста панорама проспекта менее километра длиной – минутное видение и в общем отвечает современным представлениям о темпах жизни, которая непременно должна мчаться куда-то, чтобы мельтешили вокруг люди, события – на экранах и на улицах, – то для пешехода на проспекте все удалено, слишком велико, растянуто в длину, гипертрофировано. То же ощущение возникает, когда проходишь по узкой улице мимо огромного здания – оно подавляет. Пропорции проспекта Калинина рассчитаны в первую очередь на проезжающих, а не пешеходов: это прежде всего транспортная магистраль, совмещенная с торгово-общественным центром…
Подлинным разочарованием оборачивается «сарайность» ресторана «Арбат», строители которого, очевидно, поставили себе целью создать «самый большой на планете». Три тысячи мест – цифра, бесспорно, внушительная, но не подходит ли она более к аэровокзалу или стадиону, нежели к помещению, куда пришел один, вдвоем или в компании посидеть в пристойной веселой обстановке, чтобы побыть на людях, и в то же время быть отобщенным от лишних шума, толкотни и публичности? Тут – непрерывное гудение улья. Если музыка оркестра слышна даже за столиками, расставленными на «галерке», то обозрение эстрады доступно лишь посетителям, занявшим места у парапета балкона, а внизу – в непосредственной близости от подмостков. Грандиозные масштабы повинны, несомненно, в нерасторопности сервиса в этом ресторане. Во всяком случае, досужно, пока дождешься своей очереди, вспомнить о нарядных и уютных залах «Праги», «Метрополя», «Славянского базара», где посетитель не чувствует себя затерянным в шумливом муравейнике…
И все же, выйдя в несколько ворчливом настроении из ресторана и взглянув с его ступеней на проспект, чувствуешь, как изгоняет дурное впечатление открывшаяся глазу панорама: есть, черт побери, в ней привлекательная и понятная сторона! И высотные дома, и сплошной строй остекленных магазинов и косметических залов – принадлежность времени, присущее городской жизни восьмидесятых годов XX века обрамление! Нельзя ныне не строить гладкостенных небоскребов и сквозных остекленных магазинов, где все на виду. Я припоминаю, что в перестроенном «Гостином дворе» в Ленинграде, с его осовремененными помещениями, у меня было ощущение провинциальности, что ли… Пусть это дань моде, поветрие, и ему на смену придут, несомненно, иные вкусы и требования, но вряд ли можно сейчас обстраивать и развивать наши города иначе, чем по стандартам и методам, разработанным и усовершенствованным за рубежом в тот затянувшийся период, когда отечественные архитекторы топтались вокруг постройки единичных домов-монументов и были отучены думать о массовом строительстве жилья!
…Медленно иду вдоль тротуара. Его ширина исключает толчею: всегда найдешь место, чтобы идти свободно. На некоторых зданиях декоративные панно, не слишком смелые попытки полихромного оформления фасадов торговых помещений. Это, разумеется, хорошо: надо же глазу найти, на чем остановиться в однообразном чередовании поблескивающих стекол и шероховатых поверхностей! Но вот беда: откуда смотреть эти фигуры, то, сблизи, не в меру крупные, то сливающиеся, если глядишь издали, в невыразительные пятна, да еще с отрезанными выступающими козырьками зданий ногами. Словно декораторы сами не вполне уяснили себе, откуда и кто будет смотреть их панно – обитатели высотных этажей, прохожие или несущиеся по проспекту автомобилисты?
Прогулка по проспекту усугубляет чувство оторванности от Москвы, он от нее отгорожен сплошными стеклянными галереями и вырастающими из галерей желто-серыми жесткими плоскостями небоскребов. Тут чувствуешь, что городу задан новый высотный и линейный масштаб, новый ритм, и невольно возникает вопрос: как сомкнуть оба мира – стихию исторического своеобразия древнего города и нахлынувшую извне новизну, общемировой стиль, принятый на веру, без переработки и попыток создать на его основе свое, отечественное. Нужны зодчие такого могучего таланта, как Казаков или Росси, чтобы создавать свою национальную архитектуру, не чураясь при этом внешних течений и зарубежных школ. Однако по заказу Казаковы и Росси не рождаются.
Мне кажется, Калининский проспект не вписался в застройку старого города ни на основе смелых, но продуманных противопоставлений, ни на основе выразительных перепадов высот или созвучных ритмов – он остался инородным телом, новым организмом, который – сам по себе. Ему нет дела ни до чего вокруг. Он растолкал, снес или убрал все, что было тут прежде и не позволяло ему поднять к небу свои многоярусные параллелепипеды, не заботясь о том, как эти параллелепипеды смотрятся рядом с уцелевшей у подножья их старой застройкой.
Есть исключение: сохраненная на холмике церковь Симеона Столпника. Ступив на тротуар проспекта со стороны исчезнувшей Арбатской площади, невольно смотришь на этот отреставрированный сколок архитектуры прошлого, оцениваешь, как глядятся шатер колокольни и главки на сплошном стеклянном фоне и – что скрывать! – радуешься, что сохранена эта игрушка, как бы вступившая в состязание с разливом новых пропорций, материалов и масштабов! Сопоставление их способно внушить современному строителю гордость за технические свершения и умение создать для обиходной жизни обрамление таких размеров и такого сверкания… Может задуматься современник и над источниками символов и форм, какими в разные эпохи питается творчество зодчего…
Что ж, любые размышления по поводу того, что открылось глазу, полезнее и плодотворнее зрелища, не порождающего никаких мыслей, и церковь XVII века над тротуаром модернистского проспекта, под сенью геометрического силуэта современного человеческого жилья, разумеется, на месте. Жаль, что главки церкви лишили крестов, без которых этого рода памятники, как известно, не смотрятся. Недоумеваешь: неужели в наше время кто-то способен видеть в крестах магический символ, опасный для безбожников и нечистой силы?! Почему не восстановить их на этой церкви, когда поновляются и исправно покрываются золотом кресты по соседству, на тех же кремлевских соборах? Огорчительно и то, что в планировке пространства вокруг церкви бросается в глаза поспешность решения: нельзя было, очевидно, строить небоскреб впритык к ней, создавая неуместный проулок. И все же, когда разрастутся вокруг церкви березы и сверкнет над ее куполками золото крестов, это вкрапление старого в масштабы и ритм проспекта придаст ему интересный акцент. Как-никак здесь пусть и не вполне удачная, но все же попытка сближения, а не бездумного отгораживания от исторической застройки или ее уничтожения.
…Теперь надо найти лазейку в сплошной стене магазинов и заглянуть в тыл проспекта. Оказывается, он обращен к городу выступами зданий, глухими стенами, контрфорсами, жерлами подземных складов, всем, что прячут обычно внутренние дворы. Здесь – задворки, с обрывами переулков и рассеченных улиц старых кварталов. Все тут сделалось случайным, неприглядным, взывающим об упорядочении и переменах. Архитекторы Калининского проспекта словно пренебрегли старой планировкой, не позаботились, как он впишется в Арбатские переулки. Можно ли найти теперь удовлетворительное решение, сделать так, чтобы Калининский проспект не выглядел траншеей, при копке которой образовались валы земли, засыпавшей и примявшей кусты и траву по бокам? Задача сложная…
И тут мы касаемся самой серьезной, на мой взгляд, стороны проблемы, возникшей после того, как от Бульварного кольца к реке пролег отрезок «магистрали будущего». Я упомянул выше, что неясны – и для самих градостроителей – перспективы дальнейшего развития проспекта: что делать с ним дальше? Всем очевидно – следующий шаг неизбежен. И, надо полагать, что для многих непонятно, в каком именно направлении его придется делать?
На территории центра Москвы, занимающей, в пределах Садового кольца, всего два процента общей площади города, нельзя разрешить никаких градостроительных проблем общего значения. Москва давно переросла свое средневековое ядро. И так очевидно, насколько приспела пора развивать и застраивать многоэтажными домами новые районы города, давать им Калининские проспекты, устремлять туда людские потоки, создавая там центры притяжения. Москву историческую, ту, что сложилась в пределах Земляного вала, надо считать заповедным наследием, памятником истории народа, принадлежащим и потомкам. Ее надо украшать, тактично убирать отсюда уродливое, случайное, наносное, возводить здесь только красивые, уникальные здания, которые бы не нарушали традиционного облика старых улиц, наполнить зеленью…
Жителям Москвы так часто приходится убеждаться в справедливости этих слов! К вечеру, когда прекращается работа в учреждениях и наступают часы оживленной торговли, центральные станции метро и переходы бывают заполнены плотной, нерассасывающейся толпой. На путь от дверей павильона до эскалатора затрачиваешь больше времени, чем на проезд к вокзалам или дальним станциям. Люди вырываются оттуда измятые, взмокшие и… униженные! В самом деле! Разве так уж необходимо множить в центре универмаги, рестораны, театры, гостиницы, крупные учреждения, а нельзя их рассредоточить, завести в дальних районах все, что притягивает, как магнит, к ГУМам и ЦУМам, ресторациям на три тысячи посадочных мест, залам кино размером с ангар? Разве неизбежны создаваемые этим недальновидным развитием центра неразрешимые транспортные проблемы, давка, пробки?
Если так продолжать, не хватит никаких Калининских проспектов, чтоб справиться с потоками машин и пешеходов.
Калининские проспекты нужны, уместны и допустимы только там, где их прокладывание не влечет за собой утрат духовных ценностей. Строить их на костях исторических районов противоречит представлениям о преемственности культуры и искусства, в том числе и архитектуры.По новым стогнам старого градаМогучий рост Москвы, ее «шаги саженьи» в будущее, широта размаха и масштаб новой планировки всего полнее и нагляднее проявляются за пределами старого центра и даже вдалеке от него, там, где архитекторы вышли на просторы прежнего Подмосковья. Именно тут открылось достойное поприще для осуществления обращенных вперед архитектурных замыслов…
Вольная разбивка улиц и площадей в ряде новых столичных районов где-то уже привела к созданию кварталов и отдельных градообразующих узлов, воплощающих современные эстетические каноны, совмещенные с чисто бытовыми удобствами…
Если полтораста лет назад писатель Загоскин возил гостей на Воробьевы горы и Большую Калужскую улицу, дабы похвастать родным городом, то, я думаю, и сейчас можно смело приглашать приезжих побывать на Ленинских горах и Юго-Западе столицы: пусть полюбуются разбитым за университетом роскошным парком, его аллеями, переходящими в застроенные стильными современными домами бульвары, подивятся обилию зелени, панораме долины Сетуни, общие контуры которой уже проступили из нестройностей незавершенного строительства. Здесь можно найти не одну точку, откуда открывается незагороженный городской пейзаж. Здесь наши архитекторы следовали одной из драгоценных традиций своих предшественников – русских градостроителей прошлого, заботившихся о том, где ставить здание, не меньше, чем о его очертаниях, всегда обеспечивающих незагороженность перспективы. В этом районе Юго-Запада умело использован рельеф, неровности которого придают прелесть таким трассам, как Мосфильмовская улица или Воробьевское шоссе.
В застраиваемых районах Юго-Запада, как нигде больше, постигаешь значение живой зелени, великого союзника архитектора: строгость силуэтов и линий современных зданий резко спорит с прихотливостью очертаний древесных стволов и вершин, с округлыми формами куп зелени, и в этом контрасте глазу открывается интересное сочетание противоположностей.
Теперь на смену типовым пятиэтажным корпусам, характерным для строительства конца 1950-х – начала 1960-х годов, приходят все больше дома многоэтажные, представляющие счастливый отход от уныло плоскостных фасадов, придававших однообразный вид новостройкам тех лет. Я имею в виду дома со сложным многоугольником в плане, с лоджиями и выступами, выгодно оттеняющими игру света и тени на стенах. Их уже немало возведено и в центральных районах города. Но здесь им тесно, они не вписываются в окружающую застройку, да и неоткуда посмотреть на них. Иное дело, когда такие дома разбросаны группами по два и по три на просторных газонах, обрамлены купами и боскетами деревьев. И когда едешь мимо них по плавным закруглениям улицы-дороги, невольно думаешь, что тут добились «соединения сельских красот… с городским великолепием, смягченного живыми их приятностями и круглою чертой холодного прямоугольника архитектуры», о котором двести лет назад писал выдающийся русский архитектор Николай Львов.
Именно об этом думалось мне как-то, пока я разыскивал в районе Бескудникова нужный мне магазин «Свет», да еще о том, как несравнимы условия жизни здесь, среди зелени, с незагороженным солнцем, обилием воздуха и открытым кругозором, с проживанием в старых московских кварталах, на улицах с примыкающими друг к другу дореволюционными доходными домами, в каменных колодцах дворов со скупыми отсветами дня в окнах…
Тому, кто ездит по линии метро от «Киевской» до «Молодежной», легко убедиться в значительном качественном сдвиге застройки, произошедшем на наших глазах за последние несколько лет: стоит только в районе станций «Пионерская» или «Кунцевская» посмотреть на обе стороны трассы. Если по левую, в ранее застроенном Мазилове, тянутся порядки плоских одинаковых домов, составляющих вместе аморфную однотонную массу, то от дороги в направлении реки поднялись стройные и внушительные силуэты выгодно от них отличающихся недавно выстроенных «башен» в окружении отчасти сохраненных старых деревьев прежних подмосковных рощ.
Говоря о характере застройки новых районов, никак не обойдешься без упоминания Можайского шоссе, связывающего новые кварталы с городом и переходящего в Кутузовский проспект у Поклонной горы, подступы к которой еще можно назвать лесистыми: тут рощи, посадки, яблоневые сады, целый радующий глаз массив зелени…
Самый въезд в город по широкой магистрали, обрамленной полосами газонов и декоративных кустов, за которыми высятся образующие сужающийся к городу раструб симметрично расположенные стены огромных жилых домов, производит внушительное впечатление. Эти масштабы как бы предваряют дальнейшее: не ошеломляя, они говорят о величине и значении раскинувшегося за въездом города. О славе воздвигавшего его народа напоминает Триумфальная арка. Едва ли можно было во всей Москве найти более удачное место для этого полуторастолетнего памятника, чем здесь, в голове проспекта, поблизости от «Бородинской панорамы». Классические скульптуры арки и ордерные украшения отлично смотрятся на фоне громад этажей, отодвинутых настолько, что воспринимаются они как суровая и лаконичная рама памятнику доблести русских воинов.
Потоки машин обтекают памятник с двух сторон и мчатся дальше по проспекту, распланированному свободно, широко, так что тут исключены скопления и задержки транспорта. С двух сторон – многоэтажные протяженные дома, принадлежащие одному времени, но сильно отличающиеся друг от друга по замыслу и исполнению. Можно говорить об эклектичности проносящихся мимо фасадов, о перегруженности некоторых домов украшениями, о том, что строившие их архитекторы эпигонски шли по стопам своих непосредственных предшественников, застраивавших Москву в первом десятилетии века… Можно найти и другие основания для критики, но нельзя не признать, что Кутузовский проспект своими пропорциями и общим видом отвечает представлению о въездной магистрали города мирового значения. Перед глазами – трасса одной из главных столиц мира; в этом не усомнишься, окинув взглядом величественную перспективу с царственно плавным изгибом ее, украшенную классическим монументом – несомненным художественным шедевром! – в начале и завершающуюся среди лаконически решенных открытых пространств, у подножия гостиницы «Украина», перекликающейся затейливостью башен и шпилей с плоскостным силуэтом здания СЭВ на противоположном берегу реки.
Оно запоминается, это выдвинутое к воде, вознесшее к облакам плавный ритм своих линий здание, удивительно легко вписавшееся в панораму высокого берега Москвы-реки. И Сухарева башня находилась на Садовом кольце (на месте нынешней Колхозной площади), сооружена по инициативе Петра I архитектором М.И. Чоглоковым в 1692 – 1695 годах.
Хотя вокруг городская застройка – старая и новая – и стоит неподалеку церковь с шатровой колокольней, нет впечатления, что все вокруг этим зданием умалено и придавлено, а, наоборот, кажется, будто оно – объединяющий элемент ансамбля. Это определяется тем, что архитекторы не только нашли самое выигрышное место на прибрежном склоне, но и расположили у подножия здания одну над другой несколько просторных террас и площадок, охваченных спиралью пологого въезда. Здание СЭВ, – бесспорно, одно из архитектурных достопримечательностей Москвы – лишний раз подтверждает, что подобные огромные сооружения украшают городскую панораму, если им обеспечен достаточный простор.
Сделаю небольшое отступление в прошлое.
…Большинству москвичей памятен дом на улице Чайковского (Новинском бульваре), второй от проспекта Калинина со стороны реки, привлекающий внимание красивой колоннадой и огромными полуциркульными окнами дворцового облика в верхнем, пятом, этаже главного здания, с двумя крыльями пониже, ограничивающими порядочный парадный двор. Но вероятно, мало кто знает, что этот дом выстроил для себя, по своим рисункам, с помощью архитектора Александра Ивановича Таманяна, дилетант художник и архитектор С. А. Щербатов. И тем не менее мэтры-современники – Серов, Суриков, Врубель и другие – не признавали в нем коллегу, собрата-художника, а относились к нему как к знатному и богатому бездельнику, балующемуся от сытости искусством, что, естественно, обижало князя.
Уже в эмиграции Щербатов издал книжицу воспоминаний, посвятив более половины ее описанию постройки и отделки дома «под Новинским» – любимого детища, не послужившего, однако, признанию его таланта. Скажем мимоходом, что дом, безусловно, хорош, вознесенный парадный этаж производит эффектное впечатление, но нет на нем печати самобытного таланта зодчего.
Сухарева башня находилась на Садовом кольце (на месте нынешней Колхозной площади), сооружена по инициативе Петра I архитектором М.И. Чоглоковым в 1692 – 1695 годахСиятельный владелец не забыл ни одной мелочи убранства, росписи и отделки всех комнат своих роскошных апартаментов, господствовавших над этажами, сдаваемыми жильцам внаем и обеспечивавшими ему «жизнь в искусстве». Особенно элегических страниц заслужил вид из тыловых окон дома, обращенных к Москве-реке. Расстилались перед ними луга и хлебные поля, виднелись за деревьями деревенские крыши, колокольни сельских церквей над голубеющими плесами реки… Будь князь сейчас у своих окон, ему пришлось бы любоваться зданием СЭВ… Я об этом вспомнил, потому что вижу тут подтверждение своим наблюдениям: масштабные современные архитектурные сооружения не умещаются в рамках застройки старых городов. Зато там, где архитекторы не связаны традиционной планировкой, вольны ставить свои детища не где можно, а где нужно, возникают такие интересные и значительные здания, как СЭВ.
Прошло не более двух-трех десятилетий с тех пор, как в Москве не стало нескольких «трущобных» кварталов – в Дорогомилове, у Ваганьковского кладбища, на Масловке, в других районах, – и мало кто ныне, оказавшись на Кутузовском проспекте или на новых улицах за Пресненской заставой, может представить себе их прежние убожество и уродливость. Если и вспомнит старожил какие-нибудь Луговые переулки, тупики и задворки вдоль стены Армянского кладбища, то об их исчезновении никогда не пожалеет: убрано и уничтожено безобразное, говорящее о грязи и нужде, о серых буднях. Вставшая ныне на месте снесенных лачуг и слепых извозчичьих домишек застройка – иногда всего лишь первый шаг к дальнейшему благоустройству, наспех воздвигнутая, она призвана удовлетворить неотложные нужды в жилье; а иногда – это капитальные, продуманно расставленные и распланированные дома, предназначенные служить многим поколениям москвичей. Наши потомки будут когда-нибудь по виду застроенных нами улиц судить об уровне нашего благосостояния и вкусах, о культурных сдвигах и эволюции идеологии, как мы сейчас оцениваем отразившиеся в застройке послепожарной Москвы тогдашний подъем народного духа и социальные перемены, видим торжество частного предпринимательства, воплощенное в архитектурном наследии конца XIX века, отмечаем периоды расцвета и упадка искусства зодчих. Вид старых кварталов с восходящей к далеким векам застройкой расскажет будущим поколениям, как распоряжались мы наследием прошлого.
В старинных городах редко приходится строить на пустырях или на местах бывших трущоб. Тут чаще всего потребности городского современного уклада вступают в конфликт с тем, что объединяется в общую категорию памятников истории и культуры: на путях развития города оказываются оставленные предшественниками выразительные, нередко уникальные следы деятельности, встает память о замечательных людях прошлого, важных событиях.
Там, где вдумчиво решены проблемы взаимоотношений нового со старым и основной для исторических городов (а какой живой развивающийся город можно не считать историческим?) вопрос мирного сосуществования традиций с прогрессом, бывает особенно интересно и поучительно, всматриваясь в облик улицы, восстанавливать по ее чертам вехи нашей истории. В Москве одним из удачнейших примеров разрешения противоречий между нуждами времени и ценным историческим наследием я считаю новую трассу – всем полюбившийся Комсомольский проспект. В его пейзаже отразилось искусство градостроителей, создавших современную крупную транспортную артерию и одновременно сохранивших значительные вкрапления старой застройки.
…Яркое живописное пятно, напоминающее по цветовой гамме новгородские иконы: охра с зеленью на слоновой кости. И поблескивание золота. Живо, нарядно, весело – словно картинка к сказке Пушкина или декорации к опере Римского-Корсакова. Эта простоявшая здесь около трех столетий церковь Николы в Хамовниках, некогда воздвигнутая иждивением прихожан, благополучных ремесленников «хамовников» – ткачей, сделалась украшением улицы. Проходя мимо, невольно представляешь себе прежние здешние редко разбросанные дворы, окруженные огородами и садами, и их беспокойных хозяев – ткачей Хамовнической слободы, как раз в годы сооружения этой церкви тревоживших вместе с прочим московским рабочим людом и заречными стрельцами покой «тишайшего» бунтами, как бы предвещавшими скорую грозу восстания на Волге. Царь укрывался от шума и угроз в своем Коломенском, но и туда приходили слобожане с дерзкими требованиями, заставляли выходить к ним и в лицо пеняли царю на несправедливые порядки и разорение после выпуска новых медных денег. Недаром Алексей Михайлович вербовал иноземный полк с офицерами-иностранцами! Не доверял он ни стрельцам, ни вероломным боярам, хоть и сломленным Грозным, но не примирившимся с утратой прежнего своего значения.
Московский мелкий люд бунтовал и ставил церкви, где его с амвонов увещевали терпеть и быть покорным царю… Впрочем, не всегда: именно в те годы восстал против скверны порядков, проклиная всех светских и духовных властителей, духовник царя и настоятель придворного Казанского собора знаменитый протопоп Аввакум. Да и самого патриарха, самовластного строптивца Никона царю пришлось-таки заточить в дальнем монастыре…
Преемники «тишайшего» не пренебрегли его примером: последовательно умножали воинскую свою силу и, учреждая полк за полком, вверяли их орде нахлынувших иноземных наемников – порой дельных солдат, чаще – алчных авантюристов.Но продолжим прогулку. Когда минуешь церковь, по обе стороны проспекта открываются здания, как раз рассказывающие о первейшей заботе российских самодержцев: справа тянутся длинные фасады занимающих целый квартал Хамовнических казарм, с колоннами, портиками и монументальными воротами – всеми признаками строительства на века.
На противоположной стороне проспекта – кавалерийские конюшни с манежем и обширным плацем – память о тяжком для россиян николаевском времени… Как раз здесь мог стать молодой Толстой свидетелем сцены, описанной им в рассказе «После бала». Замерший строй солдат, глухая дробь барабанов и медленное шествие истязуемого, ведомого и поддерживаемого товарищами. Самодовольный румяный генерал, следящий, чтобы вели счет ударам, беспощадные шпицрутены и рубцы на оголенной спине… Какая страшная картина! И какая будничная во времена, когда здесь муштровали царских солдат, а возле ворот стояли часовые – в киверах, с лядункой и тесаком на перевязи – и вытягивались перед плюмажем и эполетами обер– и штаб-офицеров, проносившихся мимо в легких дрожках…
Неподалеку от конюшен сохранился старинный, имеющий интересную историю дом, сильно переделанный за свой почти трехсотлетний век. В петровские времена он принадлежал Ивану Тамесу, выходцу из Голландии, основавшему в Хамовниках одну из первых фабрик, выделывавших тонкое льняное полотно. С родины его вывез Петр, хлопотавший о насаждении российской промышленности. В исходе XVIII века дом перешел в казну и был отведен под резиденцию венценосного шефа (Шефский дом) расквартированного в казармах полка, изредка наезжавшего из Петербурга. Использовался дом и под офицерское собрание. Известно, что в Шефском доме у полковника А. Н. Муравьева собирались декабристы. Ныне в нем разместилось правление Союза писателей России.
Это все, однако, попутно. Приводит на Комсомольский проспект желание походить по его светлым и просторным магазинам, быть может, посидеть в одном из приглянувшихся кафе. Мчась по нему на машине, радуешься простору и бегло оглядываешь проносящееся мимо: века и здания.
Хитров рынок находился между нынешними Яузским бульваром и улицей Солянкой, известен своими ночлежными домами, в которых обитали представители московского «дна»Дома, которыми начали обстраивать Комсомольский проспект, – дети своего времени и не все отвечают нашим изменившимся эстетическим представлениям, но стоят они достаточно просторно, чтобы можно было поставить между ними более современные. Кое-где прежняя застройка уже оживлена ими.
Но, как бы ни застраивали в будущем проспект, он не утратит своего сложившегося лица. От многих других новых магистралей столицы его отличает обилие воздуха и света: на Комсомольском проспекте легко дышится, и, когда выйдешь из павильона метро, непременно с удовольствием вдохнешь полной грудью и оглянешься – кругом светло, просторно…
Современный горожанин, подчас сам того не сознавая, ищет незагороженных пространств, он хочет проникнуть взглядом подальше, чтобы было над головой побольше неба и не томило чувство – тоже подсознательное – замкнутости в теснящих со всех сторон неразмыкающихся стенах. Мы все находим этому подтверждение после того, как снос нескольких домов по проезду Серова расширил площадь Дзержинского.
При всем разнобое высящейся по ее периметру застройки – тут и «делового» пошиба здание бывшего Страхового общества с пристроенным к нему впритык корпусом во вкусе тридцатых, пятно майолик на торце Политехнического музея – словом, вопиющее разностилье, – при всем этом раздвинувшиеся горизонты и открывшийся простор создают впечатление единства, цельности разнообразно оформленной площади. Она особенно выигрышно открывается пешеходам, выходящим на нее из-под горы, по проспекту Маркса: под куполом неба панорама с зеленью и далеко отступившими домами воспринимается как опушка леса за полями.
Порадовала москвичей недавняя реконструкция площади у Никитских ворот. Им словно подарили, открыв для обозрения, новый памятник архитектуры выдающегося значения. До того загороженный рядовой застройкой, храм Большого Вознесения, теперь видный издалека, невольно привлекает соразмерностью пропорций и лаконичностью линий: все просто и строго в этом отличном образчике классического стиля. Строитель его – несомненно, первоклассный архитектор – не мог бы пожелать лучшего обрамления: обсаженный березами газон, куда сводят ступени широкой каменной лестницы и раздвинувшиеся нейтральным фоном фасады невысоких окружающих домов.
Напротив, через улицу и отступя от нее, за зеленой лужайкой показался загороженный прежде куполишко одноглавой церквушки, очень ветхой, наполовину вросшей в землю, облепленной позднейшими пристройками и с остатками колокольни подле нее. До реконструкции прохожие не могли и заподозрить о ее существовании. Между тем церковка Федора Студита стоит тут без малого четыреста лет и считается ценнейшим памятником архитектуры Москвы!
Начав с прогулки по «новым стогнам» Москвы, я не заметил, как очутился в ее старом центре, куда меня привели современные магистрали и реконструированные площади… Но где бы я ни был, неизменным сохранялось ощущение, что находишься ты в привычной обстановке: я всюду видел свое, понятное – и в памятнике прошлого, и в улице, рассказавшей об исторических событиях, и месте, воскрешающем отрадные и тяжелые переживания народа, и в размахе современных архитектурных планов, в исконной тяге к слиянию архитектуры с живой природой, в умении ждать и устремленно подготавливать рамки жизни будущих поколений… Я отыскивал присущие только нашей древней столице черты. Нет разницы – на Мосфильмовской ли ты улице или у Никитских ворот, если то, что открывается взору, идет к сердцу и говорит об одном: ты в Москве, в городе, воплощавшем во все века лучшие чаяния, самые окрыленные мечты народа…В гостях у московских ямщиков«Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, по всей веренице влекущихся барж заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек».
К этим знаменитым словам Гоголя можно добавить, что сопровождала русского человека песнь и в дороге – той, пролегшей через бескрайние российские просторы, дороге, что преодолевал он, конный и пеший, проводя в пути долгие недели, а то и месяцы. Глухие версты, безлюдье обосабливали ямщика и путника от остального мира, сливали с природой, рождали в душе воспоминания, мечты, преобразующиеся в ритмические строки, к которым голоса леса и степи подсказывали музыкальный лад. И гремели, и звенели по российским трактам и проселкам песни – протяжные и грустные, удалые и залихватские…
Эти песни по богатству своему и разнообразию составили едва ли не единственное в мире собрание дорожных вокальных произведений, возникших и бытовавших в гуще народной жизни. Их исполнение и до сих пор воздействует на современных слушателей, имеющих смутные представления об условиях, в каких они зарождались. Не изменились расстояния, преодолеваемые нами по отечественным дорогам, но несопоставимо затрачиваемое время: измерявшееся ранее неделями – ныне легко укладывается в немногие часы… Какие тут раздумья и песни!
Между тем в песнях особенно ярко запечатлены черты русского характера, каким его сложили века и, разумеется, природные условия страны. Широта и размах идут от постоянного ощущения раскинувшейся вокруг неоглядно русской равнины. Обживание ее требовало настойчивости и мужества, трудолюбия, суровость условий диктовала необходимость объединять усилия, складывала сельскую общину. А то, что трудно давалось, становилось особенно дорогим, рождало крепкую привязанность к своему месту. Непритязательная красота окоема, мягкость плавных линий открытого небосклона пленяли душу, питали поэтические ее струнки, внушали высокие мысли о гармонии мира, заставляли искать ее в духовных началах, положенных в основу отношений между людьми. Не отсюда ли задушевность, проникновенный лиризм русских народных песен? Удальство, даже ухарство, – от сознания силы и смелости, понадобившихся в единоборстве с опасностями и для утверждения жизни на тысячеверстных безлюдиях с дремучими лесами, непроходимыми болотами, лютыми зимами и весенним буйством рек…
Мы любим, когда эту песню включают в радиопрограммы. Она томит нас какими-то смутными образами давно исчезнувшей жизни, чуется в ней чем-то привлекательная, перевернутая страница прошлого, хотя нам уже почти невозможно себе представить ни проложенную по льду Волги санную дорогу, ни тонкое позвякивание колокольчика под дугой в нерушимом безмолвии зимней ночи, ни задушевной тихой беседы между затосковавшим ямщиком и седоком… Там теперь залитые огнями электростанций водохранилища, самоходные баржи, идущие по проломанным ледоколами для нужд навигации проходам, никогда не стихающий гул моторов по шоссе, на полях, в небе. Бывалый пассажир остерегается развлечь водителя разговором… Современный аттракцион – катание на тройках на ВДНХ или в парках – неспособен, разумеется, дать почувствовать те времена, когда в эти самые сани впрягали трех лошадей не для игры или баловства: троечный выезд был существенным элементом повседневной жизни, важным звеном хозяйственного уклада России.
Более всего о временах, когда жизнь рождала дорожные песни, напоминают уцелевшие названия в городах и по селам, растянувшимся вдоль старинных трактов – современных оживленных асфальтовых дорог. Промелькнет за стеклами машины у околицы поселка столбик с надписью: «Нижний Ям», «Шорники» или «Хомутово», а то въезжаешь в иной городок по непереименованной Ямской улице – и просыпаются в памяти картинки, знакомые по полотнам старых художников да из книг любимых русских писателей…
В самом центре Москвы протянулись параллельно старинной Тверской Тверские-Ямские улицы. Тут находилась ямская слобода, выезд из города – застава, возле которой на всех главных дорогах, соединявших столицу с важнейшими городами Московского государства, правительство селило справлявших государеву службу – почтовую гоньбу – ямщиков.
Тверские-Ямские застроены современными домами, и тут ничего, кроме табличек с названием улицы, не напоминает о далеком прошлом. Но есть еще в Москве уголок, облик которого воскрешает представление о московских ямских слободах, какими они были в гоголевские времена, – хотя уже тогда их называли не слободами, а частями, и ведали ими не старосты с приказчиками, а квартальные и приставы. Я имею в виду Школьную улицу, прежнюю 1-ю Рогожскую, называвшуюся когда-то еще Тележной и вобравшую в себя, вместе с соседкой своей, нынешней Тулинской, а прежде Вороньей, типичные черты московской окраинной слободы, каких насчитывалось в столице в старину – дворцовых, казенных, монастырских и владычных, ремесленных, ямских, иноземных и прочих, вместе с стрелецкими и другими сотнями, – до полутораста (в XVII веке). Рогожская ямская слобода – одна из них и единственная, где планировка дошла до нашего времени почти такой, какой она сложилась в исходе XVI века, когда Борис Годунов поселил здесь государевых ямщиков, обслуживавших дороги на Нижний Новгород, Казань и Владимир. Здесь, в лесах, окружавших Спасо-Андроников монастырь, образовалась развилка – от Владимирской дороги отходил древний путь на Коломну и позднее учредилась застава, переименованная в наше время в заставу Ильича.
Рогожская ямская слобода
Разумеется, от построек Рогожской слободы XVI века ничего не осталось: слобода развивалась, росла, дворы перестраивались и перекраивались владения, дома горели, переходили из рук в руки, возникали кустарные предприятия, исподволь менялись занятия слобожан. Однако основная планировка района возле Спасо-Андроникова монастыря, расположение улиц и площадей остались прежними. Теперешние Школьная и Тулинская улицы выглядят примерно так, как их отстроили после пожара 1792 года, не пощадившего ни одного двора. Что было до него возведено в дереве, восстановилось в камне, с сохранением традиционного плана и характера застройки: тут по обеим сторонам нарочито широких улиц – чтобы могли свободно разъехаться две тройки! – впритык друг к другу стоят двухэтажные, крепкой кладки, дома. У каждого посередине – темный провал арочного проема – ворота для проезда во двор, где размещались конюшни, сенной сарай, коновязи и навесы.
Школьная и Тулинская улицыТаковы непредвидимые пути развития города: в районе двух названных улиц и прилегающих к ним смежных, в соседних переулках во второй половине XIX века не было воздвигнуто ни одного многоэтажного дома! В годы, когда особенно бурно расстраивалась Москва промышленников и коммерсантов, не разрослись здесь местные скромные фабричонки и заводики. Рогожских улиц не коснулись и современные планы типовой застройки, получившие нарицательное название Черемушек.
И естественно, что столичной общественности захотелось сохранить неприкосновенным подлинный исторический облик района, переносящий в обстановку жизни вековой давности. Был разработан проект превращения этих улиц в музей на открытом воздухе, объект для туристов, начинающих отсюда знакомство со знаменитым «Золотым кольцом». На Вороньей (Тулинской) и особенно на 1-й Рогожской (Школьной) видишь не искаженные позднейшими перестройками фасады домов с окнами, откуда некогда выглядывали на улицу их хозяева и жильцы: кто поджидал возвращения главы семьи, кого привлек гром и звон лихой курьерской тройки…
Рогожская слобода оставалась ямской – то есть жители ее занимались преимущественно ямским промыслом, гоняли почту, содержали заезжие дворы для проезжающих, кузницы и тележные мастерские, шорные заведения, торговали лошадьми, сеном, повозками и сбруей – лишь до шестидесятых годов прошлого столетия. С постройкой Нижегородской железной дороги стали быстро меняться лицо и быт слободы, обычаи и нравы которой так резко отличались от всей Москвы. Ее населяли до этого, помимо ямщиков, осевшие здесь спокон веку купцы и мещане, большинство которых принадлежало «древлеправославной вере» – то есть отпавшие от православия раскольники. Именно здесь после чумы 1771 года открылось Рогожское кладбище, сделавшееся главным оплотом старообрядчества.
Уместно упомянуть, что большинство денежных тузов дореформенной России принадлежало «старой вере». Они не скупились на пожертвования для постройки и украшения староверческих храмов. На Рогожском кладбище – участке в квадратную версту, обнесенном каменной оградой, были воздвигнуты богадельня и великолепные церкви. В них составилось ценнейшее собрание древних старопечатных книг, какие богатые купцы повсюду ревностно разыскивали, скупали и жертвовали библиотеке Рогожского кладбища.
По мере того как продвигалась постройка железной дороги и она стала принимать на себя поток грузов и пассажиров, замирало движение по Владимирскому и Рязанскому трактам, отпадала надобность в ямской гоньбе. Слободу стали заселять пришлые люди. По образному выражению коренного рогожского жителя П. И. Богатырева, оставившего любопытные записки о своем времени – от середины до девяностых годов XIX века: «Европа ворвалась к нам… с первым паровозным свистком, словно хлестнула огненной вожжой, и азиатская Рогожская пала. Угадав чутьем новое, она бросилась к нему со всех ног, отрешившись в массе от старого».
Так представлялось современнику. На самом деле лицо исторически сложившегося городского района меняется исподволь, и по прошествии времени это «бросание со всех ног» за новым выглядит все же процессом медленным, при котором место нововведениям уступается туго. Мы, живущие в век бурных, почти стихийных преобразований во всех областях жизни, вызванных неимоверно возросшей технической вооруженностью человечества, особенно ясно видим, как постепенно менялась прежде жизнь.
Вот и до нашего времени сохранился городской пейзаж дореформенного времени, когда на стогнах Рогожской слободы еще безраздельно владычествовала старая Московская Русь. И мне хочется, прежде чем перейти к более близкому времени, рассказать о некоторых чертах жизни Рогожских улиц, стершихся под натиском новых веяний и смены эпох, воспользовавшись воспоминаниями того же П.И. Богатырева.
Район «Рогожки» с видом церкви Преподобного Сергия – таким он был в начале XIX векаОчутившись на Школьной улице, попытаемся забыть на время об асфальте, не видеть столбов с проводами, а вообразим вымощенную булыжником мостовую, у ворот домов – вкопанные в землю приземистые каменные тумбы. И еще – срубы колодцев, какие рыли против домов на улице, чтобы проезжие могли поить лошадей. А езды было много. Тут едва не в каждом доме – постоялый двор, где останавливались обозы, проходившие по Владимирскому и Рязанскому трактам.
Дома эти – перед нами. Устроенные все на один лад, они различаются лишь количеством и размером окон в обоих этажах, отделкой наличников, карнизов да чердачных оконец, отражающих вкусы хозяев. Нет более и в помине навешенных ворот, лишь на окнах нижнего этажа сохранились кое-где железные ставни, надо полагать, что дома и дворы запирались на ночь накрепко. И с петухами – гремели отпираемые запоры, скрипели ворота, возы, колодцы, гремели бубенцы и колокольцы, визжали двери трактиров и кабаков, поднимался людской говор, тянулись по тротуарам усталые дальние богомольцы – и закипала жизнь до позднего вечера.
А было тут как на ярмарке. Улица вся уставлена продающимися телегами, тарантасами, кибитками; торговали и экипажами средней руки, шорным товаром – всем, что нужно ездившим по дорогам. Для проезда оставалась только середина улицы. В июле и августе – в пору Макарьевской ярмарки (у Макарьева монастыря на Волге, ныне поселок Макарьево Нижегородской области) – обозы с товарами шли один за другим почти непрерывной вереницей. А вслед за товарами отправлялись на ярмарку служащие торговых фирм, приказчики – все развеселая молодежь, – а за ними уже сами хозяева, степенные купцы, так что только пыль летела от проносящихся резвых троек, гремели на пристяжных бубенцы да разудало покрикивали возницы: «Эй, поберегись!»
Эти несшиеся под раскат бубенцов и удалые песни тройки обгоняли ехавших медленно по дороге «гужевиков» – обозы с кладью. То был вовсе другой народ – молчаливый, сосредоточенный: к этому приучало одиночество «на ходу». Шли больше пешком, каждый у своих лошадей – жалели их: присаживались на воз, уж когда очень утомлялись. Шли – поглядывали: крепко ли увязана кладь, не потерялось ли что; стереглись – не стащил бы чего лихой человек-Упряжки [3] были большие, но не более тридцати верст. У обозников были свои отдельные стоянки, знакомые постоялые дворы. Такие обозы делали далекие концы: от Москвы до Костромы, оттуда в Рязань, потом на Дон. Так и колесили. Случались и беды: сани ли на раскате задавят возчика, в драке ли с ворами убьют, заболеет ли в дороге и отдаст богу душу. Товарищи похоронят, а коней домой приведут. Этими «протяжными» извозчиками и создана знаменитая песнь «Степь Моздокская». Умирающий ямщик прощается с жизнью:Вы свезите моим детушкам благословеньице,
Отведите моих товарищей, вороных коней,
К молодой жене да свезите ей волю вольную…
Прочны тут были узы товарищества: народ все честный и вверенное добро отстаивал грудью, хотя в случае грабежа или пожара возница за него не отвечал.
Крепок был и семейный уклад жителей Рогожских улиц, обособленных рекой Яузой от остальной Москвы: то был подлинно старорусский, домостроевский уклад, еще более непроницаемый для внешних влияний, чем описанный Островским обиход купеческого Замоскворечья. О театрах и прочих «бесовских» соблазнах тут не знали и знать не хотели. По части чтения дальше таких сочинений, как «Франциль Венециан» или «Гуак, или Непреоборимая верность», дело не шло, да и то читали преимущественно девицы, парни же вовсе не брались за книгу.
«Вставали рано: мужчины шли пить чай в трактир, а женщины чаевничали дома; после чая затапливали печи, и дым валил по всей улице, а зимой столбом стоял в морозном воздухе. Обедали тоже рано, в двенадцать часов, потом все засыпало, а часа в два снова начиналась жизнь. Ужинали часов в восемь, но ложились летом около одиннадцати, а зимой сейчас же после ужина. Ходили по субботам в баню и несли оттуда даровые веники. Бывало, целый день в субботу, – читаем у того же мемуариста, – идет народ с веником в руках, словно это праздник веников, как бывает праздник цветов. В праздники шли к обедне: маменьки в косыночках на голове и шалях на плечах, а дочки в шляпках, тогда проникших в эту среду (шестидесятые годы XIX века. – О.В. ). Мужчины – прифрантившись в поддевки и длиннополые сюртуки, в сапогах с «бураками», намазав волосы коровьим или деревянным маслом, тоже шли в церковь. По праздникам обязательно пекли пироги».
Итак, шел на улице нескончаемый торг: шорники зазывали покупателей к своим седелкам и хомутам, тележники расхваливали колеса и полозья, предлагали новенькие поковки кузнецы, и, надо думать, все порядочно галдели при этом, торговались, да еще надо было перекричать ржанье лошадей, грохот колес на мостовой не то «малиновый» звон колокольцев под золотой, расписанной яркими цветами дугой, гром и звяканье бубенцов на наборной сбруе горячей тройки, еле сдерживаемой молодцеватым ямщиком: «Эй, поберегись, православные!»…
Полно было весь день и в трактирах; толклись люди по постоялым дворам. Распряженные лошади хрустели овсом у коновязей под навесом, возы с поднятыми связанными оглоблями стояли под открытым небом по дворам, а то и на улице. Дома были, как упоминалось выше, двухэтажными: внизу находилась «изба» – то есть горница, где народ обедал, ужинал и спал; верх занимали хозяева и имели там комнаты для приезжающих знакомых иногородних купцов. «Изба» была просторная, с нарами в два этажа по стенам, печь огромная, «и все это было, конечно, порядочно грязновато, с тараканами, клопами и прочими прелестями в этом роде», – пишет Богатырев. Прибавим к этому, что форточек вообще не знали, так что о воздухе в закупоренных, жарко натопленных помещениях лучше и не думать! Однако не будем судить своих предков, прилагая к ним нынешние мерки: вспомним, что на Руси искони завелся обычай париться еженедельно в бане и менять нательное белье, тогда как в средневековой Европе люди никогда не мылись, и даже на рубеже XVIII века мерзость и вонь в королевском дворце в Версале, как и неопрятное обличье придворных «короля-солнца», да и самого венценосца, вызывали отвращение членов свиты Петра, затосковавших за рубежом по своим полкам с веником и в общем-то опрятном домашнем обиходе.
В горнице для приезжих стоял под образами стол, за который одновременно садилось до двадцати человек. Обычный обед на постоялом дворе составлялся из солонины с хреном и квасом, после которой ели щи или похлебку с говядиной; потом следовали жареный картофель, гречневая каша с маслом, за ней пшенная с медом, тем обед и заканчивался. Подавалось все, как водится, в деревянных мисках и блюдах, вилок не полагалось, обходились одними деревянными ложками, на отдельные тарелки еду не раскладывали. Примерно так же и то же ели в хозяйских горницах, разве добавлялись там вышитые ручники да употреблялась наравне с деревянной фаянсовая посуда и шумели тут в положенный час самовары…
К Святкам и на Масленую с улиц убирали выставленные на продажу сани и повозки, теснее к домам ставились возы с кладью: по 1-й Рогожской и по Вороньей улицам шло катанье, причем съезжались сюда, в Рогожскую, со всей Москвы. И конечно, здесь высматривали невест и женихов; пронырливые свахи не теряли времени, облаживая условия будущих свадеб, приурочиваемых по обычаю к красной горке. Свах с почетом усаживали за столы, где тятеньки и маменьки чинно сидели, потягивая мадерцу, в то время как молодежь усердно отплясывала «кадрель под чижика».
Разумеется, в Ямской слободе – жители поголовно лошадники, и добрый конь у них – предмет постоянных забот и интересов. Катанья были лишним поводом, чтобы полюбоваться выездом соседа, щегольнуть своим, потолковать о статях и ходе гривастых красавцев, а то и сторговать полюбившегося коренника или приплясывающую, просящую ходу пристяжную. Впрочем, пристрастие к лошадям не было уделом одних рогожан: в прошлом в Москве конские состязания – самое популярное зрелище. На них стекались многотысячные толпы, и толки о них, имена победителей надолго занимали воображение москвичей.
Особенную славу стяжали ристалища на льду Москвы-реки, между Москворецким и Большим Каменным мостами. Тот же П.И. Богатырев оставил красочное описание этих состязаний:
«Русский человек любит тройку как что-то широкое, разгульное, удалое, что захватывает как вихрем, жжет душу огнем молодечества. Есть что-то азартное в русской тройке, что-то опьяняющее, – кажется, оторвался бы от земли и унесся за облака… Какой потрясающий крик вырывался из ста тысяч грудей, когда лихая тройка, стройно несущаяся, птицей быстролетной «подходила» первая к «столбу»! Взрыв крика сопровождался оглушительными аплодисментами. Это была какая-то буря народного восторга».
Этот же мемуарист рассказал о некоем крестьянине Лаптеве из Саратовской губернии, приезжавшем в Москву с товаром, – он занимался извозом и останавливался в Рогожской. То был невзрачный мужичонка в лаптях, и сбруя на его лошадях была чуть ли не мочальная, но несколько лет подряд он выигрывал бег, оставляя позади прославленных московских конников на тысячных тройках в серебряной наборной сбруе и с ковровыми санями. «В его тройке, – пишет Богатырев, – словно выразилась вся мощь всего русского народа. Даже сейчас, говоря об этой тройке, я не могу удержаться от восторга, а это было сорок лет назад».
Однако тройка, будучи исконно русской запряжкой, не принадлежит седой старине: она вошла в обиход и сделалась едва ли не национальным символом не ранее XVIII века. В XVII веке езда была в одну лошадь, а если в несколько, то «гусем» – несомненно, из-за узости тогдашних дорог, еле наезженных в один след. Ямщик садился в ногах у седока, а проводник верхом на выносной лошади. Пристяжные, впрягавшиеся в постромки по сторонам коренника, шедшего в оглоблях и под дугой, сделались возможными, когда между главными городами пролегли мощеные государевы дороги и учредилась знаменитая российская почтовая служба, оставившая такой глубокий и нестираемый след в отечественной литературе.В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми роковыми
Прогоны жизни платим мы.
Эти стихи Боратынского переносят нас во времена подорожных, станционных смотрителей, отражают эпоху, когда любое – близкое и дальнее – передвижение вершилось с помощью лошадей. С развитием железной дороги ямщицкая езда постепенно упразднялась, однако на проселках и мощеных дорогах в стороне от крупных городов знаменитый валдайский колокольчик можно было не так уж редко услышать еще в начале нынешнего века. И пишущему эти строки на всю жизнь ярким и гремучим видением запомнилась впряженная в легкую пролетку тройка, в звоне бубенцов и поддужного колокольчика подкатывающая к крыльцу деревенского дома. Тремя взмыленными, потемневшими от пота лошадьми с гривами до колен и распущенными пышными хвостами повелевал могущественный полубог, ямщик Герасим, привезший с железнодорожной станции гостя. Подпоясанный красным кушаком кафтан, круглая шапочка с павлиньим пером, висящий на запястье тонкий ременный кнут, бронзовое лицо с отвисшими, выгоревшими на солнце соломенными усами и яркие светло-голубые глаза ямщика памятны мне и спустя семь десятилетий…
Много позже мне довелось встретиться с Герасимом, когда уже давно не возил он подвернувшихся седоков в уезд (да и уезд был упразднен!) и не было в помине его легких троек, – он одиноко дотягивал век в ветхом домике на безлюдной Ямской улице районного городка, где прошла вся его жизнь, и, пожалуй, только несходящий загар на лице и шее напоминал о былой профессии ссутуленного, полуслепого старика. А я видел его – прежнего.
…Чуть позвякивает бубенцами притихшая тройка. Герасим выпрастывает прядь гривы из-под хомута коренника, приглаживает ему мохнатую челку, придирчиво проверяет всякую мелочь сбруи, тяжи, тугость чересседельника, бросает последний взгляд на подкованные копыта лошадей и, встав ногой на ступицу переднего колеса, легким движением взносится на козлы и берется за вожжи: «Ну, милые!»…В исследованиях и исторических сочинениях, посвященных ямщикам, отмечается, что люди этой профессии выделились в особое сословие, приобретшее со временем характерные черты, свои традиции и обычаи. Считается, что развитие ямских учреждений на Руси относится к XIII веку. Упоминания о ямах и ямщиках встречаются в подорожных грамотах конца XV века, времени великого княжения Ивана III.
В приводимом ниже документе – подорожной грамоте 1482 года – любопытны тщательно оговоренные подробности довольствования проезжего «немчина» – начальство входило во все детали, блюдя интересы казны и заранее ограждая себя от возможных претензий проезжего: и за сотни верст от столицы должна была чувствоваться рука Москвы!
«От Великого князя Ивана Васильевича всея Руси.
От Москвы по дороге, по нашим землям по Московской и Тферской, по ямам ямщиком до Торжку, а в Торжке старосте, а от Торжку по Новгородской земле по ямщиком до Новгорода. Послал есми Сеньку Зезевидова с немчином, а вы бы давали Сеньке по две подводы по ямам, а немчину по две же от яму до яму, а корма для немчина на яму, где случится стати, – курья, да две части говядины, да две части свинины, да соли и заспы, и сметаны, и масла, да два колача полуденежные по сей моей грамоте».
Кстати, теперь считается доказанным, что «ям» слово тюркского происхождения; им с XIII и вплоть до XVIII века назывались станции, где меняли лошадей. И лишь в качестве курьеза можно упомянуть, что историк Карамзин некогда доказывал происхождение ямщиков от таинственного племени ям или емь!
Судя по дошедшим до нас документам, ямская езда и доставка почты были предметом особых попечений правительства: оно входило во все мелочи его устройства, чтобы поставить ямщиков в условия, поощряющие исправное несение службы.
Уже в 1550 году в Москве учреждается Ямская изба, вскоре преобразованная в Ямской приказ. Кадры ямщиков составлялись из выбранных жителями окрестных деревень особых лиц, которые, поселившись в отдельных местах, должны были отправлять ямскую гоньбу за все население. Они назывались ямскими охотниками, а их поселения – ямскими слободами. Слободы эти располагались возле ямов (станций), на расстоянии в 30 – 100 верст друг от друга. Каждая деревня или посад ставили на ям одного охотника от «полусохи» [4] . Дальние селения несли денежную повинность – ямщину. Со своим охотником жители заключали договор, обязывавший его содержать лошадей и проводников с «гонебной рухлядью». Кроме обыкновенной государевой гоньбы на ямских охотниках лежала обязанность встречи и проводов послов и гонцов, доставка государевой казны. За все полагалось денежное пособие и подводы при большом разгоне. Сверх того, со временем пошло и «государево жалованье» – деньгами и хлебом.
Ямщики присягали в Москве. В ямщицкие охотники избирались только люди «доброго поведения», зарекомендовавшие себя своей хозяйственностью, зажиточностью. Они постепенно заняли исключительное положение, выделившись, как уже говорилось, в отдельное сословие. От своих общин они обособились, создали целые ямские поколения и превратились в служилых людей. В свободное от службы время они занимались хлебопашеством, торговлей и извозом, посылая за себя в езду младших членов семьи или нанятых работников. В середине XVII века в ямских слободах числилось по нескольку десятков, а то и сотня дворов. Надзирал за ямщиками и лошадьми ямской пристав; для отчетности был ямской староста или целовальник [5] .
Уже в начале XVII века была выработана жесткая система подорожных – какого чина людям по скольку давать подвод. Высшая цифра – двадцать подвод – предназначалась для митрополитов и бояр. Правительство стояло на страже интересов ямщиков, защищало их от притеснений воевод, освобождало от податей, наделяло землей, так что большей частью доля ямщиков считалась завидной, и их слободы процветали. Общественное положение ямских охотников было несравнимо с крестьянским: они не ведали работы на помещиков и податных тягот. Приходилось даже в иных случаях «унимать» ямщиков, обижавших население. Так, при царе Михаиле Федоровиче муромские ямщики присвоили себе монополию извоза – никто сам для себя не мог привезти ни дров, ни хлеба!
Этот небольшой исторический экскурс помогает понять, как выработалось постепенно в сознании русского народа представление об особенном человеке – ямщике, наделенном вольнолюбивым характером, смелом, верном товарище. Среди всеобщей приниженности закрепощенных хлебопашцев не могли не выделяться люди, поставленные в особое положение, живущие в достатке, независимо, к тому же огражденные от произвола властей, пользующиеся их – пусть вынужденным – доверием и покровительством. И рождались легенды о мужественных, преданных долгу ямщиках; они становились героями песен и мелодраматических приключений.
В исходе XVIII века накопилось столько фольклорного материала и был он, очевидно, настолько «ходовым», что придворный композитор Екатерины II Евстигней Фомин пишет оперу «Ямщики на подставе». Либретто для нее сочинил известный архитектор, к тому же художник, поэт и музыкант Николай Львов. Уже современники отметили, что в опере звучали подлинные народные напевы. Нам же кажется примечательным выбор сюжета: на сцене были представлены бытовые картинки, «выхваченные» из подлинной жизни; по ней ходили актеры, в мундирах с двуглавым орлом на груди и в шляпах, присвоенных казенным ямщикам; раздавался звон дорожного колокольчика; на кустах декорации была развешана сбруя! Неподдельному народному колориту оперы способствовали песни, записанные Львовым в долгих дорогах. В 1790 году им издано нотное собрание русских народных песен.Не у батюшки соловей поет,
Молодой ямщик на заре бежит.
Ох вы, братцы, вы товарищи,
Вам пора вставать —
Коней впрягать.
И в гоньбе ямщик отдохнуть может,
На рысях ямщик добрый выспится.
Бодрый мотив этой арии, начинающей действие, сменяется лирически грустным предчувствием разлуки:
Ретиво сердце молодецкое,
Знать, невзгоду ты заслышало,
Знать, расставаться с молодой женой…
Однако происки злодея Фильки, ухитрившегося отдать в рекруты соперника – молодого ямщика Абрамку, счастливо разоблачаются благодаря вмешательству офицера, прибывшего на почтовую станцию для подготовки проезда «матушки-императрицы». Как у Фонвизина в «Недоросле» Милон, так в «Ямщиках на подставе» гвардеец из Петербурга олицетворяет высшее правосудие и милость, исходящие от царицы. Он изобличает несправедливость – Абрамку возвращают семье и невесте, а забривают в солдаты доносчика Фильку, так что: «Слава самодержице!»
В этом забытом произведении, так и не увидевшем большой сцены, пропасть штришков и деталей, чудесно воскрешающих не только напевы двухсотлетней давности, но и характерные черты эпохи, драгоценные для понимания духа времени…
В списке действующих лиц фигурирует «Вахруш, деревенский олух». А вот наставление капельмейстеру от лица старейшего ямщика: «…Нет, барин, ты начни-ко помаленьку, как ямщик, будто издали, не поет, а тананычет [6] , а после, чтобы дремота не взяла, – пошибче, да и по-молодецки, так дело-то и с концом, ребята и подхватят…»
Урезонивая сына, старый ямщик говорит: «Ты барский человек али ямщик?» Отказывающийся скрыться от набора Тимофей говорит: «…бежать? Пустое, брат… По подоконью я не хаживал, а на разбой иттить не честь молодцу». Не менее выразительны и куплеты, распеваемые ямщиками: в них и удаль, и дух товарищества, и понимание бессилья перед властью:Между нами, ямщиками,
испокон есть благодать:
не поддаться, хоть подраться,
да за друга постоять!
…Трифон, перестань болтать,
зубом камня не угложешь,
силою не переможешь
командирского слугу…
Трифон, перестань болтать,
против всех не устоять…
А вот умудренный жизнью старик наставляет молодежь:
Кто повадится с обманом,
Тот окончит барабаном,
А кто правдою живет,
Того и гром не бьет.
И снова и снова – раздумчиво-грустные строки о разлуке, такой неотделимой от доли ямщика, и вмешательство добрых людей, одолевающее злую судьбу:
Во поле березка бушевала,
В тереме девица тосковала,
Молодка с милым расставалась.
Добрые люди да сыскались,
Красные дни воротились,
Молодку с милым солучили
Добрые наши командиры.
Лейтмотивом всей оперы служит прекрасная песня «Высоко сокол летает, повыше того белая лебедушка…», она составляет поэтический фон спектакля. Мне кажется, что сама возможность создания оперы о ямщиках в век галантных спектаклей, приноровленных ко вкусам воспитанной на иноземных модах публики, говорит о первостепенном значении в жизни тогдашнего общества дорог, времени, проводимом в поездках, требовавших подстав, отдыха в пути, длительного пребывания ездока в санях или тряском экипаже один на один с возницей.
Однако пора возвратиться на улицы прежней Рогожской ямской слободы и к временам более близким. Что же собираются реставрировать и сохранять из этого уголка исторической Москвы? Проект предусматривает не только создание этнографического музея быта ямщиков, но и показ московской старинной слободы, не утратившей первоначальной планировки и своего архитектурного облика.
Площадь с памятником Андрею Рублеву подле возвышающегося над ней Спасо-Андроникова монастыря, иноком которого был великий иконописец, напомнит о многовековой истории этих мест. На Сенной площади (площадь Ильича), откуда начинали свой путь на сибирскую каторгу арестанты, предполагается поставить монумент в память поколений борцов против самодержавия.
На упирающихся в эти две площади улицах – Школьной и Тулинской – будут размещены помимо музея мастерские и аудитории художественного факультета Московского технологического института, связанного с народным художественным творчеством, что выглядит особенно уместно именно здесь. Дворовые галереи и сплошная застройка улиц облегчают задачу – приспособить эти дома под гостиницы для туристов и разместить в нижних этажах магазинчики, всевозможные кафе, чайные, мастерские… Нет надобности доказывать, насколько такое переплетение прошлого с настоящим, при сохранении подлинных исторических черт обстановки, послужит воспитанию подрастающих поколений. Не говоря о благородной цели задуманного проекта – увековечить черты жизни ушедших поколений безымянных простых людей, доля труда, знаний и усилий которых легла весомым вкладом в устроение России.…Я медленно иду от заставы в сторону Андроникова монастыря по Тулинской улице. Недавно прочитаны и свежи в памяти «Своды результатов общей оценки недвижимых имуществ в Москве в 1889 – 1890 гг.». Узнанное о Рогожской ямской части присоединилось к рассказам старого местного жителя, впитавшего с детских лет обиход и обычаи полувековой давности. И еще довелось ознакомиться с брошюркой архимандрита Спасо-Андроникова монастыря Григория, изданной в 1894 году, с описанием часовни, некогда стоявшей на Вороньей, ныне Тулинской, улице. Сведения исторические накладываются на развертывающееся перед глазами; память о прошлом вторгается в настоящее, населяет его образами минувшего, вносящими в нашу жизнь тепло и уют обжитого, родного дома…
Из-за опустошительного пожара в июле 1862 года и постройки Нижегородской железной дороги шестидесятые годы прошлого века стали своеобразным рубежом, после которого начался закат Рогожской ямской слободы; она стала пустеть, жители приспосабливались к новым условиям, уезжали, земли занимались под застройку, дома перестраивались для выделения комнат под жильцов, заселялись новыми людьми, уже непричастными к прежнему промыслу.
Панорама Андроникова монастыря начала XIX векаУпомянутые выше «Своды» недвижимости конца прошлого века показывают, что владеть ею стали больше всего занимающиеся торговлей и мелкими промыслами крестьяне и купцы. Налицо и тоненькая прослойка мелкого чиновничьего люда. Много духовенства и церковных владений. Наперечет владельцы в генеральских чинах или с аристократическими фамилиями. Из Рогожской части пошли династии будущих миллионщиков Морозовых, Алексеевых – впоследствии понастроивших себе особняки-дворцы в дворянских кварталах Москвы. Впрочем, уже тогда, в 1889 году, Абрам и Давид Абрамовичи Морозовы выступили из купеческого сословия и числились потомственными почетными гражданами.
Всего в Рогожской части значилось 1624 владения, годовой доход с которых был определен в сумме полтора миллиона рублей, причем он колебался в значительных пределах от нескольких десятков тысяч до рублей.
Разного звания и достатка люди оседали в притихшей слободе, и даже удивительно, к каким только категориям российских подданных не относила их резвая рука чиновников казначейства! Мы находим в своде «временных купцов», «цеховых», «запасных бригадных писарей», натыкаемся на «бомбардира». Затерялся среди рогожан и «художник архитектуры», и – вовсе не удивление – «Евтропий Дмитриев, мещанин без фамилии»!
Порядочно владений, оставленных без оценки: «За ветхостью постройки». Оскудение могло коснуться и отставных николаевских служак. Несколько таких обветшалых владений числится за полковниками и даже генералами с остзейскими фамилиями.
Гнездами по некоторым улицам – вкрапления ямщицких фамилий: Лыткины, Мягковы, Заикины, Бакулины, есть и владение «Аграфены Ивановны Кокориной», и доходу с нее начислено двести семнадцать рублей в год. Однако мало кто из потомственных ямщиков не переменил профессии. Некоторые сделались извозопромышленниками, держали по сотне и больше ломовых лошадей вплоть до первых послереволюционных лет, другие переквалифицировались в гуртовщиков – пригоняли в столицу скупаемый по деревням скот.
И еще состав владельцев Рогожской части напоминает о Москве «сорока сороков» – столько тут участков, принадлежащих церквам и монастырям, сдававшим их в аренду. В этих списках не только свои, рогожские, церкви, но и церкви из других частей Москвы, наравне с иногородними. На многих церковных участках находились богадельни и дома призрения – доходы с них не исчислялись, так как они не облагались налогом.
Рогожскую ямскую часть населяли в подавляющем большинстве люди скромного достатка, но и здесь, как в богатых купеческих районах Москвы, была сильно развита филантропическая деятельность, если судить по количеству благотворительных учреждений. Помимо учреждений Мариинского ведомства, имевшего разветвленную сеть в главных городах России, здесь обосновались отделения Городского попечительства о бедных, Общества поощрения трудолюбия. Общества трезвости, Община сестер милосердия, старообрядческие приюты и богадельни. Те годы не знали и зачатков социального страхования, нищета и обделенность выпирали изо всех пор жизни, и это вынуждало общественность приходить на помощь бедствующим: кто жертвовал из добрых чувств и сострадания, кто из тщеславия, иной видел в пожертвованиях на благотворительные учреждения, тем более патронируемые «высочайшими особами», верный путь к чинам и преуспеянию…
Еще на рубеже века существовало Общество ямщиков Рогожско-ямской слободы, преследовавшее, видимо, какие-то коммерческие цели. Здесь было открыто и отделение Московского товарищества ассенизации… Современному москвичу покажутся курьезными вывески вроде следующих: «Высочайше утвержденное промышленно-торговое товарищество «Бр. Захаровы», «Торговый дом Елизавета Стриженова и Сын» или «Товарищество производства серебряных, золотых и ювелирных изделий И. П. Хлебникова, сыновей и К°» – за их пышностью нередко прозябали вовсе хилые заведения!
Напомню мимоходом, что уроженцем Рогожской ямской слободы был знаменитый художник Константин Коровин, о чем гласит метрическая выписка из Сергиевой церкви, стоявшей на бывшей Сенной площади:...«1861 ноября 23-го дня.
У ейского купеческого сына Алексея Михайловича Коровина и законной жены его Аполлинарии Ивановны, которые оба православного вероисповедания, родился сын Константин. Восприемники Рогожской слободы ямщик Алексей Никитич Ершов и ейского купца Михаила Емельяновича Коровина жена Васса Михайловна.
Таинство крещения совершил приходской священник
Симеон Поспелов».
Напоследок хочется коснуться штриха прежней жизни Рогожской слободы, как бы перебрасывающего мост между нашим веком и начальным периодом истории Москвы.
Лишь в наше время, в тридцатые годы, исчезла с бывшей Вороньей улицы (Тулинская, 25) часовня Сергия Радонежского. По преданию, она была построена на месте креста, который воздвиг бывший игумен Спасо-Андроникова монастыря Андроник на том месте, где попрощался со своим гостем Сергием Радонежским, отправлявшимся в рязанские земли. Отсюда и прочно закрепившееся за часовней название «Проща» – на месте прощания. В 1504 – 1507 годах обветшавшую деревянную часовню разобрали и соорудили каменную, из двадцатифунтовых кирпичей. Этой часовне пришлось простоять без малого четыре века: в 1889 году она была разобрана опять-таки «за ветхостью».
Выстроить «Прощу» заново вызвался «временный московский купец из крестьян Василий Александров», рогожский житель. Возводить часовню пришлось на стесненном соседними владениями участке в десять на восемь аршин. Зато строить вверх ничто не мешало, и строители возвели осьмигранный шатер с куполком вышиной в двадцать семь с половиной аршин (более двадцати метров). Следует указать, что со времени Петра I, вовсе запретившего воздвигать новые и поновлять старые часовни (указ 1707 года), правительство относилось к этому делу более чем сдержанно, считая наличие плохо охраняемых беспризорных часовен источником соблазна и не приличных вере поступков, и выдачу надлежащих разрешений обставляло трудностями. Но «временный купец» Александров был, видимо, не только «усердным в вере человеком», но и сметливым политиком: свое ходатайство, адресованное Святейшему синоду, он подкрепил просьбой поместить в часовне две ценные хоругви в память «Чудесного избавления царской семьи от грозившей ей в 1888 году опасности». Имелось в виду обошедшееся без жертв крушение царского поезда под Харьковом. Естественно, что такому проявлению верноподданнических чувств Святейший синод не пойти навстречу не мог, как и предложению Александрова учредить ежегодный крестный ход от Спасо-Андроникова монастыря до часовни в Сергиев день, 5 июля, что, по словам просителя, должно было вразумить местных раскольников, отпавших от церкви. Часовня была открыта в октябре 1890 года, за год до празднования пятисотлетия со дня смерти Сергия Радонежского.
На том месте, где я стою сейчас на Тулинской улице, была когда-то, видимо, полянка, на которой оба старца, Сергий и Андроник, соблюдая обычай, сели на пенек или поваленное дерево «перед дорогой», с тем чтобы потом, перекрестившись, облобызаться троекратно на прощание… Их обступал древний бор, из-за деревьев, быть может, доносились удары била, какими звонарь созывал на молитву иноков монастыря… Место темных сосен заняли сплошные фасады каменных домов, асфальт – там, где были колдобины и корни лесной дороги, над головой гудят на ветру провода… И минуло с той поры шесть столетий!
Но чудесные, волшебные человеческие свойства – память и воображение – позволяют вызвать всю картину из небытия и представить себе судьбу и дела длинной чреды поколений русских людей, некогда устраивавших и укреплявших жизнь на той самой земле, что под моими ногами.
Помня об этом, прочнее стоит человек на родной почве, легче переносит лихолетья и с верой вглядывается в будущее своего народа. Бесценно дороги крупицы народной памяти, если их можно привязать к зримым, вещным знакам…
И еще вспоминается мне на этих улицах новоторжский ямщик Герасим, его спокойное, с открытым, добрым взглядом лицо, мужественная осанка, уверенность в себе и достоинство мастера своего дела. Я рад, что учреждается в Москве заповедная зона, назначенная увековечить память о замечательном сословии русских ямщиков!
Кущи и рощи в черте города«Надобно видеть Влахернское в ясный летний день, надобно пожертвовать целыми сутками, чтобы осмотреть и налюбоваться тамошними садами, только тогда можно судить о том наслаждении, которое испытывает посетитель, перенесенный туда из городского шума».
Эти строки писались почти полтораста лет назад. Однако и сейчас можно в тех же местах ощутить прелесть перехода от шумливой суеты московских улиц к тишине и свежести аллей и тропинок, погружающих в лесную сень. С той разницей, что нет надобности жертвовать для этого сутками, а достаточно проехать до станции метро «Текстильщики» или «Рязанский проспект», оттуда несколько остановок троллейбусом или автобусом, затратив на это менее часа. Да вот еще заменить забытое Влахернское привычным названием Кузьминки, чтобы убедиться, что тот давнишний москвич, чьи восторженные впечатления донесли до нас ветхие страницы газеты «Московские ведомости», любовался великолепным нашим парком, знакомым любому жителю столицы, воспринимающему как нечто само собой разумеющееся наличие этого роскошного незастроенного лесного массива у городского порога, и потому, быть может, недооценивающему – что за благо для современного многомиллионного города сохранить под боком такое неоценимое сокровище, как почти четыреста гектаров живой зелени, уцелевших среди обступивших их со всех сторон кварталов многоэтажной застройки!
Непредсказуемо складывается жизнь городов. Одни улицы, и даже районы, уцелевают, доходят до нас сквозь все превращения и застройки, другие исчезают под натиском последующих строительств, не оставив по себе и памяти. Исчезают в первую очередь, конечно, участки природы. Разве изредка сохранятся названия вроде Остоженки или Вороньей улицы, напоминающие о прежнем деревенском пейзаже.
Протянувшиеся от Кремля на многие километры лучи московских улиц давно поглотили прежние подгородные села и усадьбы, в трубах под землей текут речки и ручьи, некогда сверкавшие под солнцем. Уже нельзя поверить в обступавшие столицу вековые боры, но отдельные счастливые островки пережили ее рост и развитие промышленности, достояли до времени, когда сделалось очевидным значение зеленых легких для индустриальных центров и озеленение выдвинулось в ряд насущных забот градостроителей. По цельности своей, обширности занимаемой площади, по сохранности природных угодий на первом месте среди других знаменитых ближних подмосковных усадеб стоят Кузьминки. Тут и сейчас можно, углубившись в рощи, долго идти по дорожкам или прихотливо вьющимся меж деревьев тропкам, вдыхая запахи леса, а за опушками полянок и в просветах между кронами все не показывается упирающийся в небо строй многоэтажек. Не доносится сюда гул и грохот транспорта, разве изредка прошумит где-то за деревьями местный рейсовый автобус или служебный грузовичок. В омутке запруженной речки плавают дикие утки, рыжая белка мелькает в листве старого дуба, перепархивают синицы. И вся эта жизнь отделена пятнадцатью минутами хода от потока машин на шоссе, зевов павильонов метро, вбирающих нескончаемые вереницы спешащих людей, от фонарей и рекламных огней. Наперечет мировые столицы, могущие похвастать природными вкраплениями такого масштаба, как древняя наша Москва!
Чугунные въездные ворота в усадьбу были построены по проекту Карло Росси А.Н. Воронихиным и Д.И. Жилярди
Рост здорового развивающегося города трудно поддается ограничению – этот процесс человеку постоянно приходится подправлять. Наступление кварталов и улиц, захват ими лежащих вокруг пажитей и лесов приводит иногда к утрате ценных угодий, наносит ущерб памятникам архитектуры и историческим местам. Рост населения, возникающие порой в городе кризисы с жильем или необходимость в промышленном строительстве побуждают градостроителей возводить дома и заводы где сподручнее, дешевле, не считаясь с эстетической, оздоровительной или мемориальной значимостью занимаемых участков. Высшие, долговременные соображения и интересы вступают в противоречие с нуждами дня, что вызывает те споры, которые постоянно происходят между застройщиками и городской общественностью, склонной, по мнению первых, преуменьшать необходимость перемен. Сделалась классической ссылка на яростные нападки газет всех толков на Жоржа Эжена Османа, руководившего в семидесятых годах прошлого столетия прокладкой «по живому» знаменитых парижских бульваров.
Город редко захватывает крупные незанятые площади сразу. Он обычно поглощает их частями – сначала застраивает кромки, потом проникает глубже, пока прежний парк, поле или луг не окажутся в кольце новых построек, прорезанные коммуникациями и транспортными жилками. Это хорошо прослеживается по таким территориям, как Сокольники, Измайлово или Коломенское. За последние двадцать лет к сердцу их вплотную подобрались современные дома.
Кузьминкам в этом отношении повезло, там все еще сохранились уголки, от которых далеко до фронта наступающего города, там еще уцелела та «лесная среда», которая позволяет растительности противостоять дыханию города, приспособляться к изменению уровня грунтовых вод, нет там и того переуплотнения почвы, что способно омертвить целые рощи. Разумеется, оправданно говорить лишь об относительном благополучии Кузьминок: как будет видно из дальнейшего, и на этом парке сказалась зависимость от временных обстоятельств.
Впервые под государственную охрану Кузьминки были взяты в 1960 году постановлением Совета Министров РСФСР: парк и постройки прежней усадьбы были одновременно включены Министерством культуры СССР в проект списков памятников всесоюзного значения. Однако уже через четыре года, в 1964 году, было решено превратить их в Парк культуры и отдыха. Но после вмешательства московской общественности, в 1969 году, было вынесено новое решение: «О мерах по сохранению и содержанию исторической части парка Кузьминки с превращением ее в дальнейшем в музей садово-парковой архитектуры с заповедным режимом».
Но и после этого решения заповедная часть парка использовалась для неорганизованного отдыха. Были устроены безобразные пляжи, что, бесспорно, отрицательно отразилось на самой ценной, околопрудной, части исторического ансамбля.
Спустя семь лет решение 1969 года отменяется и принимается третье: «Об организации Парка культуры и отдыха на территории лесопарковой зоны Кузьминок». Последовавшее спустя три года дополнительное разъяснение низвело Кузьминки на степень «памятника местного значения», и они сделались одним из шестидесяти рядовых парков культуры и отдыха столицы.
Так постепенно была перечеркнута идея создания музея садово-парковой архитектуры площадью около двухсот гектаров.
В дальнейшем возникла подлинная тяжба между Всероссийским обществом охраны памятников культуры и зодчества и Архитектурными мастерскими ГлавАПУ, разработавшими свой проект благоустройства Кузьминок, фактически направленный против реставрации и сохранения ансамбля. Специалисты и общественность Москвы не согласились с ним и выдвинули контрпроект реставрации, отвечающий требованиям Положения об охране памятников. К 1980 году был разработан и согласован со всеми заинтересованными в сохранении Кузьминок организациями еще один проект реставрации, однако приходится признать, что и два года спустя дело мало продвинулось: наша национальная гордость – садово-парковый ансамбль Кузьминки в плачевном состоянии.
Музыкальный павильон Конного двора построен в 1820-е годыСгоревший несколько лет назад знаменитый Музыкальный павильон до сих пор не восстановлен, хотя к его реставрации было приступили, о чем свидетельствуют полусгнившие леса, груды кирпича, заросшего лопухами, ведра с окаменевшим цементом. Асфальт покрыл дорожки в исторической части парка, неумелая реконструкция пруда привела к уничтожению моста на плотине; пруды заросли; гибнут без ухода старые деревья; действуют аттракционы, подлежавшие выводу из парка, а у его входа воздвигнут внушительный пивной бар. Ветеринарный институт по-прежнему занимает ряд помещений усадьбы, огородив их уродливыми заборами.
Очевидно, что длящиеся без малого два десятка лет споры вокруг Кузьминок не пошли им на пользу; каждый год что-то невосполнимо уносит, разрушая творения лучших отечественных архитекторов… Хочется думать, что гибель их будет предотвращена!
И все же, как ни пострадали Кузьминки, когда туда попадаешь, то, побродив по длинным просекам, полюбовавшись грифонами на постаментах и ажурными светильниками парадного въезда, постояв над прудом с отражением, несмотря на разрушения, все еще величественного и прекрасного бывшего Конного двора – словом, проведя час-другой в этом старинном парке, начинаешь проникать в некогда осуществленный здесь общий замысел художников и зодчих, обративших смиренный уголок природы в подлинное произведение искусства, и до тоскливой боли хочется, чтобы снова прикоснулась тут ко всему рачительная рука просвещенных архитекторов и дендрологов, восстановила созданные талантом их предков великолепие и гармонию, и потомкам были переданы Кузьминки во всей их былой славе!
То не пустые мечтания. Еще шумят вокруг свежей листвой молодые деревья, еще стоят кое-где старые лесные великаны, не иссякла, все шумит вода у плотин на соединяющих пруды протоках, по-прежнему лежат мирные львы на соединенных чугунной решеткой постаментах вокруг частично уцелевших главных построек усадьбы – есть от чего оттолкнуться! Значит, можно и должно верить, что будущим москвичам будет возвращена вызывавшая восторги их предков знаменитая подмосковная усадьба Кузьминки!
Эта усадьба действительно заслужила свою славу, в чем легко убедиться, прочитав страницы, кратко рассказывающие об ее прошлом и достопримечательностях.
В начальные годы XVIII века Петр подарил это место – бывшую вотчину Симонова монастыря – уральским заводчикам Строгановым, пользовавшимся расположением царя. Первые документальные данные об усадьбе относятся к 1716 году, когда Строгановы обратились к церковным властям за разрешением на постройку в деревне Мельницы храма Влахернской Божией Матери, по которому село и стало называться Влахернским. Влахерна – небольшое местечко на берегу Босфора, где еще во времена византийского императора Феодосия II (V век н. э.) был построен первый храм Богородицы, хранивший древнюю икону, почитавшуюся чудотворной. В середине XVII века икона была подарена константинопольским патриархом царю Алексею Михайловичу. Любопытно, что «тишайший» усомнился, в самом ли деле ему прислан подлинник, и тогда, «в том же 1654 году, декабря 10 дня», протосингел Иерусалимского патриаршего престола Гавриил особою грамотою, благодаря царя за присланную ему милостыню, объяснил, что поднесенная государю чрез грека Дмитрия Костинари чудотворная икона Богоматери Влахернской есть та самая, которая некогда была покровительницей Константинополя и греческих императоров, и именно эту икону царь Ираклий имел при себе в походе против персов и о ее чудесах обстоятельно повествуется в истории.
Икона была помещена в Успенский собор в Кремле. Строгановы, видимо, имели одну из сделанных в XVII веке с греческого оригинала копий. Как бы то ни было, строгановская вотчина стала называться по этой иконе. До постройки церкви село это называлось Мельницей, по мельнице, стоявшей на речке Голедянке, среди соснового непроходимого леса, когда еще не было здесь ни храма, ни барского дома. Согласно преданию, название «Кузьминки» произошло от имени основателя мельницы – некоего мельника Кузьмы, чем-то в округе, видимо, прославившегося и оставившего след в народной памяти. И еще известно, что звучавшее простонародно – «Кузьминки» было не по душе родовитым владельцам вотчины, предпочитавшим звучное «Влахернское» и мирившимся с «Мельницей», отвечавшей моде на пасторально-буколические мотивы. Во всяком случае, в документах писали: «Село Влахернское, Мельница тож», а название Кузьминки утвердилось ближе к нашему времени и окончательно вытеснило из обихода прежние.
В пожалованной царем вотчине числилось пятьсот восемнадцать десятин земли да церковной тридцать три. В более поздние времена новыми владельцами были прикуплены соседние небольшие имения – немногим более двухсот десятин. В 1740 году произошел раздел между братьями Строгановыми, по которому Влахернское досталось барону (титул присвоен Строгановым в 1722 году) Александру Григорьевичу, на дочери которого Анне, получившей Влахернское в приданое, женился князь Михаил Михайлович Голицын.
С переходом села во владение князей Голицыных начинается пора его обстраивания и благоустройства. Все делалось с размахом, на широкую ногу, затейливо, к работе привлекались виднейшие архитекторы. При первом Голицыне был построен на месте обветшавшего деревянного каменный храм, возводились хозяйственные постройки, оранжереи. Однако подлинный расцвет усадьбы пришелся на более поздние годы, когда владельцем Кузьминок сделался Голицын-сын, Сергей Михайлович: большинство дошедших до нас построек и разбитые вокруг парки и цветники возникли именно при нем. Богатейший душевладелец, вдобавок унаследовавший Пашийские заводы Строгановых на Урале, этот князь мог, разумеется, осуществлять самые дорогостоящие затеи.
Композиционным центром усадьбы сделались пруды – общая их площадь достигала тридцати гектаров. Они образовали каскад на запруженных речках Чурилихе и Пономарке; нижний из них протянулся более чем на версту, и на его берегах были возведены главные постройки усадьбы. На самом возвышенном месте очень выигрышно стоял дом – дворец о двадцати восьми комнатах, с великолепными парадными покоями, ампирным четырехколонным портиком и барельефными фризами по всему фасаду, фланкированный с двух сторон флигелями, один из которых сохранился. Дом сгорел в предреволюционные годы. Цела обрамлявшая площадку с цветниками изящная невысокая ограда – чугунная решетка с каменными тумбами, на которых лениво разлеглись сторожевые львы. До сих пор особенно пышно и парадно выглядит главный въезд, украшенный светильниками с грифонами.
Примыкающий к Кузьминскому парку поселок Текстильщики прорезан длинной улицей, названной Чугунные ворота – по стоявшим тут некогда отлитым из чугуна воротам о восьми колоннах, поддерживавших массивный антаблемент, увенчанный огромным гербом рода Голицыных. Герб из того же металла был отлит в известной в свое время мастерской Кампиони в Москве. Ворота служили парадным въездом в усадьбу со стороны Рязанского шоссе. Это тяжеловатое дорического ордера сооружение, воздвигнутое в 1832 году, в точности – за исключением герба – повторяет известные Николаевские ворота в Павловске, построенные Карлом Росси. По сохранившимся сведениям, высота сооружения от основания до герба достигала пятнадцати аршин – около десяти метров – и на отливку их пошло 18 000 пудов (более трехсот тонн) чугуна. Ворота были переплавлены в тридцатые годы, когда стране позарез нужен был металл. Такая же судьба оказалась и у чугунных тумб с цепями, обрамлявших с двух сторон прямую, как стрела, аллею протяженностью в «330 сажен» (более полукилометра), проложенную от ворот к дворцу.
По правую руку входящего в ворота усадьбы тянулись оранжереи, сады и рощи с памятниками; по левую был разбит английский парк с расходящимися от центральной клумбы лучами просек, часть которых выводила к главному пруду и площади перед дворцом. На этой же площади стояла церковь. Она несколько раз перестраивалась в соответствии с меняющимися архитектурными вкусами владельцев. Поновлялась она и внутри – хозяева Кузьминок усердно заботились о ее благолепии. В своем окончательном виде церковь представляла достаточно распространенный в усадебной архитектуре образец позднего ампира. На старинной гравюре она окружена липами и оградой из двойных цепей на чугунных столбах. Отметим, что такого обилия литых изделий, начиная от массивных многопудовых ворот, соединенных цепями тумб, обелисков, грифонов, оград висячего моста и кончая фонарями, вазами и скульптурами, как в Кузьминках, не встретишь, пожалуй, ни в одной другой подмосковной усадьбе – чувствуется, что владельцам, унаследовавшим строгановские чугунолитейные заводы, металл этот доставался недорого.
Достало его и на украшение одной из лучших построек усадьбы, вдохновенного творения Дементия Жилярди и Афанасия Григорьева, – Конного двора.
Конный двор располагался справа от главного дома, на берегу пруда. Фасад здания образован двумя двухэтажными павильонами по углам и монументальной центральной «беседкой» Музыкального павильона. Помещенные в лоджии «беседки» четыре дорические колонны поддерживают архитрав, над которым круглится раковина для оркестра, украшенная скульптурой Аполлона и муз. Перед «беседкой» поставлены две конные статуи – копии с тех, что на Аничковом мосту в Петербурге. Модели были куплены у автора – скульптора П. Клодта. Лаконичная архитектура Конного двора с его скупо декорированными фасадами и проемами, удивительная уравновешенность пропорций, обрамляющие постройку купы деревьев, отраженные в водах пруда, – все это вместе должно было в свое время производить незабываемое впечатление идеального слияния архитектуры и природы.
Вокруг пруда разбросаны и другие сооружения. Вплотную к плотине стоит скромный на вид двухэтажный домик, называвшийся прежде «Дачей на плотине», вся прелесть которого заключена в его положении у самой кромки омута и классической соразмерности частей.
Неподалеку от «Дачи» круглится куполок небольшого строго ампирного «Банного павильона» (архитекторы Р.Р. Казаков и Д.И. Жилярди) с лоджией и симметрично прорезанными проемами окон с замками в виде львиных голов. Подальше, возле правого крыла Конного двора, через овражек с пересохшим ручьем перекинута арка кирпичного мостика. Поблизости стояла шестнадцатиколонная беседка с орлами и отлитой из меди статуей императрицы Марии Федоровны работы И. П. Витали, сооруженной в память ее пребывания во Влахернском. Под сенью старых дубов сохранились остатки фундамента обелиска, поставленного на месте, где когда-то стоял домик Петра I, гащивавшего на полюбившейся ему строгановской «Мельнице». В известных записках П.В. Нащокина значится под 1722 годом, что при возвращении из Персидского похода «Петр изволил пребывать, пока все соберутся, в подмосковной Строганова, что слывет Мельницей…».
Длинным строем стоят вдоль так называемой Тополевой аллеи, идущей от площади с дворцом и церковью, возведенные на века двухэтажные флигели, служившие помещением для дворни, церковного причта, конторы, школы для детей служителей. Тополевая аллея тянется вдоль пруда на некотором расстоянии от него; в конце ее находится больница, учрежденная еще при упоминавшемся Сергее Михайловиче Голицыне. Ее открыли в 1816 году, и долгие годы – вплоть до 1869-го, – она содержалась за счет владельцев имения, после чего была передана Московскому уездному земству. В нынешнее помещение (больница существует и теперь), бывшее прежде фермой (первоначальное назначение здания и сейчас угадывается сквозь позднейшие капитальные перестройки), больницу перевели в 1889 году. Было тогда в ней всего двадцать три койки да родильный приют на семь человек; добавим, что штат состоял из главного врача с ассистентом, фельдшера с двумя фельдшерицами и акушерки.
Несколько ранее больницы – в 1813 году – Голицын учредил в Кузьминках богадельню на двенадцать женщин; позднее (в 1879 году) она была расширена и проживало в ней на полном содержании десять мужчин и двадцать шесть женщин. С 1843 года в имении было открыто народное начальное училище для «служительских детей», в котором вели обучение священник и пономарь, получавшие от князя первый триста, а второй сто рублей в год. В 1873 году училище было закрыто «за отъездом князя», как записал в обстоятельной хронике местный священник.
В прочих сохранившихся постройках Кузьминок уже трудно узнать прежние, декорированные портиками или лоджиями «Оранжереи», «Египетский павильон», подсобные или декоративные сооружения, – настолько они переделаны, приспособлены под другие надобности. Иные вовсе исчезли, в том числе и упоминаемые едва ли не во всех описаниях прежних Кузьминок «Пропилеи», имевшие чисто декоративное назначение. То была колоннада, выстроенная на противоположной от дворца стороне пруда и предназначенная украсить вид. Сам дворец, как уже говорилось, сгорел еще в 1916 году, и на его месте было возведено здание, мало гармонирующее с соседними ампирными флигелями.
Больница в Кузьминках. Середина XIX векаЗаканчивая этот короткий обзор архитектурных примечательностей Кузьминок, добавлю, что в создании их непосредственно участвовали или проектировали ту или иную постройку наши виднейшие зодчие. В их списке Родион Казаков, Еготов, оба Жилярди, Баженов, Григорьев, Воронихин, Росси, Стасов. Прибавим к ним скульпторов Витали и Клодта, безвестных художников и декораторов, расписывавших парадные апартаменты дворца, стены церкви, плафоны, выполнявшие художественные работы. Кузьминки можно с полным правом назвать музеем монументальных памятников классического зодчества.
Для современного читателя будут небезынтересны и некоторые биографические сведения о главном устроителе Кузьминок, князе Сергее Михайловиче Голицыне, владевшем ими сорок три года и рисующемся нам фигурой колоритной, достаточно верно отражающей некоторые черты эпохи, когда коснувшаяся высших классов образованность и отраженное влияние идей французских просветителей и революции 1789 года причудливо наложились на дремучую крепостническую психологию русских дворян. Как известно, даже среди видных декабристов были противники поспешного освобождения крестьян.
Князь С.М. Голицын был в Москве человеком широко известным: попечитель московского учебного округа, председатель отделения Главного совета женских учебных заведений, наследственно – Главный директор Голицынской больницы.
Он, как свидетельствуют воспоминания, заботливо относился к питомцам находившегося в его ведении Воспитательного дома и по выходе их оттуда не лишал своего покровительства, и многие благодаря этому получили возможность попасть в университет; щедро помогал несостоятельным казеннокоштным студентам, платил пенсии многим нуждающимся родственникам, в том числе семейству князя И.М. Долгорукова, писателя и поэта.
Все это уживалось у него со взглядами, не отличавшимися от фамусовских. Сергей Михайлович чурался нововведений и решительно не одобрял предоставленного (по терминологии того времени, «дарованного») университетам избирательного права, утверждая, что сие позаимствовано у немцев, «где не столько учености, сколько вольнодумства и своеволия»! Им даже был предложен проект назначения, вместо ректора, «постороннего университету чиновника»; князь ручался, что тогда «Московский университет приобретет должную степень совершенства». Тут прямая перекличка со скалозубовским фельдфебелем, выдвинутым на роль Вольтера… Был, разумеется, этот доброжелательный, мирного склада человек, прирожденным душевладельцем, к тому же несметно богатым, взысканным личной дружбой царей, осыпанным наградами и придворными званиями. Но в памяти современников он все же запечатлелся своей гуманностью и демократизмом, тем, что полтора века назад квалифицировалось как филантропические наклонности. Князь Сергей Михайлович не чурался народа и сделал свои Кузьминки общедоступными: они стали с двадцатых годов популярным местом прогулок москвичей.Но вернемся в Кузьминский парк, куда привлекало толпы москвичей, по образному выражению современника, «блистание всей роскошью природы и искусства, которые во Влахернской так дружно идут рука об руку».
Особенно изумляли посетителей необыкновенная чистота и порядок, в которых содержался весь сад, от едва заметной тропинки до великолепных аллей и полян, от маленького скромного мостика до роскошного портала, гротов, беседок…
«Парк поражает чистотой всякого посетителя, – читаем у другого хрониста, – дорожки подметены, посыпаны красным песком, борта дорожек правильно обрезаны, везде стоят чугунные лавочки и диваны для отдыха гуляющих».
Помимо цветников, газонов и подстриженных аллей Кузьминки славились и оранжереями. По описи 1829 года, в княжеском «тепличном хозяйстве», как сказали бы мы сейчас, значилось: «152 лимонных дерева, 291 померанцевых, 26 апельсиновых, 502 грушевых, 509 слив, 217 вишневых и 618 ананасных». Когда в Москву приезжали члены царского дома или «знатные иностранные персоны», плоды из Кузьминок шли к «высочайшему столу», а вообще оранжереи приносили владельцу до трех тысяч рублей дохода в год. Из записей того времени узнаем, что одних «приставленных к оранжереям рабочих» числилось тридцать человек. Были, кроме них, садовники и «помогающие крестьяне». Последних, по-видимому, не считали!
Однако не одни красоты природы и архитектуры влекли во Влахернское посетителей. Хозяин имения был охоч до празднеств, устройства всяких, по-нынешнему, аттракционов, а предлогов для них было предостаточно. Как уже говорилось, владельца имения навещали «высочайшие особы», что всегда было поводом для устройства пышнейших встреч, торжественных богослужений и народных гуляний с иллюминацией, музыкой и фейерверками. Без них не обходилось ни одно семейное торжество – именины, рождения, всякие крестины и памятные дни.
Посетителей в парке бывало множество, хотя Кузьминки, по старой терминологии, «находились на десятой версте от Покровской заставы» – путь, который большинству приходилось проделывать пешком. Правда, предков наших не отпугивали такие прогулки, и их, несомненно, поразило бы, как предубеждены против них иные из их потомков, наших современников.
В дни гуляний на пруду играла роговая музыка, явление уникальное, сугубо русское. В голицынском «хоре» ее исполняли сорок человек. Послушать роговой оркестр приезжали иностранные гости из Москвы, поскольку на Западе подобных инструментов не знали. Один из таких приезжих, маркиз де Кюстин, оставил описание рогового оркестра Кузьминок. Вот что он пишет:
«Жизнь музыкантов этого оркестра проходит в выдувании одной ноты. Производимые звуки совершенно подобны игре огромного органа, с той только разницей, что каждая нота кажется слитой с предшествующей и последующей, обстоятельство, которое производит резкое раздражение в ушах и создает какую-то монотонность. Все же игра обладает известным величием, особенно когда исполнители не видны. Когда же они видимы, невозможно умолчать о размышлениях, которые созвучны их гармониям. Видеть человеческую природу, таким образом используемую, вызывает мысли, совершенно противные восхищению, обязанному таким усилиям. Рога разной величины выдувают высокие ноты. Рога для нижних нот положены на подставки или козлы…
Исполнители обычно худы и бледны, и я почти не сомневаюсь, что количество воздуха, которое поглощает инструмент в связи с практикой, нужной для усовершенствования в исполнении, должно вычеркнуть много лет из нормальной продолжительности их жизни».
Затруднительно справедливо оценить этот вывод. Действительно ли извлечение звуков из этих «труб», в сущности разных размеров обыкновенных охотничьих рогов, труднее и вреднее прочих духовых инструментов? Во многих мемуарах и дневниках иностранных путешественников, бегло знакомившихся с нравами и обычаями экзотической Московии, не редкость не только развесистая клюква, но и сквозящее в них намерение умалить или принизить, а то и исказить российские нравы, характер и обычаи. Яркий пример тому – книга известного путешественника маркиза де Кюстин, побывавшего в России по приглашению Николая I. В ней наряду с возмущением крепостными порядками и злоупотреблениями самодержавной властью немало несправедливых и предвзятых суждений о русском народе – того, что ныне получило название русофобии.
Но вернемся к отзывам москвичей, наперебой восхищавшихся порядком, царившим во время народных гуляний в Кузьминках.
«Здесь всему свое место, здесь самовары в одной роще, простой народ в другой, экипажи в стороне, нет ни дыма, ни пыли, и вы не увидите и не услышите таких сцен, которые, как бы хорошо ни обрисовывали характер и разгул простого народа, однако не всем могут понравиться. Здесь, напротив, в движении этой пестрой, разноцветной массы гуляющих, в этой музыке и в этих народных песнях – столько приличия и вместе скромной, благородной свободы, что остается только пожалеть, для чего под Москвой нет побольше таких праздников и гуляньев, где было бы столько простоты и истинно русского приволья и куда бы не сходились только и не съезжались для того, чтобы показать свои обновки».
Надо полагать, что в этих словах современника нет большого преувеличения. Вряд ли сюда добирались любители пображничать, которым незачем было покидать город, «идти за семь верст киселя хлебать». Думаю, что на пруды и в парки Влахернского устремлялась главным образом публика, ценившая не только красоту места, но и развлечения, доставляемые хозяином имения – музыку, катание на лодках и столь полюбившуюся нашим предкам со времен Петра «огненную потеху».Со смертью многолетнего хозяина Кузьминок начинается постепенный упадок усадьбы. Скончался он за два года до отмены крепостного права, ознаменовавшей закат привольной жизни душевладельцев, и особенно того вельможного беззаботного существования, какому предавались обладатели тысяч и тысяч крепостных душ. Последней по времени архитектурной затеей старого князя был памятник Николаю I; после него уже ничего нового в Кузьминках не воздвигалось. Инерция давно заведенных порядков продолжала некоторое время поддерживать жизнь усадьбы, однако с годами тут становится все малолюднее, хозяин уже не задает праздников. Пустуют дворец и Конный двор, уже не поновляются «Пропилеи» и березовая беседка на острове, зарастают не посыпаемые больше красным песком дорожки…
Унаследовавший после Сергея Михайловича Влахернское его сын Михаил умирает в следующем, 1860 году, имение достается семнадцатилетнему племяннику старого князя, тоже Сергею Михайловичу, последнему его владельцу: в 1917 году он сдал Кузьминки новой власти.
В начале нынешнего века в Кузьминках побывал известный художественный критик Сергей Маковский. В опубликованном журналом «Старые годы» (1910, № 1) его очерке отразилось грустное впечатление, какое произвели на него запущенность и упадок усадьбы, еще так недавно – на памяти его поколения! – блиставшей чистотой и порядком. Он рассказывает о «полувысохших прудах, поломанных ветром вековых липах, заросших цветниках, беседках с полусгнившими скамьями». В барском доме, флигелях, служительских помещениях, в переделанных оранжереях поселились дачники – «чеховские интеллигенты», как их назвал Маковский. «В княжеском дворце, – вздыхает он, – нет следа прежней мебели: ее заменили венские стулья и обывательские столы». Но особенно огорчила знатока искусств «варварская реставрация с золочением» в церкви, не оставившая следа прежних росписей и стильного убранства…
У въезда в усадьбу сто лет назад еще стояли чугунные ворота, «которые можно было принять за триумфальные», и даже полосатая будка, напоминавшая о громких временах, когда возле нее стоял часовой по случаю приезда кого-нибудь из царской семьи. Еще в девяностые годы старожилы рассказывали тому же Маковскому об оркестрах трубачей, игравших в нише павильона Конного двора, о ботиках с матросами на прудах, гуляньях с фейерверками и пушечной пальбой. В богадельне доживали век престарелые служители, свидетели дореформенных порядков, видевшие своими глазами княжеские выезды цугом, не понаслышке знавшие изнанку здешней блестящей жизни. Так было на заре века. Еще в 1911 году, когда в России праздновалось пятидесятилетие отмены крепостного права, публиковалось множество рассказов лиц, помнивших дореформенное время. Да и в деревнях, и по старым усадьбам еще были живы крепостные барские крестьяне и дворовые – свидетели этого прошлого. Рассказы их и воспоминания приходилось просеивать через критическое сито, отделяя правду от непроизвольно обволакивающих ее плодов легенды.
В наше время, в начале восьмидесятых годов, «свидетельства» старожилов, как правило, ограничиваются послереволюционным временем. Помню, как несколько лет назад я усердно искал на улицах прежней Рогожской-Ямской слободы старинного местного жителя, который бы что-нибудь помнил о прежнем слободском укладе, о последних ямщиках, о дореволюционной жизни слободы.
Ныне я удостоверяюсь в том, что в обиходной памяти и самых старых людей предельная точка отсчета – 1917 год, даже точнее – Октябрьская революция. В их рассказах о «будто бы» старом, дореволюционном времени, непроизвольно вводятся бытовые черточки первых послеоктябрьских лет. Корректируют такие хронологические смещения написанные по горячим следам хроники и воспоминания, ценные тем, что они как бы ставят вехи на историческом пути народа: оглядываясь на них, люди острее и глубже постигают смысл и направление своего продвижения в веках.
В отделе редких книг Библиотеки имени Ленина хранится альбом с гравюрами видов «Мельницы», подмосковной, принадлежащей князю С.М. Голицыну, изданный в Париже в конце первой половины прошлого века. Часть их утрачена – сохранилось всего семнадцать листов из двух с лишним десятков, – бумага сделалась ломкой, края листов помяты, но, вглядываясь в тщательно и с любовью воспроизведенные подробности пейзажей, оживленных добросовестно выписанными фигурками людей и сценками в парке, как бы погружаешься в прошлое, осязаешь жизнь далеких времен. Автору гравюр, художнику Рауху, было, вероятно, наказано передать будни усадьбы: на гравюрах нет ни пышных выездов, ни праздничной толпы. Зритель должен был видеть без помех торжественную красоту умело созданных живописных перспектив, отдельно стоящих вековых дубов, стройных колоннад и портиков дворца, церкви, павильонов и хозяйственных построек, украшенных лоджиями, куполками, лепными деталями.
На первом листе – въезд в усадьбу с торжественными воротами, копирующими, как упоминалось, сооруженные Росси в Павловском парке. По обе стороны ворот тянутся чугунные решетки с декоративными вазами и жирандолями – въезд по вечерам в торжественных случаях щедро освещался фонарями. За широким проемом между центральными колоннами ворот открывается перспектива прямой аллеи с видными вдали дворцом и колокольней церкви. По обе стороны аллеи – кущи парка с отдельными высоко взнесенными кронами старых деревьев. Перед воротами – обширная площадка: подъезжающему к усадьбе предоставлялось еще издали любоваться великолепием монументального въезда и, пожалуй, заранее проникаться почтением к небожителям, в чьи владения он собирался вступать! Надменно, подавляя пришельца своим величием, взирал на него с высоты герб хозяина – эмблема его наследственных прав и священных привилегий…
Старый дворец, первая половина XIX векаВ сторонку от ворот отъехала пароконная коляска с поднятым верхом. Экипаж пуст, лошади укрыты попонами: седоки, вероятно, отправились на прогулку по парку, кучеру же надо ждать их возвращения. Ему кланяется крестьянин, опирающийся на посох, – не предлагает ли он ему место, где бы поставить лошадей и самому отдохнуть? В аллее – силуэты редких гуляющих, виден разносчик с лотком, у ворот – всадник, завершивший свою прогулку в парке, оттуда же идет франт в сюртуке и светлых панталонах…
Из всего, что воспроизвел художник на этой гравюре, не осталось и следа: как уже говорилось, на месте ворот – людный перекресток с троллейбусной остановкой и автобусами. Впрочем, и сейчас в стороне от проезжей части улицы высится небольшой обелиск, фигурирующий и на гравюре. Однако у него столь плачевный вид, что и определить трудно: старый ли это верстовой столб, какие ставили в старину у выездов поселков и городов, или остаток какого-то памятника? У художника же на одном из фасов обелиска прикреплено что-то вроде металлического венка и вокруг – чугунные двойные цепи на столбах…
На большинстве гравюр хоть где-нибудь да виднеются за деревьями или над другими постройками главки Влахернской церкви. Поставленная в центре усадьбы, рядом с барским домом, венчающим самое высокое место, она была, очевидно, видна отовсюду. Однако современному посетителю не так-то легко угадать в нескладном, квадратном здании, с как бы наугад пробитыми окнами прежнюю церковь, о пышности которой без малого два века пеклись владельцы усадьбы: то возводили колокольню, то перекладывали купол или пристраивали пышные парадные лестницы с трех сторон. Ныне церковь перестроена под общежитие и помещение автобусной станции; колокольня и промежуточная часть, соединявшая ее с основным храмом, снесены. Уцелели от прошлого его облика закругленные углы двухколонных портиков. Но вовсе рядом с ней в неприкосновенности сохранилась ризница необычной формы – это приземистое, круглое, суживающееся кверху здание с далеко выступающим свесом крыши и куполком, с четырьмя симметричными полуциркульными окнами.
Более всего художник любил, как видно, писать пруды в их живописном обрамлении. Он запечатлел аккуратные дорожки, подстриженные кусты, густые опушки и поэтические полянки, склонившиеся над «лоном вод» задумчивые ракиты, тут и там – одинокие могучие дубы и непременно фигурирующие на всех листах, где пруды, – лодочки и даже мачтовые суденышки, боты с тентами, гребцы и катающиеся декольтированные дамы и кавалеры в цилиндрах. По аллеям чинно прогуливаются матери с детьми, парочки – мужчины осторожно ведут своих дам под руку или учтиво раскланиваются, расшаркиваясь и церемонно приподнимая шляпу. Тут же собачки, домашняя птица, в стороне пасутся овечки и даже устрашающе рогатые коровы, опершийся на палку пастушонок любуется подплывшими к берегу лебедями – все как на классической пасторальной картине! На нескольких листах видим художников с мольбертами. Князь, несомненно, приглашал живописцев, чтобы запечатлеть на холсте красоты своей резиденции, и сам автор эстампов, таким образом, увековечивал себя или своих собратьев за работой.
Одна из гравюр – пожалуй, самая насыщенная «документальными» деталями – воспроизводит площадь перед дворцом: внимательно вглядевшись, узнаешь сохранившиеся фрагменты архитектурных сооружений Кузьминок: тут и грифоны, поддерживающие светильники, и начинающаяся от пруда чугунная решетка с лежащими на своих постаментах – теперь уже второй век – львами, с условно львиными мордами, и в правом углу листа – часть портика бывшей церкви. Там, где сейчас стоянка автобусов, изображена запряженная цугом карета: из окошка дверцы выглядывает дама в шляпе с роскошным страусовым пером. Возле гарцует всадник в треуголке, лосинах и ботфортах. Весь задний план занимает скрупулезно выписанный фасад дворца со всеми подробностями декора, даже деталями барельефов фриза. Прорисовано каждое звено цепей, провисших между столбами ограды.
Прекрасна гравюра и с видом Конного двора – одна из самых живописных в альбоме. В водах пруда светлеет отражение фасада; под берегом дремлет причаленная лодка, в тени векового дуба расположился художник в надетой набекрень шляпе с высоченной тульей. Возле двора – несколько групп гуляющих. Они, быть может, ждут часа, когда раковину музыкальной «беседки» заполнят музыканты, назначенные услаждать слух «почтенной публики». А может быть, они вблизи любуются клодтовскими конями, так эффектно поставленными у подножия павильона с дорическими колоннами. И в самом деле, эта центральная «беседка» Конного двора, при своей простоте и лаконичности форм, пленяет завершенностью и гармонией общего вида.
Гравюры уводят нас и в дальние уголки парка, показывают исчезнувшие или перестроенные здания – это целое путешествие в отшумевшее прошлое. Они побуждают нас задуматься над громадностью затраченных тут трудов, вложенных средств и талантов, создавших подлинное произведение искусства. Оно некогда тешило тщеславие и удовлетворяло вкусы одного человека – баловня судьбы, которому довелось родиться владельцем двадцати пяти тысяч «мужских» душ, их семей и убогого достояния, имевшему право присваивать себе плоды их трудов и распоряжаться судьбой. Но летели годы, наслаивались десятилетия, миновал век, и бесследно сгинули старые порядки, непостижимые для пришедших на смену поколений. И в уцелевшей вельможной усадьбе уже видишь не огражденное законом достояние владетельной семьи, а творение рук народа, воплощение его талантов, мастерства и умения, принадлежащее Отечеству, составляющее драгоценную часть великого исторического наследия нации.
И мне кажется, что долг каждого поколения – вложить свою лепту в дело сохранения таких жемчужин, как бывшее село Влахернское, Кузьминки тож, восхищавшее москвичей полтора века назад и призванное радовать и услаждать наших потомков!Спустя семь веков«Я простился с Новоспасским и еще долго глядел на Москву, величественно обнявшую древние села Кучки; окинул взором окрестные дали и сказал про себя: «Лишите некоторые места отечественных воспоминаний – останутся лишь крутые холмы с прибрежными долинами; лишите воспоминаний памятники какой-либо страны – большая часть представят взору невзглядные громады камней. То же было бы и с этими видами, и с этими памятниками при остуде в нас патриотизма. Нет, места прекрасные вдвойне! Наш взор привык любоваться вами, а сердце вас благословлять: с ваших холмов еще нам веет нашим родным минувшим, достойным памяти, – ваши камни говорят много тому, в ком еще не простыла русская кровь!» – писал Н. Иванчин-Писарев («Утро в Новоспасском». – М., 1841).
Старомодный язык автора, полтора века назад выражавшего свои впечатления от московского Новоспасского монастыря, не мешает нам понять его чувства и разделить их: в самом деле, предание способно оживить любой пейзаж, а знание истории – пробудить благоговейный интерес к пощаженным временем остаткам древних построек. Когда знаешь, что место, где ты находишься, служило поприщем сонму твоих давно исчезнувших предшественников и к нему можно привязать события, отразившиеся на судьбе народа, то пробуждается ощущение связи поколений и исторической преемственности, возникает та осмысленная и просвещенная любовь к своей земле, что делает нас верными сынами своей Родины.
Места по левому берегу реки Москвы, где стоят Новоспасский монастырь с Крутицким подворьем, а несколько далее – Симонов монастырь, примечательны не только живописностью, но и своим прошлым, сведения о котором восходят к полулегендарным временам, когда еще свежа была память об упомянутых в приведенном отрывке селах боярина Кучки, и к летописным преданиям о начале возвышения Москвы, безвестного «молодшего» городка, доставшегося в удел четвертому сыну Александра Невского князю Даниилу.
Наш рассказ будет о двух отличных по своему назначению, но восходящих к одному и тому же времени – XIII веку, расположенных по соседству друг с другом памятниках старины: о Новоспасском монастыре, основанном московским князем Даниилом, и о Крутицком подворье Сарских епископов, отписанном им тем же князем. В древности все возвышенности – «крутые горки» – по левому берегу Москвы-реки от реки Яузы до урочища Симонова назывались Крутицами. Впоследствии это название удержалось за возвышенностью между Симоновым и Новоспасским монастырями.
I. Владычное подворье на КрутицахОснование Крутицкого подворья переносит нас в один из самых тяжелых периодов отечественной истории. Еще не залечены раны, нанесенные опустошительными нашествиями орд Батыя, в низовьях Волги закрепилась могущественная Золотая Орда, данниками которой сделались русские княжества. Там, во вновь основанном Сарае, томятся тысячи и тысячи русских пленных, обращенных в рабство. Желание поддержать, облегчить их участь побуждает великого князя Владимирского Александра Невского ходатайствовать перед ханом – братом Батыя Берке – об учреждении в его столице православной епархии. По другим сведениям, сам хан потребовал себе в Сарай представителя русской веры, «большого попа», для живущих промеж татар русских. И в 1261 году в «Великом Сарае» была открыта митрополитом Кириллом II Сарайская, или Сарская, кафедра. Первым епископом был поставлен Митрофан. Ему для постройки резиденции в Москве Даниил и отдал участок земли на Крутицах.
Спустя восемь лет, в 1269 году, к Сарской епархии была присоединена Переяславльская, с кафедрой в Переяславле-Русском, на реке Трубеж, близ Киева. Преемник Митрофана епископ Феогност стал именоваться епископом Сарайским и Подонским. В укрупненную епархию входила вся Южная Русь между Волгой и Днепром. Территория ее граничила с Рязанским княжеством, и сарайские епископы, пользуясь быстрым ростом своего влияния при московском князе, стали притязать на доходы с церквей в селениях, построенных рязанскими князьями для защиты своих южных границ.
Услуги, оказываемые епископами Сарскими московским князьям в Орде, сильно укрепляли в Москве их положение. Но ослабевало ханское могущество, связи со столицей Золотой Орды утрачивали свое значение, и в 1454 году епископ Вассиан окончательно перенес кафедру в Москву, утвердив свое постоянное пребывание на Крутицах. Сарайская и Подонская епархия была поделена между соседними, а Крутицкому владыке поручили ведать делами митрополии. Вскоре была учреждена особая Крутицкая епархия, держателям которой было сохранено наименование Сарских и Подонских – «из почитания к древности».
По тому, что сохранилось из старых построек Крутицкого подворья, можно лишь отдаленно себе представить прежний его облик. За свое более чем шестисотлетнее существование «владычная обитель на Крутицах» пережила немало превращений, видела периоды расцвета и бедственного разорения, роста своего значения и богатства наряду с временами полного оскудения. Подтверждением письменных сведений о древних Крутицах остались лишь фрагменты фундаментов да вкрапления старой кладки в стенах часто неузнаваемо перестроенных или обновленных строений. Отметим, что более долговечными, чем кирпичи и камни, оказались древние названия. Возле подворья и поныне значатся Сарайский проезд и Подонский переулок. Эта стойкость топонимических обозначений, столь ценная для науки, лишний раз указывает на неправомерность практики их замены новыми: порой вместе с историческим названием уничтожается единственная вещественная память об отдаленных событиях, живших людях, наступивших переменах…
Татарское иго усилило в русских сознание общности своей судьбы и интересов, во всяком случае – наличия общего врага, и это облегчало московским государям задачу объединения разрозненных удельных княжеств и подчинения их своей власти. Правой рукой при проведении великими князьями московскими политики централизации были православные иерархи, и поощрение церковников, забота об укреплении влияния церкви проходят красной нитью в деятельности как первых «собирателей Руси», так и укрепившихся на московском престоле русских царей. Однако до времени, пока их власть не утвердилась настолько, что огромный авторитет церкви сделается помехой, и цари почувствуют, что вполне могут обойтись без содействия сделавшегося непомерно могущественным и богатым союзника.
Развитие отношений между светской и духовной властью отразилось как в зеркале на судьбе Крутиц.
Уже в XV веке, при великом князе Василии Темном, Крутицким епископам было отписано шесть городов, среди них Козельск и Лихвин (названный так за его упорную – «лихую» – защиту в Батыево нашествие, ныне, кстати, переименованный в город Чекалин), а в начале XVII века этот список удлинили Белев, Одоев, Новосиль, Ливны, Мценск, Карачев. Крутицкие владыки превратились в могущественных церковных феодалов и пользовались уже тогда исключительным влиянием. Но подлинный расцвет кафедры наступил после учреждения на Руси патриаршества: епископы Крутицкие, Сарские и Подонские были возведены в сан митрополитов, сделались первыми иерархами после патриарха и нередко заменяли последнего.
В XVII веке владения епархии все расширялись и к концу его включали уже 16 городов с 15 монастырями и 907 церквами. Числилось в них протопопов 9, попов – 1177, диаконов – 624, дьячков – 1052, пономарей – 988, праздных церковников и малолетних – 5029 – целая рать духовенства! Во всех приходах епархии насчитывалось 82 124 двора с 684 034 жителями.
Летописи и другие исторические документы XVI и XVII веков полны упоминаний о Крутицких владыках, принимавших участие в обсуждении важнейших государственных дел: они заседали на соборах, служили поручителями в «верной службе без побегов» князей, крестили татарских ханов и царевичей, судили еретиков, венчали великих князей, приглашались в числе первых на приемы и «столы» при дворе. Близость к двору не раз оборачивалась невзгодами – Крутицкие иерархи подвергались опале, ссылались, лишались сана, кончали дни заточением в дальних монастырях.
Зенитом же преуспеяния и могущества Крутиц стал период царствования Алексея Михайловича. Епархию возглавлял в те годы митрополит Павел II, известный своей ученой деятельностью. «Крутицкие храмины» становятся при нем крупным центром просвещения. Здесь основывается Ученое братское просветительное общество, руководимое самим митрополитом и киевским монахом Епифанием Славинецким, грамматиком, ритором, философом и теологом. Общество занималось переводом с иностранных языков не только церковных книг, но и светских – по истории, географии, медицине, анатомии и космографии. Епифанием был сделан первый русский перевод труда Коперника «Об обращении небесных сфер», составлен славяно-греко-латинский лексикон.
Следует отметить, что и в более ранние времена Крутицкую кафедру занимали епископы, оставившие о себе след как люди просвещенные. Сарский епископ Феогност был послом хана Золотой Орды в Византии. Епископы Матвей, Досифей, Забела, Савва Черный и Нифонт Кормилицын были авторами литературных сборников XIV – XVI веков, проводниками художественных воззрений знаменитого Дионисия. Назовем еще Крутицкого митрополита Киприана Старорусского, положившего в бытность свою архиепископом Тобольским начало сибирскому летописанию и известного в качестве составителя так называемого киприановского свода Сибирской летописи.
«Богословскую школу, – читаем мы у современника, – митрополит Павел II устроил в доме своем архиерейском, сущем вне града Москвы, именуемом Крутицы, на горах высоких и крутых, над рекою Москвою, тихом сущем месте и безмолвием приличным делу сему, храмины прилична соделал, и вертоград разных видов древ и цветов и зелий всяких посади и источник ископа, тещи сладководные за утешение и от труда приставшим успокоение, и оградою огради ради прохождения, яко некий рай».
В митрополичьих садах кроме водометов красовались беседки с надписью: «Труд с покоем».
Нелегко теперь, поднявшись на шатровую колокольню Крутицкой церкви или оглядывая окрестности из окон надвратного теремка, представить себе эти митрополичьи «голландские сады» с павильонами и фонтанами, где прогуливались монахи, отдыхая после утомительной сверки текстов и словарных разысканий: на месте буколических кущ и цветов в глубь квартала от реки уходят крыши низких строений; вид замыкает многоэтажье Пролетарского проспекта…
Проглядывая описи Крутицкой усадьбы, составлявшиеся уже под конец существования епархии, убеждаешься, насколько широко и богато обстраивалась резиденция занимавших ее владык. Помимо соборной церкви в два этажа, куда из архиерейских покоев (с домовой церковью) вели каменные переходы, были возведены и летние двухэтажные покои с каменным низом и деревянным верхом, также соединенные переходом с главным домом. Существовал еще и «особый дом для прочих лиц – певчих, монахов, разные службы, погреба», конюшни, сараи, кузницы, баня и еще особый летний флигель в саду с галереями и балконами, все это обнесено каменной оградой с четырьмя башнями и шестью воротами.
Кроме перечисленных служебных и хозяйственных строений Крутицкими архиереями были возведены обширные каменные двухэтажные палаты так называемого «Духовного приказа», где помещались дьяки, подьячие и писари, ведавшие обширным хозяйством епархии, достигавшей, как уже говорилось, внушительных размеров: по площади она превышала территорию Франции. Сюда стекались немалые доходы, здесь разбирались дела и вершился суд над провинившимися пастырями, монашеской братией и строптивыми владычными людишками из подведомственных монастырей.
В нижних покоях архиерейских палат было отведено особое помещение – судейская. Сохранилось подробное описание, которое нас как бы вводит в жизнь той эпохи, в детали монастырского быта: «образ в киоте со стеклом, в нем риза и венец с короною серебряные, при нем лампада, судейский стол дубовый раздвижной, покрыт красным сукном, на нем зерцало вызолоченное, две чернильницы, печать консисторская с гербом, поверх Всевидящее Око с литерами вокруг герба – «Крутицкая духовная консистория», колокольчик медный; секретарский стол также дубовый и покрыт красным сукном, на нем чернильница, колокольчик и ножницы; часы стенные аглицкие с числами, в китайском футляре, кресла, покрытые трипом красным, а стулья зеленым, кроме того два аналоя деревянных и книги разного содержания». Тут же хранились – конечно, не напоказ, а для употребления – «желез ножных пятеро и одни кандалы, стульев с цепями три, из них один большой».
В Смутное время начала XVII века и Крутицкому подворью пришлось испытать немало бед, не миновали его ни пожары, ни шайки грабителей. При Лжедмитрии I кафедру занимал прежний настоятель Чудова монастыря Пафнутий. Опасаясь разоблачений, бывший чернец Чудова монастыря Гришка Отрепьев, очутившись на московском престоле, разогнал по дальним монастырям чудовских монахов, однако Пафнутия не тронул: видимо, тот умел оказывать ему немалые услуги, хотя и сразу признал в нем своего служку.
И если после Смуты Крутицы все-таки оправились, то следующий, XVIII век стал для них закатным. Им одним из первых довелось изведать тяжкую длань Петра, резко сократившего отпуск денег на содержание епархии: он не без основания подозревал ее владык в симпатиях к родичам жены, Лопухиным. Крутицкий протоиерей Яков Игнатьев был духовником царевича Алексея и писал тому об оскудении монастыря. «…Только погребениями и кормимся», – жаловался он.Сохранилась переписка Крутицкого митрополита Игнатия, ходатайствовавшего в 1719 году об отпуске из Монастырского приказа 3168 рублей на исправление церквей и домов. «Все строения пришли в ветхость и даже кровли пообвалились и полая вода обрушила часть каменной ограды и повредила многие строения», – перечислял он неотложные свои нужды.
Митрополит Игнатий был лишен сана и обращен в чернеца за приверженность царице Евдокии. Умер Игнатий в 1741 году в ссылке, в монастыре Архангельской губернии, хотя в короткое царствование Петра II ему были возвращены ненадолго и сан, и свобода.
Уже никто из занимавших в XVIII столетии российский трон венценосцев, кроме богомольной под конец жизни Елизаветы Петровны, духовенство не жаловал!
Вид Митрополичьего дворца в первой половине ХVII векаПоследним Крутицким иерархом был епископ Амвросий Подобедов, имевший репутацию ревностного пастыря, усердно заботившегося о нуждах своей епархии. Он значительно улучшил положение до того прозябавшей в скудости Крутицкой семинарии, открыл несколько духовных училищ при более богатых монастырях, снабдив их хорошими учителями и пособиями. Епископ Амвросий известен и попытками исправить нравы духовенства, «распущенность которого… дошла до крайнего предела невежества и своеволия». В этих словах современника нет преувеличения.
Низшее и среднее духовенство помимо необеспеченности своего положения отличалось невежеством – «невысоким умственным образованием, не восходившим в большинстве далее обучения грамоте». «Грамоте умеет, и люб, потому что человек добрый и смирный и не пьяница, и в попех нам быть годен», – обращались прихожане с челобитной, давая характеристику своему кандидату в попы. В аналогичных приговорах варьируется: «вином не упивается», «человек не упьянчивый» и так далее, из чего можно вывести, сколь редким качеством была умеренность духовных лиц в употреблении алкогольных напитков! Об оценках «умеет грамоте» или «обучен книжному чтению» находим скептические отзывы: многие из духовенства, не только дьячки, но и попы, или «вовсе не умели писать», или «не умели скоро писать», или «мало писали», или «писали неграмотно»… Так, поп Евтихий оставил подпись: «Еътяхъвей»!
Наступившие послепетровские времена ломали старые порядки. На смену старым формам жизни приходили новые, и никакая просветительская деятельность уже не могла удержать на плаву «древлее церковное благолепие», традиционная «Святая Русь» сделалась Российской империей, феодалы-епископы и монастыри-вотчинники, вместе с древним благочестием, подорванным, кстати, именно самим главой русской церкви патриархом Никоном, принадлежали прошлому и должны были сойти с исторической сцены.
Предвестником дальнейшей судьбы епархии стал последовавший в 1764 году указ о переименовании ее в Крутицкую и Коломенскую. Это означало фактическое лишение Крутицкой епархии всех ее прежних владений, управление переименованной епархии перешло Московской синодальной конторе. И еще через три года, в 1788 году, мая 17-го дня, повелено было «Крутицкой епархии не быть».
Вслед за указом – «не быть» – последовало и расформирование епархии: «владычная обитель на Крутицах» была со всеми строениями, за исключением храма Успения Богородицы, обращенного в приходскую церковь, отдана Военному ведомству. Ризницу, иконы, утварь Воскресенской церкви передали Чудову монастырю, архив епархии – «в связках, столбцах и свертках древних лет» – в Московскую духовную консисторию, где, по словам анонимного автора описания Крутиц, изданного в 1893 году, «они хранятся, к сожалению, не в той целости, как были сданы, большинство из них потерялось или во время перенесения самого архива, или во время пожара 1812 года».
В 1798 году строения монастыря частично были отданы под казармы, где разместились полицейские драгуны, потом жандармы и другие части Московского гарнизона. И москвичи постепенно забывали об архиерейском подворье и привыкали к Крутицким казармам, где была учреждена гарнизонная гауптвахта, известная нам по «Былому и думам», – двадцатидвухлетний Герцен отсидел в ней во время следствия семь месяцев перед ссылкой в Вятку.
Казармы с гауптвахтой занимали прежние приказные палаты – длинное двухэтажное здание со скупо пропускающими свет зарешеченными окнами, с глухими сводчатыми помещениями и каменными гулкими лестницами.
Упразднение Крутицкой епархии и подчинение подворья жандармскому управлению способствовали быстро надвигавшемуся запустению. Крутицы сильно пострадали в 1812 году от французов, грабивших все, попадавшее под руку. Пожар не оставил в подворье ни одного деревянного строения. Хозяйственные меры гарнизонного начальства, принявшегося за переделки и перестройки доставшихся ему палат и церкви, совершенно изменили облик Крутиц. К концу XIX века мало что, кроме известного теремка над главными воротами, напоминало древнюю владычную обитель. Периодически предпринимались попытки бороться с разрушениями, что-то восстановить, не давшие, однако, ощутимых результатов.
Здание митрополичьего дворца ветшало и выглядело подлинной руиной, настолько, что в XIX веке не раз ставился вопрос об его сносе, вместе с Воскресенской церковью и Теремком. И лишь по счастливой случайности намерение это не было осуществлено. В 1840 году состоялось другое решение – был выдвинут проект восстановления Воскресенской церкви по моде того времени – с отделкой «в византийском вкусе» и изразцовым декором. Позднее, в 1868 году, архитектором Д.К. Чичиговым были подреставрированы Теремок и переходы, частично к тому времени обрушившиеся. И уже в начале нашего века архитектор Струков предложил свой проект реставрации некоторых строений Крутиц, но осуществлен и он не был.
Вплоть до пятидесятых годов нашего века фактически не было предпринято сколь-нибудь серьезных и последовательных мер, чтобы предотвратить медленное и неуклонное разрушение одного из самых интересных исторических памятников Москвы – Крутицкого подворья. Заслуга его восстановления, как бы возвращения из небытия, принадлежит всецело современному крупнейшему реставратору П.Д. Барановскому и его ближайшим ученикам и помощникам. Только благодаря их последовательным усилиям и напряженной работе по тому, что уже поднято из руин, очищено от позднейших наслоений или восстановлено в соответствии с тщательно изученными архивными материалами и другими данными, можно теперь составить себе представление о былом облике Крутицкого подворья.Снаружи и изнутри восстановлен митрополичий дворец, настолько, что уже нельзя догадаться, что всего несколько лет назад тут стоял обветшалый жилой дом с грубо пробитыми оконными проемами. Ныне, пройдя ворота ограды, видишь настоящие московские двухъярусные палаты с величественного вида красным крыльцом, стенным декором, окнами, обрамленными типичными наличниками XVII века, с верхним треугольным сандриком и фигурчатыми боковыми столбиками, бегущим по фризу ребриком и кованым флюгером, красиво венчающим крутоскатную крышу…
Иное впечатление оставляет северная стена дворца, принадлежащая одновременно и древней Воскресенской церкви. Тут реставрация еще в разгаре, везде – следы поисков. Для непосвященного человека вскрытые фрагменты древней кирпичной кладки, отдельные элементы давно заложенных или переделанных проемов, какой-нибудь остаток углового карниза или позднейшей крепежной арки немы. И кажется чудом, как удается во всей этой путанице наслоений ориентироваться и выявлять те главные узлы, что помогут восстановить древнее творение. Справедливо говорится об искусстве реставрации. Да, она требует не только знаний и опыта, но и таланта, способности проникнуть в дух отошедших веков, разгадать замысел предшественника – зодчего, создавшего реставрируемое здание. Вот строки Боратынского:
Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел…
(«Скульптор»)
И подлинный реставратор подолгу вглядывается в грубые очертания перестроенного здания, вдохновенно угадывая скрытые в нем гармонические черты творения древнего художника…
За низкими дверьми на кованых петлях – сводчатые покои. Убраны плоские потолочные перекрытия, перегородки прежних квартирантов: реставраторы заново возвели своды, дневной свет проникает через небольшие окошки с вмурованными в аршинные стены узорчатыми решетками. Тут легко себе представить расставленные вдоль стен обитые сафьяном лавки, божницы в углах, дубовые тяжелые столы; в парадных помещениях – поставцы с посудой, троноподобные кресла… Давно исчезнувшие кафельные печи заменены водяным отоплением, что несколько портит вид чистых, выбеленных покоев с паркетными, сверкающими лаком полами. Надо полагать, что стены были когда-то покрыты росписью, но нужно ли упоминать, что от нее и малейшего следа не сохранилось после почти двухсотлетнего хозяйничания гарнизонного начальства. В палатах разместились реставраторы – всюду канцелярские столы, чертежные доски, полки и шкафы: еще не подошло время думать о музейной экспозиции и стильной мебели… И тем не менее древние владычные покои покидаешь с ощущением, что приобщился к чуду возрождения исторического памятника, позволившего тебе на миг перенестись в обстановку твоих далеких предшественников, что на тебя пахнуло историей!
Упоминавшийся уже Терем над главными, называвшимися прежде Святыми, воротами также отреставрирован, вместе с переходами, которыми он соединен с восточным крылом митрополичьих палат и соборной Знаменской церковью. Эти переходы были сооружены на месте прежней ограды во второй период строительства дворца, в 1693 – 1716 годах, русским зодчим, подмастерьем каменных дел Ларионом Ковалевским. Самый Терем возведен Осипом Старцевым несколько раньше, в восьмидесятые годы.
В большой пожар 1737 года Терем сильно пострадал, черепичную крышу заменили железной, лики святых на стенках проездов забелили известью, а один из проездов совсем заложили. Современная реставрация возвратила Терему его первоначальное назначение – служить проходом из внутренних покоев в Успенский собор. Из окон Терема Крутицкие митрополиты и архиереи «преподавали собравшемуся народу свое архипастырское благословение и раздавали милостыню» – так, по крайней мере, гласит предание.
Наиболее древним сооружением Крутицкого подворья считается Успенский собор с Петропавловской церковью в нижнем этаже; последняя была построена в 1292 году, а Успенская – в 1516-м. Реставраторы полагают, что от древних стен ничего не сохранилось, разве небольшие фрагменты кладки в фундаментах. Ныне существующий храм был построен заново в XVII веке в два приема – в 1665 и 1689 годах. Собор расширяли, пристраивали к нему галереи и монументальные крыльца. При последующих перестройках – в XVIII и XIX веках – собор вовсе утратил свой первоначальный облик: были срублены стенные декоры, растесаны окна и двери, изменена форма центральной главы. Менее пострадали от переделок колокольня, сохранившая свой первоначальный облик, и шатер прекрасных пропорций, позволяющий говорить о незаурядном мастерстве воздвигшего ее зодчего. В добавление ко всем прошлым бедам Успенский собор уже в наше время был использован, после своего закрытия, под общежитие военного ведомства. Потом в нем размещались мастерские Академии архитектуры. Ныне собор отреставрирован: частично восстановлены старые проемы, стенные лепные декоры, северное крыльцо. И снаружи он, со своим типичным московским пятиглавием, шатровой колокольней и красным крыльцом, глядится рядовым храмом XVII века…
Упомянем и о начатой реставрации так называемых Набережных палат. Они были поставлены у самой кромки крутого спуска к Москве-реке в начале XVIII века. На наружной стороне здания уже обозначились старые оконные проемы и отделанный ребриком фриз. Когда работы будут завершены, с реки откроется вид на венчающие берег старинные палаты. Правда, пока без второго деревянного этажа, некогда сообщавшегося с главными покоями крытым переходом. В нижнем этаже помещалась кухня.
Здание Крутицких казарм, ограничивающее подворье с юга, лишь на первый взгляд можно принять за типичную постройку Николаевской эпохи. На самом деле, как показали документы архивов и археологические разыскания на месте, это здание не что иное, как подлинные Приказные палаты XVII века, построенные одновременно с митрополичьим дворцом. Специалисты полагают, что реставрация этого здания не представит особых трудностей – переделки и искажения выглядят сравнительно легко устранимыми, тогда как интерес оно представляет огромный, поскольку зданий приказов и судебных палат Московской Руси сохранилось очень мало.
В реставрационных кругах Крутицкий ансамбль считается одним из сложнейших – из-за искаженности перестройками и технической поврежденности. Вместе с тем памятник этот почти уникален по сохранности всех исторически сложившихся частей – в истории русской архитектуры таких примеров немного. Восстановлением Крутиц занимаются уже несколько более тридцати лет. И если принять во внимание, как трудны были первые шаги, когда надо было решить непростой вопрос об освобождении помещений от жильцов (взятые на государственную охрану памятники представляли собой заселенные «под завязку» квартиры); когда важнейшие объекты находились в аварийном состоянии и нуждались «в срочных мерах»; если представить себе, каких усилий и настойчивости потребовала организация этого нового дела, а таким как раз и было в пятидесятые годы налаживание реставрации памятников на общественных началах, то убеждаешься, какой сложный этап позади и как значительны достижения.
Успенский собор и Крутицкий теремок, построенный О.Д. Старцевым в конце ХVII века над главными Святыми воротами монастыря
По существу, ныне все памятники архитектуры на Крутицах выведены из-под угрозы разрушения, фундаменты и стены укреплены, всюду восстановлены кровли, а части памятников уже возвращено историческое лицо. Впереди еще много работы, но и теперь, когда подходишь к главному входу и видишь переливающиеся краски изразцов и кафелей знаменитого Терема, словно принадлежащего миру русской сказки, видишь крытые настенные переходы, стены подновленных палат, восстановленные апсиды древней Воскресенской церкви с усыпальницей, где и сейчас покоятся останки некогда чтимых деятелей старой Руси, выносишь убеждение, что здесь воскрешен дорогой нам уголок родной земли, овеянный историческими преданиями, и уверенность, что вдохновленные своей целью специалисты доведут дело до конца. Тому порукой огромная проделанная работа!
II. Новоспасский монастырьЭтой взнесенной над излучиной полноводной Москвы-реки несокрушимой каменной твердыне не пришлось отбивать атаки врага. Могучие ее башни никогда не окутывал черный дым пушек, бьющих из амбразур «нижнего боя», стены ее не штурмовал враг, и защитники не посылали с них смертоносных стрел и не палили из гремучих пищалей. Стены эти и башни были возведены в 1640 – 1642 годах. К тому времени перестали из южных степей выплескиваться волны нашествий, докатывавшиеся до Москвы. Ногайцев с крымцами, как и непрошеных гостей с западных рубежей Руси, встречали когда-то на подступах к Москве деревянные стены и земляные укрепления Новоспасского монастыря, откуда били по ним из пушек, не подпуская к речным переправам. Лишь при царе Михаиле Федоровиче монастырь был «обнесен каменным городом с лучными, мушкетными и пушечными в нем боями, с башнями и стрельницами». В те годы, как и в более поздние, при Алексее Михайловиче, был построен в России ряд каменных неприступных крепостей-монастырей – вокруг Москвы, на севере и западных рубежах государства. Они стоят до сих пор, поражая нас мощью башен, толщиной стен, неподвластной векам прочностью, однако ни одному из них оборонять страну от завоевателей уже не пришлось. Наступало другое время, и старые замки и монастыри делались столь же ненужными, как панцири и латы: рождалась новая фортификационная наука, и французский военный инженер Вобан – родоначальник ее – уже возводил в Западной Европе свои крепости нового образца и перестраивал старые.
Как выглядели деревянные стены и башни Новоспасского монастыря, мы не знаем, но о том, как велика была его роль в обороне Москвы, сколь много выпало на его долю отважных подвигов и лихих годин, можем судить по множеству дошедших до нас документов и известий. История монастыря уводит нас в седую старину, к тем же трудным годам, когда возникло и Крутицкое подворье. Необычна судьба его, пожалуй, тем, что монастырь не сразу основался на месте, где стоит ныне, а дважды менял адрес, пока, уже в исходе XV века, окончательно не прижился на левом берегу Москвы-реки ниже Таганки.
Основателем Новоспасского монастыря был московский князь Даниил Александрович, известный своей приверженностью вере, – недаром отцы церкви в святцах обозначили его «благоверным князем Даниилом Московским». Духовенство у него было в большом почете. Первоначально монастырь находился на месте нынешнего Данилова монастыря: никаких сведений о том времени до нас не дошло, и первые достоверные известия о монастыре относятся уже к следующему веку.
Согласно записи «Степенной книги» сын Даниила, московский князь Иван Калита, перенес в 1330 году Спасский монастырь на Боровицкий холм в западной части Кремля – северо-восточную занимал в то время ханский двор с конюшнями. И Иван Данилович прослыл человеком набожным, так что предание объясняет это перемещение монастыря желанием князя жить одной жизнью с монашеской братией и иметь монастырь возле своего дворца. Отметим, что хронологически это был первый основанный в самой Москве монастырь. Тогда же был при нем учрежден приют, сюда поступали пожертвования и было начато строительство церкви, получившей впоследствии название Спаса на Бору. О первом настоятеле кремлевского монастыря, архимандрите Иоанне, в летописи сказано, что был он «мужем сановитым, словесным, любомудрым, учительным и добродетельным». Сын Калиты Симеон Гордый продолжал опекать монастырь, и при нем в 1345 году был расписан Спасо-Преображенский собор. Великокняжеский монастырь сильно пострадал во время набега хана Тохтамыша в 1382 году, и восстанавливал его уже Дмитрий Донской.
В княжение Ивана III, женатого вторым браком на племяннице византийского императора Софье Палеолог, началось обстраивание Москвы каменными сооружениями. Приглашенные итальянские архитекторы приступили к возведению кремлевских соборов, новых великокняжеских палат. Надо оговорить, что привлечение иноземных зодчих не означало перенимания западных образцов. Как раз при строительстве столичных соборов заказчики ревниво следили за тем, чтобы храмы строились по отечественным канонам. И тому же Аристотелю Фиораванти было предложено, прежде чем приступить к работе, побывать во Владимире, с тем чтобы будущие кремлевские соборы строились так же, как в старину.
Ивану III, вводившему в великокняжеский обиход обычаи и пышность византийских базилевсов, соседство с монастырем показалось стеснительным, да и не подобало монахам жить в окружении мирской суеты. И в 1462 году Иван III распорядился их из Кремля удалить, назначив быть за городом: под монастырь был отведен участок в урочище Васильцов стан, неподалеку от двора епископов Сарских и Подонских. В церковных кругах вывод монастыря из Кремля расценивался как «великая государева нечесть», и князю московскому пришлось вознаграждать церковных владык за нанесенную им обиду предоставляемыми монастырю льготами и существенными вкладами. Одной ссылки на то, что отданная под монастырь «горка» вроде бы более отвечала идее самого монастыря – основанного в честь Преображения Господня на библейской горе Фавор, – было, разумеется, недостаточно. Перевод монастыря из города на левый берег реки служил соображениям главным образом стратегического порядка – оборонительный пояс столицы усиливался дополнительным звеном.
Таким образом, фактически основанный в XIII веке, Спасский монастырь на том месте, где он находится сейчас, стоит всего пятьсот с лишним лет. Каждое из истекших столетий оставило на его облике свой отпечаток, и дошедшие до нас постройки служат красноречивыми иллюстрациями к нашим сведениям о своем прошлом. Прилагаемые заметки должны помочь современному посетителю восстановить основные вехи истории и события, связанные с этим интереснейшим памятником отечественной истории.
Итак, выселенная из Кремля монастырская братия должна была волей-неволей обживать новое место – Васильцов стан, называвшееся так будто бы в память дважды стоявшего здесь против татар и против Шемяки с войском Василия Темного. И сейчас, когда вся местность вокруг застроена, можно все же оценить, что, как для рати, приготовившейся к битве с неприятелем, так и для будущей «сторожи»-крепости, откуда удобно высматривать приближение вражеского войска, этот холм над рекой представлял все преимущества.
Поставленный тут монастырь стал называться Спас на Новом или Новоспасским. Возводился он деревянным. Лишь в сороковые годы XV века здесь построен каменный Спасо-Преображенский собор. С первых же лет, едва монастырь обстроился, он сделался усыпальницей знатных боярских родов. Среди них в 1497 году здесь был похоронен влиятельный боярин Ивана III Василий Юрьевич Захарьин, родоначальник династии Романовых. По возвышении его потомков Новоспасский монастырь стал царской усыпальницей, что, естественно, выдвинуло его на первостепенное место. Но уже в XVI веке, в правление последних Рюриковичей, московские государи проявляют постоянную заботу о монастыре, одаривают его вотчинами. Иван Грозный, предпринявший постройку оборонительных сооружений монастыря, не скупился на вклады. Пожалованный им льготной грамотой монастырь был на два года освобожден от всяких податей, ему же царь отписал свое село Друево в Дмитровском уезде. Среди царских милостей не на последнем месте и пожалование Спасу на Новом «двух перевозов на Москве-реке: от Спасского живого моста по монастырь и между Кожевников и Котельничей». Правда, этот же царь раньше отменил имевшуюся у монастыря «тарханную» грамоту, какие со времени татарского ига выдавались ханами отдельным православным церквам и монастырям, делали их неподсудными обыкновенным судам и свободными от податей.
При царе Федоре Иоанновиче Новоспасский монастырь сыграл значительную роль в отражении набега Казы-Гирея, которому он не дал переправиться через реку. В последовавшее Смутное время монастырь был дотла разграблен поляками, и лишь с воцарением новой династии, Романовых, вступил в длительную полосу процветания и благоденствия. О нем радел не только царь Михаил, но и отец его, патриарх Филарет, жертвовавший крупные суммы на обстраивание и украшение монастыря.
Еще в 1606 году, при Лжедмитрии I, в усыпальницу Спасо-Преображенского собора были свезены останки четырех братьев патриарха, удавленных в заточении в дальних монастырях. На надгробных камнях было коротко сказано: «Преставился в заточении от царя Бориса Годунова в Сибирском городе в Нырлу удавлен…» или: «От царя Бориса в Перми заключен в темницу, а вскоре удавлен» и так далее. Нельзя не пожалеть об уничтожении древних соборных усыпальниц с их такими выразительными, краткими надписями, порой ярче пространного описания дававшими почувствовать дух минувшего сурового времени. Ныне лишь в толстых томах дореволюционных изданий вроде «Исторического вестника», «Записок императорского Археологического общества» и трудах ученых, священников, добросовестно описывающих свои храмы, можно познакомиться с этими поминальными летописями, просто и беспристрастно свидетельствующими правду своего времени. На одном из погребальных камней в крипте древней Знаменской церкви имелась следующая надпись: «Лета 7109 апреля преставися раба Божия княгиня Евфимия болярина князя Ивана Васильевича Сицкого, во инокинях Евдокия; уморил в заточении повелением царя Бориса Михаилко Внуков; погребена в Сумском остроге Соловецкой обители».
Далее значится, что из острога останки старицы Евдокии были по повелению царя Михаила Федоровича перевезены в усыпальницу Новоспасского монастыря. Эти несколько строк словно выхватывают из смутно видимой нами картины прошлой жизни, на рубеже XVI – XVII веков, яркие и драматические эпизоды: тут и трагическая фигура Годунова, расправлявшегося со всеми, в ком видел соперников или недоброжелателей своей такой непрочной династии, и лютый образ какого-то Внукова, в чаянии подачки или милостей новоявленного самодержца взявшегося уморить беспомощную старуху, наконец, сама злосчастная княгиня, повинная лишь в принадлежности к клану, враждебному восторжествовавшему временщику… Они рисуют нам и мрачную обстановку в дальнем глухом монастыре, за стенами которого вершились тайные и жестокие дела, подсказанные беспощадной борьбой за власть…
Со времени царя Михаила Федоровича Новоспасский монастырь приобрел формальный статут государевой крепости: сюда был назначен постоянный гарнизон из сотни стрельцов под началом воеводы Петра Дашкова для «оберега от налетов крымцев и ногайцев». Для постройки каменной ограды и башен из разных монастырей и городков были затребованы каменщики. Они селились небольшими слободками поблизости от монастыря. Так возникали в Москве поныне существующие названия улиц Большие и Малые Каменщики. Кроме укрепления возводились кельи, настоятельский корпус, хозяйственные постройки. Царем Михаилом была предпринята перестройка Спасо-Преображенского собора, отчасти из-за его ветхости, но главным образом чтобы его расширить. В романовской усыпальнице становилось тесно, царю же хотелось, чтобы «пресветлые родители все покоились под сводами».
Ряд монастырских построек возведен заботами патриарха Филарета: патриаршие палаты (в значительно перестроенном виде сохранившиеся и поныне), а также «Филаретовская» колокольня с приделом в честь святого Саввы, день празднования которого пришелся на день освобождения патриарха из польского плена (разобраны в XVIII веке). Федор Никитич Романов, ставший патриархом Филаретом в 1608 году, в 1610 году возглавлял «великое посольство» к Сигизмунду III, был задержан поляками и пробыл в Варшаве девять лет. Оттуда он отписывал в Москву, чтобы при переговорах о выкупе его из плена за него не отдавали «ни пяди русской земли»!
Начатое при Михаиле Федоровиче огромное строительство в монастыре было завершено уже при его сыне, по праву считавшемся первым радетелем благосостояния и украшения Новоспасского монастыря. Никто не сделал столько вкладов, не пожертвовал такого количества икон – более двухсот, – утвари, облачений, не отписывал ему столько вотчин, мельниц, рыбных ловлей, как «благоверный государь, царь всея Руси Алексей Михайлович», точно знал он, что суждено ему стать последним богомольным и приверженным церковному благолепию царем. Всего четверть века спустя начнутся кощунственные действа всешутейного собора его сына!
Еще при царе Михаиле были заведены постоянные посещения Новоспасского монастыря. Постепенно выработался и церемониал этих царских богомолий за пять верст от Кремля. В дворцовых книгах находим дотошно записанные обиходные подробности. Вот одна из таких записей 1633 года: «Января 23 день. Ходил государь ко Спасу на Новом к вечерней панихиде. А на государе было платья: шуба санная, сукно темно-вишневое; зипун комнатный, шапка, сукно вишнево с тафтяными петли; да в запас отпущено: стул сафьяновый, подножье теплое меньшое, кебеняк лундыш [7] вишнев, три суконца кровельных. У запасных саней был стряпчий Павел Клементьев да портной мастер Ондрошка Иванов».
Нам остается догадываться, для какой надобности сопровождал царя в поездке «портной мастер» и каково «великий государь» выглядел в «комнатном зипуне»… Эти подробности подтверждают наши сведения о том, что в XVII веке Новоспасский монастырь сделался, по тогдашней терминологии, «комнатным», то есть придворным. И еще именовался он царским, «великой, пресловутою, первостепенной обителью». Из описания, оставленного известным путешественником архиепископом Павлом Алеппским, сопровождавшим посетившего Москву в 1668 году Антиохийского патриарха Макария, узнаем, что в братском корпусе монастыря имелись две особые кельи, предназначенные для царя и царицы.
Приведу несколько строк из этого описания:
«Монастырь находится на юго-западе города, более часа пути. Нас ввели в великую церковь, в облачениях повели в самый низ церкви, чтобы прочесть молитвы над гробницами сановников государства. Тут могила бабки царя. Все гробницы покрыты бархатными, расшитыми золотом и жемчугом покровами, горят неугасимые свечи. Ежедневно совершаются панихиды…
…Восемь огромных башен, бойницы с пушками, озеро близ монастыря для рыбы. Он подобен Шейху Абу Бекр в Алеппо. Собор построен Никоном. Пять куполов, галерея, три больших двери, благолепные иконы, одна из белой слоновой кости размером с лист бумаги – на ней резные господни праздники. Это царское сокровище…
…На площади – огромный колокол, окружность около 50 пядей. Как только перевезли его из города? В монастыре до ста монахов. Келии просторные, новые. Есть веселые помещения с видом на реку и город. Словом, монастырь неприступный, со множеством пушек, и виднеется из города, как голубь, ибо весь выбелен известью».
Автор этого отрывка справедливо отметил двойное назначение монастыря – оплота веры и мощи государства, городской крепости и царской усыпальницы. Но уже во время посещения его Павлом Алеппским монастырь имел и третье назначение: он служил тюрьмой, оборудованной глубокими казематами и застенками. Как раз перед поездкой ближневосточных иерархов в одном из них скончался после долгих лет заключения настоятель Троице-Сергиева монастыря Дионисий, прославившийся организацией успешной его обороны в годы польской интервенции. Он же рассылал по городам грамоты с призывом восстать против оккупантов. Дионисия лишили сана и заключили в темницу по обвинению в ереси: наступал период острых религиозных разногласий, завершившийся расколом русской церкви.
В последней четверти XVII века Русь вошла в беспокойную полосу боярских смут и перемен. Они привели к отходу от традиционно сложившихся устоев жизни Московского государства: над ним уже занималась заря Российской империи. В 1676 году скончался процарствовавший тридцать лет Алексей Михайлович и престол перешел к его пятнадцатилетнему сыну Федору. Долгое царствование Алексея «тишайшего» помогло сохранить заведенные порядки, вернее, их видимость, но веяния века неудержимо вторгались во все области жизни, и уже в короткие шесть лет правления юного царя были отменены некоторые исконные обычаи управления страной, в частности уничтожено местничество, введено подворное обложение.
Государством фактически правили разные группы бояр. Царь Федор еженедельно ездил на панихиды по своей тетке Ирине в Новоспасский монастырь, делал ценные вклады, но уже не оделял его вотчинами. Влияния церковных иерархов еще доставало на то, чтобы противостоять проектам правительства секуляризировать церковные имущества, но в росте благосостояния духовенства наступал застой. Новоспасский монастырь, как и прежде, был многоместным и первостатейным, сюда приезжали правительница Софья, ее братья Иван и Петр, однако обитель не обстраивалась больше. Недаром Петр вскоре предпишет: «…строение излишнее в монастыре не затевать». Не за горами были и крупные перемены, непосредственно отразившиеся на судьбе Новоспасского монастыря.
После смерти патриарха Андриана в 1700 году ему не было назначено преемника. Царь Петр, не доверявший московскому духовенству, назначил местоблюстителем патриаршего престола своего убежденного сторонника Стефана Яворского, представителя Малороссийской церкви. Монастырь оставался в ведении царского двора и подчинялся высшей церковной власти, но двор уже перебрался в Петербург, где в 1721 году был учрежден Святейший синод, упразднивший патриаршее правление. И там же, на невских берегах, уже возводился Петропавловский собор – новая усыпальница российских императоров. Последовала и регламентация монастырских порядков, были разработаны «духовные штаты», казна отпускала средства на содержание монахов, причем настолько осмотрительно, что число их быстро уменьшалось. Правительство стало входить во все мелочи монастырских распорядков. При Петре Новоспасскому монастырю было, как мы бы сказали теперь, «спущено штатное расписание». В нем перечислялись:
Архимандрит, наместник, проповедник, казначей, рядовые старцы и вотчинный надзиратель, инквизитор и священник на жалованье.
Для монастырского хозяйства : должностные монахи и трудники: квасовар и пивовар, стольничный, поваренный, трапезный, хлебный, хлебодар, подкеларщик, воротенный, конюшенный, огороденный, чашник, погребный, часовод, житейный и житничный, звонарь, просвирник, пономарь, рухлядный монах, служащий больным, – каждому жалованья шесть рублей и шесть четвертей хлеба на год.
Для письмоводства : канцелярия из приказного, стряпчего, канцеляриста, двух подканцеляристов и четырех копиистов.
Для домашнего обихода : оконничник, два печника, два плотника, два кузнеца, двенадцать конюхов в монастыре, да в селах восемь, сапожник, два портных, приспешник, готовивший пирожное, архимандричный повар, архимандричный истопник, два рыбака, два сторожа церковных, бочар, колесник, шесть слуг для выезда с архимандритом и прочими властями.
Петр лично просматривал этот список. На нем его рукой приписано: «…да обще властям для приезжих и праздников на вино 100 рублей, на пиво 50 рублей».
Таким образом, царь, прибирая одной рукой земли и доходы монастыря, другой милостиво оделял средствами, чтобы властям монастырским можно было угоститься в праздник и принять гостей. Впрочем, тот же Петр, снимавший колокола с новгородских звонниц, чтобы перелить их на пушки, распорядился отлить для Новоспасской обители колокол чудовищного веса – в одну тысячу сто пудов! Петра не обвинишь в непоследовательности: скорее всего, деньги на пиво и пожертвованный колокол – позолота какой-нибудь очень горькой пилюли, которую сей самодержец заставил духовенство проглотить! Известно, что монастырские затворы и темницы очень пригодились царю в период стрелецких бунтов: сюда приводили захваченных мятежников, тут шли дознания, отсюда их вели на казнь на Красную площадь.
Новоспасский монастырь. Вид на Спасо-Преображенский собор в начале ХVIII векаВпрочем, подвалы монастыря не пустовали и во время преследований в страшные годы укрощения оппозиции петровским реформам. Сюда, в Новоспасский монастырь, отсылались из зловещих Преображенского и Сыскного приказов, из Преображенской и Раскольничьей канцелярий «под начал для исправления ума под видом и названием изумленных и сумасшедших, какими и подлинно делались от страха и мучений в застенках». Попадали сюда и престарелые и увечные преступники, и по подозрению оговоренные, вытерпевшие тяжелый искус застенков и «очистившиеся кровью», то есть после трех застенков не сознавшиеся в возводимых на них преступлениях. Одни из них, секретные, содержались по затворам в колодках и цепях, другие употребляемы были на «монастырские труды и тяжкие послушания», по усмотрению настоятеля. Иногда, как пишет историк Иван Снегирев, «в стенах обители раздавалось роковое «слово и дело», которое вело в застенки Преображенского приказа на дыбу, встряску и терзание кнутом».
Правосудие над «монастырскими людьми» также вершилось по усмотрению надзирателя. Так, если кто из них, – по свидетельству монастырских документов, – «держал у себя заповедное продажное питье, или зернь [8] , или карты, или табак, оказался в буйстве, бесчинии и драке, тот, по приговору архимандрита с братиею, смирялся монастырским смирением». «Смирение» это состояло в том, что виновного сажали на цепь и в колодки и, смотря по важности вины, били нещадно плетьми или шелепами [9] или определяли на мукосейные труды, ставили на земные поклоны в церкви.
Так что Новоспасский монастырь оказывался не только «царским богомольем и обителью благочестия». В XVIII веке сюда из Коллегии экономии стали отправлять «на пропитание» престарелых и увечных отставных; поселяли здесь, обеспечивая содержанием, офицеров, чиновников и рядовых, неспособных к службе, иногда с их семействами. В царствование Анны Иоанновны Бирон стал посылать в монастырь «иноверных» инвалидов, что вызвало ропот монастырских властей, однако на сей счет Сенат сделал заключение: «…в том предосуждения быть не может, понеже пропитание будут получать по указам, а до веры их в том не касается».
Монастырю пришлось не только допускать «схизматиков» в свои стены, но и содержать их: они состояли на «монашеских порциях». Впрочем, недовольство духовенства вряд ли могло беспокоить всесильного временщика и его приспешников из немецкой придворной партии – шли тридцатые годы XVIII столетия… Лишь когда были утверждены окончательно монастырские штаты и отобраны монастырские вотчины, правительство прекратило помещать в них инвалидов и отставных военных.Сложилось представление, будто монастырским и государственным крестьянам жилось легче, чем помещичьим, однако и в вотчинах Новоспасского монастыря случались крестьянские возмущения. Об одном из них, вызванном злоупотреблениями и незаконными поборами монастырских приказчиков, сохранилось красноречивое, хотя и неумело написанное, повествование [10] , дающее представление о нравах эпохи. Произошло оно в Спасском уезде Тамбовского наместничества в 1756 году, и, чтобы подавить это возмущение, потребовалось прислать воинскую часть. Укажем тут, что до введения «духовных штатов» за монастырем числилось, по одним сведениям, четырнадцать, по другим – восемнадцать тысяч крестьян. Владел он и двумя подворьями в Москве – в Кремле у Вознесенского монастыря и у Яузских ворот, да «осадным двором» во Владимире.
Неизбывным злом в старинные времена были пожары: деревянные города и слободы горели факелом. Годы самых опустошительных пожаров служили хронологическими реперами: по ним вели счет лет. Московский большой пожар 1737 года, случившийся в Троицын день, вошел в хроники как «троицкий пожар». Для богобоязненных хронистов пожары были небесной карой, ниспосылаемой людям за грехи наравне с мором и гладом.
Не был, разумеется, исключением и Новоспасский монастырь: он не раз горел и отстраивался заново. В огне лютых московских пожаров 1737 и 1747 годов погибло много церковных ценностей, но особенно сильно разорил монастырь 1812 год, когда его дотла разграбили французы. Вдобавок вспыхнул сильнейший пожар, оставивший от большинства строений одни стены. В Вологду, куда переправлялось имущество монастыря, когда неприятель подходил к Москве, удалось увезти далеко не все – недостало подвод. Кое-что из оставшейся драгоценной утвари и оклады с икон наспех попрятали в тайники. Догадались об этом французы или нашелся доносчик, но они искали монастырские сокровища неистово: разрывали могилы, вскрывали в усыпальницах гробы, допрашивали с пристрастием попадавших местных жителей. Французами был до смерти замучен местный священник Петр Гаврилов, настоятель храма Сорока Мучеников на монастырском кладбище за оградой, где в моровые поветрия хоронили монастырских крестьян и служек [11] . От него требовали, чтобы он указал, где зарыты серебряные ризы с образов и другие церковные ценности. После ухода французов тело этого священника похоронили торжественно, и на могиле его было высечено:
«Здесь погребен Сорокосвятской, что у Новоспасского монастыря, церкви раб Божий священноиерей Петр Гаврилов, которого тело предано земле через три месяца и три дня по кончине, 1812 года. Жития его было 66 лет».
Некий безымянный «пиита» воспел его героическую кончину:Здесь скромно погребен
Служитель алтаря,
Герой, вкусивший смерть
За веру, за Царя.
При зареве Москвы,
Вселенну изумившем,
И кары грозные
На злобу ополчившем,
При храме божием
Он пал, пронзен врагом,
Жив, о господи,
В бессмертии святом.
Давно утрачена могила настоятеля. Стерлась память о старике, растерзанном осатаневшими от алчности солдатами. Мучители кололи его штыками, топтали, таскали за бороду, но так и не добились своего… И тем более отрадно, что кое-какие материалы и предания позволяют почти через два столетия рассказать о подвиге этого безвестного русского человека.
В тот жестокий пожар 1812 года пылала и колокольня монастыря. С третьего яруса оборвался, круша своды, петровский тысячепудовый колокол. Его на мелкие куски раздробил упавший на него меньшего веса «полиелей» – в 425 пудов… Разоренный монастырь был в развалинах, опустошен и осквернен. Раскрытые монастырские помещения стояли с закопченными стенами, зияя провалами пустых окон. Могло показаться, что более уже не воскреснуть простоявшей здесь пятьсот лет обители…
Настоятелем монастыря в те годы был Филарет Дроздов, будущий митрополит Московский, известный церковный деятель и проповедник, пользовавшийся большим влиянием, хотя сами цари его недолюбливали за самостоятельность суждений и авторитет. И именно ему во многом обязан монастырь возрождением.
Однако о том, как восстанавливались монастырские строения, о подходе тогдашних архитекторов к своим задачам, вернее всего можно судить после знакомства с результатами работ, развернутых теперь.
Церковь Сорока Мучеников на монастырском кладбище за оградойЕще издали привлекает внимание к монастырю его монументальная колокольня, обличающая своими спаренными колоннами по углам и декоративными вазами на парапетах стиль и вкусы XVIII века. Это сооружение действительно принадлежит крупному зодчему того времени, как тогда говорили, – архитектуры гезелю – подмастерью Ивану Жеребцову, заложившему ее в 1759 году. Однако завершена колокольня была много позднее, через шестнадцать лет: возведение ее было, по современному выражению, «законсервировано» из-за недостатка средств. И лишь в семидесятые годы тогдашнему настоятелю Иосафу II, бывшему в миру крупным сановником с влиятельными связями, удалось выхлопотать у Екатерины II двадцать тысяч рублей, позволивших закончить постройку. Помогли и частные пожертвования.
Существует мнение, что проект Жеребцова был при постройке изменен: колокольню лишили задуманного им пятого яруса. При значительной высоте – «37 сажен и 2 аршина» до главки (то есть около семидесяти пяти метров) – она выглядит несколько приземистой. Нет в колокольне той стройности, как, например, у ее сверстницы, – воздвигнутой архитектором Д. В. Ухтомским в Троице-Сергиевой лавре. Можно было бы предположить, что в изъятии пятого яруса колокольни сыграли роль соображения экономии, хотя запись о расходовании на крест и главу колокольни тридцати одного фунта червонного золота говорит о нескудных средствах.
Широкий, в десять метров высотой сводчатый проем колокольни служит главными воротами монастыря. Над ним, на втором ярусе, помещалась Сергиевская надвратная церковь, на третьем – находились колокола. Их всех было два десятка, среди них и восьмисотпудовый, перелитый из осколков петровского и окрещенный тем же именем. В монастырских описях значится, что восстановление колокольни после пожара 1812 года произведено «иждевением купеческой вдовы Наталии Бабкиной».
Миновав решетку и гулкие своды Святых ворот, оказываешься на просторном монастырском дворе, за которым – прямо напротив – возвышается громада Спасо-Преображенского собора, обращенного сюда восточным фасадом с тремя круглящимися апсидами алтаря. Старинные кирпичные стены, расчлененные полуколонками, украшенные наличниками оконные проемы, пятиглавое завершение храма – все говорит о седой старине, о далеко ушедших от нас временах Московского государства и отвлекает от впечатления, произведенного колокольней классической архитектуры более близкого нам времени.
Мы знаем, что собор заново перестраивался при Михаиле Федоровиче. В те времена старались не преступать отцовских заветов и лишь очень осторожно прибегали к новшествам. Быть может, были несколько изменены очертания куполов, по-новому распределены оба яруса окон, пристроено красное крыльцо с ризницей, возведены гульбища, но едва ли намного отступили от силуэта и пропорций старого храма. И вряд ли мы сильно ошибемся, представляя себе собор XV века примерно таким, каким он был в XVII веке. Такое предположение закрепляется открытиями современных реставраторов. Вопреки древнему известию о том, что старый собор был разобран «до подошвы», оказалось, что в кладке западной и южной галерей собора замурованы резные колонны с белокаменными капителями прежнего храма. Не исключено, что продолжающиеся исследования обнаружат и другие следы кладки XV века.
Грандиозные пропорции собора по-настоящему постигаешь, когда вступаешь под его своды. Поражает в таком древнем здании обилие света и воздуха. Помещение обращено в склад материалов – всюду нагромождения ящиков, рулонов, пачек картона, тюков, но кажутся они ничтожными, теряются в огромных объемах помещения. Да и человек ощущает себя лилипутом у подножья высоченных столбов. На уровне глаз – сплошная лента узорчатых полотенец, какими расписаны стены собора у основания. Четыре огромных столба поддерживают где-то высоко над головой своды, и в недосягаемой выси льется свет из окон барабана центрального купола. И там же, наверху, поблескивают позолотой резные тябла и колонки верхнего пояса пятиярусного иконостаса.
От пола до купола стены и столбы собора покрывает потемневшая, наверняка не раз поновленная сплошная роспись. Все это работа иконописцев XVII века. К реставрации фресок собора пока не приступали: она на очереди. Подходит к концу расчистка ценнейшей живописи южной галереи – работы известного изографа Федора Евтихиевича Зубова, возглавлявшего артель прославленных костромских иконописцев. Тут – на низких сводах красного крыльца и на боковых стенах и арках – уже выступили светлые краски и контуры живописи XVII века, освобожденной от позднейших записываний. Наряду с изображениями традиционных святых и евангельских персонажей помещены портреты киевских и других великих князей, начиная с Владимира Святославовича, тут и галерея царей. Уделено место и «десяти эллинским мудрецам»: изображены Орфей, Омир, Солон, Платон, Птоломей и прочие античные персонажи, каких в диковину увидеть на стенах православного храма.
Эта затея старинного изографа производила, видимо, некоторый соблазн. Во всяком случае, уже упоминавшийся митрополит Филарет счел нужным пояснить, почему язычники оказались на стенах православного собора. «Отцы наши хотели выразить, – сказал он, – что никогда языческая мудрость не восходила выше низших ступеней христианского храма».
Как уже говорилось, русские цари жертвовали Спасо-Преображенскому собору Новоспасского монастыря иконы, утварь, драгоценные облачения. В его ризнице хранились несметные, по нынешним оценкам, художественные сокровища живописи, ювелирного искусства и художественного шитья. Среди древних икон имелась и рублевская – вклад инокини Марфы, матери царя Михаила. В 1647 году, при Алексее Михайловиче, в Москву был доставлен из Вятки – тогдашнего города Хлынова (переименован в 1781 году) образ Нерукотворного Спаса, почитавшийся чудотворным. Перемещение иконы, тем более широко известной и почитаемой, было на Руси событием чрезвычайным и обставлялось торжественно. И в этом случае была устроена парадная встреча, икону поместили в Успенском соборе и лишь впоследствии передали Новоспасскому монастырю. Как раз тогда Фроловские ворота, через которые икону вносили в Кремль, велено было переименовать в Спасские, а всем прохожим – снимать шапку. Стоит упомянуть, что в 1640 году Нерукотворный Спас был «отпущен» монастырем с полком князя Долгорукова в поход против Степана Разина – образ должен был помочь боярам справиться с сильно переполошившим правительство восстанием, которое охватило все Поволжье.
Напоминанием о романовской усыпальнице под Преображенским собором служит шатровое крыльцо у его восточного фасада, над лестницей, ведущей вниз, в подклет. Крыльцо было сооружено к празднованию трехсотлетия дома Романовых в 1913 году, в духе господствовавшей в начале века моды на стилизованную русскую старину. Свежесть красок узорчатых изразцов выступает несколько крикливо на фоне подлинной древней кладки собора.
Непосредственно к Преображенскому собору с южной стороны примыкает заложенный в 1673 году двухъярусный Покровский храм с двумя приделами. Они принадлежат нашему веку: их возвели также по случаю трехсотлетия династии. Церковные главки, стенной декор и обрамление оконных проемов пристроек выдержаны в стиле основного храма, разве что бросаются в глаза куполки и барабаны, отлитые из металла в подражание каменным образцам. К паперти храма примыкают сооруженные в пятидесятые годы XVI века двухэтажные трапезные палаты.
В центральном кусте зданий, стена к стене со Спасо-Преображенским собором, стоит Знаменская церковь. Крытые переходы соединяют оба храма, но ничуть не согласовывают кричащее разногласие их архитектуры. Знаменскую церковь строил на месте разобранной «за ветхостью» в 1791 году ученик Василия Баженова Елезвой Назаров в типично московском классическом стиле: четыре выступающих портика, закругленные углы, один центральный купол. Церковь называлась Шереметевской, поскольку нижний ярус был родовой усыпальницей Шереметевых.
При расчистке культурного слоя на территории монастырского двора был обнаружен обширный некрополь. Вернее, его остатки – тесно примыкающие друг к другу захоронения, полностью разграбленные и перерытые. По некоторым обломкам надгробий можно было определить, что лежали здесь останки как дворян и чиновников, так и купцов, духовенства, посадских, – словом, людей разных сословий, да так плотно, что, по образному выражению одного сотрудника музея, ступая по двору, ходишь по костям. Я приводил уже жалобы Крутицкого протоиерея, писавшего царевичу Алексею, что подворье «только погребениями кормится». Можно предположить, что и бедневший Новоспасский монастырь в особенно скудные времена обратил в доходную статью дозволение хоронить на своем дворе? В старые времена почиталось удачей и привилегией быть похороненным под церковными стенами.
Церковь Знамения. Построена архитектором Е.С. Назаровым в 1791 – 1795 годахГде-то у Спасо-Преображенского собора стояла некогда шатровая колокольня, построенная патриархом Филаретом. В упоминавшейся выше надвратной Сергиевской церкви из внутреннего убранства ничего не сохранилось. Обширное помещение будет, по замыслу реставраторов, обращено в конференц-зал будущего музея реставрации.
Чтобы исчерпать список церквей монастыря, остается упомянуть еще Никольскую, построенную в 1652 году, «с преогромной трапезною и с колокольнею, а под оными для больных и престарелых две палаты, а под ними погреба с выходами». Церковь находится у северо-восточной башни монастырской ограды, на пересечении казначейского и братского корпусов, стоящих соответственно параллельно восточной и северной стенам ограды, справа от главных ворот. Сохранившаяся центральная главка церкви видна со двора, из-за крыш примыкающих двухэтажных зданий, да если зайти в неширокий проход между монастырской оградой и казначейским корпусом, открывается часть ее аркатурного пояса и верх стены. Как раз упомянутые «погреба с выходами» Никольской церкви служили главной монастырской темницей.
Ныне помещения церкви и больничных палат используются одним из цехов Союзреставрации. Точно так же под всевозможные мастерские – швейные, гранильные, художественные и прочие – приспособлены и другие строения монастыря. Снаружи они частично или полностью отреставрированы, а внутри переделаны и распланированы по-новому, как того требует то или иное производство. Однако тут придется вернуться несколько назад, чтобы яснее выявились масштабы и значение развернутых ныне в монастыре реставрационных работ.
Представим, что мы на пепелище после пожара 1812 года. Предстоит по возможности быстрее привести в порядок разоренные храмы, заново соорудить жилье, возвести новые хозяйственные строения вместо сгоревших. И если церковные здания нуждались в поновлении, замене похищенного убранства, восстановлении «святолепности» помещений, то в жилых и служебных корпусах надо было настелить полы, возвести кровли, поставить новые балки и перекрытия. Строители не стали заботиться о сохранении исторически сложившегося облика братских корпусов и других помещений, а принялись как можно скорее восстанавливать жилье. Они заменяли обрушившиеся своды плоскими перекрытиями, растесывали оконные проемы, пробивали коридоры, устраивали новые лестницы. Так исчезли прежние окна келий, глядевшие из глубины ступенчатых ниш, не стало старого членения братских корпусов на секции, с наружной дверью и двумя кельями в каждой. На месте обрамлявших с трех сторон монастырский двор корпусов старомосковской архитектуры, с типичным стенным декором XVII века, появились баракоподобные двухэтажные безликие строения. И такими они простояли весь XIX век и первую половину XX, все более утрачивая свое лицо под медленным воздействием утилитарных требований, предъявляемых временем. На двор смотрели с побеленных гладких стен два уныло одинаковых ряда квадратных окон…
Тому, кто запомнил братские корпуса Новоспасского монастыря в таком виде, покажется, несомненно, чудом увидеть их теперь с древними окошками в нижнем ярусе, восстановленным фризом, дверными арочными проемами, выводящими на низенькие деревянные крылечки прямо во двор. Не все завершено, еще остались в верхнем этаже непеределанные окна, но есть и полностью отреставрированные участки. А казначейский корпус уже во всех деталях глядится таким, каким был в XVII веке! Одни реставраторы знают, каких трудов стоит возвращение зданию, подвергавшемуся повторным перестройкам и переделкам, его первоначального облика.
Особенно трудную задачу решали реставраторы, когда принялись за палаты патриарха Филарета. Далеко не сразу удалось разобраться в головоломке переделок, изменении этажности, пристройках, приспосабливающих здания к вкусам и требованиям хозяев – архимандритов, сменявших друг друга на протяжении трех веков.
От Филарета и его предшественников остались приземистые сводчатые покои, окна с решетками, дверные проемы, через которые не пройдешь, не пригнувшись. Второй ярус возводился много позднее, кельи уступали место более просторным помещениям, а ближе к нашему времени понадобились и парадные приемные, зеркальные окна, паркетные полы…
Восстановлена и монастырская ограда, сооружение монументальное, протяженностью в 367 сажен (около 730 метров) и высотой в 3 с лишком сажени (6 метров), оборудованное бойницами, стрельницами, площадками «верхнего», «среднего» и «нижнего» боев. Восстанавливать ее было чрезвычайно трудно. Несколько прясел стены обрушилось, часть их разбиралась на кирпичи. Из пяти башен одну – северо-западную – пришлось строить почти заново, она более других пострадала от времени и пожаров. Реставраторы восстановили ее, согласно проведенным исследованиям, сверяясь с историческими данными. Даже конструкции внутрибашенных перекрытий, система деревянных стропил кровли и балок, лестницы воспроизведены в точности такими, какими их делали зодчие XVII века.
Ныне реставрация справедливо причислена к наукам, и термин «научная реставрация» вошел в обиход, вполне соответствуя разработанным отечественными специалистами методам. Современный реставратор уже не гадает о возрасте строительных материалов или их составе, а обращается в специализированные лаборатории, где получает точный научно обоснованный ответ. Разработаны и тончайшие методики зондажей и обследований на месте.
Нахождение производственных цехов на территории монастыря накладывает, естественно, свой отпечаток. В непосредственной близости от башен высятся индустриальные конструкции с трубами и металлическими каркасами; крепостные стены облеплены всевозможными складами и огороженными площадками, работают компрессоры и станки; у складов погрузочно-разгрузочные работы, повсюду стоят грузовики. С другой стороны, то, что производства, изготовляющие необходимые для реставрации материалы и детали находятся тут же, на месте, представляет несомненные преимущества: у заказчика-реставратора все под рукой.
Впрочем, есть здесь цех, демонстрирующий воочию связь с прошлым и знакомящий с забытыми ремеслами. Я имею в виду художественные мастерские, где вручную реставрируют, или, вернее, копируют, старые вышивки, старинные штофы и гобелены, что показываются в музеях. Художники размещены в том крыле братского корпуса, где на втором этаже находились царские кельи – просторные, с окнами на реку и заречные дали: не их ли вспоминал Павел Алеппский, когда писал о «веселом помещении с видом на город и реку»?
Вошедшего в цех останавливает картинка, воскрешающая сюжеты Венецианова и Тропинина: девушки сидят за пяльцами или склонились над шитым шелками узором… Столы завалены мотками ниток всех мыслимых цветов. Тут же – стопки сложенных образцов старинных обоев, какие можно видеть на стенах зал и гостиных бывших царских дворцов. Мне стоило заговорить о знаменитых обоях с куропатками в кабинете петергофского дворца, как тут же был продемонстрирован образец: именно здесь, в соседнем ткацком цехе реставрационных мастерских, было изготовлено нужное количество этих удивительных обоев, словно воплотивших всю изысканную прелесть пасторального века. Но в цехе, где выполняли заказ, – механические станки; здесь же, за пяльцами, – мастерицы вручную продевают шелковинки между нитями основы, подправляют их иглой, потом прижимают особой лопаточкой. На то, чтобы выткать вручную один квадратный метр шелка тонкой работы, затрачивается год!
Любуясь десятками образцов реставрированных или воспроизведенных здесь старых штофов всевозможных рисунков, я вспомнил, что в шестидесятых годах прошлого века будущий художник Огюст Ренуар, тогда еще подмастерье, расписывавший фарфоровую посуду перед обжигом, сокрушался по поводу вытесняющего ручную работу серийного производства и предсказывал гибель искусства. Справедлив ли такой прогноз? Не вернее ли сказать, что предмет массового выпуска, как бы ни был совершенно сделан, никогда не сравняется с вышедшим из рук мастера и что тот и другой имеют свое назначение и могут сосуществовать, не соперничая между собой?
Из помещения я вышел, унося память о мастерицах за пяльцами и впечатление о немеркнущей красоте, сотворенной их искусными руками. И еще подумал, что здесь очаг, который не даст заглохнуть древнему искусству художественного шитья и передаст его следующим поколениям!В заключение расскажу об одном эпизоде из многовековой летописи Новоспасского монастыря – ничтожном по своему удельному весу, но красноречиво говорящем о нравах своего времени. Как всякая таинственная придворная история, дающая пищу толкам и догадкам, случай этот привлек пристальный интерес историков и волновал их воображение. Широко известна и картина – особенно по открыткам – художника середины прошлого века Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». На ней изображена в живописной позе отчаяния молодая прелестная женщина, сильно декольтированная, в вишневом бархатном платье, гибнущая в каземате Алексеевского равелина Петропавловской крепости в наводнение: через окно уже хлынули буйные невские воды, на убогую тюремную кровать, где ищет спасения несчастная узница, лезут тонущие крысы…
Думаю, что многим будет небезынтересно узнать, что подлинная героиня этой легенды отнюдь не погибла в петербургское наводнение, а судьба ее завершилась здесь, в ограде Новоспасского ставропигиального монастыря… Если, выйдя из Святых ворот на монастырский двор, сразу повернуть направо, можно увидеть через пристроенные к ограде всевозможные времянки и заборчики куполок с торчащим покосившимся железным крестом. Пробравшись к нему через проделанный в заборе лаз, оказываешься перед небольшой полуразрушенной, облезлой часовенкой. Из сравнительно недавних архивных документов можно узнать, что часовня эта была сооружена в 1908 году над каменной плитой, высеченная надпись которой гласила, что здесь покоится прах инокини Досифеи, скончавшейся 4 февраля 1810 года, 64 лет от роду.
В Энциклопедическом словаре дается справка, что под именем княжны Таракановой подвизалась авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны. Она объявила себя претенденткой на Российский престол, была заключена в 1775 году в Петропавловскую крепость, где в тот же год скончалась тридцати лет от роду. Однако существовала и подлинная дочь Елизаветы и Алексея Разумовского. Она родилась в 1745 или 1746 году и была увезена за границу под именем принцессы Августы, там воспитывалась и прожила до 1785 года. В самом ли деле лелеяла эта особа честолюбивые замыслы, или ею хотели воспользоваться для исполнения своих замыслов политические интриганы, но до русского двора доходили слухи и сплетни, настораживавшие Екатерину II, ревниво и подозрительно относившуюся к любым разговорам о ее праве занимать российский трон. Тем более что ей, пришлой немецкой принцессе, нелегко было состязаться с кровной внучкой Петра I, хотя бы и от необъявленного брака. У Алексея Григорьевича Разумовского хранились до глубокой старости документы о венчании с Елизаветой Петровной, и Екатерина знала об этом. Все это, видимо, лишило ее покоя, и она, прикрываясь заботой о спокойствии империи и благоденствии подданных, решилась действовать. В 1785 году ею был послан в Италию, где проживала в то время потенциальная соперница, давний испытанный пособник императрицы – граф Алексей Орлов, уже доказавший, что способен на любой решительный поступок, лишь бы угодить «матушке-царице». Чесменский герой, когда-то обеспечивший успех переворота расправой над Петром III, должен был обезвредить злополучную принцессу. Расположив ее к себе отменным обращением на балу, Орлов коварно заманил свою добычу к себе на корабль и поднял паруса: за спиной была вся мощь империи и достаточно казны, чтобы парировать любые протесты нищего королевства и затушить скандал!
В Петербурге, куда явился Орлов, участь пленницы была предрешена: по секретному повелению Екатерины ее умчали в Москву. Тут можно допустить любые атрибуты таинственного приключения в стиле Дюма: карету или возок с наглухо задернутыми занавесками, маски, скрывающие лица закутанной дамы и каменно молчаливого сопровождающего офицера, бешеную скачку и усатых гвардейцев конвоя, напуганных станционных смотрителей… Узницу доставили в Ивановский монастырь, башни и стены которого и сейчас стоят на развилке Старосадского переулка и Солянки.
Сорокалетнюю женщину насильственно постригли – она сделалась инокиней Досифеей. Затворившиеся за ней ворота монастыря навсегда отгородили ее от мира. Все двадцать пять долгих лет, что она тут прожила, ее держали в строгом заключении.
К узнице никого не допускали, кроме игуменьи и духовника. Ни в церковь, ни в трапезную не водили: изредка для нее одной служили службы в надвратной церкви, причем двери в этих случаях запирали изнутри. Низенькое одноэтажное здание, где ей были отведены две комнатушки под сводами, находилось возле ворот и сообщалось с церковью лестницей и крытым коридором. К Досифее была приставлена для услуг келейница, жившая в смежной келье.
Историк XIX века Иван Снегирев в книге «Москва, подробное историческое и археологическое описание города», ссылаясь на общение с причетником монастыря, дожившим до глубокой старости, и с неким московским купцом Филиппом Шепелевым, «торговавшим чаем на Варварке», будто бы видевшим Досифею, сообщает некоторые подробности.
«По их словам, – пишет Снегирев, – она была уже пожилая, среднего роста, худощава телом и стройна станом; несмотря на свои лета и долговременное заключение, еще сохраняла в лице некоторые черты прежней красоты; ее приемы и обращение обнаруживали благородство ее происхождения и образованность. Старый причетник видел каких-то, по его замечанию, знатных особ, допущенных игуменьею на короткое время к затворнице, которая говорила с ними на иностранном языке.
…На содержание ее отпускалась особенная сумма из казначейства; стол она имела хороший. Иногда на ее имя присылались игуменье от неизвестных лиц значительные суммы денег, которые она употребляла более для украшения церкви, на пособие бедным и подаяние нищим. К окошкам ее, задернутым занавесочками, иногда любопытство и молва привлекали народ; но штатный служитель, заступавший место караульного, отгонял любопытных.
…Все время своей затворнической жизни она посвящала молитве, чтению богослужебных книг и рукоделию; вырученные за труды деньги раздавала через свою келейницу нищей братии».
В продолжение последних десяти лет заточения, в царствование Александра I, Досифею содержали несколько свободнее, однако указ оставался в силе, и она продолжала жить в затворе, из которого вызволила ее только смерть – быть может, желанная, если представить себе эти четверть века жизни без глотка свежего воздуха, отлученной от всего мира, принужденной подчиняться монашескому чину, ей, возможно, чуждому и даже ненавистному. Не освободил ее из одиночного заключения и император, прозванный льстецами «благословенным», хотя он, несомненно, был осведомлен об участи узницы и совесть должна бы была ему подсказать необходимость исправить вероломный поступок своей бабки. Участь беспомощной, должно быть одичавшей от одиночества, старухи не была облегчена. Словно еще опасались отпустить ее на свободу.
И лишь когда она умерла, вдруг проявилась забота о ее прахе: инокиню Досифею повелено было предать земле в прежней романовской усыпальнице – в Новоспасском монастыре. В этом справедливо находят подтверждение принадлежности княжны Таракановой к императорской фамилии. Не совсем обычная фамилия эта будто бы представляет искаженное: Дараган – фамилия мужа сестры графа Разумовского, – однако версия эта далеко не общепризнанна.
Погребение было обставлено необыкновенно торжественно и пышно. Безвестную инокиню Досифею отпевал, за болезнью митрополита Платона, викарный архиерей Августин с «почетным» духовенством. На похоронах присутствовал главнокомандующий Москвы граф Гудович, было много высших должностных лиц, вельмож екатерининского времени.
Вот на какой невеселой, но поучительной истории закончилось наше знакомство с Новоспасским монастырем. Об этой истории напомнили остатки незатейливой часовни, уцелевшей у монастырских ворот. Правда, не Новоспасский, а другой монастырь был участником и пособником постыдного, жестокого дела, но в этом ли суть? Тут древний начетчик непременно поставил бы слово «аминь», что значит – воистину так!Примечания
1
В тексте сохранены названия улиц и площадей советского времени.
2
Местность между Садовым кольцом и левым берегом Москвы-реки в конце XIX века слилась с Пресней.
3
Расстояние, которое проезжают, не меняя и не кормя лошадей.
4
«Соха» – мера земли в Древней Руси, служившая единицей налогового обложения – от 600 до 1800 десятин, менялась в разные времена в зависимости от качества земли, местности.
5
Первоначально – выборное лицо для выполнения различных финансовых и судебных обязанностей: «целовал крест» – то есть клялся выполнять их честно. Позднее – продавец в казенных винных лавках.
6
Тананыкать – мурлыкать, напевать про себя.
7
Кебеняк – верхняя одежда для ненастной погоды; лундыш – вид сукна: английское, лондонское.
8
Зернь – игральные кости.
9
Шелепы – нагайка (устар.).
10
Исторический вестник, 1888, август, с. 380. («Эпизод из вотчинно-монастырской жизни прошлого века». Подписано инициалами «И.Д.»)
11
Эта церковь в перестроенном виде и сейчас стоит через улицу напротив монастырской колокольни.
ОглавлениеСквозь век пронес он дух великороссаОт автораМясницкая – улица Кирова [2]Архитектор Афанасий ГригорьевБасманные улицыКрасная ПресняЗамоскворечьеПречистенка – КропоткинскаяМосковские городские ансамбли архитектора О.И. БовеИз истории старого Московского университетаПетровский зодчий Иван ЗарудныйНескучный садАрбатПо новым стогнам старого градаВ гостях у московских ямщиковКущи и рощи в черте городаСпустя семь вековI. Владычное подворье на КрутицахII. Новоспасский монастырь

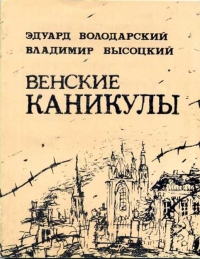


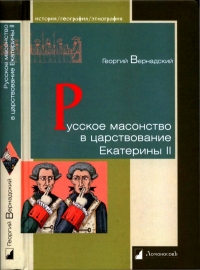
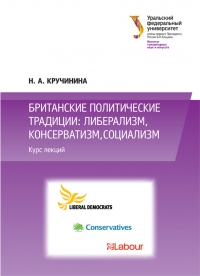

Комментарии к книге «Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья», Олег Васильевич Волков
Всего 0 комментариев