Памяти моего учителя, профессора Михаила Герасимовича Седова.
Введение
«Бог встал в сонме богов; среди богов произнес суд…» — так начинается странный, загадочный и притягательный 81 Псалом. Странный, потому, что он не следует общему канону. В нем нет ни обращения к Господу, ни славословий ему, ни жалоб, ни просьб, ни молений. Загадочный, поскольку нам не дано знать, кто эти боги — с маленькой буквы. Те боги, кому говорить Бог Авраама, Исаака и Иакова: «Я сказал: вы — боги, и сыны всевышнего — все вы». Притягательный тем, что в двадцати двух его стихах изложены три центральные идеи не родившегося еще, к моменту создания Псалма, христианства: жажда правды и справедливости, так полно проявившаяся потом в Нагорной проповеди; тема второго пришествия и Страшного суда; главная «тайна» христианства — тайна Богочеловечества.
Евангелие от Иоанна содержит рассказ о том, как иудеи хотели побить камнями Христа за то, что он называет себя сыном Божьим и ответ Иисуса: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги» (Иоанн. 10.34.) В одновременном существовании божественной и человеческой природы («Я и Отец — одно» — Иоанн. 10.30.) проявляется, по словам С. С. Аверинцева главное чудо христианства, выходящее за рамки законов природы, но и за рамки бытия Бога как такового» [1,498]. Именно эта часть христианского учения, закрепленная Халкидонским собором 451 г. в «символе веры», представляющая Христа как «единородного в двух естествах неслитно, нераздельно, неразлучно познаваемого (…) Сына Бога Слова» [72,146], вдруг стала актуальна в России 70-х гг. XIX в. И не просто в России, а кругах революционной молодежи, увлеченной идеями Герцена, Бакунина, Чернышевского, не признававшей ни государственных установлений, ни религиозных догм и мечтавшей о скором утверждении царства добра и справедливости.
Вот как это произошло: в первой половине 1870-х гг., в самый разгар «хождения в народ», вокруг нигилиста-шестидесятника Александра Капитоновича Маликова объединились в кружок известные (и не очень) деятели народничества. Объединились для того, чтобы объявить об отказе от насильственных методов в достижении общественного прогресса и возрождении «метода» Иисуса Христа — убеждения верой и личным примером.
«Богочеловечество» А.К. Маликова перекликалось с идеями Ф.М. Достоевского, С.М. Соловьева, Л.Н. Толстого, а отчасти и предвосхитили их. Но не только и не столько мысли об общественном согласии и религиозном возрождении, выраженные у вышеозначенных авторов, наверное, объемнее, глубже и сильнее, чем у А. К. Маликова и его последователей, могут сейчас вызывать интерес. Главную ценность для истории представляет, на наш взгляд, сама деятельность кружка «богочеловеков», поставивших на себе своеобразный «социальный эксперимент», попытавшись сначала проповедовать свои взгляды в России, а затем создав коммуну в Америке. Противопоставив насильственным способам достижения социалистического идеала принцип любви к человеку как к Богу, «богочеловеки» выдвинули собственную альтернативу общественного развития и постарались доказать возможность ее воплощения, устроив собственную жизнь в соответствии с принципами любви и согласия. Преследуемые государством, они стали чужими и для своих товарищей. Этот опыт «двойного диссидентства», деятельности вопреки давлению общественного мнения и внешних обстоятельств тем более ценен, что это опыт утрат и потерь на пути к достижению двух целей доктрины социализма — выработке общественных условий равенства и новой человеческой индивидуальности, подчиненной идее общего блага.
Число участников кружка «богочеловеков» невелико, история его коротка, но в исторической литературе не раз мы встречаем упоминания «богочеловеках». Существует и несколько работ напрямую посвященных истории этого движения. Первым, кто заинтересовался этой темой, был П.Л. Лавров. Уже в 1874 г. (когда А.К. Маликов только начал пропаганду своего учения) он написал в одной из статей: «Несколько заметных и талантливых деятелей из числа передовой молодежи отрешились от революционной деятельности во имя мистического учения с проповедью любви ко всем, даже к врагам»[10,236].
Впоследствии, неоднократно возвращаясь к характеристике «богочеловечества» (теме для него — одного из идеологов революционного движения — видимо, болезненной), Петр Лаврович выдвинул и попытался разрешить ряд вопросов, раскрывающих сущность и значение этого не совсем обычного направления в том общественном движении, к которому он сам принадлежал. В частности, он был первым и на долгие годы единственным автором, кто обратился к философским источникам «богочеловечества», указав на Шеллинга и Якова Беме, как предшественников А.К. Маликова.
Другой автор — A.C. Пругавин — опубликовал две крупные работы по истории «богочеловечества». Он был, вероятно, самым информированным из тех, кто когда-либо писал на эту тему. Его сестра К.С. Пругавина участвовала в американской эпопее «богочеловеков», сам он хорошо знал Маликова и других богочеловеков. Будучи одним из крупнейших специалистов в области изучения религиозных сект и учений, он видел в «богочеловечестве», своеобразный психологический феномен, своего рода «секту» в народничестве. Нам представляется очень плодотворной его мысль о глубоком единстве тех идей, которые лежали в основании народнической идеологии и «богочеловечества» [66,170]. Он же высказал мысль о том, что при достаточно тесном единстве идей и взглядов, на первое место вышли психологические различия между Маликовым, который «никогда не был революционером в прямом значении этого слова» [67,54], с одной стороны и сторонниками революционного насилия — с другой. Именно они предопределили, по мнению A.C. Пругавина, неприятие «богочеловечества» большей частью разночинной молодежи, не смотря на их жажду религиозного в своей основе идеала. Наибольшее доверие вызывает точность и взвешенность оценок A.C. Пругавина в тех случаях, когда речь идет о причинах отъезда «богочеловеков» в Америку, а затем распада их коммуны.
Яркие и убедительные картины жизни в коммуне «богочеловеков», представленные Пругавиным, говорят о том, что он владел информацией «из первых рук» и постарался уберечь ее от искажений. Так же, по возможности максимально близко к оригиналу, он изложил основы учения Маликова, отметив, наиболее существенные его моменты: а) положительная роль христианства в истории человечества; б) бессмысленность и бесполезность попыток опереться на отживающую свой век религию; в) необходимость нравственного обновления человека; г) ненасильственный характер учения «богочеловечества»; д) возможность достижения морального совершенства, открываемая человеку вместе с осознанием его «божественной природы». Но подробного анализа теории «богочеловечества» у Пругавина нет. Эту работу впервые попытался проделать Т.И. Полнер, опираясь при этом на записи одного из ближайших последователей — Н.В. Чайковского [64].
Т.И. Полнер — первый автор, пользовавшийся в своей работе не столько личными впечатлениями, и рассказами «богочеловеков», сколько документами, оказавшиеся в его распоряжении после смерти Н.В. Чайковского. Имея возможность обращаться к бумагам Чайковского, он находился в более выгодных условиях, чем его современники, писавшие о «богочеловеках» по слухам и воспоминаниям. Отсюда — от документа — идет и взвешенность оценок и точность выводов о слабой религиозности «богочеловеков» до их приезда в Америку; двух периодах в истории «богочеловечестве»: «русском» и «американском»; значительной роли Н.В. Чайковского в развитии теории «богочеловечества»; сохранившемся после распада коммуны духовном единстве «богочеловеков».
Правда, многие его оценки лишены самостоятельности. К этому располагал жанр «апологии» Чайковского, к тому же сам автор находился под обаянием этой выдающейся личности. Не располагала к методичному анализу документов и необходимость согласовывать (и синхронизировать) свою работу с другими участниками предпринятого, после смерти Н.В. Чайковского, издания очерков его жизни.
Авторов, о которых речь шла выше, объединяет одна общая черта — они специально обращались к теме «богочеловечества» и старались, по возможности полно, представить историю этого движения. Большинство же тех, кто затрагивал тему «богочеловечества», связывал с ней какой-либо один и часто посторонний мотив, каким-то образом связанный с главной темой повествования. Прежде всего, это тема биографическая. Авторов интересовал кто-либо из представителей народнического движения, ставший «богочеловеком» или кто-то из «богочеловеков» ставший известным после Америки. Таких персонажа три: сам основатель «богочеловечества» А.К. Маликов; крупный общественный деятель, а впоследствии один из руководителей антисоветской эмиграции Н.В. Чайковский; В.И. Алексеев, ставший по возвращении из коммуны своим человеком в Ясной Поляне у Л.Н. Толстого и связанный с писателем многолетней привязанностью.
Другая группа авторов считает нужным упомянуть о «богочеловечестве» стремясь к объективности и широте охвата в изложении событий в общественной жизни 1870-х гг. Если историки первой группы более склонны к анализу действий своих персонажей и поиску причин их поступков, то для историков второй группы более важно выяснить один вопрос: как «богочеловечество» соотносится с движением революционного народничества из «недр» которого оно вышло.
Наконец, еще одна группа авторов использует тему «богочеловечество» в качестве иллюстрации к темам: «народничество и вера» «народники и религия». При этом все обсуждаемые в литературе вопросы можно разбить на три большие тематические группы:
• теория «богочеловечества» (источники, содержание и эволюция воззрений А.К. Маликова и его последователей, их соотнесенность с христианской традицией и комплексом идей народничества);
• деятельность «богочеловеков» (состав участников движения, формы пропаганды их взглядов, применяемые на первом этапе, причины отъезда в Америку, жизнь в коммуне и причины ее распада);
• место «богочеловечества» в общественном движении 70-х гг. XIX в. (как и почему оно возникло в революционной среде, что привлекло к нему часть революционеров и почему оно, в конечном счете, было отвергнуто «молодым поколением», а также последствия деятельности «богочеловеков»).
В первой группе вопросов наиболее часто привлекали внимание исследователей три.
Определение «богочеловечества». П.Л. Лавров определил «богочеловеческое» движение как «нечто вроде мистической секты» [45,44]. Значительная часть историков с этим определением соглашались [8,181; 26,15; 110,120]. Те же, кого это определение не устраивало, выдвигали против него два аргумента. Во-первых, у Маликова и его последователей, стремившихся в своей деятельности опереться на все достижения современной науки, отсутствовала мистическая основа, а экзальтированное состояние, в которое впадал основатель «богочеловечества» во время своих «проповедей» — феномен не мистический, а психологический. Во-вторых, термин «секта» подразумевает отклонение от догматов какой-то религии. Но какой? «Богочеловечество» противопоставлялось христианству и не может считаться христианской сектой, а революционная теория народничества не может выступать в качестве религии. Поэтому уже A.C. Пругавин называл «богочеловечество» «религиозно-этическим учением», [65, 161] что терминологически значительно боле точно, чем метафорическое определение Лаврова или термин «религия», чаще всего используемый авторами II пол. XX в. [76,48; 107,61; 109,191].
«Богочеловечество» как религия. Те авторы, что характеризовали «богочеловечество», как «новую религию русской интеллигенции»[100; 394], как правило, не выдвигали серьезных аргументов в пользу этой точки зрения, за исключением некоторых высказываний близких знакомых «богочеловеков» (например Е.Н. Брешко-Брешковской) об их глубокой религиозности. Правда A.C. Пругавин, не понаслышке знавший о воззрениях Маликова, писал о том, что «богочеловеки вполне и, безусловно, признавали необходимость нравственного религиозного обновления и возрождения человека» [66,157]. Но от признания такой необходимости до создания религии, со всеми необходимыми атрибутами (догматами, культом, иерархией) дистанция очень большая. Тем понятнее удивление Т.И. Полнера, ознакомившегося с документами этого движения и увидевшего, что: «в этой проповеди «первого богочеловечества» (Маликова, 1874 г. — К. С.) еще очень мало элементов религии. (…) О «втором богочеловечестве» (Чайковского, 1877 г. — К. С.)… можно сказать гораздо больше. Но прежде необходимо отметить, что и в этом учении мало было от религии» [64,143 и 144]. С ним согласился и Анри Труайя, отметивший, что только в американской коммуне «богочеловеки» пришли к необходимости установить «религиозные основания социальным реформам» [105,398].
«Богочеловечество» и освободительное движение в России. Здесь позиции авторов расходятся наиболее резко. Одни (как правило, авторы конца XIX — начала XX в.) считали «богочеловеков» и народниками и революционерами, другие утверждали, что ни народниками, ни, тем более, революционерами последователей Маликова назвать нельзя. Эта вторая точка зрения особенно ярко проявилась в работах советских авторов 1920-х гг., в которых деятельность Н.В. Чайковского рассматривалась исключительно сквозь призму его антибольшевистской деятельности того времени, а самой мягкой считалась его характеристика как «очень наивного, очень благодушного, очень обывательского человека, непригодного к активной общественной деятельности»[56,10]. В соответствии с такого рода личностными характеристиками и само «богочеловечество», в дальнейшем, стало именоваться «реакционным по своей сути учением», которое «не имело реальной почвы в среде народничества» [26,15].
Промежуточную позицию заняли те авторы, которые считали, что народничество и «богочеловечество» выросли на одной почве, но затем разошлись в разные стороны. Такого рода оценки давали, как правило, люди лично знавшие «богочеловеков»[46,263; 59,95; 66,60], что и нашло отражение в книгах тех современных авторов, которые больше доверяют свидетельствам очевидцев, чем приговору потомков[110,120].
Вторая группа вопросов несколько мнение освещена в литературе. О деятельности «богочеловеков» достаточно подробно рассказано только у A.C. Пругавина и Т.И. Полнера, а из зарубежных авторов — у Ф. Вентури. Подавляющее большинство историков отмечает лишь самый яркий эпизод в истории «богочеловечества» — экспедицию в Америку и создание коммуны. Периодизация истории движения отсутствует, если не считать указание Т.И. Полнера на два этапа «богочеловеческих» увлечение Н.В. Чайковского.
Лишь небольшая часть исследователей обращала внимание на первый — российский — этап в истории богочеловечества. A.C. Пругавин писал о складывании кружка единомышленников Маликова в 1874 г., о первых попытках пропагандировать «богочеловечество» в среде революционеров и в народе. Он же привел фамилии всех участников американской эпопеи. Яркую картину пропагандистских усилий А.К. Маликова нарисовал в своей книге по истории народничества 1870-х гг. С.Ф. Ковалик [36].
По вопросу о том, почему «богочеловеки» уехали в Америку, историки выбирали, как правило, одну из трех позиций: либо они объясняли это решение провалом «хождения в народ» [94,161; 98,126], либо неудачей собственных усилий по пропаганде идей «богочеловечества» в революционной среде [108], либо стремлением свободно и без помех воплотить в жизнь свой идеал [102,202].
Жизнь богочеловеков в Америке большинство историков характеризовало как тяжелую, тягостную в моральном отношении. Они связывали это с неумением организовать работу и быт в коммуне, с несоответствием реальной жизни тем мечтам, с которыми будущие коммунары отправлялись на другой континент [93,214–215; 64,120; 41,651 67,74]. В то же время, некоторые исследователи писали и о попытках развить теорию «богочеловечества», о ее трансформации под влиянием практики коммунаров, называя в качестве теоретиков А.К. Маликова, Н.В. Чайковского, В. Фрея. В работах американских историков содержатся некоторые подробности жизни колонистов, такие как описание местности, в которой была расположена коммуна, отношение к поселенцам соседей-фермеров [102,202–204; 103,353–354].
Описание быта в коммуне в какой-то мере предопределяет ответ на вопрос: почему она распалась. Т.И. Полнер отмечал неумение физически трудиться, запутанность личных отношений, враждебность местного населения, тоску по родине. Д. Хечт добавил незнание специфики американской жизни. Однако главную причину большинство авторов, начиная с возглавлявшего коммуну «богочеловеков» на последнем этапе ее существования В. Фрея и A.C. Пругавина, видели в отсутствии единства среди коммунаров.
Наконец, еще одна группа вопросов, занимавших историков «богочеловечества» может быть обозначена, как место этого движения в общественной жизни России. Те авторы, что находили во всем народничестве религиозную основу (А. Тун, В.Я. Богучарский) приводили историю возникновения «богочеловечества» в качестве одного из доказательств своей правоты. В зарубежной историографии второй половины XX в. очень широко распространено сравнение народничества с первыми христианами или участниками крестовых походов [97; 99; 101; 108]. «Богочеловечество» здесь — один из вариантов общего направления развития народнических идей и практики народнического движения. Те же историки, кто настаивал на атеизме, как одном из основополагающих принципов народнической теории и практики, писали о незначительности и незаметности «богочеловечества» в общественной жизни России [20; 33; 52; 76]. При этом в разных вариантах воспроизводилась та оценка богочеловечества, которую ему дал еще П.Л. Лавров: «Чуждые современной борьбе России, чуждые народу русскому, которому они предоставляли страдать и гибнуть под давлением эксплуататоров, они («богочеловеки» — К. С.) выпали из современной истории» [46,263].
Комплекс источников по «богочеловечеству» следует, видимо, разделить на две большие группы по времени их появления. Первая группа — это документы 1874–1880 гг., то есть создававшиеся в то время, когда существовало само «богочеловечество».
Документы Орловского и Калужского жандармских управлений [12; 13; 15]. Они содержат сведения об обстоятельствах появления «богочеловечества», первом периоде деятельности А.К. Маликова и его сторонников. Материалы «дела» А.К. Маликова позволяют достаточно точно установить дату появления «новой религии» круг первых слушателей и последователей создателя «богочеловечества». Там же сохранилось несколько вариантов маликовской «системы» (как он первоначально называл свои новые взгляды), есть указание на круг источников его идей.
Еще два варианта первоначальной теории «богочеловечества» находятся в других материалах дознания по делу Маликова — в «деле» и бумагах, изъятых у студента Махаева. Документы же, связанные с арестом первых «проповедников» «богочеловечества» — Теплова и Айтова — позволяют судить о том, как собирались действовать «богочеловеки» в 1874 г., пока не вмешалась полиция, и пока не созрело решение отправиться в Америку. Здесь же помещен доклад жандармского генерал-майора Воейкова, в котором было сформулировано отношение карательной службы к появлению «новой религии» и ее адептам.
Материалы фонда Н.В. Чайковского [14] интересны в первую очередь тем, что в них сохранились его черновые наброски по, разработке теории «богочеловечества» после 1874 г. Это два небольших фрагмента, озаглавленные в одном случае «Основной закон человеческой жизни», в другом — «Социализм, как зарождение новой эры в истории, жизни человечества». Еще два отрывка не имеют заглавия. Эти черновики, служащие, вероятно, подготовительными материалами для книги о «богочеловечестве», за которую Чайковский взялся уже после отъезда из коммуны. Они содержат самое полное изложение взглядов второго, после Маликова, теоретика «богочеловечества». Дополнением к этим записям служат черновики писем Н.В. Чайковского к Марии Фрей и Лидии Эйгоф (последней из оставшихся в коммуне «богочеловеков») лета и осени 1878 г.
Американские дневники Чайковского немного дают исследователю «богочеловечества», поскольку их начало относится ко времени отъезда из коммуны. Зато сохранилась записная книжка, которую Николай Васильевич использовал для подготовки к «критицизмам» — особой форме общения существовавшей в коммуне. Записи в этой книжке отражают реалии быта в коммуне, а, главное, раскрывают взаимоотношения между его членами. Из переписки Н.В. Чайковского с единомышленниками (А.К. Маликовым, С.Л. Клячко, В.И. Алексеевым) можно узнать о составе коммуны, времени переезда в Канзас, условиях покупки земли, а из писем более позднего периода — о судьбе отдельных членов коммуны после ее распада.
Переписка А.К. Маликова и В.И. Алексеева с Л.Н. Толстым [23] относится ко времени, когда «богочеловечество» осталось в прошлом. Однако в ней содержатся полезные сведения о времени окончательно перехода А. К. Маликова от «богочеловечества» к православию, об одном из членов коммуны «богочеловеков» — брате В. И. Алексеева — Гаврииле.
Письма же А.К. Маликова к В.Г. Короленко [68] позволяют судить о том, как «богочеловеческие» взгляды отражались в его последующих теоретических исканиях.
Вторую группу источников — мемуарных свидетельств истории богочеловечества, созданных в конце XIX — первой четв. XX в. — открывают мемуары Н.В. Чайковского [87; 88; 89]. Эти воспоминания не очень богаты фактами, поскольку написаны были, прежде всего, для того, чтобы уяснить себе и объяснить другим тот поступок, который сам Чайковский совершил в 1874 г., покинув ряды кружка «чайковцев» и став «богочеловеком». Это анализ, чувств, эмоций, мыслей, а не описание событий. В тех же случаях, когда Чайковскому надо было рассказать об «американском» периоде своей жизни, он переходил на скороговорку, стараясь как можно быстрее «проскочить» психологически неудобное место.
Воспоминания В.И. Алексеева, наоборот, насыщены бытовыми подробностями [2]. Мемуарист подробно описывает сборы в Америку, в деталях излагает путь «богочеловеков» в Нью-Йорк и Канзас. Два рассказа Алексеева о жизни в коммуне полны метких наблюдений за деталями быта и отношений в общине «богочеловеков». Мемуары Алексеева во многих местах пересекаются с пересказами воспоминаний самого А.К. Маликова, сделанных разными лицами и в разное время [34, 41, 79].
Из воспоминаний современников, в первую очередь следует отметить очерки М.Ф. Фроленко, в которых описываются встречи автора с Н.В. Чайковским и В.И. Алексеевым в 1874 г., в тот период времени, когда они стали адептами А.К. Маликова [83; 84]. Впечатления Фроленко, вынесенные из бесед с «богочеловеками», и данные им характеристики в немалой степени повлияли на зарубежных историков, ограниченных в возможности использовать архивные материалы. Самые же подробные воспоминания о первом этапе «богочеловечества» из тех, кто был свидетелями рождения этого движения, оставила Е.Д. Дубенская [29]. Ее рассказ — одно из редких свидетельств пропагандистских попыток, предпринятых по определенному плану. Воспоминания Л.А. Тихомирова, H.A. Чарушина и других деятелей революционного движения [22; 36; 39; 48; 73; 86; 93] интересны, прежде всего, тем впечатлением, которое произвели проповеди «богочеловечества» на товарищей новообращенных адептов теории Маликова по прежней революционной работе.
Последнюю группу мемуаров составляют воспоминания писателей, познакомившихся с «богочеловеками» уже после того, как это движение распалось. Правда то, что можно было бы назвать воспоминаниями Л.Н. Толстого о «богочеловеках» послеамериканского периода в реальности является пересказом пересказа. Это записи, сделанные Д.П. Маковицким, через двадцать пять лет после описываемых событий.[50].
В них есть неточности, но есть и такие подробности, которые отсутствуют в других источниках, но имеют косвенное подтверждение. Зарисовки В.Г. Короленко, сделанные при встречах с А.К. Маликовым в 1880-х гг. ценны живыми и яркими характеристиками, данными основателю «богочеловечества» и его второй жене — К.С. Пругавиной [41].
Глава 1 Появление «Новой религии»
В апреле 1874 г. в революционных и студенческих кругах Петербурга, Москвы и Киева, заговорили о событии странном и неожиданном. В момент всеобщего подъема революционных настроений (завершалась подготовка «хождения в народ») в Орле возникла «новая религия», содержащая призыв к отказу от любых насильственных действий в процессе преобразования общества. Создатель ее — Александр Капитонович Маликов, по свидетельству близко знавших его людей «без всякого сомнения, принадлежал к прогрессивному направлению» [36,104], в том значении слова «прогресс», как его трактовала учащаяся молодежь после выход в свет «Исторических писем» П.Л. Лаврова [44,30]. Бывший член кружка «ишутинцев», привлекавшийся к дознанию по «делу Каракозова», действительный студент юридического факультета Московского университета, А.К. Маликов в 1871 г. был освобожден от гласного надзора полиции и выпущен из ссылки (в Архангельской губернии) с запрещением проживать в столицах. С 1872 г. он жил в Орле и служил правителем дел при управлении Московско-Орловской железной дороги.
Его старые товарищи по-прежнему считали Маликова активным деятелем революционного движения и, видимо, с полным на то основанием. (H.A. Троицкий называет его в числе «агентов» кружка «чайковцев» — самой крупной народнической организации начала 1870-х г.) Жена Маликова — Елизавета Александровна — слушательница женских курсов при Медикохирургической академии, была знакома с членами многих студенческих кружков и возможно участвовала в их работе. Ближайший круг знакомых А.К. Маликова в Орле — деятели освободительного движения 60-х — начала 70-х гг.: от признанных авторитетов, П.Г. Зайчневского и Л.Е. Оболенского [12,50], до едва приобщившихся к революционной пропаганде Л.Ф. Эйгоф и Н.С. Бруевича. Уже тот факт, что мемуаристы, писавшие свои воспоминания о 1870-х гг. спустя четверть, а то и полвека, не считали нужным специально пояснять, кто такой Маликов, говорит о том, что для деятелей освободительного движения того времени он был одним из видных участников революционных кружков.
В Орле Маликов жил с женой и двумя детьми, но затем Елизавета Маликова отправилась учиться на курсы в Петербург, а с декабря 1873 г. в его доме поселилась подруга жены Лидия Филипповна Эйгоф, ставшая вскоре первым адептом нового учения [12,43об.]. Сейчас трудно судить насколько неожиданным было «открытие» Маликова для него самого. А.И. Фаресов, передает слова самого Маликова о том, как это случилось:
«Я все думал последние дни о том, как поступить мне с моими детьми.
(…) с детьми я не могу всецело посвятить себя делу, а должен иметь детей и воспитывать их. С вашим делом я не могу связать частные мои интересы, а теперь я нашел общее дело, из-за которого мне не надо бросать детей на произвол судьбы» [79,230].
Мотивы создания «богочеловечества», звучащие в этой, немного сбивчивой речи, мы постараемся разобрать чуть ниже, а пока посмотрим на сам процесс формирования новых взглядов.
Первое наблюдение: у него есть «первотолчок» — недовольство Маликова своим «делом» — то есть той ролью в освободительном движении, которую он, по сложившимся обстоятельствам, играл.
Второе — недовольство может быть вызвано не только собственным положением, но и тем направлением, которое принимает «дело» в 1874 г. с началом «хождения в народ».
Третье наблюдение: дети в этой речи выступают как повод, или как некий субстрат того недовольства, которое испытывает Маликов, поскольку в дальнейшем речь идет не о них, а о том, как самому ему жить дальше.
Наконец наблюдение четвертое — в этой речи есть указание на период напряженных размышлений, правда, по Фаресову, очень недолгий — «последние дни».
Открытие «богочеловечества», скорее всего, не было единовременным актом вдохновения, подобным созданию Яковом Беме его «Авроры» (на которую, в качестве источника теории Маликова, указывал П.Л. Лавров). По свидетельству В.И. Алексеева, знавшего основателя «новой религии» гораздо лучше, чем Фаресов, все происходило постепенно: «в Орле в речах Маликова все более и более стала проглядывать религиозная основа, и, наконец, в 1874 г. пропаганда его вылилась в форму так называемого «богочеловечества» [2,139]. Примерно о том же говорил в своих показаниях, данных при аресте А.К. Маликова, П.Г. Зайчневский. На допросе Петр Григорьевич показал, что Маликов постоянно обращался к нему «за различными справками по части истории и философии», а также с просьбой помочь при переводе с французского [12,44].
Косвенным подтверждением длительной и упорной работы при выработке нового мировоззрения служит список книг и записей, изъятых у Маликова при обыске. Наряду с сочинениями А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, М.Л. Михайлова, П.Л. Лаврова, В.В. Берви-Флеровского, там находились книги Т.Н. Грановского, Л. Блана, А. Ламартина, Бойля — по истории (и, прежде всего, двух французских революций); О. Конта, Д.Г. Льюиса, Д.С. Миля — по философии; К. Фогта, Д.Г. Льюиса, Дж. В. Дрепера — по физиологии, политические сочинения Ф. Гизо и М. Кондорсе, а также сочинения П.Ж. Прудона и «Капитал» К. Маркса [13-1471,1–2]. Как увидим чуть позже, набор книг по своей тематике соответствовал содержанию нового учения Маликова. Дополняет эти книги «Тетрадь № 4», изъятая у Маликова при аресте. В ней, по его собственному объяснению содержались выписки и черновые заметки по истории, философии, этике и истории религии. Но одном из первых допросов Маликов показал, что еще в 1870–1871 гг. он вовсе не был религиозным человеком и пытался объяснить жизнь «из теории эгоизма и утилитаризма» [12,47], то есть с тех теоретических позиций, которые пропагандировались Н.Г. Чернышевским и его последователями. Процесс «духовного перерождения», таким образом, был достаточно длительным и сопровождался усиленной работой над книгами на протяжении 1872–1873 гг.
Тем не менее, как во всякой творческой работе, здесь тоже, видимо, существовал этап бессознательной умственной деятельности, результаты которой выступают уже готовыми, как открытие, готовая теория или вера. Именно так это и было воспринято самим Маликовым, в характере которого была одна специфическая черта: он мог убеждать самого себя до самозабвения. Духовные перевороты такого рода случались с ним и впоследствии: в Америке и после смерти второй жены. Открытие же «богочеловечества», выглядевшее для самого Маликова как своего рода озарение, состоялось, по свидетельству П.Г. Зайчневского, на шестой недели Великого поста, в конце марта [12,44].
Одна из существенных особенностей учения Маликова, сближающая его с религий, состояла в том, что оно существовало и передавалось в виде проповеди, обращенной к «ближним», под которым надо понимать, прежде всего, товарищей по «делу» — революционной работе.
Ближайший круг знакомых Маликова составляли такие поднадзорные, как и он, участники молодежного движения 1860-х гг. П.Г. Зайчневский, A.C. Голубев, Л.Е. Оболенский. Судя по тому, что Маликов начинал свои «проповеди» с критики «новой науки» или «позитивной системы», еще недавно составлявшей основу его собственного мировоззрения, убеждать ему приходилось не только слушателей, но и себя самого. Будучи человеком увлекающимся и страстным, он входил в образ проповедника, речь его воздействовала на слушателей не столько аргументацией, сколько эмоциональным воздействием. Он как бы «заражал» слушателей верой в правоту его идей, очаровывал их и заставлял себе верить. Речь Маликова производила настолько сильное впечатление, что по утверждению М.Ф. Фроленко «доводила до слез» даже самых крайних скептиков, таких как Д.А. Клеменц — один из самых авторитетных деятелей в кружке «чайковцев» и уверенный в своих силах полемист [84,221]. А Е.Д. Дубенская вспоминала, как Маликову удалось за две недели превратить Л.Е. Оболенского из противника в апологета [29,172]. Пожалуй, только про П.Г. Зайчневского можно сказать, что проповеди Маликова его ничуть не затронули, что было следствием как его иронической натуры, абсолютно невосприимчивой к эмоциональному воздействию, так итого обстоятельства, что «богочеловечество» Маликова создавалась у него на глазах и, отчасти, при его участии (если можно назвать участием постоянную и язвительную критику).
Первоначально «богочеловечество» существовало только как проповедь и даже более того, как особое эмоциональное восприятие ситуации, в которой находились Маликов и его соратники. Когда Маликов «загорался» (а это случалось каждый раз, когда его готовы были слушать), он говорил легко и свободно, образно и чрезвычайно эмоционально. При этом возникал эффект «размывания реальности»: слушатели забывали, где они находятся, и что происходит вокруг них.
В.Г. Короленко, слушавший Маликова на излете «богочеловечества», через шесть лет после описываемых событий, сохранил это впечатления высокого накала его речей:
«Маликов был в своем трансе и, по обыкновению весь горя и пылая, говорил о могуществе чуда. (…) Маликова в таком состоянии смутить было трудно. Он бурно несся дальше. (…) Он весь пылал, как тургеневский оратор-сектант, его настроение, видимо, передавалось слушателям» [41,172].
Чрезвычайно эмоциональны и письма Маликова. Чувствуется, что подчас не автор владеет словом, а слово подчиняет себе автора, ведет его, заставляет повторяться, вводить в письменный текст междометия, убегать вперед, бросая недовысказанную мысль. И вновь возвращаться к брошенной фразе до тех пор, пока текст не становится окончательно неразборчивым из-за того, что рука не успевает за потоком мыслей и образов. Фраза Маликова, состоящая из восклицаний, повторов, риторических вопросов, строится таким образом, что и через сто лет читателю хочется кивнуть в удачных местах его письменной речи. В устной же речи его союзниками были и убеждающий жест и пылающее энтузиазмом лицо, и устремленные на собеседника глаза и напор образов, не позволяющих слушателю остановиться и обдумать сказанное. Настроение передавалось лучше, чем идеи, отчасти еще не додуманные, отчасти путанные и противоречивые. Недаром С.Ф. Ковалик и A.C. Пругавин относили успех проповедей Маликова за счет его таланта, увлеченности, «страстного энтузиазма» [36,105; 66,166].
Когда же гипнотическое действие слов Маликова проходило, первой реакцией слышавших было неприятие. Идеи его коренным образом расходились с тем мировоззрением, которое для участника студенческих и революционных кружков, считалось обязательным и называлось в литературе «направлением». Слушатели Маликова, очарованные его пылкой речью, в большинстве своем не сразу понимали, что же именно он им втолковывает. Так К.С. Пругавиной, ставшей вскоре ярой сторонницей Маликова, а затем и его женой, первоначально показалось «очень странным» все, что происходило в Орле [12,72]. Л.Е.
Оболенский, услышав одну из первых проповедей, заявил о «необходимости борьбы с этим опасным течением» [29,171]. Правда, Маликову хватило нескольких дней, чтобы убедить в своей правоте и Л.Е. Оболенского, и многих других.
Но еще раньше началось то, что Е. Дубенская определила емким словом «паломничество», а С.Ф. Ковалик описал так:
«К нему (Маликову — К. С.) приезжали интеллигенты, не только посторонние движению, но и пристрастившиеся уже к революции — словом все те, в сердцах которых копошился еще червь сомнения (…). Кроме настоящих последователей Маликова можно было встретить в разных кружках лиц, более или менее ему сочувствующих» [36,105].
Первой, после письма, а затем и телеграммы Маликова, в Орел приехала К.С. Пругавина — «в Вербное воскресенье или понедельник на страстной неделе» [12,72]. Затем, по ее просьбе, на Пасху, приехал из Петербурга студент медико-хирургической академии Воронцов и, вернувшись из Орла, привез товарищам изложение теории А.К. Маликова. Этот «студент Воронцов», по всей видимости, не кто иной, как знаменитый В.В. -Василий Павлович Воронцов, в будущем — идеолог «либерального народничества» 1880-х гг. Он учился в медико-хирургической академии с 1868 по 1873 г. и был близок к «чайковцам» [112,457].
По словам другого студента МХА (Я.А. Ломоносова), «тетрадь с изложением новой системы была листов 5–6 без заглавия с эпиграфом: «Имеющий уши да услышит» [12,72]. Л.Е. Оболенский показывал на следствии, что такого рода тетрадь действительно существовала:
«У Маликова была программа этого сочинения, которой он был недоволен, потому что она составлялась в первое время его новых воззрений, когда они так сильно поразили его самого, что он был в возбужденном состоянии и не спал несколько ночей» [12,51].
При аресте эта тетрадь не была обнаружена. Естественно предположить, что именно ее увез Воронцов в Петербург. По свидетельству того же Я.А. Ломоносова, большинство из знакомившихся с ней были недовольны неясностью изложения, отсутствием доказательств. Скорее всего, именно этим обстоятельством был вызван скорый приезд в Орел еще одного студента и члена того же кружка — Махаева. Два брата Махаевых: Василий и Николай жили в то время в Петербурге. Оба они учились в Орловской гимназии и имели хорошие контакты с членами различных «кружков» как в Орле, так и в Петербурге. Но только Василий учился в МХА (его брат Николай не получил свидетельства об окончании гимназии) Логично предположить, что именно Василий ездил в Орел с поручением от своих товарищей из МХА, познакомиться с новым учением. Он беседовал с Маликовым «часа три» [15-3,278] а затем, по просьбе товарищей составил 37 тезисов «новой религии» для того. Эти тезисы остались самым обширным изложением теории «богочеловечества», каким оно было в начале его появления.
В Москве и Киеве узнали о появлении «богочеловечества» чуть позже, чем в Петербурге, но интерес к «новой религии» был не меньшим. Узнал о ней и Николай Васильевич Чайковский — один из основателей и руководителей «кружка чайковцев». С декабря 1873 г. он находился на Юге России, объезжая города, где у «чайковцев» были агенты и просто сочувствующие «для поддержания прежних и установления новых связей» [96,30]. В Киеве он получил известие о возникновении «новой религии», стремительно направился в Орел и столь же стремительно стал одним из самых последовательных сторонников А.К. Маликова. Сначала, вероятно, состоялось заочное знакомство. По крайней мере, А.И. Фаресов, находившийся в начале апреля 1874 г. в Орле у Маликова, передал слова последнего: «Чайковский на днях приедет ко мне. Я уверен в нем заочно. Это чуткий и свободный ум, не порабощенный человеконенавистничеством во имя переделки исторических форм» [79,233].
Из Москвы в Орел приехали другие члены кружка «чайковцев»: Д.А. Клеменц, С. Армфельд, Н.Ф. Цвилинев. Особо следует отметить поездку Д.А. Клеменца, и не только потому, что о ней упоминают сразу четверо из небольшого числа свидетелей появления «богочеловечества».
Клеменц ездил к Маликову не просто для того, чтобы познакомиться с его «системой», а чтобы «лично убедиться в силе влияния Маликова на молодежь» [86,521]. В Орле проводились «диспуты» Маликова с его оппонентами, в которых (как это запомнилось С.Ф. Ковалику) «логика была на стороне революционеров, но сочувствие большинства на стороне Маликова» [36].
Чуть позже в Орел приехали несколько членов кружка «артиллеристов», узнав от Клеменца о существовании «новой религии». Двое из этой группы, Дауд Айтов и Николай Теплов, стали ярыми приверженцами А.К. Маликова и отправились «в народ» пропагандировать учение «богочеловечества». В какой-то момент (точных данных у нас нет) сторонником Маликова стал еще один известный деятель революционного движения — один из основателей и руководителей московского филиала кружка «чайковцев» С.Л. Клячко. Большая же часть приехавших в Орел молодых людей остались просто слушателями и со своими революционными убеждениями не порвали. Одни из этих слушателей, как это запомнилось В.А. Тихоцкому, «смотрели на них («богочеловеков» — К. С.) как на странных чудаков» [111,76]. Другие, вступая в полемику, пытались понять, чем же так привлекает молодых людей учение Маликова, как это можно понять по строкам из письма Я.А. Ломоносова к К.С. Пругавиной: «Только не считайте нас своими врагами в силу того, что мы ветхие люди, обновите!» [13-2012,Зоб.]. Интерес к «богочеловечеству» еще более усилился после того, как в подпольных кругах распространилось известие, что к Маликову примкнул Н.В. Чайковский, обладавший огромным нравственным авторитетом в этой среде. Как позже писал Л.А. Тихомиров: «Такое (…) перерождение одного из самых уважаемых и любимых наших товарищей, было для нас событием необычайной важности» [73,48].
Всего из членов революционных организаций полными сторонниками А. К. Маликова стали пять человек: «чайковцы» Н.В. Чайковский, С.Л. Клячко и В. И. Алексеев и «артиллеристы» Д.А. Айтов и H.H. Теплов.
Д.А. Айтов в своих показаниях отмечал, что в то время когда он был у Маликова, у того было пять последователей: два выпускника Петербургского университета (вероятно Н.В. Чайковский и В. И. Алексеев), один «неизвестны» и две девушки (К.С. Пругавина и Л.Ф. Эйгоф) [12,65]. Остальные участники движения «богочеловечества» (о которых — ниже) были в той или иной степени близки к освободительному движению, но в подпольные организации не входили. «Сочувствующих» же (как их называет С.Ф. Ковалик) у Маликова было много больше. Поэтому два месяца — май и апрель 1874 г. — запомнились многим участникам тех событий не только как завершающий период подготовки «хождения в народ», но и время серьезной полемики между сторонниками и противниками «богочеловечества», что по горячим следам зафиксировал А. Тун, назвав «маликовцев» в числе четырех групп, имевших «более или мене важное значение в ту эпоху» [77,130].
Полемика вокруг «богочеловечества» закончилась не в пользу сторонников этого движения. Большинство участников революционных кружков и близких к ним молодых людей самого Маликова не слышали, знакомились с его «системой» в пересказах или записанных с его слов тезисах. Идеи «богочеловечества» смогли увлечь лишь тех, кто уже почувствовал в себе внутренний импульс к отказу от революционного насилия. А таковых в этой среде было совсем немного.
Но в этом деле существовала еще одна «заинтересованная сторона» — это полиция. Ее реакция на появление «новой религии» представляет для нас существенный интерес. Власти узнали о существовании «богочеловечества» только после ареста первых его пропагандистов Н. Теплова (8 мая) и Д. Айтова (9 мая). Айтов дал подробные показания и приблизительно 11 июня 1874 г. составил первый вариант «тезисов новой религии», с изложением теории Маликова [15-1,209]. Полиция сработала оперативно и, как только имя Маликова прозвучало на допросах, он сам был арестован (10 июня). В день ареста у него дома был произведен обыск. Вскоре в руках жандармов оказались документы, позволявшие составить достаточно полное представление о «новой религии»: два письма Маликова к жене, с изложением его новых взглядов, два варианта «Тезисов», составленных Айтовым, «Тезисы», изъятые у Махаева, а также показания самого Маликова и его первых слушателей: А.Я. Ломоносова, ПГ. Зайчневского, Л.Е. Оболенского, A.C. Голубева. Объяснения данные ими данные сводили теорию «богочеловечества» к «яркому и неопровержимому доказательству учения христианства» [12,50], что несколько успокоило полицейских чиновников, и 17 июня Маликов был выпущен под гласный надзор полиции [12,71].
Однако вскоре ситуация изменилась. 26 июня последовал новый арест, на этот раз длительностью в полгода, до ноября [12,78 и 96]. Вскоре возникла легенда (ее сохранили С.Ф. Ковалик и Н.Ф. Цвилинев), согласно которой Маликов получил свободу во второй раз благодаря тому красноречию, с которым он представил свое учение жандармскому генерал-майору И.Л. Слезкину, допрашивающему того в Москве. Такие допросы действительно велись, о чем свидетельствует «Прошение» составленное Маликовым на имя М.Т. Лорис-Меликова в марте 1880 г. [15-314,60]. Однако В.И. Алексеев, со знанием дела утверждал, что освобожден был Маликов благодаря ходатайству его бывшего профессора К.П. Победоносцева, которого сам Алексеев об этом и просил [2,240].
Не смотря на то, что Маликова освободили, полицейские чины не сомневались в том, что деятельность его надо квалифицировать как вредную и преступную. Самое яркое свидетельство этому — доклад генерал-майора Воейкова, непосредственно занимавшегося «делом» Теплова-Аитова-Маликова, управляющему III отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярией, с характерным выводом в конце:
«По соображении всего вышеизложенного, представляется возможным предполагать существование двух тайных обществ: одного в Орле, другого в Санкт-Петербурге. Оба эти общества преследуют одни и те же цели различными средствами, цель их изменить государственный порядок: одних путем революции, других религиозно-политической пропаганды» [15-314,501об.].
Чиновники Третьего отделения, не вдаваясь в подробности и не выясняя сложные взаимоотношения между революционерами и «богочеловеками» отметили существенно (по их мнению) важную особенность учения Маликова. Оно было оппозиционно существующему политическому режиму. Именно этим определялось отношение к нему власти. А это отношение, в свою очередь, до некоторой степени предопределило дальнейшую судьбу движения.
Глава 2 «Система» А. К. Маликова
Изложить теорию «богочеловечества» подробно и точно достаточно трудно уже потому, что это не удалось до конца и самому А.К. Маликову. В мае 1874 г. он «засел за труд», в котором собирался доказать «возможность и истинность (…) веры путем историческим» [83,97].
Почти все слушавшие в это время Маликова и Чайковского (за исключением А.И. Фаресова) запомнили примерно одно и тоже. Лучше всего общее содержание первых проповедей «богочеловеков» передал Александр Осипович Лукашевич, ходивший «в народ» вместе с Д. Айтовым:
«Мы узнали, что новая религия предполагает в каждом человеке, в его душе как бы «бога», что принявшие это учение проповедуют нечто подобное объявившемуся много позже непротивлению злу и считают для себя обязательною открытую проповедь мирного социализма всем и каждому (…) признавая «сытых» за таких же людей, которые де тоже имеют в себе «божественную искру» [48,21].
Ему запомнилась, таким образом, самая «сердцевина» учения Маликова — призыв к отказу от насилия в процессе общественного развития или, как сказали бы в XX в., — к классовому миру.
Сам же Маликов начинал разработку (а потом и изложение) своей теории с того, что заново задал вопрос, казалось бы, давно и прочно решенный в господствующей в те годы позитивной философии — о соотношении знания и религии в жизни человека. Для начала Маликов предлагал тезис: «Какова религия, таково и знание» [13-1032,Юоб.]. Суть его в том, что вера человека определяет, во-первых, возможности в достижении нового знания, а во-вторых (что еще важнее) способности воспользоваться новым знанием на благо человечеству. Если вера и знание не противоречат друг другу, общество способно быстро двигаться по пути прогресса. Если же наступает время «разлада и враждебности» между чувствами людей и требованиями науки, в обществе растет потенциал вражды и взаимной ненависти. Именно по такому пути пошли европейские народы, разрушившие, во имя науки, гармонию знания, воли и чувства. Этот «разлад», по мнению Маликова, чувствовали и сами родоначальники позитивной философии, однако их попытки преодолеть возникающее противоречие между рациональным мышлением и потребностью человека доверять своим чувства неубедительно:
• О. Конт «кончает свою философскую систему какой-то выдуманной религией»;
• Д.С. Милль «оставляет после себя трактат «о пользе религии», точно рассуждает о пользе стекла…»;
• Г. Спенсер «только удивляется, современному состоянию общества» [12,89об.].
Собственную критику «рационального знания» и «позитивной философии» Маликов построил на прочном фундаменте философии Гегеля, выбрав для опоры два его тезиса. Первый: «Вера не противоположна знаниям, скорее напротив вера есть знание, и (…) она представляет форму знания» [16,365]. Маликов, как видим, пошел еще дальше и поставил знание в зависимость от веры. В записях же Айтова и Махаева этот тезис звучит еще решительнее:
Оба этих высказывания повторяют (в разной форме) второй из выбранных Маликовым тезисов Гегеля: «Для своего действительного духа определенная форма религии извлекает из форм каждого момента те, которые соответствуют ей» [17,365]. По этой формуле противоречие знания религии просто невозможно. Человечеству же необходимо как можно быстрее это осознать и стремиться не к замене чувства знанием, а к их равновесию. Но эта формула нуждается если не в доказательствах, то, по крайней мере, в объяснении. И Маликов постарался как можно убедительнее объяснить необходимость достижения баланса между верой и знанием и в каждом отдельном человеке и в обществе в целом. Человек, по мысли основателя «богочеловечества» есть «субстанция мыслящая и чувствующая». Полный разрыв между чувством и мыслью в нормальном человеке невозможен. То же самое должно быть и в нормальном обществе:
«Между наукой и религией (…) существует такое единство, какое существует между чувством и мыслью (…) поэтому ни знание не может развиваться без религии, ни практическая деятельность» [12,89об].
Чувство, по мысли Маликова, быстрее реагирует на окружающее и придает окраску мысли. Поэтому деятельность человека не может быть полностью рациональной. И чем рациональнее старается действовать человек, тем больше ему нужно веры в правоту своего дела, тем религиознее оказывается этот человек. Главным доказательством этого положения основатель «богочеловечества» считал мысли и чувства того круга людей, в который он сам, до недавнего времени, входил. Это народники: революционеры и атеисты:
«Я обращаюсь к вам, писал Маликов, — к самым крайним революционерам и спрашиваю, из-за чего вы хлопочете — они отвечают из-за счастья человечества (…). Врете, отвечаю им я, потому что вы хотите часть его зарезать, значит, любовь ваша обращена не к живому человечеству, а к выдуманному Вами — идеализируемому. (…) Вы сами отчаянные идеалисты, Вы христианские святые монахи, над которыми так жестко сами же смеетесь» [13-1032,1].
Ясно, что убеждения людей Маликов рассматривал как веру, подкрепленную знаниями. Общество же, складывающееся из отдельных личностей, трактовалось им как сумма убеждений, что в данном случае тождественно сумме вер. История человеческой цивилизации, дет, по его мнению, возможность доказать этот вывод «путем историческим». В этом своем стремлении он был отнюдь не первый, но схема О. Конта (в которой вся предшествующая жизнь человечества делится на три этапа: фетишистский, теологический и метафизический), его не устроила. Находясь под сильным влиянием Гегеля, он выше всего ставил логику общественного развития, которую не находил у Конта. Об этом он и заявил на следствии: «Научные познания показывают (…), что в чувстве лежат те же логические законы, что и в мысли, и тогда получает подтверждение диалектический закон Гегеля» [12,92об.].
В основу своей периодизации истории человечества Маликов положил гегелевскую триаду (тезис-антитезис-синтез), известную как закон отрицания отрицания. Однако его собственная периодизация лишь отчасти напоминает ту, что предложил Гегель в своей «Феноменологии духа». У Гегеля основным критерием социального развития было выбрано состояние религии в обществе. Соответственно этому и выделялись этапы развития человечества. Первый — «непосредственное наличие бытия разума» при полном отсутствии религии. Второй — «нравственный мир», с его религией подземного мира, «религией Судьбы». Эта историческая форма сменяется «верой в небо» — христианством, которое, в свою очередь, уступает место «религии просвещения». Современное Гегелю состояние общества тот называл «религией моральности», восстанавливающей «положительное содержание абсолютного». А завершение свое история человечества, по Гегелю, должна найти в последнем, шестом периоде самопознания абсолютного духа — «чистом самопознании» [16,363].
Отличие периодизации Маликова от гегелевской определялось тем, что вместо самопознания абсолютного духа, в качестве движущей силы истории, Маликов выдвигал самопознание человека. Цель исторического развития, для него — достижение гармонии не в обществе, в самом человеке. Рассуждая о соотношении веры и знания в обществе, Маликов исходил из того, что человечество постоянно обожествляет одну из сторон человеческой натуры: материю (тело), мысль (разум, знание) или чувство (эмоции, вера). Опора на те или иные стороны человеческой натуры, определяет характер исторического периода.
Первый этап социальной истории Маликов (правда, в изложении Айтова [15-1,456–459]) именует фетишизмом, считая, что в нем «люди удовлетворяют всем свои потребностям, не выделяя какую-либо сторону своей натуры». Социальное же движение начинается тогда, когда возникает религия, обожествляющая, по Маликову, одну из сторон человеческой натуры. В Египте и Индии — это мысль, в Иудее — чувство. При этом Маликов (сознательно или не замечая того) рассуждает как материалист: Бога (как и Абсолютного Духа) нет и никогда не существовало. Обожествление — акт человеческого сознания. Он не вдается в объяснения, как и почему это происходит, но в свете его рассуждений религия есть не что иное, как производное от человеческих желаний.
Далее, по Маликову, начинает действовать закон отрицания отрицания.
В античном обществе (Греция и Рим), человечество обожествляет материю и мысль. Эта религия материальности становится, в свою очередь, тезой по отношению к христианству — религии чувства, которая «совершенно игнорирует материальную сторону» жизни. Христианский период, длившийся вплоть до последнего времени, определял, для Маликова, вектор дальнейшего развития человечества, поскольку сам стал тезой по отношению к религии будущего. Смысл же этой новой религии, которую только предстоит создать, в синтезе всех обожествляемых сторон человеческой личности. Главное содержание той эпохи, которая наступила в XIX в., по мысли создателя «богочеловечества», состоит в том, что христианская религия выдохлась, и уже не может выражать потребности отдельной личности и всего человечества в целом. Выражением этого состояния является тот «разлад религии и науки», с обоснования которого Маликов начинал пропаганду своего учения.
В свое время Б.С. Итенберг дал такую характеристику «богочеловечеству»: «Новая религия — историческое развитие христианства» [33,303]. Эта формула (а она взята из тезисов, составленных Махаевым) вследствие ее краткости дает возможность трактовать «богочеловечество» двояко. Оно может пониматься как а) часть христианской религии; б) самостоятельная религия, сохранившие его (христианства) отдельные элементы. Если считать объяснения, данные Маликовым полиции, вполне искренними, то первое из них покажется более справедливым. «Христианство, — заявил он на допросе, — заключает в себе вечные и бесконечные истины». И дальше: «Мой основной религиозный взгляд, выстроенный на глубоко христианском основании, заключается в том, что люди делают зло не ради самого зла, а из незнания, слепоты своей и неразвитости» [13-1503,38 и 47].
На наш взгляд, он не кривил душой действительно и действительно говорил, что думал, постоянно подкрепляя свои слова высказываниями «столпов веры»: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон» (Ап. Павел. Послание к римлянам. 13, 8). Вопрос в том, можно ли считать христианином, в полном смысле этого слова, человека, выражающего согласие лишь с отдельными положениями этой религии, но не принимающего ее всю целиком. У полиции были основания в этом сомневаться. И Маликову пришлось давать прямой ответ на прямой вопрос: «На показания Айтова, что я будто бы основатель новой религии, отвечаю, что оно прямо указывает на непонимание даже того выражения, которое [Айтов — К.С.] употребил и вообще плохое знакомство с научными терминами» [13-1503,98]. Прямого ответа, как видим, не получилось. Обманывать (даже полицию) ему не хотелось, поскольку это не соответствовало его новым убеждениям, а православным христианином (по тем же соображениям) назвать себя никак не мог.
Письма Маликова и показания Айтова убеждают нас в том (повторим еще раз) что историческое развитие христианства Маликов понимал по Гегелю, то есть как «отрицание отрицания». «Богочеловечество» же должно было стать новой ступенью в развитии человеческого сознания, а значит а) «новой религией» и б) религией нового типа, для которой не важен такой постулат как бытие Бога. Для Маликова было важно не столько опереться на христианство, сколько оттолкнуться от него, поскольку это была «старая» религия, то есть такая, которая «предпочитает одну сторону [человека — К. С.] другой» и в которой «совершенно пренебрегается важная сторона человека — материя» [15-1,446]. Появление новой, более прогрессивной, или, в терминологии самого Маликова, логичной для своей эпохи религии, «объясняется обстоятельствами времени», а именно тем, что христианство исчерпало свои жизненные силы и к XIX в. полностью разложилось и умерло. Главным свидетельством тому стала «атеистическая» революция 1789 г. во Франции и появление в дальнейшем, «материалистических» религий.
Если основным содержанием христианства считать страстную веру в абстрактный, отвлеченный идеал (а Маликов именно так и считал), то любое учение, отрицающее догматы христианства, но при этом, выдвигающее какой угодно благородный чистый и святой идеал, оторванный от простых потребностей реальных людей, остается «христианским» по методу — обожествлению чувства в противовес материи. В этом смысле французские революционеры 1879 г., впрочем, как и все революционеры вообще — христиане по типу сознания. Для Маликова это очень важно и он постоянно возвращался к этой своей мысли:
«В основе христианской веры лежит: люби ближнего своего, как самого себя, но Бога больше, то есть абсолютную идею. Атеисты (с молоком матери всосавшие в себя христианство) говорят: я борюсь за прогресс, за цивилизацию (…) за свободу, равенство и братство. Из-за этого они режут людей и самого себя. Робеспьер кричит (вслед за Кантом): пусть погибнет весь свет, но восторжествует справедливость… (вот оно христианство: люби ближнего своего, но Бога больше)» [15-1,210].
Итак, революционные теории — не что иное, как форма христианства, отвлеченной религии, со сталь же отвлеченными от реальности (а значит непригодными) методами установления справедливости. Для христианства «справедливость» — идеал, предлагаемый человечеству в целом, но не рассчитанный ни на кого в отдельности. Столь же абстрактна «справедливость» революционеров, идущих к счастью человечества по головам людей. Справедливость, предлагаемая Маликовым, есть «закономерность — необходимость», обращенная к реальным людям. Отказ от абстрактности идеала равен у Маликова отказу от любых насильственных действий при утверждении этого идеала. Соответственно ядром его теории, той точкой к которой, в конечном счете, сходятся все нити его рассуждений можно считать следующее положение: насилие, выдвигаемой революционерами в качестве средства достижения отвлеченного, «общечеловеческого», «христианского» идеала не ведет к цели. Более того, оно служит главным препятствием в достижении цели и должно быть отвергнуто каждым кто хочет справедливости не для «человечества», а для людей.
В доказательство этой мысли Маликов выдвинул пять тезисов.
Во-первых, насилие бесплодно, потому что «возводя пошлый, безумный факт грызни и драки в принцип», люди, желают они того или нет, совершают зло, сравнимое с тем, что принесли народам монархи диктаторы, с той лишь разницей, что «у красных идея покрасивее».
Во-вторых, человечество не просит «делать над собой операций» (явный выпад в сторону сторонников Бакунина). И кто может сказать, что он обладает высшим правом — решать за всех, как им жить?
В-третьих, предлагая «зарезать» часть человечества «для идеи блага на небесах» революционеры не знают, когда они смогут остановиться. И чем больше нужно «зарезать» тем менее привлекательной становиться идея всеобщего счастья для, тем больше насильственных средств нужно применить революционерам для достижения их идеала.
В четвертых, результатом планируемой «операции» по насильственному отторжению «больной» части человечества, может стать не здоровый общественный организм, а «калека».
И самое главное. «Мы зарежем часть людей и потом объявим: все общее, пользуйся каждый всем, сколько хочешь и можешь. Ну а где же закон моему хочешь и можешь?» Результатом насильственного пути к благоденствию станет «кровь и драка, затем уныние и отчаяние, томление, и тут-то встанут новые диктаторы — хуже нынешних» [13-1032,1–5].
Маликов не пророчествовал, он старался разглядеть тенденцию в тех формах революционного движения прошлого и настоящего, с которыми он знаком по книгам и личному опыту. И видел он эту тенденцию в том, что революционное насилие нигде и никогда не вело к улучшению жизни людей. Оно вело лишь к новому насилию и к новому злу. Однако, в отличие от Ф.М. Достоевского, несколько раньше пришедшего к тому же самому выводу, Маликов не отказался ни от социалистического идеала, ни от попыток активно воздействовать на общество, с тем, чтобы «подтолкнуть» его к воплощению идеала справедливости. Но если не применять насилия, то каким образом можно воздействовать на все общество? Ответ Маликова: любовью и верой.
«Чтобы быть реалистом, надо и жить реально, чтобы любить людей, надо любить живых людей» [13-1032,3], — так понимал Маликов задачи «богочеловечества». Новая религия, став синтезом всех предшествующих, должна обожествить все стороны человеческой личности: мысль, чувство, материю. Тем самым человек, реальное живое существо, может стать объектом не абстрактной и теоретической, а живой религиозной любви. Возможно ли это? Да, отвечает Маликов, поскольку человек и так всю предыдущую историю обожествлял часть себя. И делал это потому, что «любовь Бога к человеку, составлявшая основу и средоточие религии, есть в сущность любовь человека к самому себе, а, следовательно, содержание любви есть человек». Правда, последние слова принадлежат не Маликову, а Людвигу Фейербаху [80,34]. Видимо, здесь можно говорить о совпадении хода рассуждений, а не о заимствовании Маликовым идей Фейербаха. Дело в том, что Маликов имел привычку вставлять в свой текст имена тех авторов, чьи мысли он использовал или оспаривал. В его письме к жене, в котором он излагал ей свои новые взгляды, названы имена семи историков и философов, в показаниях полиции — шести. Отсылок к Фейербаху нет.
Не было его сочинений и в библиотеке Маликова, список книг которой, был составлен при обыске. Но это совпадение знаменательно: при совпадении целей двух мыслителей (освободить человечество от любви к Богу и повернуть ее на человека), совпал и ход рассуждений.
«Реальная любовь» к конкретному человеку, но ни в коем случае не к человечеству в целом, играла в построениях Маликова чрезвычайно важную роль. Именно она должна была сделать то, что безуспешно пытались совершить поколения революционеров (но были на это не способны) — перестроить общество на началах добра и справедливости. «Революционеры! И вы устарели, — проповедовал Н.В. Чайковский своим товарищам сразу после того, как стал «богочеловеком». — Вы обращаетесь к уму, но забываете чувство. Не ожидайте никакого добра от кровавой войны между людьми: из войны происходит война и снова война без конца». По крайней мере, так его речь запомнилась П.Л. Лаврову. [46,261].
Почему люди смогут преодолеть вековую вражду, и как это может произойти — вот вопросы, направленные в самое уязвимое место теории Маликова. Те, кто не слушал самого Маликова, а знакомился с его построениями в пересказе, замечали это очень быстро. Я Ломоносов писал: «Этот пункт «Системы» самый темный, самый неполный и более всего наполнен фразами, ничего не значащими…» [12,73]. Так же отреагировали и слушатели Н.В. Чайковского, на его призывы ко всеобщей любви. «Догматическая сторона его нового верования была обработана довольно неясно», отметил Тихомиров [73,38]. А Фроленко запомнил, что «у него [Н. В. Чайковского — К. С.] потребовали доказательств, говоря, что его обращение не может быть достаточным ручательством, что другие так же легко и быстро (…) смогут переродиться» [83,97].
Чайковский говорил о попытках Маликова доказать это положение «путем историческим», но сделано это не было. В нашем распоряжении имеются лишь некоторые предварительные мысли, высказанные Маликовым в письме к жене:
«Да, друг мой, дорогой друг мой. Новая вера хороша. Верьте, верьте тому, что Вы, каждый, хочет бесконечно и честно, без всяких сомнений любить всех и каждого. Ведь это так! Прочь сомнения, прочь терзания — любовь — одна святая любовь вылечит и примирит все человечество, из развития этой любви в красоте ее законов — откроются законы общежития — уже чисто интуитивным путем. В вере в Богочеловечество нет ни я, ни ты, ни моего, ни твоего, в вере в человека как в Бога открывается великий мир его святого чувства, его бесконечной мысли — науки. Открывается (…) земной рай и все последуют за этим раем» [13-1032,5–6].
Если очистить эту проповедь от эмоций и оставить только логику, то получится следующее: любовь к людям (причем любовь религиозная) способна преобразовать общество на началах добра, объединив науку и чувство. Для этого надо «перестать искать Бога на небесах или Бога ученого» и обратиться с любовью к каждому конкретному человеку.
Конечно, в теории Маликова чувства больше чем логики. Его самого и его последователей по жизни вели эмоции. Но у них было одно доказательство и один пример правоты «богочеловечество». Доказательство — они сами. «Новая религия» давала им чувство владения истиной, разрешало противоречия их собственного сознания.
Недаром они так часто в своих речах использовали слово «гармония». В «богочеловечестве» они сами обрели недостающее душевное равновесие. М.Ф. Фроленко оставил, по-видимому, адекватное описание состояния Н.В. Чайковского в первые недели, после «обращения» в «богочеловечество»:
«… в нем полное душевное спокойствие, равновесие и довольство (…) у него нет противоречий между словом и делом (…) его апостольство было разлито в речах, движениях. Причем сразу бросалось в глаза, что человек не фальшивит, а неуклонно верит во что-то и поступает согласно этой вере» [84,222].
Для каждого человека наиболее существенный аргумент — это то, что происходит с ним самим. Если возможно внутреннее преображение в них самих, то почему оно не возможно в других — так, или примерно так рассуждали последователи Маликова. Тем более что параллели с «отжившим», но когда-то великим духовным движением — христианством — дают надежду на то, чтобы быть выслушанными и понятыми.
«Наша вера, заявлял Маликов, — новая вера, какой, например, было христианство для людей, живших 1874 года тому назад, и все ведь знают, а ученый мир доказывает, что христианство подняло и обновило людей» [13-1032,10].
Ставя вопрос о том, что может способствовать этому внутреннему преображению и обретению внутреннего равновесия, мы как бы замыкаем круг, и возвращаемся к проблеме, поднятой Маликовым в самом начале, проблеме единства чувства и рационального знания. Религия «богочеловечества» создана мыслью, логикой, но воплощена может быть только чувством, эмоциями. Седьмой тезис «новой религии», в изложении Д. Айтова начинается так:
«Во всяком человеке есть потребность есть, пить, дышать. Любить ближнего, то есть помогать ему в несчастиях, выручать из беды, избавлять от насилия и тем более не насиловать, а главное, видеть окружающих счастливыми, очевидно и сделать их, на сколько хватит сил, счастливыми…»
И далее: «За примерами ходить недалеко: Иисус Христос не деньгами осчастливил христиан, а межу тем несомненно, что сжигаемые христиане были несравненно счастливее сжигающих язычников, что видно из того, что тут же являлись язычники и объявляли, что и они переходят в христианство, и их сжигали тут же» [15-1,456–457].
Эта своеобразная стимуляция лучших качеств человеческой натуры, при помощи пробуждения религиозного чувства, должна была способствовать объединению всех людей вокруг одной простой идеи — взаимного примирения. «Неужели вы думаете, восклицал Маликов, — что все гонители правды, как называете Вы, действительно ненавидят правду, действительно живут для человеческой крови — поймите, они сами страдают от этого, но они сами страдают от этого, но они и Вы не знаете, как помириться друг с другом. А помириться-то ведь можно не на чем-нибудь выдуманном: добром, любящем содержании человеческой натуры» [12-1032,10].
«Помириться», в терминологии Маликова означало — выработать совершенно новые отношения любви и согласия, способные привести высшие классы общества к добровольному отказу от эксплуатации человека человеком, а низшие — к отказу от социальной зависти и стремлению к насильственному переделу собственности.
Здесь не может не появиться новый вопрос: откуда у Маликова такая уверенность в том, что «гонители правды» готовы к примирению и страдают из-за того, что это невозможно? Возможно — из близкого знакомства с одним из самых ярких «гонителей» — К.П. Победоносцевым. Хорошие и почти дружеские отношения между ними установились в то время, когда Маликов был студентом юридического факультета, а К.П. Победоносцев — профессором права. Маликов вспоминал впоследствии о своих беседах с профессором и о том, что в них постоянно присутствовала тем раскола общества, и тех последствий, к которому этот раскол может привести. Несколько лет они переписывались, но, к сожалению, эта переписка пропала (вместе с большинством бумаг Маликова) в железнодорожной катастрофе, и точно узнать, какие мысли внушал профессор своему студенту, мы уже не сможем. Но если обратиться к опубликованным произведениям К.П. Победоносцева, то совсем не трудно заметить, что некоторые темы и интонации удивительным образом переплетаются с темами и интонациями А.К. Маликова. Приведем лишь один фрагмент, в котором отчетливо звучит тот самый мотив двойного раскола: в самом человеке и в обществе:
«Великий вопрос, не перестающий смущать ум и совесть во всем человечестве — вопрос об осуществлении в отношениях человеческих правды и любви, заповеданных Христом, полагаемых Христианской церковью в основание своего учения. Нет разума, который нашел бы ключ к разрешению этого противоречия, нет совести, которая успокоилась бы на нем. Проходя мыслью кровавую историю войн, раздоров насилия, длящуюся с начала мира до сегодняшнего дня — и в общественной и в частной жизни, всякий с ужасом (…) видит начальства и власти, забывающие свое призвание, видит неправедные прибытки в чести и славе, богатство, нажитое хищением, поглотившее самою власть и владеющее миром, видит беззаконие, самоуверенное под покровом наружного благочестия, видит тысячи и миллионы, приносимые в жертву богу войны, идолу вражды и насилия, видит, наконец, бесчисленные массы, раздираемые нуждою, живущие и умирающие в страдании. Где же, спрашивает, царство Христово, царство любви и правды, где же действенная сила религии, — где цель и конец бедственной человеческой жизни» [63,276–278]?
Собственно говоря, вся теория «богочеловечества» есть развернутый ответ на этот «великий вопрос». Этот ответ начинается с утверждения о неспособности преодолеть все противоречия современного мира религией; продолжается описанием метода, при помощи которого можно преодолеть социальный раскол и завершается указанием на то общество, которое может (и должно) возникнуть в результате. Ответ, подчеркнем, полностью расходящийся с тем, что писал и проповедовал сам Победоносцев. Но сама общность темы показательна. Вполне возможно, что беседы и переписка с авторитетным педагогом и почти наставником, с одной стороны подтолкнули Маликова к поиску ненасильственных способов разрешения существующих в обществе проблем, а с другой стороны — придали ему уверенность, что и правящие слои государства могут воспринять довод «веры и любви».
Последняя из значительных идей Маликова, касается того общества, которое должно стать результатом деятельности «богочеловеков». В «Тезисах», составленных Махаевым, записано: «Члены новой религии желают доставить счастие не только пролетариату, но и имущим классам» (тезис 26). А тезис 16 был сформулирован следующим образом: «признают полнейший коммунизм между своими членами» [13-1503,3 и 4]. Сам же Маликов в апреле-мае лишь 1874 г. ограничивался общими рассуждениями о «земном рае».
Впрочем, в настоящий момент нет возможности ознакомиться с первым наброском «Системы», в третьей части которой излагались мысли относительно устройства «земного рая» и продолжением письма Маликова к жене, где он мог сказать об этом подробнее. Поэтому точно сказать о степени разработанности этой стороны его учения судить сложно. Во всяком случае, Д. Айтов, арестованный, можно сказать, по дороге из Орла, где он стал «богочеловеком», проповедовал, что «в скором времени не будет никаких сборов и правительства, вечной жизни (не будет), а будет земная блаженная жизнь». Он же на следствии показывал, что когда восторжествует «новая религия», то будут «немыслимы ни частная собственность, ни центральное правительство» [15-1,67–68].
Максимально коротко этот политический идеал можно выразить в трех понятиях: социализм, федерализм, отрицание церкви. Любой деятель освободительного движения того времени подписался бы под этими положениями, не задумываясь. Отличие «богочеловечества» от большинства революционеров было не в идеале будущего общественного устройства, а в тех методах, с помощью которых это общественное устройство может быть достигнуто. Но сам способ достижения цели непосредственным образом воздействует на результат. Поэтому одни и те же понятия (такие как социализм и федерализм) могут и должны пониматься по-разному. В «Тезисах» Махаева очень подробно представлена критика революционного пути к новому социальному устройству. Их внимательное прочтение позволяет более точно сформулировать общественный идеал «богочеловечества» методом «от противного»:
Тезис 31. «Революционеры поступают непоследовательно, желая уничтожить имущих людей, ведь последние не виноваты, что их произвела такая среда. Нужно уничтожить причины, производящие подобных господ, а не людей, которые ни в чем не виноваты».
Тезис 32. «Революционеры не уничтожают религиозных воззрений, на которых зиждется существующий строй».
Тезис 33. «Революционеры прививают людям злость, месть, кровожадность, которые противоречат счастью человечества».
Тезис 34. «Революции раздувают вражду между народом и имущими классами, увеличивают силу и количество своих врагов».
Тезис 35. «Революция губит лучшие силы; остаются недалекие, способные поддаться обману».
Тезис 36. «Революция создает власть, портящую лучших людей».
Тезис. 37. «Революционеры придерживаются принципа «цель оправдывает средства», клеймят свою партию и уродуют человечество, раздувая в нем обман и кровожадность» [13-1503,4].
Итак, идеал Маликова — общество:
• создающее условия для добровольного отказа от личных эгоистических желаний и тех материальных условий, которые эти желания провоцируют;
• формирующее атмосферу взаимной любви и согласия;
• поощряющее отказ от материальных претензий друг к другу;
• ставящее нравственные принципы выше кажущейся эффективности действий.
Другими словами, это общество, для которого материальное равенство является неизбежным следствием духовного преображения человека. У большинства же сторонников революционного преобразования общество все наоборот: материальное равенство рассматривается в качестве главного условия дальнейшего преобразования, как самого человека, так и социальных отношений. Именно в этом и состояло главное отличие «богочеловечества» от всех иных теорий, имевших хождение в освободительном движении России второй половины XIX в. именно этим и определяется его идейное своеобразие.
Глава 3 Теоретические источники «Богочеловечества»
В литературе, посвященной «богочеловечеству», довольно часто назывались имена мыслителей, чьи взгляды могли повлиять на содержание «новой религии». Помимо собственно христианства, это Гегель, О. Конт, Я. Беме, Шеллинг, Л. Фейербах, Ф.М. Достоевский. Этот ряд можно продолжить за счет тех авторов, которые, во-первых, говорили и писали о силе и значении веры в жизни человека и истории человечества, а во-вторых, с той или иной степени критичности отзывались о церкви. Но в какой мере, можно говорить о заимствованиях, а в какой — о сближениях идей Маликов (а затем и Чайковского) с идеями тех или иных авторов, будь то современники «богочеловеков» или те, кто жил гораздо ранее?
Термин «сближение» здесь используется для того, чтобы обозначить всю совокупность не одинаковых, но близких друг другу идей, высказываемых различными авторами по поводу роли веры в жизни общества, и нашедших отражение в теоретическом наследии «богочеловечества». На наш взгляд существует три типа такого рода сближений. Первый — случайные совпадения, вызванные общностью темы. Второй — некое «пересечение» взглядов, связанно с общностью подходов к разрешению уже обозначенной проблемы. Третий — прямое воздействие идей того или иного автора на мировоззрение Маликова. Произведения авторов этого «третьего круга» и можно с большой долей вероятности, называть «источниками» теории «богочеловечества».
Так, несомненно воздействие идей Гегеля на все построения Маликова в то время, когда «богочеловечество» представляло собой лишь первоначальный набор тезисов. Ясно также, что в определенный момент времени мысли Маликова пересекались с некоторыми высказывания Л. Фейербаха и Ф.М. Достоевского, особенно когда основатель «новой религии» задумывался о «пределах хочешь и можешь» в революционном насилии.
Сам Ф.М. Достоевский, узнав о деятельности А.К. Маликова, теории его не принял и отозвался о ней так:
«Был некто «нигилистом», отрицал, и, после долгих передряг и заточений, обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство. Что же вы думаете, он тотчас сделал? Он мигом «уединился и обособился», нашу христианскую веру тотчас же тщательно обошел, все это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но уже свою собственную» [28,80–81].
В этих словах Достоевского читается не просто отрицание «богочеловеческих» попыток Маликова, но и явное раздражение по поводу еще одного варианта «уединения и обособления». Кто сообщил Ф.М. Достоевскому о Маликове и его теории, узнать не удалось. Вполне возможно, что о «богочеловеках» ему рассказал К.П. Победоносцев, несомненно, знавший, что происходило с его учеником. Но, возможно, что о появлении «новой религии» в Орле Достоевский мог узнать, интересуясь «делом» хорошего знакомого Маликова A.C. Голубева. Тот был управляющим Орловско-Курской железной дороги и находился под следствием, по обвинению в растрате. Тем интереснее и показательнее параллелизм рассуждений Достоевского и Маликова. Первым, конечно же, бросается в глаза «пределы моему я» у Маликова и «если Бога нет, то все позволено» у Достоевского. И то, и другое высказывание обращено против нигилизма, понимаемого как материалистическое отрицание идеала. Но такого рода критика нигилизма в 1860-х — 1870-х гг. была общим местом литературы и журналистики. Боле существенно совпадение в другом вопросе — о роли веры в жизни человека. По Маликову, научно познанная потребность общества может стать верой человека, а та, в свою очередь, формой движения к лучшему обществу.
А вот что говорит у Достоевского один из революционеров в романе «Подросток» — Васин:
«Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает все и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо изменить само это чувство, что возможно не иначе, как заменив его другим, равносильным».
То, что Федор Михайлович доверил Васину озвучить одну из самых важных собственных теорий, доказывает другой роман — «Преступление и наказание», в котором главный герой проживает собственную жизнь в точном соответствии с этой мыслью.
Сходство идей Достоевского и Маликова уже было отмечено в литературе. Т.И. Полнер писал, что вера Кирилова («Бесы») «во многом (…) тесно соприкасается с религией богочеловечества» [64,111]. На наш взгляд, этим ограничиваться нельзя уже потому, что за два года до появления «новой религии» Ф. М. Достоевский предсказал тот образ мыслей, следуя которому революционер может прийти к «богочеловечеству» и, отчасти, судьбу самого А.К. Маликова (отход от революционного движения и поездка в Америку). «Бог необходим, а потому должен быть, но я знаю, что его нет и не может быть… Если нет Бога, то я Бог…» — это еще не совсем Маликов это говорит Кирилов. Маликова бы тут насторожило местоимения «Я», которое сам основатель «богочеловечества» почти не использовал. Но дальше — совпадения почти дословные. «Человек только и делал, что выдумывал Бога», — говорит Кирилов. Развитием этого тезиса выглядит вся философия истории основателя «богочеловечества» (хотя, повторимся, он шел за Гегелем). Основный вывод Маликова: «Человек, осознавший себя Богом, должен переделать мир». То же у Кирилова: «Сознать, что нет Бога и не сознать в тот же раз, что сам стал Богом — есть нелепость… если сознаешь — ты царь…» Путь Маликова — убеждать других людей в том, что они хороши: «Мы принимаем новую веру в то, что человек сам по себе был и есть добр и прекрасен, и страдает и дерется только оттого, что не знает и не верит в свое благородство и чистоту» [13-1032,9об.]. Но это уже сказал Кирилов: «Они (люди — К. С.) не хороши, потому, что они не знают, что они хороши. Надо им узнать, что они хороши и все станут хороши, все до единого».
Вряд ли Маликов был бы рад узнать об этих совпадениях. Ведь Кирилов Достоевским осужден. Более того, другой герой Достоевского, князь Мышкин, живет так, как должен бы жить последователь Маликова и приносит всем одни несчастья. Нет, Достоевский не мог быть вдохновителем Маликова. Но очевидно другое: в начале 1870-е гг., мысли великого писателя и почти никому не известного «нигилиста» вращались вокруг одних и тех же тем и постоянно пересекались.
Причем, не всегда Федор Михайлович первым высказывал какую-то идею, а Александру Капитоновичу оставалось только ее повторить. Широко известна фраза Дмитрия Карамазова, брошенная брату Ивану, защитнику «науки» и «прогресса», о том, что русский человек всегда захочет по своей воле жить. Но тут уже Маликов раньше написал, обращаясь к своим товарищам, тоже горячим сторонникам «прогресса»: «Если я чего не люблю, так этого человека никакой черт не заставит исполнять ваши предписания, и он всегда откажется от них» [13-1032,5].
Что стоит за этими совпадениями? В какой-то степени общая судьба: увлечение наукой, «передовыми идеями», духовный перелом, с последующим отказом от тех самых «передовых идей», которые составляли основу прежнего мировоззрения. Но так было со многими. В большей степени роднит Достоевского и Маликова то, что они оба, отказавшись от набора революционных идей, свойственных кругу их общения, не отказались от собственного идеала, от стремления воплотить в жизнь принципы добра и справедливости. Сближает их и то, что оба на протяжении всей жизни напряженно искали выход из тупика социальной вражды.
Если идеи Ф.М. Достоевского, вычитанные в его книгах и публицистике, были способны подтолкнуть развитие мысли А.К. Маликова (впрочем, было ли так, а если да, то в какой степени, мы можем только догадываться, исходя из уже отмеченных сближений), то беседы с К.П. Победоносцевым, о которых уже упоминалось выше, оказали на создателя «системы» богочеловечества непосредственное влияние. По крайней мере, одна его мысль, неоднократно повторяемая в статьях, вплотную соприкасается с идеями Маликова. В статье «Болезни нашего времени» она выражена так: «В наше время умами владеет, в так называемой интеллигенции, вера в общие начала, в логическое построение жизни и общества по общим началам. Вот новейшие фетиши, заменившие для нас старых идолов, но, в сущности, и мы, так же как прапрадеды наши творим себе кумира и ему поклоняемся. Разве не кумиры для нас такие понятия и слова, как, например, свобода, равенство, братство, со всеми своими применениями и разветвлениями? (…) Вера в общие начала есть великое заблуждение нашего времени» [63,78]. Эта мысль К. П. Победоносцева настолько полно совпадает с критикой Маликовым «абстрактного идеализма» революционеров, насколько это вообще возможно у разных авторов. Но все дело в том, что на этом сходство и кончается. Победоносцев — ярый проповедник существующей веры и действующей церкви. Маликов — ярый «отрицатель» того и другого.
Два момента сближают теорию Маликова с позитивной философией О. Конта. Первый: и для Конта и для Маликова определяющим фактором в истории выступает сознание людей, их способность изменять сначала себя, свой внутренний мир, а затем уже окружающую среду. Второй: общество нуждается в новой общей идее, в новой действенной религии. Впрочем, эта мысль могла появиться у Маликова вследствие внимательного знакомства с трудами Гегеля, а могла быть навеяна даже самым поверхностным знакомством с сочинениями Фейербаха. Иначе говоря, эта мысль «витала в воздухе». И уловил ее отнюдь не один Маликов.
В том же самом 1874 г. в № 3 журнала «Вперед!», издаваемом П.Л. Лавровым, появилось «Письмо коммуниста», подписанное: «В. Фрей». Автор письма — Владимир Константинович. Гейнс (сыгравший, впоследствии, большую роль в истории «богочеловечества») доказывал необходимость выработки религиозного сознания у тех людей, которые, не дожидаясь торжества революции, поселяются в отдельных общинах и стараются немедленно воплотить в жизнь принципы коммунизма. В частности он писал: «Ими теперь руководит глубокая вера в разумность своего предприятия, и этой верой, подобно древним христианам, они победят мир» [113,141]. Но Фрей целиком воспринял контовскую «Религию человечества», а у Маликова мы находим гораздо больше различного с тем, что писал французский мыслитель, чем их сближающего.
Как уже было отмечено выше, Маликов считал религию Конта «фантастической, выдуманной религией». Даже по общему пункту их рассуждений — отрицанию насилия — имелись существенные расхождения. Они касались, прежде всего, целей, ради которых насилие отвергается. Цель Конта — сохранение уже действующих в обществе правил. «Порядок, — писал он, — всегда составлял основное условие прогресса, и обратно, прогресс является необходимой целью порядка» [38,50]. Цель Маликова — изменить существующий порядок и утвердить совершенно новые правила человеческого общежития. Но еще более существенным является в различном отношении к человеку, к личности. Если для Маликова человек — венец природы, ее цель, а прогресс состоит в самопознании человека, то для Конта «человек в собственном смысле не существует, существовать может только человечество» [38,50].
Все вышеприведенные сближения относятся к первому или второму типу, из тех, что мы обозначили раньше. Для поисков же подлинных источников, видимо следует обратиться к авторам того круга, который был близок прежнему Маликову — нигилисту 1860-х гг. А такими авторами могли быть только социалисты. В том направлении общественной мысли, которое сейчас называется «утопическим социализмом», стремление к мирной проповеди — явление нередкое. У Сен-Симона читаем:
«Единственное средство, каким будут пользоваться друзья человечества, это проповедь, как устная, так и письменная. Они будут проповедовать королям (…) Они будут проповедовать народам (…) Друзья человечества будут продолжать свою устную и письменную проповедь столько времени, сколько окажется необходимым, чтобы побудить государей (..) осуществить те перемены в организации общества, которых потребует прогресс просвещения, общий интерес населения, настоятельный и непосредственный интерес громадного большинства» [70,92–93].
Очень важной для первых проповедников социализма была и еще одна задача, сформулированная «богочеловеками» — Маликовым, а затем, в более разработанном виде, Чайковским — необходимость преодоления «внутреннего разлада» в человеке. Даже сама формулировка, используемая «богочеловеками» для характеристики этого разлада — «внутренняя война человека с самим собой», появилась в одной из главнейших работ Ш. Фурье «Новый хозяйственный мир» [85,135]. Поэтому нам представляется перспективной попытка рассмотреть основные идеи «богочеловечества»:
• объявление веры существенно необходимой частью человеческой натуры, а религии — обязательным элементом общественных отношений;
• стремление преодолеть «разлад мысли и чувства» в современном обществе;
• пропаганда ненасильственных действий в преобразовании общества;
• любовь к человеку «как к Богу», как действенное средство этого преобразования, в том идеологическом контексте, в котором эти идеи появились на свет и которому, собственно, они были обязаны своему рождению.
За год до появления «богочеловечества» Н.К. Михайловский в «Литературных заметках 1873 г.», комментируя содержание «Бесов» Достоевского, обратил внимание на тот факт, что Кирилов свое прощальное письмо подписал странно: de Kiriloff, gentilhome russe en citoyen du monde. Сам Михайловский и дал пояснение: именно так в «Дневнике писателя» Достоевский называет А.И. Герцена, и почти так («общечеловек и русский gentilhome») — H.A. Некрасова. Известно сейчас, и достаточно хорошо было понятно уже тогда, что каждый из заметных персонажей романа «Бесы» имел одного или нескольких прототипов. Более того, часто тот или иной персонаж прозы Достоевского был злой пародией на реальное лицо. Но Герцен — Кирилов? Это было загадкой для Михайловского: «… опять таки с которой стороны могут быть подведены к одному знаменателю Некрасов, Герцен и Кирилов?» [55,859]. Объяснение самого Достоевского Михайловского не удовлетворило. Оно было таким:
«Герцен был продукт нашего барства gentilhome russe en citoyen du monde (…) Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства нашего образованного сословия. (…) Отделяясь от народа, они естественно потеряли Бога. Беспокойнейшие из них стали атеистами, вялые и спокойные — индифферентными» [55,568].
Внимательное прочтение этих строк приводит к мысли, что Достоевский, заставив подписаться Кирилова именно так, дал понять, что мировоззрение «людей 40-х гг.» (своеобразным «знаменем» которых и был А.И. Герцен) может стать источником идей, типа кириловских. Ход рассуждений здесь может быть таким: «потеря» Бога «во вне» (в сочетании с разочарованием в атеизме), может привести к поиску Бога «внутри себя». Людям «индифферентным» это не нужно. Они останутся равнодушными к любому богу. Но некоторые из «беспокойнейших», могут, в конечном счете, ужаснуться бездне неверия и продолжить поиски веры вне круга христианских идей. Сам Герцен, вероятно, со смехом отверг бы такое рассуждение. Однако мы рискнем предположить, что догадка Достоевского не беспочвенна и Герцен (вместе с Гегелем) стоял у истоков идей А.К. Маликова. Возможность для такого предположения нам дает созвучность ряда идей Маликова тем мыслям, которые можно найти в книге, изъятой у него при аресте. Это сборник «Раздумья», анонимно изданный в 1870-х гг. В нем содержится ряд работ А.И. Герцена 1840-х гг. Название одной из статей: «Новые вариации на старые темы», совпадает с подзаголовком книги («Разные вариации на старые темы»), что говорит о том значении, которое придавал этой статье сам автор. О ней, в первую очередь, и пойдет дальше речь.
Сразу оговоримся: судя по тому, как взгляды различных авторов преломлялись в теории Маликова, он был не из тех читателей, что составляют себе только общее представление о книге. Он внимательно штудировал каждую страницу и тщательно отбирал те мысли, которые пересекались с его собственными. В то же время он никогда не соглашался со всеми идеями одного автора, предпочитая заочную полемику с каждым из них. Мысли же, созвучные его собственному мировосприятию, он вычленял из общего ряда и брал себе. При этом он не присваивал себе чужую мысль, а проникался ею, «додумывал» ее по-своему, развивал и изменял. В результате, из набора такого рода «додуманных» идей создавалась его собственная теория.
Так, Маликов начинал свои проповеди с того «разлада» между наукой и религией, который «составляет современную язву» [12,89об.]. Судя по его показаниям в полиции, можно понять, что на эту мысль его натолкнули позитивисты: Конт, Милль и Спенсер. Но, вчитавшись в упомянутую статью А.И. Герцена, мы находим там ту же мысль выраженную чрезвычайно ярко и точно:
«Всмотритесь в нравственный быт современного человека, вы будете поражены противоречиями, глубоко и до поры до времени мирно лежащими в основе всех его дел, мыслей и чувств. Это одна из самых резких отличительных черт нашего образования. Отсюда желание сохранить разом науку со всеми ее правами (…) и все романтические выходки против разума, основанные на неопределенном чувстве, на темном голосе» [19,14].
Маликов не мог ссылаться на Герцена, объясняя свои новые взгляды полицейским. Удобнее всего было заменить его философами-позитивистами. Но Герцен ближе Маликову, чем Спенсер или Конт. Выделение трех составных частей «нравственного быта человека»: дела, чувства и мысли, Герценом полностью совпадает, с тремя сторонами «человеческой натуры» (мысль чувство и материя) у Маликова. Но это еще не все. Герцен писал, что результатом противоречия, им отмеченного, является непоследовательность в деятельности людей, борющихся с современным порядком вещей:
«Когда для морали был один источник — религия, тогда она была последовательна, она стройно шла из одного начала. Новый человек, этот Криспин, слуга двух господ, хотел сохранить плоды прежней морали, но источником ей поставил отвлеченный долг; можете представить плоды такой логики!» [19,176].
И не о том ли писал и Маликов, называя революционеров христианским монахами и «отвлеченными идеалистами»?! Не осталось, видимо, незамеченным и еще одно высказывание Герцена: «Все фантастические утопии последних двадцати годов прошли мимо ушей народа…» [19,256]. С большой долей вероятности можно предположить, что именно Герцен провел добросовестного (прежде) последователя Чернышевского мимо учений утопического социализма непосредственно к Гегелю. Этот интерес к философии и методу Гегеля возникает у читателя «Раздумий» как бы сам по себе: Герцен очень часто не него ссылается, причем именно там и тогда, где и когда чувствует потребность в авторитете, способном подкрепить высказанную мысль и утвердить ее в сознании читателя. И сразу становится понятным, почему Маликов относился к философии Гегеля так, как будто он жил в России 1830-х — 1840-х гг., но никак не начала 1870-х.
Скрытые отсылки к «Раздумьям», разбросанные по заметкам, показывают, что именно эта книга могла дать необходимый толчок, после которого создание «новой религии» стало для Маликова необходимостью. А если искать то место, в «Раздумьях» Герцен, которое послужило таким толчком, то стоит обратить внимание на еще одно совпадение:
Весь пафос герценовской статьи «Новые вариации…» именно в том, что, отрицая выдуманную, отвлеченную мораль, автор предлагает увидеть то, что в людях уже есть хорошего. Он борется за достоинство человека, потому что «человек, дошедший до сознания своего достоинства, поступает человечески потому, что ему так поступать естественнее, легче, свойственнее, приятнее, разумнее…» [19,172]. Соединив этот тезис с мыслью о необходимости для народа не столько критики, сколько «положительного учения», «верования», мы получим основу дальнейших маликовских построений. Д. Айтов, излагая основы «богочеловечества», в седьмом тезисе называет потребность «любить ближнего» такой же человеческой потребностью, как потребность пить, есть, дышать [12,209об.]. Есть в его рассуждениях и мысль о том, что творить добро должно быть приятно и естественно — это прямо по Герцену.
Маликов, безусловно, воспользовался великолепным инструментом герценовской логики. Он сумел выделить основное зерно теоретических построений А. И. Герцена — отношение к человеческой личности как к высшей ценности. Но все же «богочеловечество» — это его собственная теория. Дело в том, что для Герцена «человеческое достоинство» обладало самостоятельной ценностью, и само по себе являлось целью исторического развития. Маликов это же понятие использовал в качестве главного средства в преобразования мира. По сути, Маликов решил сделать реальностью метафору Герцена: «готовое, доктрину, верование» превратить в объективный фактор развития общества. Чтобы увидеть, почему он счел возможным так действовать, следует, как нам кажется, вглядеться в некоторые стороны народнического сознания той эпохи.
В свое время авторы книги «Революционная традиция в России», исследуя тип сознания революционера-народника, пришли к выводу, что это «особая разновидность религиозного (…) сознания», которая «не имела ничего общего с традиционной религией» [60,233]. Аргументация авторов представляется нам убедительной, и повторять ее нет необходимости. Другой же тезис заслуживает, по нашему мнению, того, чтобы рассмотреть его подробнее. Выглядит он так:
«Следуя за лозунгами «властителей дум» молодого поколения, рядовой представитель разночинства не мог глубоко вникать в тонкости теоретических рассуждений своих учителей. То, что у них было результатом знания или убеждения, для него становилось объектом веры» [60,228].
Безусловно, так оно и было у части революционной молодежи, особенно в экзальтированной атмосфере тайных кружков, в период начала «хождения в народ». Но все же это положение выглядит чересчур категоричным, поскольку разделяет всех участников народнического движения на две разные части: очень узкий круг «теоретиков» и их последователей, руководимых в своих действиях не знаниями, не убеждениями, а верой в правоту «учителей». Так ли это?
Наиболее успешными «практиками» начала 1870-х гг. были «чайковцы». И именно в этом обществе первой (по времени) задачей было самообразование, а второй — «книжное дело». Воспоминания большинства революционеров о начале их деятельности убеждают в серьезном знакомстве с достаточно специфичной, но серьезной теоретической литературой, в которой (как в изданиях «чайковцев») Луи Блан соседствовал с К. Марксом, Миль и Спенсер с Чернышевским и Писаревым. Споры с Нечаевым, теоретические дискуссии сторонников Бакунина и Лаврова, стали хорошей школой критического восприятия различных концепций и взглядов. Сумма критических мнений, постепенно накапливаемая в «кружках», заставляла переходить их участников от бесконечных обсуждений чужих мнений, к попытке сформулировать собственный идеал и собственную теорию социальных преобразований. Первыми стали П.А. Кропоткин, составивший записку «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?» и Н.В. Чайковский, написавший «Ответ на программу «Вперед». Из их товарищей (как ровесников, так и более молодых) к теоретической деятельности пришли С.М. Кравчинский и Л.Э. Шишко, H.A. Морозов и Л.А. Тихомиров.
С другой стороны, разве можем мы утверждать, что идеологи народничества действовали только на основе убеждения? Как отделить знание от веры в таком, например, высказывании М. А. Бакунина:
«Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним не явились. (…)
Надо ли доказывать, до какой степени ненависть его законна» [5,50]?
Вера, по определению, есть то, что не надо доказывать. Это осознавал и использовал в своей риторике и сам Бакунин, для которого вера, значила значительно больше, чем доказательство? если судить вот по этому фрагменту:
«В настоящее время у нас (…) выделяются уже теперь главные и противоположные направления. (…) поборники первого направления в настоящую возможность (…) революции не верят. (…) Другой путь — боевой, бунтарский. В него мы верим и только от него ждем спасения» [5,52].
Тут необходимо сделать оговорку. Вера в правоту своего дела, безусловно, признавалась (и не только Бакуниным) необходимым элементом революционного сознания, но вера религиозная, столь же, безусловно, отрицалась. Вера в сверхъестественные силы, культовая сторона религии и церковная организация, сливающаяся в России с государственными структурами, вызвали резкое неприятие со стороны деятелей народничества, поскольку именно в них воплощалось, по их мнению «одурманивание» народа. Но именно в этом вопросе у «богочеловеков» и народников никаких разногласий не существовало. Заглавный тезис «богочеловечества» состоял в том, что вера помогает людям, поскольку они обожествляют в религии самих себе, отдельные стороны своей натуры. И будущее человечества именно в том, чтобы знание стало религией, а не наоборот. А.К. Маликов на допросе говорил «Ближе и ближе подходит то время, когда ясно поймется и почувствуется людьми тот Божественный глас, который сказал: «блаженны кроткие и миротворцы». Это то время, когда наука сольется с верою и знание сделается религиозным требованием для каждого истинно верующего» [12,91]. А много позже описываемых событий, в 1905 г. Н.В. Чайковский, возмущенный неверным (с его сточки зрения) изложением теории и истории «богочеловечества» со стороны А.И. Фаресова, писал:
«Он берется, например, излагать учение «богочеловечества», не понимая его основной идеи и смешивая его с христианством, которому оно прямо-таки противопоставлялось по своему эстетическому содержанию и по отношению к положительному опытному знанию» [90,447].
И совсем категорично отозвался о сверхъестественной природе религиозного знания Айтов, написав в своих тезисах: «Бога не будет». Столь же критично были настроены «богочеловеки» по отношению к церковной организации. В высказываниях Маликова, в тезисах Айтова отчетливо заметна мысль о том, что «богочеловечество» может распространяться только силой веры, по примеру первых христиан, и любые организационные структуры в нем невозможны. То же и с культом. У Н. Теплова вместе с выписками из Библии «против начальства» и «за коммуну», были обнаружены и такие: «против храмов, икон и т. п.», «против постов», «против троицы» [15-314,500]. Естественно, что никаких культовых действий в «новой религии» Маликова и остальных обнаружить нам не удастся. Собственно говоря, ничего, напоминавшего о религии, в «богочеловечестве» и не было, кроме многочисленных речевых оборотов и не очень ясной ссылки В. И. Алексеева на «Нагорную проповедь», сохранившейся в памяти М.Ф. Фроленко:
«… осенью 1874 г. мне пришлось жить в Рославле, и тут я снова натолкнулся на одного очень симпатичного богочеловека (Алексеева), но он уже не проповедовал и не приглашал в свою веру, а, только побывавши раз в Орле, привез оттуда обыкновенную лубочную картину: «Нагорная проповедь спасителя», показал нам и, указывая на нее, заметил: «Вот в чем вся суть». Далее, однако, не развил своей мысли, и что собственно он хотел сказать, так и осталось неизвестным» [82,117–118].
Иное дело вера. Религия основывается на вере, но они не тождественны. Боле того, воззрения всех народников: и теоретиков, и практиков был основаны на вере. Об этом писали и сами идеологи народничества. Так, М. А. Бакунин, в своем «Прибавлении А», выразился следующим образом:
«Что же служит ему (народу — К. С.) препятствием к совершению победоносной революции? Недостаток ли в общем народном идеале, который был бы способен (…) дать ей определенную цель? Но вряд ли было бы справедливо сказать, что в русском народе уже не выработался такой идеал. Если бы этого не было, если бы он не выработался в сознании народном, по крайней мере, в своих главных чертах, то надо было бы отказаться от всякой надежды на русскую революцию» [5,43].
Часто «обратное» прочтение какого-либо высказывания помогает лучше понять его логику. В таком прочтении логика приведенной цитаты выглядит так:
• тезис — если в народе нет идеала будущего общества, то революция бессмысленна, от нее надо отказаться;
• антитезис — отказаться от революционной борьбы мы не можем;
• синтез — такой идеал в народе есть, его только надо найти.
Эта логика не имеет ничего общего с рациональным знанием. Она религиозна по своей сути, поскольку в ней первичны мистическое, по своей природе, «знание» характера народа и основанное на вере убеждение в своей правоте.
Абсолютно та же логика (и та же терминология) прослеживается и в высказываниях П.Н. Ткачева, подобных такому: «Кто не верит в возможность революции в настоящем, тот не верит в народ…» [74,20].
Можно, конечно, сказать, что понятие «вера» здесь используется как пропагандистский термин или литературный образ. Но дело в том, что ни у идеологов народничества, ни у их учеников не было иной терминологии, адекватно описывающей процесс формирования нового общественного идеала. М.Ф. Фроленко свидетельствовал: «Мы нашли уже новый путь (хождение в народ — К. С.) и в него уже всецело уверовали» [82,118]. О том же писал О.В. Аптекман, именуя народничество 1870-х гг. «религией сердца»? а также «подлинной драмой растущей и выпрямляющейся души, (…) муками рождения больших дум и тревожных запросов сердца» [3,63].
Но самое существенное, наверное, в том, что значение веры в деятельности по преобразованию общества было теоретически обосновано идеологами демократического движения в 1860-х — начале 1870-х гг. «Главный нигилист» 1860-х гг. Д.И. Писарев статье «Посмотрим» задавал три вопроса, ответы на которые, по его мнению, способны придать верное направление деятельности «руководителей общественного самосознания»:
1. «Что должны они делать, пока теоретическое решение не найдено?
2. Что должны они делать, если теоретическое решение уже найдено?
3. Что они должны будут делать, когда теоретическое решение уже будет осуществлено?» [62,489–490].
С третьим вопросом — полная ясность. Ответ на него «в наше время невозможен и не имеет для нас ни малейшего интереса», так как не решены и не скоро будут решены первые два. Соответственно важны ответы на первые два вопроса, сама формулировка которых уже вступает в противоречие с рациональным мировоззрением, поскольку концентрируется на «теории» — идеале и не включает в себя «опыт» основанный практической деятельности. Ответы же эти (несмотря на «рациональную» терминологию) еще больше убеждают читателя в том, что автор воспроизводит способ мышления и деятельности, свойственный любому религиозному движению.
Ответ первый: «Всеми силами искать теоретическое решение (…) и систематически отрицать, заплевывать и осмеивать все, что отвлекает умственные силы образованных людей от главной задачи».
Ответ второй: «Постоянно разъяснять обществу (…) основные начала разумной экономической и общественной доктрины, знакомить его, таким образом, с найденным теоретическим решением и при этом, всеми возможными средствами усиливать приток новых людей из низших классов в образованное общество; другими словами, надо вербовать агентов найденного разумного учения и надо увеличивать массу мыслящего пролетариата».
«Теоретическое решение» к рубежу 60-70-х гг. считалось найденным.
Им стал русский общинный социализм. Но вот второй ответ сам вызывал массу вопросов: каким образом лучше всего знакомить с найденным решением, какими средствами «усиливать приток новых людей», сколько времени понадобится для того, чтобы увеличить массу «мыслящего пролетариата» и до какой степени ее следует увеличивать, что делать, если эта работа вступает в противоречие с законами данного общества? Все эти вопросы из сферы теории в область практики перешли вместе с подъемом студенческого движения 1860-х гг. Ответить на них решился П.Л. Лавров в своих «Исторических письмах». В них нас будет интересовать, прежде всего, та часть, в которой обосновывается возможность быстрого распространения передовых идей. Это письмо пятнадцатое: «Критика и вера».
Автор «исторических писем» начал с воспроизведения того положения из рассуждений Писарева, в котором «теоретическому решению» (а в терминологии Лаврова — «новым идеям») отводится главная роль в развитии общества. Идея — двигатель истории, правда, лишь при определенных обстоятельствах, благодаря которым какая-либо идея становится «великой». Но, задается вопросом автор, что же придает величие идее, что делает ее силой, способной вести за собой массы людей? Его ответ — вера: «Да, вера двигает горы, и только она. В минуту действия она должна овладеть человеком, или он окажется бессильным…» [44,30].
При этом, утверждал Лавров, нет никакой необходимости связывать веру с религиозным культом или с представлением о сверхъестественном. Культ — одно из приложений веры, но само это понятие значительно шире. Вера может двигать людьми невежественными и образованными, вести людей по дороге прогресса или реакции. Другими словами вера — это лишь способ действия, а не его цель. И когда (возвращаясь к вопросу Писарева) «теоретическое решение найдено» ничто другое не может способствовать его распространению в обществе с большей эффективностью:
«Вера в тождественность наибольшей пользы каждого с пользою наибольшего числа людей есть то начало, которое должно довести до минимума трату сил человечества на пути прогресса. И благодетельное влияние этих верований именно истекает из того, что они не заключают ничего сверхъестественного, не нуждаются ни в каких монахах и таинствах. Они опираются на строгую критику, на изучение реального человека в природе и в истории, и становятся верованиями лишь в ту минуту, когда личность вызывается к действию. Их основной догмат — человек. Их культ — жизнь» [44,255].
Не этот ли фрагмент навел Дж. Биллингтона на мысль о том, что А.К. Маликов развивал идеи П.Л. Лаврова [100,814]? Действительно, в «богочеловечестве» тоже основной догмат — человек, и в нем нет ничего сверхъестественного, и оно не нуждается в мифах и таинствах. На этом сходство теоретической модели П.Л. Лаврова и «новой религии» не заканчивается. Вот как представлял Петр Лаврович процесс возникновения веры:
«Лишь критика созидает прочные убеждения. Лишь человек, выработавший в себе прочные убеждения, находит в этих убеждениях достаточную силу веры для энергичного действия. В этом отношении вера противоположна критике не по существу, а по времени; это два разные момента действия мысли» [44,147].
Но, не так ли Маликов создавал свою теорию? Знание история и критика современных ему убеждений (как революционных, так и религиозных) помогли ему выработать убеждения собственные. И эти убеждения он сделал своей верой.
В библиотеке А. К. Маликова были «Исторические письма». И мы вполне можем предположить, что тезис о значимости веры в преобразовании общества не был выдуман Маликовым «из ничего» или заимствован им из далеких его убеждениям доктрин. Творческий метод создателя «богочеловечества» можно описать следующим образом: он старательно выдвигал в центр те положения народнической мысли, которые находились на периферии демократического сознания. Так у Герцена он, прежде всего, выделил тезис о кризисе общественного сознания, вызванном разладом между «мыслью и чувством». У Лаврова же — характеристику процесса, при помощи которого новые убеждения становятся верой, побуждающей к действию:
«Критика привела человека к убеждению, что истина и справедливость здесь. Он верит, что истина и справедливость, явная для него, будет очевидна и для других (…) Неудачи не утомляют его, потому что он верит в завтра. Вековой привычке он противопоставляет свою личную мысль, потому что история научила его падению самых упорных общественных привычек перед истиною, в которую верили единицы» [44,251].
Есть, правда, в «системе» Маликова положение, которое позволяло ряду исследователей вывести «богочеловечество» за рамки освободительного и общедемократического движения. Это мысль о бесполезности насилия, в том числе и революционного, в решении проблем человечества.
Налицо видимое противоречие воззрений «богочеловеков» и революционных устремлений народников 1870-х гг. И это, безусловно, так, если брать народничество «в целом», в особенности имея в виду деятельность «чайковцев», «Земли и Воли» и «Народной Воли». Но это не совсем так, если внимательно вчитываться в произведения идеологов российской демократии. Живая мысль исследователя гораздо сложнее прямого вектора действия его последователей. Очень часто, например, в литературе цитируется запись Н.Г. Чернышевского «Из дневника отношений с той, которая теперь составляет мое счастье». Выглядит она так:
«У нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем. (…) меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня» [95-1,418–419].
Но строк этих Маликов не читал. Зато в его библиотеке была книга Чернышевского «Очерки из политической экономии (по Миллю)», а в ней содержится характеристика Луи Блана как или «тщеславного труса», или «самоотверженного гражданина, не хотевшего вести свою партию к победе путем междоусобной войны» [95-9,348]. Эта характеристика дает намек на то, что Чернышевский, по крайней мере, допускал возможность для социалистов выбирать в своей деятельности методы, исключающие насилие. Гораздо сильнее этот мотив звучит у А. И. Герцена в письмах «К старому товарищу», конкретизирующих расхождения во взглядах между ним и Бакуниным. Эти расхождения отчетливо выявились к 1869 г., когда Бакунин, до сих пор игравший одну из ключевых ролей в европейском революционном движении, активизировал пропаганду собственных идей в России. Подчеркивая, что «конечное решение» у них одно — революционное переустройство мира, А. И. Герцен задался вопросом: «Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?» [18,585]. Да, соглашался он, насилие способно разрушить старый мир. Да, общая задача революционеров выглядит как разрушение. «Но, рассуждал он далее, — общее поставление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насилием их не завоюешь» [18,577]. В этом осторожном отношении к революционному насилию Герцен был не одинок. Вспомним, как обрушился на П. Л. Лаврова (в своем «Письме к редактору «Вперед») П. Н. Ткачев именно за отсутствие в его воззрениях революционности:
«Хотя вы и толкуете о революции, но (…) ваша революция совершенно особая, никому никакими опасностями не угрожающая (…). Этим-то вашим неверием в возможность революции (то есть революции настоящей, а не той призрачной, которой вы заменяете неблагозвучные слова мирный прогресс) объясняются ваши отношения к нашей революционной молодежи» [74-2,19–20].
Ткачев здесь предельно полемичен, но, по сути, прав. Деятели революционных кружков в России тоже почувствовали настороженное отношение Лаврова к попыткам добиваться немедленных революционных преобразований в России. И ведь не кто другой, как Н.
В. Чайковский, примерно за полгода до знакомства с Маликовым и обращения в «богочеловечество» написал ответ Лаврову от имени своего кружка. В нем он требовал от авторитетного, в кругах революционной молодежи, мыслителя сформулировать более существенные задачи, чем приобретение необходимых знаний: «Побуждайте ее (личность — К. С.), доказывайте ей, что она нравственно обязана вносить в жизнь то, что она выработала, во что она верит» [10].
Скептическая нотка, в отношении революционного насилия, время от времени появлявшаяся у части идеологов российской демократии, заставляет задуматься о причинах ее приглушенного, но все-таки различимого звучания. Объяснение, за которым не надо идти далеко — опасение за сохранность прежней культуры, угроза разрушения которой тем реальнее, чем больше сторонников насильственных методов преобразования общества. Аллюзия на пушкинское: «не приведи Господи увидеть русский бунт», явно читается в приведенной выше записи Н.Г. Чернышевского. Но спорил он не с Пушкиным. Он убеждал сам себя в том, что надо закрыть глаза на грязь, пожар, резню. И то, что он называет далее своей «трусостью», на наш взгляд если и имеет отношение к страху, то к страху очень своеобразному. Это боязнь ответственности за те невосполнимые разрушения в культуре, которые нанесет «бунт». Именно этот страх и пытался изжить в себе Чернышевский. Герцен же не только не пытался закрыть глаза на возможные последствия революции, он ясно и точно их описал:
«Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях (…) с начала цивилизации» [18,590 и 593].
Еще одно объяснение недоверия к насилию (вновь сближающее идеологию народничества с «богочеловечеством») можно отыскать в том отношении к личности человека, которое было свойственно почти всем лидерам российской демократии. Сердцевина народнического учения об общественном благе — формула прогресса, составленная таким образом, что целью прогресса становится личность человека: «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении» [44,30]. Эта направленность отчетливо заметна в работах практически всех идеологов русской демократии, начиная с Герцена («Понять личность человека, понять всю святость, всю ширину действительных прав лица — самая трудная задача» [19,256]), Чернышевского («… основанием всему, что мы говорим о какой-нибудь специальной отрасли жизни, действительно должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в ней побуждениях и ее потребностях» [95-9,829]), Добролюбова («Первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности. Рядом с этим неизбежно является и понятие об обязанностях и правах труда» [27,245]) и заканчивая концепцией «борьбы за индивидуальность» Михайловского. Эта жесткая привязка общественного прогресса к потребностям личности, при определенных условиях, может послужить импульсом к отрицанию классовой борьбы и социального насилия. А следствием этого импульса становиться признание за богатыми людьми права на шанс спастись от уничтожения, неизбежного в том случае если восторжествует революционное направление в освободительном движении. Постановка, а отчасти и разрешение этой проблемы у Маликова и Герцена практически идентична:
Мы далеки от утверждения, что народничество и «богочеловечество» тождественны в своих основополагающих принципах. Различия были и различия серьезные. Но нельзя игнорировать и того глубокого единства, что лежит в основе обеих теорий. Это единство позволяет, на наш взгляд, определить «богочеловечество» (в его теоретической части), как попытку сформировать новое сознание на основе демократического идеала, но вне общего русла развития народнических идей. Цель «новой религии» — перестроить человеческое общество на принципах равенства и справедливости, избежав в ходе этой перестройки насилия над человеческой личностью как средства негодного, бесполезного и ведущего в тупик. Большинство теоретических построений Маликова основывались на тех идеях, которые в разное время были высказаны идеологами народнического движения. Его главная задача понималась так: перегруппировать различные элементы демократической доктрины таким образом, чтоб увязать их с главной идеей — отрицанием насилия.
Глава 4 «Богочеловечество» и народничество
Для того чтобы лучше понять взаимоотношения «новой религии» и тех кругов, из которых вышли ее адепты, следует, видимо, присмотреться к фигуре самого автора «богочеловечества». Отбыв ссылку, А.К. Маликов поселился в Орле в начале 1870-х гг. Там он стал «агентом» кружка «чайковцев», того самого, что «возглавил борьбу революционной молодежи Петербурга против нечаевщины» [76,11]. С действиями по принципу «цель оправдывает средства» (что было сутью «нечаевщины») Маликов имел возможность познакомиться во время тесного общения с членами кружка H.A. Ишутина (тогда то он и был привлечен к следствию по делу Д.В. Каракозова и сослан в Орел). Стремление ишутинцев к активным насильственным действиям и то какую страшную и в то же время нелепую форму приобрела эта нарождающаяся тяга к террористической борьбе, могло послужить одним из подсознательных мотивов к тому духовному перевороту, который случился с Маликовым в Орле. И «чайковцы», видимо, привлекли его не столько перспективами дальнейшей революционной деятельности, сколько неприятием нечаевщины и той «особой нравственной атмосферой», о которой мемуаристами написано немало взволнованных строк. Приведем здесь лишь два. Первое принадлежит участнице кружка «чайковцев» А.И. Корниловой:
«Программа Нечаева, иезуитская система его организации, слепое подчинение членов кружка какому-то неведомому центру (…) — все это нам, как «критически мыслящим личностям», отрицающим всякие авторитеты, было крайне антипатично. Отрицательное отношение к «нечаевщине» вызывало стремление создать организацию на противоположных началах, основанном на близком знакомстве, симпатии, полном доверии и равенстве всех членов, а, прежде всего — на высоком уровне нравственного развития» [39,77].
Второе свидетельство — О.В. Аптекмана написавшего, как-то, что один из основателей кружка «чайковцев» М.А. Натансон, уже много лет спустя описываемых событий «горячо доказывал, что пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить социалистический строй» [4,131]. Сознательный выбор «чайковцев» в пользу тех средств оппозиционной деятельности, которые могут быть оправданы с точки зрения морали, импонировал Маликову, а их деятельность по распространению научной и пропагандистской литературы («книжное дело») помогла ему в подготовке основ собственной теории. Список книг, конфискованных у Маликова, по многим позициям совпадает с тем, что приведен в «Очерке истории кружка чайковцев», в качестве книг распространяемых этим кружком (это «История Французской революции» Луи Блана, «История великой революции» Минье, «Пролетариат во Франции» А.К. Шеллера (Михайлова), «Прудон и Луи Блан» Н. Жуковского, а также близкие по тематике книги Гизо, Жофруа, Ламартина). Жизнь в Орле дала Маликову целых две возможности лучше многих других познакомиться со всеми оттенками революционных воззрений и взглядов, существовавших в молодежной среде того времени. Возможность первая. В Орле он познакомился и близко сошелся с тем человеком, которого можно без преувеличения назвать провозвестником самых кровавых действий революционеров — П.Г. Зайчневским. За десять лет до этого знакомства, в 1862 г., прокламация Зайчневского «Молодая Россия» наделала много шума в самых разнообразных круга российского общества. Говорилось в ней, в частности, следующее:
«…революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы (…) мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 г., но и великих террористов 92 г., мы не испугаемся, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем в 90-х гг. (…) кто будет не с нами, то будет против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами» [30, 101–109].
Избыточную «кровожадность» этих строк можно списать за счет юношеского радикализм. Однако и через десять лет, в то время, когда Маликов и Зайчневский тесно общались друг с другом в Орле, автор «Молодой России» отнюдь не отказался от своих «террористических» убеждений. Маликов получил в собеседники, может быть самого «крайнего» и самого «красного» из тех деятелей освободительного движения 1860-х — 1870-х гг., кто в это время был в России и на свободе. О тесном общении Маликова и Зайчневского мы узнаем из показаний последнего в полиции. А косвенным свидетельством их бесед и споров стали письма Маликова. Они так и дышат устной полемикой, что было вообще в характере основателя «богочеловечества». В письмах же к жене написанных в апреле 1874 г. он как будто продолжает пять минут назад закончившийся спор, постоянно устные используя полемические обращения, повторы, отсылки к мнению «кровавых революционеров», обороты вроде: «вы говорите — а я говорю». Причем элементами устной полемики, более всего насыщено то письмо, в котором Маликов впервые сообщает жене о содержании «новой религии». Среди орловских знакомых Маликова и тех, кто к нему приезжал весной 1874 г. таким «кровавым», по убеждениям, революционером мог быть только автор «Молодой России». Образ «невидимого» оппонента в письмах и речах Маликова явно списан с П.Г. Зайчневского, который никогда не стеснялся решительности собственных суждений. Но его язвительные реплики и резкие суждения не сбивали Маликова с мысли. Скорее — стимулировали его вдохновение, повышали «градус» полемических высказываний позволяли оттачивать собственную аргументацию.
Возможность вторая. Город Орел расположен в центре России. Он был одним из связующих звеньев в цепочке революционных организаций и близких к ним кружков. Молодежь, по словам С.Ф. Ковалика, «толпилась» вокруг Маликова, прибывая в Орел из столиц и периферийных городов [36,105]. Он же получал самые свежие известия о том, что происходило в кружках революционно настроенной молодежи, и мог определить те тенденции, которые наметились в освободительном движении на рубеже 1873–1874 гг. Скорее всего, не прошло мимо его внимания обсуждение членами кружка «чайковцев» программной записки П.А. Кропоткина «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя», написанной в 1873 г. А в ней, наряду с другими, были и такие положения:
«Помещики, оставшиеся в живых (здесь и далее курсив мой — К. С.) могут обрабатывать мирскую землю наравне с прочими крестьянами (…). Бывшие хозяева фабрик, которые остались в живых, могут быть наравне со всеми быть приняты на всякую фабрику (…). Мы совсем не ласкаем себя надеждою, что с первой же революцией идеал осуществиться во всей полноте, мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуется еще много лет, много частных, может даже общих взрывов (…) чем больше будет уничтожено с первого же шага культурных форм, мешающих осуществлению социалистического строя (…) тем мирнее будут последующие перевороты» [43,78–79 и 84].
Обратим внимание на три момента, связанных с этими положениями. Первый: Кропоткин предрекает начало эпохи уничтожения высших слоев общества. Второй: он предполагает, что эта эпоха будет достаточно длительной, чтобы вместить в себя «череду взрывов». Значит, люди успеют привыкнуть к насилию и уничтожению, как к способу решения общественных конфликтов. Третий: предрекая (и приветствуя) разрушение «культурных форм», Кропоткин вступил в полемику именно с той частью взглядов А.И. Герцена, которая более всего совпадала с воззрениями А.К. Маликова.
Одобрение этой записки большинством членов кружка «чайковцев» [76,62] отчетливо указывало на перемену вектора развития освободительного движения. И этот новый вектор совсем не совпадал ни с настроением Маликова, ни ходом его мысли. Особые возражения должны были вызвать те рассуждения Кропоткина, в которых он предлагал концепцию «затухающего» революционного насилия, в которой каждый последующий переворот должен был быть «мирнее» предыдущего. Маликов же, чем больше он рассуждал на эту тему, тем более отчетливо высказывал мысль о нарастающем насилии в обществе, приводящем не к утверждению нового идеала, а к уничтожению самой возможности прогрессивного общественного развития (подробнее об этом — чуть далее).
В начале 1874 г. широкое распространение в народнических кругах получило еще одно программное сочинение — книга М.А. Бакунина «Государственность и Анархия» и, в особенности «Прибавление А» к этой книге. В нем Бакунин с наибольшей полнотой и определенностью высказал свои мысли о задачах освободительного движения в России и тех средствах, с помощью которых эти задачи могут быть решены:
«Русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своей молодежью, когда он встретиться с ней в своей жизни, в своей беде, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких» [5,54].
То, что весь пафос своей проповеди А.К. Маликов направил не столько против Нечаева, Ткачева или даже Зайчневского, сколько против Бакунина не скрывал и сам автор «богочеловечества». Он только однажды заменил в своих письмах безличное определение «революционеры» на конкретное имя. И поместил его в рассуждении, к которому более всего подходит определение «гневная филиппика»:
«Злоба и ненависть только будут расти от этих крови и драк, затем уныние и отчаяние, утомление, и тут-то встанут новые цари и диктаторы — хуже нынешних. А разве Бакунин, взывая к разрушению и крови, сам не готовится в диктаторы, или вы думаете, что он будет глуп со своей точки зрения, так подл, что позволит заправлять делом, которому он посвятил всю свою жизнь, каким-нибудь (…) ребятам. Пусть хорошенько вдумаются все в его труды, и они найдут справедливыми мои слова» [13-1032,5об.].
Маликов выступил со своей проповедью в том самый момент (не просто 1874 г., но его страстная неделя, в том году пришедшаяся на конец марта), когда призыв Бакунина «встретиться с русским народом», обращенный к «передовой» молодежи, не только нашел отклик, но и начал воплощаться на практике. Насколько точно был выбран момент, свидетельствуют воспоминания одного из участников «хождения в народ» — А. О. Лукашевича:
«Незаметно подошла и прошла Пасха. (…) Можно было подумать и о выступлении в новый поход. Но меня задержало в Москве особое и еще небывалое у нас обстоятельство: мы узнали, что в Москву едет из Орла талантливый и популярный пропагандист — один из старших и наиболее уважаемых деятелей (Н. В. Чайковский — К. С.) — с целью прочитать на ряд лекций — проповедей в духе появившейся в Орле «новой религии» [48,21].
«Богочеловечество» объявило об альтернативе общей тенденции к нарастанию насилия в освободительном движении, носителями которой в то время были последователи Бакунина. Учение Маликова, поэтому можно назвать антибакунинским. Чтобы убедиться в этом, достаточно, не вдаваясь даже в маликовскую критику революционеров, сравнить «Прибавление А» и «Тезисы новой религии» в изложении Д. Айтова.
Выдвигая собственную, противоположную бакунинской, программу действий, Маликов, очевидно, осознавал, что стремлению к материальному достатку можно противопоставить только стремление к нравственной гармонии. Поэтому он и создал «новую религию», поэтому и обратился, в первую очередь к своим товарищам. В своих проповедях он рассчитывал встретить отклик со стороны тех участников революционных кружков, для кого перспектива, рисуемая Бакуниным и Кропоткиным, была неприемлемой. Все те, кто в дальнейшем стали участниками движения «богочеловечества», весной 1874 г. были или непосредственными участниками демократического движения или примыкали к нему. Но безусловно наибольший эффект в народнической среде произвело «обращение» в «новую веру» одного из самых авторитетных и наиболее уважаемых деятелей кружка «чайковцев» — самого Н.В. Чайковского.
Сам Николай Васильевич, уже после того, как надежды на торжество идеалов «богочеловечества» рухнули, неоднократно пытался объяснить, что же все-таки с ним произошло. Первый раз он описал свои мысли и поступки весны 1874 года в 1878 г., в письме к Л. Сердюковой. Второй раз — в 1913 г., в автобиографии, для сборника, посвященного пятидесятилетию «русских ведомостей». Третий — в «Открытом письме друзьям», в 1926 г. Между первым и вторым объяснением прошло более 30 лет, между вторым и третьим — еще более десяти. Но если не считать разницы в интонации (первое письмо — исповедь другу, второе — полуофициальная биография, третье — публичная оценка своей жизни политиком, стоящем на пороге смерти), все три объяснения не противоречат друг другу. Все вместе они составляют своего рода психологический портрет человека, пережившего чрезвычайно глубокий нравственный кризис и даже более того, потерявшего цель и смысл жизни. В «Автобиографии» — первом публичном объяснении своего поступка 1874 г., Чайковский писал о своем неверии в то, что хождение в народ «на почве проповеди утопического милленизма может привести к серьезным результатам». Кроме того, его не устраивала ограниченность народнического мировоззрения:
«В нем недоставало элементов универсальной цельности и духовной гармоничности для получения отклика во всякой страдающей человеческой душе…» [87,283].
Объяснение это избыточно рационально, если не сказать псевдонаучно. Но и в нем содержится намек на серьезную душевную драму, переживаемую Чайковским в то время. В письме к Л Сердюковой, не рассчитанном на широкий круг читателей? он высказался и яснее, и откровенней:
«Я тогда был вдвойне калекой — жизнь разорвала сразу мое нравственное содержание и мою способность любить. (…) дышать тем воздухом и кланяться тем идолам, которые доводят до самоубийства, до леденящего состояния, до мертвенности какой-то — о, я не в силах оставаться так» [14-147,18об.].
Вряд ли можно согласится с мнением А.И. Фаресова о том, что Чайковский стал «богочеловеком» только под влиянием красноречия Маликова. Фаресов так передал слова Н.В. Чайковского: «Когда я слышу стройное мировоззрение, то я тотчас же пленяюсь логическими построениями и художественностью речи. Если меня накрыть в эту минуту на месте, я ничего не найду в защиту своей программы». [79,234]. Собственные признания Чайковского говорят о другом: в его жизни произошла какая-то личная драма (известная его адресату — Л. Сердюковой). Результатом этой драмы стало разочарование во многих прежних идеалах. Потом пришла мысль о необходимости порвать связи с тем кругом людей, поступков и мыслей, в котором он жил последнее время.
Объяснение, данное М. Ф. Фроленко: «Последний исходил из духовного сословия, где как-никак, а внутри крепко сидела вера в Бога, хотя на словах он уже отказался от нее» [84,221], — совсем не годиться, поскольку основано на неверных слухах. Отец Чайковского был чиновником, сам он в отрочестве был под сильным влиянием старшего брата — студента Петербургского университета, и уже в 14 лет познакомился с сочинениями Конта, Льюиса и Милля [61,14], так что ни о каком религиозном воспитании не могло идти и речи. Учеба на естественном отделении физико-математического факультета Петербургского университета также не способствовала развитию религиозного чувства.
Другое дело член кружка «артиллеристов» Н. Теплов. Он и до знакомства с Маликовым интересовался религиозными вопросами, делал выписки из библии и собирался пропагандировать крестьян с опорой на Священное писание. Почти за год до появления «богочеловечества», 10 июля 1873 г. он писал своему товарищу:
«… мы дорожим всяким человеком, наш труд принадлежит нам, все, что мы имеем — не наше — все это принадлежит всем людям, следовательно, каждый, кто желает добра человечеству и понимает то, чему учил Христос, может пользоваться нашим добром, трудом и всеми нами, он уже не имеет права отказаться, ибо этим покажет нелюбовь к ближним» [69,261].
В этом отрывке удивительным образом переплелись лавровские мотивы долга образованных людей перед народом, объяснение собственной деятельности при помощи христианских понятий и терминов и мысль о всеединстве человечества, столь близкая Герцену — та самая мысль, которая стала базовой для «богочеловечества».
Определенная форма религиозной экзальтированности чувствуется и у Д. Айтова — он проповедовал «богочеловечество» арестовавшим и допрашивающим его полицейским с жаром истинного неофита. Но остальные сторонники Маликова и он сам, до «богочеловечества» особой религиозности не выказывали. Правда, В.И. Алексеев называл себя искренне верующим человеком «по своим убеждениям». Однако то, как он характеризовал свои взгляды начала 1870-х гг. убеждает в обратном. Он был типичным студентом тех лет:
«Присматриваясь к жизни людей, я увидел, что жизнь народа движется не математикой, а зависит больше всего от истории и социальных отношений, сложившихся под влиянием различных условий» [2,236].
В его воспоминаниях (как и у Чайковского) очень отчетливо звучит мотив кризиса, утраты «цельности» мировоззрение, а не религиозных поисков. После окончания Петербургского университета он «целый год вращался среди рабочих петербургской стороны», и уже тогда задумывался над вопросом: «Как же я, человек полный эгоистических противоречий, могу водворить мир среди людей, враждующих на почве этого же самого эгоизма» [2,237–238]. Что-то похожее происходило, возможно, и с С.Л. Клячко. По крайней мере, H.A. Троицкий пишет о каком-то конфликте в московском отделении кружка «чайковцев», закончившимся «удалением» Клячко из организации [76,77].
Но вернемся к Чайковскому и попробуем выяснить, почему же в своих поисках «цельного мировоззрения» он выбрал «богочеловечество». В 1913 г. он объяснял отход от революционной работы недоверием к тем формам, которые принимало его дело, неверием в попытки пропаганды среди крестьян. В 1926 г. он этот положение развил и обосновал:
«Мы не выдерживали ни одного задания и спешили как можно скорее перейти к широкой революционной пропаганде, то есть к осуществлению своих рыцарских порывов. (…) Во всем этом я видел лишь нашу обычную интеллигентскую авантюру, а не искание общественного дела. (…) И тут я скоро оказался на крайне правой, которая мешала кружку развернуть свои творческие силы. (..) Тогда я сложил руки, затосковал и запросился в отпуск. Это случилось в конце 1873 г.» [91,283].
На первый взгляд отказ от нового общего дела — «хождения в народ» никак не объясняет увлечение именно богочеловечеством. Но если вспомнить о том, что проповедь Маликова была не абстрактной речью «вообще», а строилась на последовательной критике бакунизма и, шире, любых насильственных методов борьбы, то все «связывается» и достаточно крепко. Позиция Чайковского им самим именуется «крайне правой». А на крайнем левом фланге были именно поклонники Бакунина, смело идущие по пути уже проложенным С.Г. Нечаевым.
Таким образом, каждый, кто не видел смысла действовать по программе Бакунина, должен был задуматься о том, как для себя лично решить три «теоретических» вопроса:
• вопрос о соответствии поступков тем нравственным идеалам, ради которых они совершались (другими словами — знаменитая проблема соответствия цели и средств);
• вопрос об ответственности за те изменения, которые несет обществу революционное насилие;
• вопрос о цене, которая будет уплачена за действия революционеров.
Именно эти три проблемы были центральными в «богочеловечестве». Разрешались они Маликовым с помощью «новой религии» легко и свободно. Если встреча с Нечаевым, в свое время, произвела на Чайковского «решительно отрицательное впечатление и не столько его иезуитские и демагогические приемы агитации, сколько его ненависть ко всему существующему и его ненасытное властолюбие» [91,280], — то встреча с Маликовым дала надежду на то, что вся та деятельность, которая велась на ранней стадии существования кружка «чайковцев» (П.А. Кропоткин писал, что когда он в 1872 г. познакомился с «чайковцами», «кружок не имел в себе ничего революционного» [42,289]), может быть продолжена. И прав, на наш взгляд Д.М. Одинец, доказывавший, что в кружке «чайковцев» именно Н.В. Чайковский оставался на прежней позиции, в то время как большинство его товарищей «повернули» к революции, то есть к насилию [59]. Но, говоря о «прежней позиции» мы не можем не сознавать, что неприятие тех изменений, которые произошли в товарищах, заставляло изменяться и самого Чайковского. Его чувства были угнетены тем разладом, который наметился между ни и его товарищами. Его мысль, подстегиваемая полемикой с бывшими единомышленниками, волей-неволей двигалась в сторону противоположную их революционным устремлениям. Позже он и сам это осознал:
«И во мне произошла значительная эволюционная перемена, и хотя мы исходили из одних и тех же положений, расширяя и углубляя их, результаты получились разные…» [91,282].
Нечто похожее, судя по его собственным словам, происходило и с Д. Айтовым. Вот фрагмент его показаний в полиции:
«… до столкновения с народом он предполагал, что существующий порядок поддерживается безнравственностью одних правящих классов, а теперь узнал, что люди друг друга продают за бесценок, и если произойдет революция и нужно будет кого-либо резать, то перерезать не одни привилегированные сословия, но всех, как это и было во Франции, что впрочем, ныне сознал невозможным сделать, а теперь пришел к тому убеждению, что не резня для этого нужна, а надо прибегнуть к иному способу, чтобы спасти народ…» [15-1,63].
О том же самом, но гораздо короче и более ясно написал, через много лет после «богочеловеческой» эпопеи, В. И. Алексеев: «Чайковский (…) был сторонник мирной пропаганды и противник насилия. Это главным образом нас всех и соединило»[2,238].
Итак, тенденция к эскалации революционного насилия, впервые отчетливо определившаяся в освободительном движении на рубеже 1873–1874 гг. вызвала протест у незначительной части его участников. Осознав необратимость происходящих с товарищами перемен, они, каждый в отдельности, почувствовали необходимость нравственного сопротивления и поиска альтернатив. Появившаяся в это время «новая религия» А. К. Маликова стала (или показалась) реальной альтернативой бакунинскому призыву к бунту. Он позволяла соединить в одно целое верность социалистическому идеалу и нежелание участвовать в «резне и драке». Апологеты Маликова нашли свое особое место в освободительном движении. «Как два сука одного дерева, мы разрослись в разные стороны», — так оценил впоследствии эволюцию взглядов своих товарищей и собственных Н.В. Чайковский [91,282]. Так удалось восстановить «гармонию» в собственной душе. Оставалось убедить в этом всех окружающих.
Глава 5 «Богочеловечество» в России (весна — лето 1874 г.)
Если время появления «богочеловечества» не было случайным, если последователи Маликова сознательно выбрали «новую религию» в качестве альтернативы нарастающей тенденции к насилию в разночинской молодежной среде, то деятельность «богочеловеков» должна была нести в себе черты этой альтернативности. Другими словами, проповедь нового учения должна быть обращена в первую очередь к революционерам и молодежи. А для этого «богочеловечество» должно было приобрести черты законченности, то есть относительной ясности, непротиворечивости и полноты. Отсюда — первая форма деятельности «богочеловеков» — последовательное изложение основ «новой религии» как в письменной, так и в устной форме, подчиненное общей задаче — полемике со сторонниками революционного насилия.
Первым письменным вариантом теории «богочеловечества» был, вероятно, набросок тезисов, сделанный Маликовым не ранее конца марта 1874 г., о котором впоследствии рассказал на допросе Я.А. Ломоносов. Там доказывалось, что «человечество не может жить без религии». Причем эта мысль «более других развита и обставлена доказательствами из истории древних времен Египта, Индии, Греции и Рима» [12,72].
Этот набросок Маликова не удовлетворил, и он написал жене в Петербург два письма с развернутым изложением своих взглядов, явно рассчитанным на распространение. Судя по тому, что второе из этих писем заканчивается пятью тезисами, продолжение которых легко отыскать в тезисах Махаева и Айтова, основатель «богочеловечества» решил сначала именно в тезисной форме (которая более чем какая-либо другая способствовала усвоению логики автора) сформулировать отдельные положения своей теории, а затем приступить к «систематическому» изложению своих взглядов в книге. Книга эта написана не была, ни в то время, ни позднее, хотя существуют свидетельства тому, что теоретическая работа продолжалась и в России, и в Америке, и после окончания американской эпопеи. Почему результаты этой работы не приобрели печатный вид, точных свидетельств нет. На эту тему можно только рассуждать с большей или меньшей долей приблизительности. И вот несколько соображений.
Выше уже говорилось о том, что все знавшие Маликова подчеркивали его замечательный ораторский дар. Речь его была сильна не столько логикой, сколько неподдельной страстью и повышенным «градусом» эмоциональности. Он не выстраивал речь заранее, как это делали знаменитые ораторы прошлого. Его талант был в импровизации и лучше всего раскрывался в полемике, в опровержении слов оппонентов, в том, чтобы подхватить, развить и поднять до чрезвычайных высот случайно брошенное замечание собеседника, увлечься самому и увлечь за собой слушателей. Такое дарование раскрывается лучше всего в устной, а не в письменной форме. Подобно М. А. Бакунину, автор «богочеловечества» лучше всего аргументировал свою мысль, когда ясно представлял себе оппонента или собеседника. Поэтому самые яркие фрагменты его теории содержаться в письмах, обращенных к конкретным лицам (жене, Н.В. Чайковскому, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстому). Когда же ему надо было писать «для всех», речь его становилась сухой, аргументы теряли накал полемичности, появлялась несвойственная его устной речи холодноватая ирония. «Богочеловечество» же (особенно при его появлении) невозможно себе представить без высокого накала чувств. К тому же «проговаривая», раз за разом, свои мысли, А.К. Маликов терял ощущение новизны, столь необходимое каждому литератору для того, чтобы получился качественный письменный текст.
Другим вариантом объяснения того, что весной — летом 1874 г. не появилось ни книги, ни брошюры с изложением «новой религии», может быть следующее: Маликов и его последователи старались, насколько это было в их силах, остановить тот поток насилия, который они предвидели в ближайшем будущем. Для этого им нужно было «распропагандировать» как можно больше сторонников в революционной среде. А при отсутствии стройной организации «богочеловеков» (на создание которой времени не было), это было возможно лишь «методом первых христиан» — личным примером и устной проповедью.
В.И. Алексеев, вспоминая те времена, писал: «Деятельность наша (…) свелась к мирному просвещению круга наших знакомых» [2,239]. Такого рода пропагандистскую деятельность первым начал сам Маликов. Во время его «проповедей» почти все слушатели находились под впечатлением страстной, выразительной и метафорической речи. Подхваченные потоком образов, они незаметно для себя соглашались с оратором. Однако по прошествии некоторого времени (для одних — минут, для других — дней), «внушение» речи Маликова переставало действовать, и слушатели требовали ясных и логичных (желательно — письменных) аргументов. Маликов волей-неволей должен был изложить свою теорию на бумаге. Сразу после Пасхи он передал в Петербург (вероятно со студентом Воронцовым) свой первый набросок теории «богочеловечества». Затем последователи уже упомянутые выше два письма к жене, ставшие ответом на недоуменные вопросы тех, кто познакомился с первым наброском. В конце второго письмо Маликов сделал приписку: «… пусть над этим подумают мои критики (…). Пусть они постараются проверить следующие тезисы наши» [13-1032,10]. Тезисы эти, начиная с шестого, видимо, были переданы «критикам», поскольку в «деле» Маликова (куда попало это письмо) их нет.
Почти сразу в пропаганду идей «богочеловечества» включились две знакомые А.К. Маликова: К.С. Пругавина и Л.Ф. Эйгоф. Свидетельство тому — письмо Я.А. Ломоносова, в котором тот обращается не к создателю «богочеловечества», а к Л. Эйгоф, как его верной последовательнице. По воспоминаниям Е. Дубенской, одним из первых «апологетов маликовского учения», стал его знакомый по Орлу и родственник, участник демократического движения 1860-х гг. Е. Оболенский [29,172].
Наиболее значительной стала попытка «распропагандировать» своих бывших единомышленников, предпринятая Н.В. Чайковским в Москве в конце апреля — начале мая. Три свидетеля этих событий оставили свои воспоминания, из которых складывается довольно представление о том, как это было. Сначала в Москве стало известно о том, что Чайковский едет из Орла, чтобы поделиться своим знанием о «новой религии», сторонником которой он стал. Это известие заставило нескольких участников революционных кружков отсрочить свое отправление «в народ» с тем, чтобы послушать «талантливого и популярного пропагандиста» [48,33]. Собрание, на котором выступил Чайковский (а оно, скорее всего, было только одно) состоялось в квартире члена московского отделения кружка «чайковцев» Натальи Александровны Армфельд [83,93]. Чайковский был полностью уверен в своей правоте, говорил эмоционально, но отвлеченно и не вполне ясно. Содержание его речи Л.А. Тихомиров передал так:
«Человечество возродиться любовью и добровольным убеждением (…). Революционеры! Вы так же несчастны (…) вы обращаетесь только к уму, но забываете чувство. Не ждите какого-нибудь блага от кровавой войны между людьми: война родит войну и так далее без конца (…). Бойтесь насилия, лжи, лицемерия. Все люди — люди, следовательно, врагов не существует…» [73,48].
Выслушав речь Чайковского, его товарищи задавали ему вопросы, требуя доказательств правоты его новых взглядов. Тот отвечал уклончиво, поясняя, что теория еще не разработана. Больше всего Чайковский говорил о собственных чувствах и той гармонии, которая воцарилась в его душе, как только он признал правоту Маликова. Крупной полемики не получилось. Двое мемуаристов (Лукашевич и Тихомиров) написали о чувстве горечи и печали по поводу «перелома в миросозерцании того, кто еще недавно занимал в нашей среде выдающееся положение» [48,22]. М.Ф. Фроленко же запомнил, что речь Чайковского возбудила определенный интерес среди слушателей и привлекла внимание «к тому труду, который задумал Маликов» [83,97]. Тот же Фроленко оставил описание еще одной попытки пропаганды «богочеловечества» среди революционеров, предпринятый одним из неофитов «новой религии». Этот не названный «богочеловек» (скорее всего — В. И. Алексеев) «принял какой-то восторженный вид и запророчествовал»:
«Вот я вам предсказываю: не пройдет и месяца-другого, как вы будете арестованы и все ваши начинания, планы рухнут. Мне жалко вас! Одумайтесь!., иначе пожалеете очень скоро» [83,98].
После целого ряда «проповедей» Маликова и его сподвижников, слушателями которых были только участники освободительного движения, главным образом студенты, спонтанно возникло новое направление в пропаганде идей «богочеловечества» — в «народе». Инициаторами и исполнителями такого рода пропаганды стали участники кружка «артиллеристов» Теплов и Айтов, уже отправившееся «в народ», однако узнавшие о «новой религии» и ставшие, вскоре, ее приверженцами. Импульс «хождения в народ» они не утеряли и решили соединить прежнее свое намерение с пропагандой совершенно новых идей. К тому же они не располагали таким авторитетом в революционной среде, как Маликов, Чайковский и Оболенский и, видимо, понимали, что товарищей убедить не смогут. Попытка распространять идеи «богочеловечества» в крестьянской среде закончилась очень быстро. Теплов и Айтов не только не приобрели себе сторонников, но изложить свои взгляды получили возможность только после ареста, последовавшего примерно через неделю, после их отъезда из Орла. Принципам «новой религии» не противоречила пропаганда среди полицейских и жандармов, что и пытался делать Айтов в Калужском жандармском управлении, без особого, впрочем, результата. Мы можем знать о содержании одной из «проповедей» идей «богочеловечества» Айтова в полицейском участке, из пересказа секретаря калужского полицейского управления Ефима Ненарокомова: «Далее Айтов убеждал, что люди должны иметь все общее, не отказывая ни в чем помощью ближнему, приведя в доказательство текст из Священного писания, в коем объяснено при сотворении первочеловека, а именно: раститесь, плодитесь и обладайте землею. (…) в скором времени не будет никаких сборов и правительства (…) а будет земная блаженная жизнь для тех, кто будет подчиняться новому порядку, для которого он готов переносить все трудности и всякие лишения, даже не страшиться смертной казни, потому, что тогда человек вполне доволен, если он из любви к ближним терпит лишения, тут только он соединяется с божеством; Бога же на небесах нет и нигде нет, а само божество появляется и возрастает в человеке по мере любви к ближнему» [15-1,67–68].
Результаты пропаганды среди революционеров также были достаточно скромными. Несколько деятелей освободительного движения (сам А.К. Маликов, Н.В. Чайковский, С.Л. Клячко, В.И. Алексеев, Д. Айтов, Н. Теплов) и ряд близких к этому движению молодых людей — К.С. Пругавина, Л.Ф. Эйгоф, Е.А. Маликова, орловский семинарист Хохлов — объявили себя «богочеловеками». Еще несколько человек сочувствовали «новой религии» и были последователями Маликова в течение некоторого времени. Это, уже упоминаемый прежде Л.Е. Оболенский, а также, хороший знакомый Маликова Алексей Алексеевич Бибиков. В 1866 г. Бибиков был арестован вместе с Маликовым по делу о пропаганде среди рабочих Малыдевского завода, а в 1871 г. был освобождён из под гласного надзора. Революционную деятельность он оставил, но связь с со старыми товарищами поддерживал. Еще нескольких человек, примкнувших ненадолго к Маликову, назвал (без упоминания имен) брат К.С. Пругавиной — A.C. Пругавин. Это Святский (видимо, Владимир Иванович, привлекавшийся и оправданный по делу Нечаева, в то время — студент Петербургского Земледельческого института), Смольянинов (вероятно, Николай Иванович, в то время студент Технологического института, арестованный в марте 1874 г.) и Козлова [66,169].
При этом уже весной 1874 сформировалась небольшая группа единомышленников, осознавших себя чем-то целым, в общем виде была сформулирована теория, базировавшаяся на принципах социализма и федерализма, но отрицавшая насильственный путь достижения идеала. «Богочеловечество» было объявлено альтернативой революционному пути общественного развития. Однако преодолеть тенденцию к эскалации революционного насилия «богочеловекам» не удалось. Их пропагандистская кампания весны — лета 1874 г. цели не достигла.
Почему так случилось? Одним из основных факторов, повлиявших на отношение революционно настроенной молодежи к теории Маликова, могло быть то, что она приняла облик религии. Революционеры, в целом сочувственно относившиеся к личности Христа, воинственно отрицали всякую «мистику». Воспитанные антирелигиозной средой, сложившейся в гимназических и студенческих кружках, в духе рационализма, любви к «положительному знанию», они должны были, как минимум насторожиться при словах «новая религия». Выше говорилось о чувстве «горечи» испытанной молодыми людьми от проповеди Чайковского. Л.А. Тихомиров добавил к этому свою оценку: «… я уже представлял себе глубокий, непримиримый разлад среди самих революционеров, могущий произойти отсюда» [73,48]. Однако этого не произошло, поскольку восприятию учения Маликова мешали своего рода «фильтры» в сознании большинства революционеров, роль которых выполняли речевые штампы. Словосочетания типа: «вера в народ», «вера в революцию» для них были приемлемы, поскольку вера такого рода не содержала в себе «мистики». Терминология же Маликова и его последователей («богочеловек», «религия», «проповедь» и т. п.) воспринималась как самый настоящий «мистицизм».
Увлечение «богочеловечеством» как правило, принимало характер «обращения». Ему предшествовал серьезный нравственный кризис, приведший к разочарованию в прежних идеалах. Те же, кто такого разочарования не испытал, никак не могли взять в толк, чем же может так поразить и увлечь проповедь Маликова, если отвлечься от его дара убеждения. Своего рода «разлад с собой» испытали почти все революционеры. Однако у большинства он приводил к стремлению «отдать долг», лежащий на «образованных сословиях». В этом своем стремлении они уже, по выражению М.Ф. Фроленко «обретали веру» и успокаивались. «Богочеловеки» же испытали разлад «второго уровня». Их давило противоречие между чувством долга по отношению к народу и нежеланием идти по тупиковому пути эскалации насилия.
Принять теорию Маликова могли только те, кто во-первых, не испытывал отвращения к «мистической» терминологии или преодолел штампы «рационального» мировоззрения, а во-вторых — осознал для себя бесперспективность разворачивавшегося «хождения в народ». Таких сомневающихся было немного, а пробудить сомнения в массе революционеров не в силах был даже Маликов, с его выдающимися ораторскими способностями.
И здесь надо сказать еще об одном обстоятельстве, обусловившим неудачу пропаганды «богочеловечества». «Хождение в народ» было новым делом для участников революционных кружков. «Богочеловечество» тоже предлагало новое дело — нравственное усовершенствование общества. Пример проповеди Христа, столь убедительный для возможной победы идей Маликова в будущем, неминуемо отодвигал эту победу на десятки, а может быть и сотни лет вперед. Ведущие же идеологии народничества призывали менять мир немедленно. У революционной молодежи, чьи убеждения сформировались к середине 1870-х гг. существовало несколько аксиом, закрепленных авторитетом Герцена и Чернышевского, Бакунина и Лаврова. Одна из них — немедленное действие во имя социальной справедливости не только желательно, но и возможно, а значит обязательно. При всех разногласиях в формах и средствах революционной деятельности между Бакуниным, Лавровым и Ткачевым, общее содержание их обращений к «молодежи» одно: она (молодежь) должна испробовать все возможные и доступные ей средства для совершения социального переворота. А средства эти, чем дальше, тем больше, становились насильственными, чему, несомненно, способствовало правительство, не желавшее мириться с какими бы то ни было проявлениями оппозиционных настроений и применявшее всю мощь государственного насилия к тем, кто пытался критиковать существующий порядок вещей.
Летом 1874 г. Маликову и его сторонникам уже стало ясно, что путь мирной пропаганды собственных взглядов в России не имеет перспектив. Во-первых, круг последователей «богочеловечества» определился к июню, и дальнейшего отклика учение Маликова у революционеров не нашло. Во-вторых «богочеловечеством» заинтересовались государственные структуры. 10 июня, после обыска в его доме, Маликов был арестован, а 12 июня по делу «О преступной пропаганде в империи» его допрашивал жандармский полковник Рыкачев [12,36]. Этим и закончился первый этап в деятельности «богочеловеков».
Глава 6 Переезд в Америку (осень 1874 — август 1875)
В нашем распоряжении нет свидетельств тому, насколько легко было принято решение о прекращении пропагандистской деятельности в революционной среде и подготовке к переезду в Америку с тем, чтобы на собственном примере доказать правильность выбранного пути. Но что сама мысль покинуть страну и отправиться в эмиграцию возникла под давлением карательных органов, сомнения не вызывает. Постановление Владимирского окружного суда по «делу» Н. Теплова, пытавшегося донести учение Маликова о мирной эволюции общества к добру и справедливости, гласит:
«Такая пропаганда наиболее опасна, так как под покровом ее простолюдин не может видеть действительных целей пропагандистов, и учения их, якобы основанные на Святом писании, приобретают в его глазах все больший кредит, как это уже неоднократно подтверждалось фактами из истории русского раскола» [15-105,2–3].
Не пожелав отделить Маликова и его сторонников от участников «хождения в народ», полиция применила к «богочеловекам» те же меры воздействия, что и ко всем остальным. Самого Маликова на протяжении июня 1874 г. арестовывали два раза: 10-го (освобожден 17-го под гласный надзор полиции [12,71]) и 26-го. После второго ареста он находился под следствием почти полгода и, если бы не заступничество К.П. Победоносцева, ему грозила бы судьба Айтова и Теплова — ссылка в восточные районы страны. С 5 сентября 1874 г. по 11 февраля 1875 г. велось следствие по делу одного из самых молодых последователей Маликова — Н.С. Бруевича. Летом 1874 г. он распространял среди рабочих Мальцевского завода в Брянском уезде Орловской губернии издания «чайковцев»: «Историю одного французского крестьянина» и «Сказку четырех братьях» [15-314,40об.]. А уже в апреле 1875 г. был (правда, ненадолго) арестован В.И. Алексеев.
Напряженный ритм работы жандармских управлений на пике «хождения в народ» привел к тому, что замешанные в мелких эпизодах пропаганды «богочеловеки» были, на время, отпущены под гласный надзор полиции. Но уже 18 сентября 1875 г. было подписано новое распоряжение об аресте А.К. Маликова, К.С. Пругавиной, Л Ф. Эйгоф и Н.С. Бруевича — теперь уже по делу о создании и распространению «новой религии» [15-314,1об.]. Правда, к этому времени «богочеловеки» уже покинули Россию.
Часто эти факты интерпретируются таким образом, что переезд в Америку стал необходим, потому что власти создали невозможной пропаганду «богочеловечества» в России. Это так и в то же время — не совсем так. Безусловно, запрет на пропаганду «богочеловечества» и угроза возможных репрессий по отношению к членам этого движения были тем условием, при котором решение покинуть Россию принималось как единственно возможное. Но для чего покидать родину? Чтобы спастись от преследований? Или для того чтобы продолжить начатое? И что предпринять для того, чтобы не потерять ту глубокую гармонию мысли, чувства и дела, которую обрели последователи Маликова, став «богочеловеками»?
Ответы на эти вопросы предложил Н.В. Чайковский. Ему и С.Л. Кляч ко отъезд, хотя бы на время, был крайне необходим, поскольку полиция разыскивала их, как самых активных членов революционного движения. Если учесть, что «нелегалом» Чайковский стал уже в конце 1873 г., а к концу 1874 г. аресты стали повальными, участь его в России была предрешена — арест и многолетняя ссылка в Сибири, как самое легкое наказание. Тогда же, в 1873 г., он впервые задумался об Америке, однако после обращения в «богочеловечество» отложил планы эмиграции в надежде на то, что сумеет привлечь к «новой религии» своих товарищей. Предложение о переезде в Америку и создании там коммуны он выдвинул только тогда, когда убедился, что его товарищи за «богочеловеками» не пошли. Сам он вспоминал об этом так: «Во время моего пребывания в Киеве и Воронеже (конец 1873 — нач. 1874 г. — К. С.) я встретил несколько товарищей, с которыми довольно долго предавался утопическим мечтаниям о создании новой религии, для осуществления этой не совсем обыкновенной миссии нам впоследствии пришлось переселиться в канзасские степи» [61,27].
В этом рассказе смешались два разных события: «мечтания» о коммуне в Киеве в 1873 г. и «мечтания» о «новой религии» в Орле (а не в Воронеже) в 1874 г. В архиве Чайковского сохранились следы его ранних «американских» планов. Это письма от «Русского кружка взаимного вспомоществования в Канзасе» (от 10 декабря 1872 г.) и «Русского кружка взаимной помощи в Нью-Йорке» (от 2 февраля 1873 г.) [14-144,1–7]. Видимо уже тогда он не исключал для себя возможность эмиграции в Америку. В том же 1873 г. он познакомился с деятельностью киевского кружка «американцев», начало деятельности которого описано в воспоминаниях В. К. Дебогория-Мокриевича:
«Нужно сказать, что в конце 60-х гг. замечалось всеобще увлечение Америкой, американской жизнью, американскими светскими учреждениям; некоторые ездили туда, наблюдали тамошние порядки, писали о них в российских журналах (…). К числу увлекавшихся Америкой принадлежал наш двоюродный брат, который, посетивши Соединенные Штаты и, проживши там около года, вернулся в Россию и принялся составлять компанию для переселения и устройства там земледельческой коммуны» [27,67–68].
Киевский филиал «чайковцев» старался всячески препятствовать пропаганде «американцев», считая ее помехой революционной деятельности в России. Однако сам Н.В. Чайковский к американским планам отнесся сочувственно, интересовался жизнью русских эмигрантов и хранил у себя письмо, направленные из Америки Агарием Григоренко одному из членов кружка «американцев» — Ивану Речицкому [15-144,9].
Мысль о коммуне приходила тогда, как один из вариантов деятельности в эмиграции, если обстоятельства повернуться таким образом, что придется, покинуть Россию. «Богочеловечество» придало этой идее новый смысл и новый импульс. Как впоследствии объяснял это решение В. И. Алексеев:
«Ошибались мы в своих задачах или нет, во всяком случай нам надо было проводить в жизнь то, что мы считали истиною» [2,241].
О том же, вероятно со слов сестры или даже самого Маликова писал и A.C. Пругавин:
«С целью применить свои идеи к жизни богочеловеки еще ранее (т. е. до ареста Маликова — К. С.) задумали основать (…) особую земледельческую коммуну» [66,172].
Совместить мысли о коммуне с новыми «богочеловеческими» убеждениями, возможно, помогло уже упомянутое выше «Письмо коммуниста» В. Фрея, опубликованное в 1874 г. Отправной точкой в рассуждениях Фрея стала мысль о том, что полезная (с точки зрения социальной справедливости) разрушительная работа, которую ведут революционные демократы в России и Интернационал в Западной Европе, является только половиной коммунистической программы. Наряду с ней следует заняться и другой ее половиной — разработкой и введением «новых форм жизни», тех, что должны будут водвориться в обществе после коммунистического переворота и будут способствовать «водворению справедливости в сфере человеческих отношений» [113,122–123].
За невозможностью «проводить эксперимент» по выработке коммунистических норм общежития в крупных формах, роль строителей нового общества в недрах старого Фрей отводил сравнительно небольшому числу людей, способных в настоящий момент преодолеть все трудности на этом пути. Трудовые коммуны добровольцев должны были стать «экспериментальными предприятиями в сфере психологических явлений», причем разработка этой линии коммунистического движения, по мнению Фрея, «гораздо важнее подведет к желанной цели, чем все толки о материальном довольстве, долженствующем вытечь из коммунальной жизни» [113,122–123].
Видимо не осталась незамеченным «богочеловеками» и характеристика, данная Фреем тем, кто пытается на своем примере показать преимущества новых отношений: «ими руководит теперь глубокая вера в разумность своего предприятия и этой верой, подобно древним христианам, они победят мир» [113,141]. Нашло у них отклик и то наблюдение Фрея, согласно которому наиболее прочными и жизнеспособными бывают коммуны, основанные на единстве религиозной жизни.
Сказанное отнюдь не означает, что уже в это время «богочеловеки» и Фрей были едины в понимании «новых форм жизни» и способов их обретения. Фрей, вслед за О. Контом стоял за полное подчинение личности коллективу. Его коренное убеждение было выражено так:
«Люди, устраивающие коммунальную жизнь, должны руководствоваться не своими привычками, симпатиями и предрассудками, а полезным разумом, и во имя общественного блага жертвовать всем, что стоит на дороге к нему» [113,138].
Маликов же, как и его последователи, стремился не к самоограничению во имя разумно понятых интересов коллектива, а к творческому развитию индивидуальности, к максимальной свободе личности, не ограничивающей себя, а последовательно раскрепощающей собственные потенции добра и любви. Однако различие в понимании целей коммунальной жизни не мешало увидеть в аргументации Фрея серьезные перспективы для деятельности «богочеловеков» вне России. И более того: в их представлении, коммунарская практика должна была выявить, какая из методик выработки коммунистического сознания — самоограничение или саморазвитие — более пригодна для будущего.
При отчетливой инициативе Чайковского и вероятном влиянии Фрея, «американская» программа «богочеловеков» началась под лозунгом: «осуществить там в своей жизни человека» [91,283]. В развернутом виде, та же мысль выглядит следующим образом:
«…мы думали: стоит только поселиться вместе — все мы одинаковых взглядов на жизнь, одного уровня образования — будем работать вместе и положим основание новой хорошей жизни: а потом будут основываться и другие подобные общины и образуется целое общество, где не будет ни обижающих, ни обиженных» [2,244].
Программа (или, скорее, декларация о намерениях) вполне утопическая и вполне «богочеловеческая» — личное убеждение сделать предметом веры, а веру практикой и примером для других. Для того же, чтобы эту программу воплотить в жизнь требовалось: определить круг единомышленников, согласных поставить на себе социальный эксперимент; получить возможность выехать из страны; иметь некоторое количество денег для организации переезда, покупки земли и начальное обустройство. Именно эти три задачи и предстояло решить «богочеловекам» в конце 1874 — начале 1875 гг. Участники. Арестованный 10 июня 1874 г., А.К. Маликов был освобожден из-под стражи под гласный надзор полиции постановлением от 19 ноября 1874 г. [15-314,60]. Видимо сразу же после этого началась подготовка к эмиграции. По крайней мере, в переписке Н.В. Чайковского от начала февраля 1875 г. о переезде в Америку говориться как о деле, давно решенном, а сам он находился в Европе с осени 1874 г… Больше всего информации о том, как проходила подготовка содержится в двух письмах, сохранившихся в личном архиве Николая Васильевича. Одно получено Чайковским в Лондоне 6 февраля 1875 г., а другое — черновик ответа, помеченный седьмым числом того же месяца. В первом (его вероятный автор — А.К. Маликов), после сообщения о новой книге Льюиса, говориться о том, кто выразил согласие поселиться в Америке:
«Как тебе известно, с моей стороны человек 6–7, со старшим братом Василия (Алексеева — К. С.) — четверо, считая вероятно и Х-а, затем известный тебе Кассир непременно хочет кинуть свое дело, словом верных уже человек 13, да может быть и еще увеличатся» [14-190,2–4].
Попытаемся раскрыть те цифры, которые содержатся в этом отрывке.
«Со мной 6–7 человек»: видимо это сам А.К. Маликов и с ним К.С. Пругавина, Л.Ф. Эйгоф, трое детей Маликова и Н.С. Бруевич, в то время еще находившийся под арестом, что и вызывало сомнения в его возможности присоединиться к «богочеловекам». Отпустили его из-под ареста 11 февраля [15-314,42]. Далее: «четверо, считая Х-а» — В.И. Алексеев и Е.А. Маликова (взаимная симпатия между ними, впоследствии приведет к браку), брат В.И. Алексеева Гавриил и хороший знакомый Л. Эйгоф, орловский семинарист М.В. Хохлов, привлеченный к дознанию по делу «о пропаганде в империи», в связи с найденными у него при обыске запрещенными книгами.
Итого: одиннадцать человек. С Н.В. Чайковским и «Кассиром» — тринадцать. Определить, кого именовали «кассиром» не представляется возможным, поскольку следов его в наших материалах нет, если не считать передаваемого Т.И. Полнером рассказа Чайковского о «казначее» в коммуне, который был уличен «в плутовстве» и «после довольно продолжительной процедуры должен был удалиться» [64,122]. Тринадцатым по счету стал С.Л. Клячко, который покинул Россию вместе с Чайковским. По свидетельству В. Фигнер, уже осенью 1874 г. в Берне Чайковский и Клячко познакомились со своими будущими женами — студентками местного университета, прибывшими из России летом того же года [81,232]. Эти две девушки: Варвара Александровна Чайковская и жена С.Л. Клячко (в бумагах Чайковского упоминаемая как А. Клячко) пополнили состав будущей коммуны. Таким он предстает в записках В.И. Алексеева: 7 мужчин, из них трое женатых, пять женщин, трое детей. Всего 15 человек [2,243].
Из тех последователей А. К. Маликова, кто не поехал в Америку, должны быть названы, прежде всего, Д. Айтов и Н. Теплов. Они содержались под арестом и были осуждены по «Процессу 193-х». Л.Е. Оболенский и A.A. Бибиков отошли от «богочеловечества», сохранив дружеские отношения с А.К. Маликовым и В.И. Алексеевым. Нет сведений о том, до какой степени были «богочеловеками» Святский и Смольянинов, которых один раз упомянул A.C. Пругавин, как сторонников Маликова.
Деньги. А. И. Фаресов привел слова Маликова: «Вон, на днях Чайковский получит маленькие деньги, и это будет фондом для нашего братства» [79,233]. Здесь много неточного и неясного. Термин «братство» никогда не употреблялся «богочеловеками». Вопрос же о деньгах, встает не только до принятия решения о переезде в Америку, но и до личного знакомства Маликова и Чайковского. В.И. Алексеев писал о другом: деньги вносились каждым в общую кассу (сам он внес 800 р.), но главную часть составили 10 тысяч рублей, доставшееся в наследство «курсистке» — жене одного из «богочеловеков» [2,241].
«Курсистками», в широком значении этого слова были жены Маликова, Чайковского и Клячко (а других замужних дам на тот момент и не было). В тех же воспоминаниях мы читаем о том, что после распада коммуны земля и ферма остались тому лицу, кто привез с собой деньги. Чайковский, Маликов и сам Алексеев (женившейся на первой жене Маликова) уехали из коммуны без гроша. Остается жена Клячко. На нее же косвенно указывает и письмо С.Л. Клячко к Н.В. Чайковскому, от 10 октября 1877 г., с изложением финансовых условий, на которых существовала коммуна [14-181,1–8].
Определенной финансовой самостоятельностью «богочеловеки» обладали. Но их общих денег хватило только на переезд и обеспечение минимальных условий нормальной жизни. С их точки зрения это было хорошо — минимум средств создавал ситуацию настоящего дела. Будь денег много, вся экспедиция неминуемо приняла бы характер игры в крестьянский труд. Этого они позволить не могли, поскольку ехали в Америку для того, чтобы, выражаясь современным языком, создать модель нового мира, а если соблюсти последовательность действий, то создать нового человека, затем — новый уровень человеческих отношений, а потом распространить их на весь мир.
Исход из России. Это был самый трудный момент переезда, поскольку двое из числа «богочеловеков» (Чайковский и Клячко) числились в розыске, а еще двое (Маликов и Бруевич) — под гласным надзором полиции. Первыми осенью 1874 г., используя нелегальные каналы, покинули страну Чайковский и Клячко [87,283]. Они побывали в Берне, вероятно, и в других центрах русской эмиграции. В начале 1875 г.
Чайковский был уже в Лондоне и взял на себя всю организационную сторону переезда. Летом 1875 г. он и Клячко, с женами, переехали в Нью-Йорк, где и встречали остальных.
Другие «богочеловеки» разделились на две группы, что, судя по приведенному отрывку из письма к Чайковскому, планировалось заранее. Е.А. Маликова с детьми, К.С. Пругавина, Л.Ф. Эйгоф, Г.И. Алексеев уехали легально. По паспорту В.И. Алексеева ехал Хохлов. Сам же он был переправлен через границу за 10 рублей евреем-контрабандистом [2,241]. О том, как выехали из Росси Маликов и Бруевич, сведений нет. Видимо они воспользовались своими связями в революционной среде и ехали либо по подложным паспортам (как это было при возвращении в Россию из Америки), либо переходили границу нелегально.
В Берлине обе группы встретились, чтобы из Гамбурга отплыть в Нью-Йорк. Время переезда (август 1875 г. [2,241; 15-314,60].) сточки зрения сельскохозяйственного цикла выбрано было крайне неудачно — собственного урожая надо ждать целый год. Однако на выбор времени переезда влияли совсем другие соображения и обстоятельства.
Коллектив будущей коммуны сложился лишь в начале 1875 г. Тогда же был освобожден Бруевич. Но весной был арестован В.И. Алексеев, и пришлось отложить сборы до мая, когда его, наконец, отпустили. Июнь ушел на получение паспортов и подготовку нелегальных каналов. Таким образом, в Америку основная группа «богочеловеков» добралась в сентябре.
Разработки теории. Внешняя канва событий в этот период существования «богочеловечества» несколько затеняет его внутреннее содержание. Между тем, Маликов и Чайковский не оставляли надежды написать «труд» с изложением основ «новой религии», причем в разработке ее теории все большую роль играл именно Чайковский.
Дэвид Хечт вообще считал, что переезд «был задержан на несколько месяцев, поскольку Чайковский работал над статьей о религии» [102,202]. И хотя переезд (как было показано выше) откладывался совсем по другим причинам, Чайковский действительно с энтузиазмом включился в теоретическую работу. Об этом свидетельствует содержание двух писем того периода. Одно из них было адресовано единомышленнику — А.К. Маликову, другое — другу и оппоненту — Д.А. Клеменцу.
Если в своей «лекции» на конспиративной квартире в Москве, в мае 1874 г., Чайковский больше пересказывал содержание «проповедей» Маликова и делился собственными ощущениями, то в своих письмах начала 1875 г. он выступает равным партнером в теоретических поисках основателя «новой религии». Вот что Чайковский (в письме Маликову от 7 февраля 1875 г.) об этом пишет: «Все сказанное мною ляжет основанием в теорию труда, к которому, однако я (…) еще не приступал — так много приходится переваривать материалов, а главное, что никак не можешь провести себе границы, где и на чем остановиться, то же, конечно, испытываешь и ты» [14-190,4об].
Чуть позже мы остановимся на тех материалах, которые приходилось «переваривать» Чайковскому в его лондонский период, а сначала следует, на наш взгляд, указать на главное отличие «богочеловечества» Чайковского от «богочеловечества» Маликова. Первое, с чего Чайковский начинает свою самостоятельную теоретическую работу — это критика создателя «новой религии» за «отвлеченность» его идей:
«Относительно твоих «теоретических изысканий», — пишет он в том же письме, — скажу, что, конечно с ними согласен, но думаю, что точкой отправления надо принять не какие-либо общие положения, а выйти из совершенно реальных оснований, развивающихся постоянно с почвы физиологической на биологическую и специально историческую» [14-190,4об].
Александр Капитонович действительно увлекался «общими положениями» и построением идеальных схем. Отталкиваясь от «триады» Гегеля, он выстроил свою собственную, ведущую к «богочеловечеству», и затем уже старался наполнить эту схему живым содержанием. Подход Чайковского иной: не столько гуманитарный, сколько естественнонаучный. Ему, кандидату петербургского университета, химику, привычнее и естественнее идти от фактов доказуемых, признанных наукой. Вот почему ему так близка стала «теория опыта», изложенная в первом томе Д.Г. Льюиса «Вопрос о жизни и духе». Эта книга вышла в Петербурге в 1875 г. и сразу была замечена «богочеловеками», о чем свидетельствуют строки из письма (авто, видимо А.К. Маликов), полученного Н.В. Чайковским 6 февраля 1875 г.: «Читали ли вы новую книгу Льюиса (…) В I главе она положительно заявляет о солидарности с нашим (…) учением» [14,190,2]. Начало этой книги действительно выглядит как перекличка с теорией «богочеловечества». Уже на второй странице Льюис затронул тему, столь важную для Маликова в период создания «новой религии»:
«В мысли западной Европы мы видим теперь явственные усилия примирить между собой цели и права религии и науки. (…) вообще религия будет продолжать руководить развитием человечества и дальше будет служить выражением общей мысли своего времени, по мере того, как эта мысль будет расширяться с вечно нарастающим опытом» [49,2].
Можно себе представить, какое количество восклицательных знаков, отмечающих совпадение взглядов «богочеловеков» и Льюиса, должны были поставить на полях этой книги Маликов и Чайковский. Особенно близки их позиции там, где речь заходила о направлении, в котором развивается общая мысль человечества. Нам представляется, что «богочеловеки» могли бы изложить цель создания своей «религии» такой цитатой:
«Наш век страстно стремится к такому учению, которое могло бы сосредоточить наши знания и придать нашей жизни такую форму, чтобы поступки наши были на самом деле результатом наших верований» [49,2].
Обнаружить нечаянно подтверждение своим самым главным мыслям, конечно, важно и значительно. Но ценность книги Льюиса для Чайковского определялось не только этим. В ней он нашел то, чего ему так недоставало в теоретических рассуждениях Маликова: естественнонаучное обоснование единства знания и веры. Опираясь на определение опыта, почерпнутое в книге Льюиса («Не одни приобретенные мало-помалу индивидуальные наблюдения, но и опыт, накопленный целой расой, организованный в языке, сосредоточенный в орудиях и аксиомах, и в том, что можно назвать наследственными интуициями — вот что составляет сложную единицу, выраженную в отвлеченном термине опыт» [49,28]), Чайковский начал выстраивать собственную цепочку аргументов в защиту «богочеловечества».
Человек, по Чайковскому (и Льюису), есть не что иное как «организм с бесконечным историческим опытом» [14-190,4]. Средоточие же коллективного опыта — религия. Чайковский, таким образом, не только старался обосновать маликовский тезис («вера представляет собой форму знания»), но и решил пойти дальше. Если Маликову достаточно указать на то, что «знание не может идти дальше религии», то Чайковский задался вопросом: почему так происходит? Маликов воспроизводил один из тезисов Гегеля: «… природа нравственности народа, принцип его права, его действительной свободы, его государственного устройства, как и его искусства и науки — все это соответствует такому принципу, который составляет субстанцию религии» [17,347]. Чайковский (с прямой ссылкой на Льюиса) продолжал и развивал его:
«Наша вера есть опыт (…) Человеческая вера так же стара и безгранична, как весь исторический и органический опыт живой ткани!» [14-190,4об.].
Справедливости ради надо отметить, что Льюис не выделял религию из всех других составляющих человеческого опыта, так сильно, как этого хотелось «богочеловекам». Он писал о «коллективных накоплениях целых веков, сосредоточенных в познаниях, верованиях, учреждениях и наклонностях» [49,125]. Религия здесь стоит второй в общем ряду. У Чайковского же верования и только верования аккумулируют опыт «вселенной». Понятие опыт, введенное Льюисом, стало для него лишь отправной точкой, из которой он выстраивал собственную теорию. Первый самостоятельный шаг Чайковского в разработке теории «богочеловечества» — мысль о характере взаимодействия человека и окружающей среды. Льюис писал о том, что космическая среда воздействует на внутреннюю среду человечества. Чайковский изменил это положение коренным образом;
«…взаимодействие человека и вселенной (…) выражается в том, что человек, постоянно приспосабливающийся, переносит выводы своих приспособлений во внешний мир и сообразно им видоизменяет всю среду» [14-190,4].
Этот вывод был чрезвычайно важен в системе взглядов Чайковского того времени. И важен, вероятно, потому, что давал возможность соединить убеждения с практической деятельностью. Николай Васильевич, видимо, был сильно удручен неудачей пропаганды «богочеловечества» в революционной среде и теперь заботился о том, чтобы она стала опорой его собственных усилий по преобразованию окружающей среды. Соответственно, он много внимания уделял тому, что может дать «богочеловечество» людям, живущим здесь и сейчас, и тому, как люди, осознавшие несправедливость существующего мира, могут его изменить. Вопрос о точке приложения сил стал центральным в программном письме Чайковского к Д.А. Клеменцу. Там у него прорывается: «Без веры жить нельзя, а вам (революционерам — К. С.) верить не во что» [92,193]. Вот логика его рассуждений:
Положение первое. Человек — центр вселенной: «Мы утверждаем и беремся доказывать, что вне отношения к себе, как к владыке и господину вселенной, к своим побуждениям, желаниям и потребностям как к святыне».
Положение второе. Цель человечества — не переделка мира или человека, а «мир с самим собой», что означает не самодовольство и самолюбование, а осознание цели собственного существования, ведущее к устранению неразрешимых противоречий в сознании человека. Положение третье. Осознание цели собственного существования и деятельность в соответствии с этой целью решает как внутренние, так и внешние проблемы человечества:
«Мир человека с самим собой неизбежно порождает мир и с другими людьми и гармонию в отношениях к космосу».
Гармония — главное и «заветное» слово Чайковского — то, к чему он всегда стремился в себе и в людях, то, ради чего создавалось «богочеловечество». Недаром М.Ф. Фроленко отметил, как сразу изменился Чайковский, приняв учение Маликова. «Богочеловечество» дало ему надежду на общемировую гармонию, а сам он уже искал путь к ее достижению. Поездка в Америку была не чем иным, как попыткой достичь гармонии «своими силами» и тем самым показать человечеству выход из состояния перманентной «гражданской» (классовой) войны. Одна из, безусловно, ярких черт Чайковского — способность четко и ясно формулировать насущные задачи движения. В конце письма Д.А. Клеменцу он писал:
«Мы докажем всем сомневающимся, что жизнь для себя из грязной, пошлой — может, должна превратиться в светлый, радостный мир обновления людей» [92,193].
С этой целью и собрались двенадцать взрослых и трое детей в Нью-Йорке в конце августа 1875 г.
Глава 7 Коммуна в Канзасе (осень 1875 — весна 1877 гг.)
В Нью-Йорке, в одной квартире все пятнадцать переселенцев жили два месяца — сентябрь и октябрь [2,243]. В сентябре у Чайковских родилась первая дочь — Варвара[64,121]. Первоначально «богочеловеки» планировали поселиться у В. Фрея, который уже приобрел славу специалиста по коммунальной жизни в Америке. Двое «послов» — А.К. Маликов и Н.В. Чайковский — отправились к Фрею для знакомства.
Коммуна, которую Фрей назвал «La progressive», была основана в 1871 г. В год приезда «богочеловеков» в Америку там вышла книга Чарльза Нордхоффа «Коммунистические сообщества в Соединенных Штатах», содержащая описание коммуны Фрея, ее «Конституцию» и программное «Заявление» [103,344]. Располагалась коммуна в местечке Ceadar valley (Кедровая долина) в 50 милях от ближайшей станции железной дороги — Индепенденс. Самый крупный город в той округе — Уичито. Ceadar valley расположилась в долине реки Арканзас, в южной части штата Канзас. Севернее — город Хатчисон; южнее, на границе с Оклахомой — Арканзас-Сити. Железная дорога из Нью-Йорка проходит через административный центр Канзаса город Топика. По этой железной дороге, через Топику в Индепенденс, а оттуда в Кедровую долину и отправились два «разведчика».
Позже А.К. Маликов рассказывал В.Г. Короленко о тех ожиданиях, с которыми он ехал к Фрею, и ярком их несоответствии тому, что перед ним открылось:
«Депутаты рассчитывали найти благоустроенную общину с солидными постройками и огороженными полями, но приехав на место, нашли жалкую хибарку с щелями в стенах и адским холодом внутри. Потолка не было. Вверху была только щелевая крыша» [41,650].
Так ли жалок был вид жилища Фрея или Маликов «сгустил краски», вспоминая свой приезд в «La progressive», но результат знакомства был иной, чем планировалось: «Вместо того чтобы примкнуть к этой колонии, эмигранты пригласили Фрея к себе и основали поблизости коммуну» [41,650]. Вряд ли все дело в бедности Фрея или его неумении поставить дело. Георгий Мачтет, посланец кружка «американцев», прожил в коммуне Фрея восемь месяцев и не вынес ощущения материальной запущенности Дом Фрея, в его описании, типичен для той местности и того времени) [53,203]. Иное дело — те жизненные принципы, которые исповедовал Фрей. Он считал вегетарианство и аскетизм двумя главными заповедями коммунальной жизни и те, кто считал иначе, ужиться с ним не смогли бы. Его коммуна располагала было 40 акрами «огороженной земли» то есть той что использовалась под посевы. Это 16 гектар. И четыре акра (чуть более полутора гектаров) были под виноградниками [103,354]. Даже при урожайности кукурузы ниже нижнего предела — в 20 центнеров с гектара, можно было получить более 30 тонн зерна. Всей же земли было 320 акров, то есть почти 130 гектаров. Это позволяло содержать стадо до 15 коров, столько же свиней и домашнюю птицу. Но питались коммунары в основном бобами и маленькими хлебцами из муки с отрубями и без соли [53,188]. Главное же чем Фрей оттолкнул от себя «богочеловеков» — та моральная атмосфера, которая сложилась в его коммуне: «В общине, устроенной с целью выработки идеального строя жизни, царил деспотизм «мнений и убеждений» [53,199]. Выше мы говорили о том, что, признавая в целом методы, отстаиваемые Фреем «богочеловеки» стремились к достижению несколько иных целей. В цитированном уже письме H.H. Чайковского к Д.А. Клеменцу есть одна фраза, позволяющая предположить, что настороженное отношение к тем принципам, которые стремился утвердить Фрей в своей коммуне, появились у них задолго до того, как они приехали в Кедровую долину. Вот она:
«Да, разные Фреи своими экспериментами вполне подтверждают ваше неодобрение к такого рода дрессировке людей» [92,194].
Лично убедившись в том, что такая «дрессировка» действительно применяется Фреем, они решили действовать самостоятельно. Вслед за этим из Нью-Йорка в Канзас были вновь направлены «депутаты». В.И. Алексеев в своих воспоминаниях пишет: «Двое из нас, умевшие хорошо говорить по-английски, отправились с одним американцем, тоже общинником, в Канзас для покупки подходящего участка земли» [2,243]. И далее сообщает, что было куплено 160 акров с домом, двумя лошадьми и коровой — по 25 долларов за акр. За два года до этого Г.А. Мачтет наблюдал совсем иной порядок приобретения здесь земельных участков:
«Фермер должен заявить о взятой им земле, платить за нее через год после заявления (так как вся эта земля принадлежала индейцам осседжам, ушедшим дальше на юг и поручившим конгрессу продать ее) по 1 доллару 25 центов за акр, предварительно присягнув, и представив двух поручителей, что он берет ее для обработки, а не для спекуляции» [53,192].
К 1875 г. свободной земли в Каназасе уже не осталось и «богочеловекам» пришлось покупать участок разорившегося (вероятно) фермера, уже заложенный в банке, о чем мы узнаем из письма С. Клячко к Чайковскому [14-181,8]. Покупка земли, в той же самой Кедровой долине, где проживал Фрей, обошлась примерно в 4 тыс. долларов -40 % имевшегося в их распоряжении капитала. И предстояли еще траты по обзаведению хозяйством, покупке семенного материала. Но какого либо беспокойства коммунаров по поводу их будущего заметно не было. Наоборот, по их мнению, все складывалось отлично: удалось не только переехать в Америку, но и вступить во владение фермой: домом, хозяйственными постройками, плодородной землей. Настало время воплощения в жизнь их идеалов, о чем с удовольствием вспоминал В.И. Алексеев: «Жили мы в первое время дружно и радостно, поскольку нас интересовала новизна обстановки» [2,240].
Дом, доставшийся коммунарам, был обычным для тех мест и, видимо мало отличался от того, в котором жил Фрей. Вот описание такого дома, оставленное H.A. Мачтетом:
«В земле сначала делаются небольшие углубления и кладут в них большие камни, на один фут ниже общего уровня земли. На эти камни кладут сбитые из тяжелых досок рамы, к четырем углам которых и к местам, где предполагаются двери и окна, прибавляются толстые стойки во всю предполагаемую вышину дома, поверх которых опять накладывается рама. К этим рамам прибиваются стоймя доски, образуются стены, и щели заклеиваются толстой бумагой. Крыша строится, как и у нас. У людей более состоятельных (…) стены состоят из двойного рада досок с небольшим промежутком, и такие дома сравнительно очень теплы» [53,203].
Невдалеке от места, где стоял дом колонистов, находился лес (точнее овраг, заросший лесом). Там они заготавливали дрова. В нескольких десятках метров в другую сторону протекала река, один из притоков Арканзаса.
Поселившись на ферме в конце октября, колонисты убедились в том, что дом, в котором было только два помещения, им мал. Главным занятием на зиму стала пристройка к дому «избы», а также сооружение дополнительных хозяйственных построек. Забегая вперед, скажем, что строения эти получились неудачными из-за отсутствия навыков: в стенах и крыше «избы» были щели, через которых помещение продувалось насквозь; один сарай упал, когда о него почесалась корова. Строительством занимались главным образом, Н.В. Чайковский и В.И. Алексеев. На долю остальных выдались хозяйственные работы: заготовка дров, приготовление пищи, уход за скотом. Хозяйственный С.Л. Клячко больше других занимался покупками и, соответственно, часто отлучался в город. Коммунары по очереди дежурили на кухне. Главной обязанностью дежурного было приносить и греть воду, что было особенно обременительно во время стирки. Экономя тающие общественные деньги, коммунары начали сами шить себе одежду. Получалось это только у Е.А. Маликовой, но даже сшитая ею одежда получалась, мягко говоря, «мешковатой» [79,241].
К весне коммунары приобрели еще двух коров и двух лошадей. Землю свою засадили кукурузой, а на пяти акрах посеяли пшеницу. С началом полевых работ жизнь в коммуне сильно изменилась: мужчины ушли на поля, а на долю женщин пришлась почти вся домашняя работа и уход за скотом. И те, и другие, работали по одиннадцать часов в сутки, до упаду [67,67]. В быту сильно сказалось неумение организовать собственный труд. Маликов рассказывал позже:
«Над чем американец проработает полчаса, не торопясь, хладнокровно, настойчиво и сделает в десять раз лучше нашего, мы, горячась, проводили по целому дню» [65].
Тем не менее, новизна обстановки, надежда на то, что жизнь вскоре наладится, вера в то, что со временем новые жизненные принципы найдут свое воплощение — все это позволяло поддерживать высокий эмоциональный тонус в коммуне. Немалую роль сыграло и то настроение, которое приходит к интеллигенту в тот момент, когда у него получается работать руками, когда созданные им (хоть и далекие от идеала) вещи находят применение в реальной жизни. Чувство победы над собой и природой у коммунаров было значительно более сильным, чем у тех их товарищей, что годом раньше пошли «в народ» под видом пильщиков дров, сапожников, каменщиков и т. п. Там все же определяющим было желание «приблизиться к народу». В сочетании с необходимыми правилами конспирации физический труд приобретал форму игры «в простую жизнь». Здесь же — в Канзасе — труд был самой жизнью. Точно так же (может быть только с лучшим результатом) трудились соседи: американцы и переселенцы из Европы. Это была жизнь ради труда и работа ради жизни. Преодолевая трудом «пропасть» между народом и интеллигенцией, о которой они слышали, а потом и толковали в России, «богочеловеки» невольно должны были испытывать укрепляющее чувство гордости.
Встань колонисты на этот путь, захоти они просто врасти в американский образ жизни, им бы возможно, это удалось (впрочем, Маликову — никогда). Так, Мачтет описывал «одного русского П.», бывшего артиллерийского офицера, приехавшего в Америку вместе с Фреем и поссорившимся с ним: «Из ничего, без копейки денег, одной работой они (П. с женой — К. С.) создали себе небольшое хозяйство, завели скот, приобрели необходимые инструменты и выстроили на занятом участке недурную избу. (…) Все это было добыто, безусловно, кровавым потом» [53,212].
Вскоре и к коммунарам пришло сознание того, что труд заслоняет все то, ради чего они поехали в Америку. Как позже выразился Маликов:
«Нужно было переделаться совсем. Нужно было отказаться от тех российских идеалов, которые мы привезли и над которыми там смеялись» [65].
Так наметилось первое противоречие: между изматывающим физическим трудом и идеалом свободного человека, по своим возможностям равного Богу. Работа от темна до темна не оставляла времени «даже на чтение газет и книг» [14-147,88]. Духовный потенциал человека, развить который «богочеловеки» хотели в Америке становился все более абстрактным понятием, для которого нет место в реальном мире. Все те знания и способности, которые обладали выпускники Московского и Петербургского университетов, искавших приложения своим интеллектуальным способностям, были не к месту и не ко времени.
Такая работа медленно и постепенно, но чем дальше, тем больше вызывала нравственную усталость. В.И. Алексеев позже писал, как невыносимо было для Маликова заниматься изо дня в день одним и тем же сельским трудом, как ему хотелось «в хорошее весеннее утро пойти помечтать куда-нибудь лес или сесть на берегу реки и поудить рыбки» [2,245]. Подобные чувства испытывали и все остальные.
Было и другое, вызывавшее, может быть, не меньшее раздражение — постоянное присутствие рядом одних и тех же людей — в поле, за обедом, в комнате вечером. Любовь к человеку, представляемая как постоянная потребность и постоянное действие на благо ближних, на столь ограниченном пространстве, при полной невозможности остаться хотя бы на некоторое время одному, не получалась. Более того, в коммуне нарастало напряжение, прорывавшееся мелкими обидами и ссорами. «Богочеловеки» попытались снять это напряжение при помощи «исповедей». Эта процедура слегка напоминала практику ранних христиан. Вечером, после работы и ужина, коммунары собирались вместе и каждый, по очереди, говорил о том, что его более всего заботит, стараясь не утаивать од товарищей мысли и поступки, за которые может быть стыдно.
Терапевтическое действие откровенных рассказов о своих переживаниях, при сочувственном отношении окружающих, в свое время испытал Н.В. Чайковский в Кушелевской коммуне (предшествующей образованию кружка «чайковцев»). Он и предложил ввести добровольные «исповеди» для прекращения возникающей среди «богочеловеков» взаимной неприязни. После этого споры, на какое то время прекратились. По окончании вечерних коллективных бесед (как запомнил В.И, Алексеев) «все расходились с радостным, любовным чувством друг к другу» [2,244].
И все же к концу первого года пребывания в Америке «богочеловеки» не только не приблизились к тому идеалу, ради которого поселились в Канзасе, но и еще более отдалились от него. Взаимоотношения между ними стали гораздо хуже, чем до переезда в Америку, а главное — вместо ожидаемой внутренней гармонии нарастало чувство раздражения и усталости. Коммуну надо было спасать, но сами они не чувствовали себя способными что-либо изменить. Только категорическое признание этого факта заставило их обратиться к В. Фрею с просьбой приехать и наладить жизнь в коммуне. Они не могли не понимать, что добровольно соглашаются на ту «дрессировку», которая им была противна год назад, но ничего не могли поделать. Они пошли на это, спасая собственный идеал «веры в человека» и, частично, от отчаяния, вызванного предчувствием катастрофы. Так начался второй и последний период жизни в коммуне.
Фрей приехал в коммуну «богочеловеков» с женой Марией Славинской и дочерью Беллой осенью 1876 г. Он сразу повел себя как руководитель и наставник. Многое из того, что было заведено в «La progressive» было перенесено им в новый коллектив. Так был введен жесткий распорядок дня, которого ранее не существовало. По описанию Г. Мачтета день в коммуне Фрея должен был выглядеть приблизительно так:
Время вечернего собрания и отхода ко сну Мачтет не указал, но вычислить их не составляет труда: спать должны были ложиться не позднее 22 часов, соответственно собрание — около 20 часов.
В. Фрей добивался чистоты коллективной жизни и требовал, чтобы муж и жена разговаривали друг с другом только в присутствии посторонних, для того, чтобы не было «сплетен». Он был твердо уверен в том, что выжить, способны только те коммуны, что спаяны крепким религиозным чувством. Добиваться единства веры он решил при помощи новых для «богочеловеков», но опробованных им ранее методик: вегетарианства, аскетичного поведения, пения псалмов по вечерам и «критицизмов».
Сильный «догматический элемент» отмечал у Фрея уже Г.А. Мачтет [53,202], а В.И. Алексеев впоследствии писал:
«Фрей был человек прямолинейный, с сильной стальной волей, человек скорее догмата, чем чувства. Мы же были люди чувства» [2,244].
Копируя внешнюю сторону религиозной деятельности, Фрей стремился достичь подлинной религиозности при отсутствии настоящей веры. Так в коммуне «богочеловеков» появились первые признаки религиозного действия — обряды религиозные запреты, изобретенные Фреем. Почти все они (за исключением вегетарианства) были заимствованы из практики распространенного в то время в Америке религиозного движения шекеров, также живших коммунами.
Ни одно из этих правил в коммуне не прижилось, что лишний раз показало как далеко «сконструированной» религии, в которой вера есть требование разума, до религии настоящей, в которой вера изначальна и иррациональна. В коммуне вера должна была возникнуть из желания и понимания, то есть стать следствием воли. Фрей, с его бесконечной убежденностью в собственной правоте, мог следовать этим путем очень долго. Остальные, «люди чувства» — нет.
Псалмы были отвергнуты сразу же. Какое-то время держалось вегетарианство, и то потому, что урожай, собранный осенью 1876 г. не позволял рассчитывать на обильный стол. Но даже крайняя бедность в сочетании с моральным давлением Фрея (а может быть как раз вследствие последнего) не спасли вегетарианскую доктрину. В.Г. Короленко сохранил ироничный рассказ Маликова «о том моменте, когда коммуна выбилась из-под нравственной ферулой Фрея» — они зарезали и съели единственную свинью, имевшуюся в их собственности [41,651].
Аскетизм же вводимый Фреем и наложившийся на без того крайнюю стесненность в средствах, приносил массу страданий, более нравственных, чем физических. Всем, кто впоследствии слушал рассказы Маликова о жизни в коммуне, больше всего запомнилось, что коров колонисты доить не умели и те давали все меньше молока. Поскольку же основным блюдом была болтушка из муки с молоком, то, после того, как коров «перепортили» и молока на всех не стало хватать, разница между аскетизмом Фрея и аскетизмом вынужденным перестала существовать. Начались болезни. К этому добавлялось и то, что заготовленных дров на всю зиму не хватило, и ходить за ними надо было почти ежедневно в мороз и пургу. Лишений хватало, но они были следствием неумелости и неприспособленности, а не сознательного самоограничения и все колонисты (кроме Фрея) были бы рады их избежать. К тому же жизнь полная лишений подрывала изначальную теорию «богочеловечества», признававшую необходимым гармоничное развитие всех сторон человеческой натуры.
Оставались еще «критицизмы». Они сильно отличались от тех «исповедей», которые практиковались до прибытия Фрея. Вот их описание из мемуаров В.И. Алексеева:
«Все члены общины должны были критиковать на специальных для этого собраниях каждого из собратьев, высказывая, что каждый из нас заметил предосудительного в критикуемом, и за эти следовало общее суждение, как нужно избежать этого или как исправиться» [2,244].
В фонде Н.В. Чайковского сохранилась записная книжка того периода, предназначенная специально для подготовки к «критицизмам» [14–71]. Записи в ней очень короткие: на каждой странице по два три имени и рядом — поступки, которые Чайковский считал неправильными или вредными. Например: «стычка А. с Б. и Ш.» (Алексеева с Бруевичем и Шлемой, как называли С. Клячко). На 19 страницах этой книжки упомянуты еще жена Чайковского Варя, Маликов, Фрей, Лидия (Эйгоф) и Иван (Хохлов?). «Проступки» разбираемые на «критицизмах» характерны для коммунальной жизни: обидное слово, спор по поводу работы прорвавшееся раздражение. «Критицизмам», по мысли Фрея, отводилась двойная роль. Во-первых, обрядового действия, фиксирующего этапы «очищения», служащего ступеньками к «новому коммунальному человеку». Во-вторых, разрядки, снимающей накопившиеся противоречия и обиды. Они должны были дать возможность «разумно» подходить к конфликтам, не давая разгуляться чувствам. Эффект же получился прямо противоположный. Днем, как можно судить по записям Чайковского, коммунары должны были присматривать друг за другом, а вечером выступать в качестве «обвинителями». Время исповедей прошло, а вместе с ними и период «просветления». Критицизмы оказались местом столкновения взаимных обид:
«Эта форма исправления (…) нисколько не исправляла отрицательных явлений в общине, наоборот, только портила взаимные отношения членов»[2,244].
Первоначально «богочеловекам» казалось, что достаточно единства убеждений и свободного труда, чтобы вместе пройти весь путь формирования гармоничного человека. Потом они решили, что дисциплина и контроль позволят хотя бы определить направления этого пути, а далее их чувство любви каждого к каждому вновь возобладает. Однако средства, применяемые Фреем, оказались совсем негодными: вместо постоянной поддержки и коллективных усилий по преодолению трудностей коммунары получили всеобщую слежку и тотальное обличение самых мелких проступков.
Всеобщей любви и гармонии, основанной на вере ли (по Маликову), на чувстве (по Чайковскому и Алексееву), на самодисциплине и самоограничении (по Фрею) в коммуне не получалось. В то же время нормальная человеческая любовь — мужчины и женщины — возникала и укреплялась и в этих условиях. Распавшаяся семья А.К. Маликова дала начало двум новым. Е.А. Маликова вышла замуж за В.И. Алексеева, а сам Маликов женился на К.С. Пругавиной. Но общий моральный климат в коммуне был крайне тяжел.
Встает вопрос: почему в общинах шекеров «критицизмы» воспринимались нормально, а у «богочеловеков» — провалились?
Видимо, они не были готовы к ним ни психологически, ни ментально.
«Критицизмы» шекеров — естественная часть их жизни, если не сказать — быта. «Критицизмы», введенные Фреем — инструмент болезненной переделки человека индивидуального, в человека общественного. И такой инструмент не был ими желаем, по крайней мере, в то время когда задумывалась поездка в Америку. Вспомним, они уезжали из России с мыслью, что им удастся любовью обновить себя самих и дать пример всему человечеству.
Но что должно было привести их к такому обновлению? «Будем любить и всё», — слышится в объяснениях Алексеева. «Отыщем в человеческой натуре новые чувства», — писал Чайковский Д.А. Клеменцу [92,95]. Но как их отыскать? Исповеди не дали результата не из-за отсутствия искренности, а совсем подругой причине: никто из «богочеловеком» не стал, в Америке, по настоящему верующим человеком. И удавалась любовь — обычная любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине. А вера — не давалась. Им казалось, что достаточно единства убеждений, общности целей, свободного труда совместного быта для того, чтобы вместе, помогая друг другу пройти весь путь к формированию такой личности, которая забудет все эгоистические устремления и силой одной лишь любви преодолеет все трудности и препятствия на пути к свободному обществу. И даже если признать, что такое, в принципе, возможно, придется констатировать, что средства ими выбранные были негодными. Вместо постоянной поддержки и дружеского участия (что было в самом начале их американской эпопеи), коммунары, уже через год совместной жизни, получили всеобщую слежку, ссоры, взаимные обвинения и горечь неудач.
Глава 8 Распад коммуны «Богочеловеков»
Первым не выдержал А. К. Маликов. Некоторое время он пытался как-то соединить собственную теорию с той практикой, которую «богочеловеки» получили с приездом Фрея. А.И. Фаресов, передал его слова:
«Когда меня осенила мысль, что человек кроме души имеет еще грешное тело и что последнее убеждается и направленной против него силой, то Фрей создал и пассивное насилие…» [79,251].
Эта уступка теории Конта и попытка примириться с критицизмами не дала ничего. Не ужившись суровой дисциплиной, насаждаемой Фреем, Маликов покинул общину, построив себе дом на другом берегу реки. Вместе с ним из коммуны ушли Пругавина, Бруевич, Хохлов. Начался процесс распада общины «богочеловеков», остановить который уже было невозможно. Некоторое время (в начале 1877 г.) время коммуна «богочеловеков» (или то, что от нее осталось) существовала под руководством Фрея. Положение в ней становилось все хуже:
«Эти два года, — вспоминал потом Чайковский, — были сплошным рядом незаметно нарастающих антагонизмов и кризисов, всегда, правда, благоприятно разрешавшихся из-за всепрощающего и всеприемлющего чувства веры, любви и уважения друг к другу. Но — увы — с каждым таким кризисом уверенность в безусловной силе духовного талисмана определять безмятежное течение общинной жизни слабела…» [87,283–284]
И чем больше эта уверенность слабела, тем сильнее в колонистах развивалось чувство тоски по родине, доходившее до степени (в определении В. И. Алексеева): «хоть все брось и беги». Формальный повод к разрушению общины мы можем назвать точно благодаря В.Г. Короленко и Л.Н. Толстому, передавших рассказы А.К. Маликова и В.И. Алексеева. В записках Д. П. Маковицкого (1906 г.) один из рассказов Л.Н. Толстого о «богочеловеках» выглядит следующим образом:
«Община распалась из-за жены N (Л. Н. назвал, я не запомнил). У нее был грудной ребенок, и у нее в груди пропало молоко. Решили приспособить ребенка к корове, и это делалось по нескольку раз в день (…) У коровы убавилось молока. А эта была единственная корова общины, в которой было несколько семей и питались одной кукурузной мукой, забеленной молоком. Из-за коровы вышел раздор, и распалась община» [50,86].
В. Г. Короленко передал рассказ Маликова так:
«Никто не умел работать, доить коров, ухаживать за ними. Коров скоро перепортили. Начались разногласия. В коммуне были люди семейные, что усложнило отношения и пришел момент, когда одна из матерей заявила прямо, что ей все равно: пусть десять коммун погибает, лишь бы жив был ее ребенок» [41,651].
А первым, кто уехал из коммуны навсегда, стал Н.В. Чайковский. Имущество коммунаров тогда еще не было разделено, свободных денежных средств не было и Чайковский, добираясь до Филадельфии, «вел жизнь американского босяка». Затем он стал разнорабочим, претерпел много лишений и, наконец, в конце 1877 г., нашел приют у шекеров в Нью-Йорке. С коммуной он поддерживал постоянную связь, рассчитывая на то, что скоро сможет забрать к себе семью. Судя по сохранившемуся в его архиве письму А.К. Маликова от 4 января 1878 г., именно Чайковский сумел убедить и своих друзей единомышленников в том, что им надо вернуться в Россию:
«В нашем сердце, — пишет Маликов, — настойчиво еще звучит сдержанное чувство, а в головах стоит одно сознание, живая мысль, что искусственно новых процессов не вызовешь, что они рождаются только самой жизнью (…) — так думал я, но где же наша настоящая жизнь, наша задача и забота? Наконец они все (думы — К. С.) вылились в тех искренних словах, которые высказал ты в тех искренних словах, которые высказал ты в письме твоем: «Бежать к людям, с которыми можно вместе работать и жить сколько-нибудь полезной общинной жизнью, с тем, чтобы оторвать людей (и себя конечно) от проклятого доллара и сказать им про иную жизнь» [14-190,22].
Весной 1877 г. начался отъезд «богочеловеков» из коммуны. Земля и ферма, по свидетельству В.И. Алексеева, остались в пользование тем, кто в коммуне еще оставался. Часть скота и инвентаря была продана для того, чтобы обеспечить переезд обратно в Европу. Так, сам Алексеев продал двух лошадей за 300 долларов, взяв себе половину этой суммы [2,246]. Когда состоялся раздел имущества, точно неизвестно, но это произошло еще до лета 1877 г., поскольку из письма Д.А. Клеменца Н. В. Чайковскому от 16 августа 1877 г. приводятся слова Сердюковой:
«В начале июня у меня были Алексеев с Эховой. Я им дала три рекомендательные письма на границу, т. к. они хотели разделиться на три пары. Ужасно удивляюсь, что их до сих пор нет» [14-180,2].
Лидия Эйгоф в Россию не вернулась и продолжала жить в коммуне, вместе с Фреем (возможно, она вернулась с полдороги). Остальные же пятеро: А.К. Маликов с К.С. Пругавиной, В.И. Алексеев с Е.А. Алексеевой и Г.И. Алексеев. Нелегально перейдя границу, они уде летом 1977 г. были в России. Тогда же летом из коммуны уехала жена Н.В. Чайковского с детьми, С.Л. Клячко, с женой и Хохлов. Сначала, они, как до этого Чайковский, перебрались в Филадельфию, а там их пути разошлись: Чайковские уехали в Англию, Клячко — во Францию. Путь Хохлова не прослеживается. Н.С. Бруевич, по данным российской полиции, в 1877 г. содержался в арестантском отделении дома умалишенных в Берлине [15-314,29–30]. Так закончился самый длительный этап в существования «богочеловечества» — этап жизни в коммуне.
Многие авторы точно подметили причины, вследствие которых для «богочеловеков» пребывание в коммуне стало невозможным. Повторим те из них, которые считаем наиболее значимыми: отсутствие эмоционального и психологического единства коммунаров — единства веры (Фрей, Пругавин); запутанность личных отношений (Короленко, Полнер); неумение физически трудиться и, как следствие физическое перенапряжение и нищета (Короленко, Полнер); тоска по Родине (Полнер).
Менее убедительными представляются аргументы Д. Хечта: чувство невероятного одиночества перед лицом сил природы («богочеловеки» не были пионерами прерий, они поселились в уже достаточно обжитом районе); незнание специфики американской жизни (за два года можно было узнать, если совершенно не игнорировать — как Фрей — эту специфику).
Еще один аргумент, выдвигаемый и Хеттом и Полнером — враждебность соседей фермеров — никак не подтверждается источниками. Ни в переписке «богочеловеков», ни в их воспоминаниях ничего о враждебности соседей не говориться. Наоборот, американские фермеры вели себя по отношению к коммунарам вполне лояльно, а их добродушные насмешки над неумелостью колонистов и незнанием реалий сельской жизни никак нельзя назвать «враждебностью». Сохранился, например, рассказ А. К. Маликова о том, как колонисты продали соседу дерево, которое не смогли вывезти из оврага и о том, как тот, посмеиваясь, дал цену выше той, что за это дерево запрашивали [65].
Все же и те замечания, которые мы считаем справедливыми, играли второстепенную роль. Да, была тоска по родине, но сразу вернулись в Россию (не считая детей) лишь пять человек — меньше половины взрослого населения коммуны. Да, в общине «богочеловеков» жили очень бедно, но та жизнь, которую вел Н.В. Чайковский, после того как эту общину покинул — жизнь грузчика, разнорабочего, безработного — была еще тяжелее, А Маликов и Алексеев, с семьями, по возвращению в Россию, по свидетельству последнего, просто голодали [7,325]. Что же касается «запутанности отношений» и роли в этом В. Фрея, то не надо забывать, что тот был приглашен в коммуну, чтобы наладить расстроенные дела. Участие Фрея в коммунальных конфликтах была сильно преувеличено (Маликовым), о чем писал уже Н.В. Чайковский в своей автобиографии для «Русских ведомостей» [87,283]. Переписка Чайковского 1877–1878 гг. убеждает в том, что самые сердечные отношения сохранились между Чайковским и Алексеевым, Маликовым, Клячко, Эйгоф, Марией Фрей. С самим Фреем было трудно дружить даже по переписке, но он «богочеловеком» никогда и не был.
Существует и еще одно, достаточно простое объяснение распада коммуны, выдвинутое А. К. Маликовым и неоднократно им повторенное в беседах с разными людьми. Бесхитростный корреспондент газеты «Приволжский край» постарался сохранить интонацию рассказов Маликова, которую сочли необходимым несколько смягчить и Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко. Вот как выглядит самый «прямой» пересказ слов Маликова:
«— Что же вас заставило вернуться оттуда? — спросил я как-то Маликова.
— Бабы. Как всегда и везде, они мешают. А отчасти, конечно, и наше неумение подладиться под американскую жизнь…» [65]
Эта прямолинейность ответа наводит на мысль о том, что Маликов сознательно выбрал для объяснения первое, что лежало на поверхности, и сделал это специально, чтобы не вдаваться каждый раз в тонкое разбирательство причин, по которым американский быт оказался сильнее «новой религии». Эту маскировку в свое время разгадал В.Г. Короленко, оставивший проницательное замечание:
«Они ехали в Америку, чтобы на свободе произвести опыт, рассчитывая найти там не только нужную свободу, но и связь, хотя бы с чужой жизнью. Свободу от внешних запретов они нашли, но связи с жизнью не было» [41,651].
Сами участники этой эпопеи не раз и не два пытались объяснить (а лучше сказать — уяснить) причины своих неудач. Эти объяснения выглядят гораздо более сложными, чем то, которое Маликов предлагал «посторонним». Вот они:
При всем различии подходов и оценок, ясно просматриваются две цели, с которыми «богочеловеки» ехали в Америку: а) преобразовать самих себя, добившись гармонии «души и тела», б) показать человечеству спасительный выход из состояния перманентной войны ко всеобщему единству на основе той гармонии, которая должна была возникнуть между человеком и природой, а также внутри человеческого сообщества. Понятно, что вторая (главная) задача могла быть решена только при успешном решении перовой. Вот здесь-то «богочеловеков» и постигла неудача: отношений братства и любви в коммуне наладить не удалось потому, что внешние обстоятельства оказались сильнее веры в собственные силы и коллективной воли к совершенствованию. Почти двухгодичной историей коммуны было неоспоримо доказано, что одного желания для достижения всеобщей гармонии недостаточно. Религия «богочеловечества» не прошла испытание коммунизмом нищеты. Осознание этого факта стало одновременно и признанием провала эксперимента, поставленного в «лаборатории» канзасской степи.
И тут перед «богочеловеками» встал вопрос: где была основная ошибка? Были ли неверными средства воплощения идеала? Или сам идеал был недостижим, а значит ошибочен? Признание второго означало окончание истории «богочеловечества» весной 1877 г. Однако те идеи, с которыми ехали в Америку для большинства «богочеловеков» не потускнели.
Летом 1877 г. начался новый этап в истории движения, этап своеобразный и достаточно значимый в жизни большинства «богочеловеков».
Глава 9 Завершение истории «Богочеловечества» (лето 1877 — конец 1878 гг.)
«Оставалось нести повинную или родной матери — родине или обратиться к добровольно признанной злой мачехе — Америке. Ты выбрал первую, я вторую. И вот, как видишь, я оказался в религиозной общине шекеров», — писал Н.В. Чайковский А.К. Маликову [14-147,38]. Выбор пути во многом определялся внешними обстоятельствами. Некоторым из бывших колонистов можно было не опасаться возвращения в Россию, поскольку их участие в деятельности революционных кружков начала 1870-х гг. было незначительным, других же (Чайковского, Клячко) ждал немедленный арест. Но еще более существенной, была та позиция в отношении идей «богочеловечества», которую занял каждый, при распаде коммуны.
Таких позиций было четыре:
Позиция первая. Идеал «богочеловечества» прекрасен, но недостижим. Поэтому надо заниматься иными делами, храня память о коммуне, как о красивой, но безнадежной попытке достичь совершенства. Пришедшие к таким выводам уехали из коммуны и больше не стремились ни к развитию идей «богочеловечества», ни к их пропаганде. Это С.Л. Клячко, Г.И. Алексеев, М.В. Хохлов.
Позиция вторая. Идеал и средства верны. То, что случилось — досадное недоразумение. Надо пробовать еще и еще, пока не получиться. Так видимо рассуждала Л. Эйгоф, оставшаяся в коммуне Фрея. В 1877 г. к ней (и, заочно, к Чайковскому) особенно близка была Мария Фрей, которая, не будучи «богочеловекам» разделяла их мысли и чувства.
Позиция третья. Идеал верен в своей основе, но концепция «богочеловечества» содержит неверные элементы, которые необходимо переработать. Это возможно сделать только в России. Так рассуждали А.К. Маликов и В.И. Алексеев, вернувшиеся на родину и продолжавшие собственные религиозные поиски.
Позиция четвертая. Идеал верен, но «богочеловеки» пытались в его достижении использовать негодные средства. Можно попытаться еще раз воплотить его в жизнь, но уже совершенно по-другому. Так полагал Н.В. Чайковский, вернувшийся к разработке теоретических основ богочеловечества.
Собственно говоря, первое, из обозначенных выше направлений, «богочеловечеством» назвать уже нельзя. Можно только присмотреться к тому, как по-разному отходили от «новой религии» бывшие ее адепты.
С.Л. Клячко сразу же установил однозначно «светские» отношения со своими товарищами. Он вел обширную переписку со многими из них, но тщательно избегал тем, связанных с «богочеловечеством». Вернувшись в Европу и включившись в деятельность революционных эмигрантских организаций, он постарался как можно быстрее вычеркнуть «богочеловечество» из памяти.
Г.И. Алексеев, слабо проявивший себя в истории «богочеловечества», тем не менее, оказался одним из самых искренних поклонников идей А.К. Маликова, или же просто «богочеловеком по природе». Вернувшись в России, он был на военной службе, а затем жил жизнью «блаженного»: бродяжничал, раздавал свои деньги всем кто попросит, добывал себе пропитание, выполняя простую работу и более всего любил общество детей. Известно это из надежного источника — письма его брата В.И. Алексеева к Л.Н. Толстому от 5 ноября 1881 г. [23].
Самую длительную эволюцию претерпел М.В. Хохлов. Еще в 1876 г. следствие, ведущееся в его отношении в рамках большого дела «О пропаганде в империи» было прекращено. И ни с кем другим, из бывших «богочеловеков», мы не можем соединить рассказ А.К. Маликова о встрече в 1901 г. в Петербурге «с одним из бывших своих товарищей по жизни в Америке». Сцена эта, в передаче слов Маликова, его слушателем, выглядела так:
«Принимает меня в кабинете важный господин. Очиновничился почти до неузнаваемости. (…) Навожу разговор на прошлое.
Разве это все до сих пор интересует?
А вас разве нет уже?
Нет, мы теперь живем и интересуемся тем, кто будет назначен министром (…) кого произведут перед праздником, кто получит награду, орден и проч.» [65].
О жизни в коммуне, после того, как основная часть колонистов ее покинула, мы можем судить лишь по неполным и обрывочным сведениям, содержащимся в архиве Н.В. Чайковского. Это несколько фраз из переписки Чайковского с Клячко и Алексеевым и черновики писем Чайковского к Лидии Эйгоф и Марии Фрей. Лидия Филипповна Эйгоф была первой последовательницей Маликова. Кроме того, она была единственной женщиной в коммуне, которая приехала в Америку, сделав выбор самостоятельно. Определяющую роль в поступках всех остальных женщин играло личное чувство, а отнюдь не убежденность в правоте идей «богочеловечества». Подтверждением тому — характеристики данные Е.А. Маликовой и К.С. Пругавиной людьми, их знавшими очень хорошо:
Если добавить к этому, приведенное выше свидетельство А.К. Маликова о том, что именно женщины рассорили коммунаров и то, что жены Чайковского и Клячко никак не проявили своих «богочеловеческих» устремлений, то складывается общая картина: увлеченные своими идеями мужчины «поятнули» за собой в Америку своих жен.
Совсем иное дело — Лидия Эйгоф. Единственная из всех женщин, она серьезно увлеклась идеями Маликова и поехала в Америку не за мужем или любимым человеком а «сама по себе», как один из главных адептов «богочеловечества». В коммуне он попала под влияние Фрея и после отъезда большинства колонистов она, наперекор всему и всем, осталась, получив новый заряд религиозной энергии — энергии противоречия.
Сначала дела в коммуне Фрея шли хорошо (или Л. Эйгоф хотела так представить дело). Туда приехали давние сподвижники Фрея — американцы Бригс и Гримм, Фрей же стал безусловным руководителем маленькой общины и распорядителем всех дел. В.И. Алексеев в письме Чайковскому передавал слова Эйгоф: «…ей живется с Уильямом порядочно и она, по-видимому, занимается своим хозяйством» [14-151,11]. Однако получить сколь либо существенный доход, для того, чтобы выплатить доги по закладной, не удавалось, при том что срок покрытия долга — 5 июля 1880 г., а проценты по нему — 60 долларов в год. «Самое главное тут, конечно то, — писал Чайковскому С. Л. Клячко, — что сама коммуна, если она только хочет оставаться коммуной, никак не в состоянии заработать такой суммы, как бы они не старались» [14-181,8].
Нищета и физические страдания, по-прежнему преследующие коммунаров, воспринимались теми, кто остался, как нечто само собой разумевшееся. Определяющим был «нравственный климат» в общине или (как сформулировал его Чайковский в письме к Л. Эйгоф от 5 мая 1875 г.) «вопрос об зависимости человека от внешних условий» [14-147,21]. Иными словами, может ли человек «осуществить себя» будучи оторванным от общественной жизни, искусственно создав условия самоусовершенствования. И можно ли вообще эти условия создать. Сам Чайковский решил этот вопрос однозначно — нет. Пытаясь убедить друзей (а отчасти исходя из внутренней потребности самому уяснить свои новые взгляды), он написал несколько развернутых посланий в коммуну, самое важное из которых — письмо к Марии Фрей.
Основной тезис, который Чайковский пытался обосновать — жизнь вне согласия с самим собой никому не нужна:
«Да Маруся — безумие думать, что новая коллективная жизнь людей возможна на какой-нибудь почве, кроме того чувства (…) которое теперь чувствуем в себе лишь по временам, минутками, как что-то переменное, случайное и даже неестественное» [14-147,27].
Попытки Чайковского убедить оставшихся в коммуне в том, что «живое чувство» невозможно внутри маленького изолированного коллектива были встречены (не без влияния Фрея) почти враждебно:
«Вы не поняли ни одной мысли моей, вы надсмеялись над моею святыней, вы тянетесь вниз, в спор, в полемику» — написал Николай Васильевич черновике одного из писем в коммуну [14-146,8].
Однако полного охлаждения не произошло, переписка продолжалась. Тем временем нравственная атмосфера в коммуне становилась все хуже и хуже. Безысходность раз за разом проваливающихся попыток вызвать в себе истинно религиозное чувство давила на коммунаров более чем бытовые условия, стремительно приближающиеся к нищете. 10 января 1879 г. С.Л. Клячко сообщил Чайковскому:
«Из последних писем, которые я получил от Лидии и М. Евгр. (Марии Фрей — К. С.) я могу заключить, что им ужасно живется. Кажется, закружились окончательно в мякине самоусовершенствования и совсем потеряли входы и выходы» [14-181,4].
Чуть позже он писал о желании Л. Эйгоф переехать в ту же коммуну шекеров, где жила семья Чайковского, поскольку «состояние ее чрезвычайно скверное, кажется, что самое ужасное для нее то, что она начинает сомневаться в Фрее, а подобное разочарование (…) для нее должно быть в высшей степени потрясающим» [14-181,4]. И уже 20 января 1879 г. Клячко получил известие от Фрея и передал Чайковскому: «факт совершенный, Эйгоф уехала» [14-181,17]. Первая последовательница А.К. Маликова оказалась последней из тех, кого постигло разочарование в том способе утверждения «богочеловечества», который они избрали в 1874 г.
А.К. Маликов и В.И. Алексеев, с семьями, нелегально вернулись в Россию в конце июня — начале июля 1877 г. Дома их ждал арест, в соответствии с постановлением, изданным в 1875 г. Однако им удалось не привлекать к себе внимания, а властям было не до «богочеловеков»: только что закончились судебные заседания по «Процессу 50-ти» и в решающую фазу вступила подготовка к «Процессу 193-х». Оказавшись без каких-либо средств к существованию, они на какое-то (очень короткое) время нашли приют у A.A. Бибикова, а затем разъехались.
В.И. Алексеев с женой и детьми Маликова уехал к родным в Псков. Сам Маликов с новой женой — К.С. Пругавиной — к сестре в Москву [14-151,1]. Вскоре Маликову удалось устроиться на службу в управление Уральской железной дороги в Петербурге. В мае 1878 г. он уехал продолжать службу в Пермь, где познакомился и подружился с В.Г. Короленко. В своих воспоминаниях. Короленко оставил замечательный портрет основателя «богочеловечества» того периода жизни, когда разочарование от американской эпопеи еще не привело к отрицанию всех его прежних идей:
«В то время, когда я познакомился с Маликовым, ему было лет под сорок. В буйных волосах не было седины, но лицо было изборождено глубокими морщинами. Точно страсти, потрясающие эту пламенную натуру, провели неизгладимые борозды по его выразительному, грубоватому лицу с неправильными чертами. (…) у Маликова и теперь, когда, казалось, он усомнился и с таким юмором рассказывал о прошлом, что-то тлело, готовое вновь разгореться. Порой он действительно разгорался. (…) Слегка курчавые, густые волосы точно вставали дыбом над его головой, глаза сверкали глубоким огнем и речь лилась бурным потоком — пламенная, красивая и часто (…) малопонятная» [41,652].
В эти годы (1877–1880) проходил непрерывный и достаточно болезненный процесс эволюции взглядов А.К. Маликова от «богочеловечества» к христианству, завершившийся после трагической смерти К.С. Пругавиной в 1881 г., о чем он сообщал в письме Л.Н Толстому в письме от 21 июня 1881 г.:
«Бог послал мне великое испытание. 13 числа по Его желанию и справедливой воле я лишился того ангела утешителя, которого — я твердо уверен, я знаю — Дух жизни и истины послал мне, чтобы я познал любовь и благость Его, а ныне Он взял этого ангела и зовет — зовет Великий, Благостный и Сильный предаться воле Его…» [23].
Александр Капитонович познакомился с Л.Н. Толстым, через В.И. Алексеева, ставшего своим человеком в доме писателя. Между ними завязалась переписка. Переписывался он также с B.C. Соловьевым и К.П. Победоносцевым. В Перми его мысли (по свидетельству В.Г. Короленко) текли в русле идей «богочеловечества», привлекавшие к нему членов местного народнического кружка. Однако процесс пересмотра всех положений «новой религии», начавшийся еще в коммуне, шел неостановимо. Сначала, еще в 1877 г. он, вместе с Фреем, сформулировал новый тезис: «о борьбе со злом именно только под именем меньшего зла» [79,251]. Другими словами, ревизии было подвергнуто коренное положение «богочеловечества» о возможности любовью и только любовью преодолеть все слабости человеческой натуры. Затем, анализируя собственную жизнь в коммуне, он пришел к выводу о невозможности искусственного преобразования человеческой натуры, как бы сильно сам человек не ощущал потребности в таком преобразовании. В результате, в 1877–1878 гг. у его теории образовалась теоретическая «лакуна»: он четко представлял себе цель развития человечества в целом, но не мог предложить конкретные средства совершенствования человека.
«Сам я теперь не гонюсь за какой-нибудь строго определенной формой жизни, — писал он Чайковскому в январе 1878 г. — и думаю, что жизнь еще не в состоянии дать ее. Новые запросы и в отрицательной, и в положительной форме бродят еще (…) пока еще слабые, разделенные, а потому за ними надо следить (…) и скорее всего, что каждому человеку, одушевленному теми стремлениями, которые глубоко — неизгладимо залегли в нас, придется действовать более частно, вразброд» [14-190,23].
Общение (личное и по переписке) с крупными мыслителями и общественными деятелями христианской ориентации, и особенно влияние Л.Н. Толстого, помогло Маликову выйти из этого идейного тупика. Но произошло это за счет отказа от большинства положений «богочеловечества». Если в только что цитированном письме Маликов писал о «самой святой обновляющей идее человеческой любви» [14-190,22], то уже через два месяца, в письме от 15 апреля, он развивал уже совсем иные идеи: «Друзья мои, вдумайтесь в то, что человек сам себя обоготворить не может, что он должен слиться с необъятным целым» [14-190,25]. Здесь, в этом письме, впервые в рассуждениях Маликова появляется фигура Бога, не того бога, который является плодом человеческого сознания (как это было в «богочеловечестве», а Бога христианского, выступающего как «космическая мысль и воля, и любовь неограниченная, бесконечная, вечно развивающаяся, уходящая в бесконечность и глубь» [14-190,25].
Вероятно, не потеряй он горячо любимую жену, идеи «богочеловечества» еще долгие годы соседствовали бы у него с идеями, заимствованными у Л.Н. Толстого и B.C. Соловьева. Однако случилось иначе: в 1881 г. он резко повернул к православию, и, как уже с ним бывало, собственную жизнь строил в строгом соответствии со своими новыми убеждениями. Как сообщал В.И. Алексеев, Александр Капитонович стал аккуратно посещать церковные богослужения и исполнять в точности все православные обряды [2,249]. «Богочеловечество» А. К. Маликова закончилось.
Взгляды В.И. Алексеева тоже претерпели эволюцию в сторону христианства, однако, в этом случае встреча с Л.Н. Толстым и нравственное влияние писателя сыграли большую роль. Осенью 1877 г., «через каких то знакомых» В.И. Алексееву было предложено занять место учителя сына Л.Н. Толстого Сергея [7,325]. В качестве учителя Алексеев прожил в семье Толстого до конца лета 1881 г., а затем арендовал у него землю на пять лет. Из рассказа В.И. Алексеева, записанного П.И. Бирюковым, следует, что вернувшиеся из Америки «богочеловеки» принципиально расходились во взглядах с Толстым. «Я застал Льва Николаевича в периоде раннего православия, — говорил Алексее. — Я же был атеистом, и тоже откровенным и искренним» [7,325].
Захваченный общим для наиболее искренних сторонников «богочеловечества» порывом, Алексеев (как и Маликов, и Чайковский) пытался доработать «новую религию». В 1878 г., в письме к Чайковскому, он сообщал, что читает Вундта «и других» в связи с этой работой. Но теоретическая работа Алексееву не давалась.
«Я как-то глуп к теории, к чисто логической работе, — писал он Чайковскому. — Мне кажется, что, сколько бы я не сидел, ничего не высижу, что я мало способен на жизнь внутреннего, идеалистического характера (…) поэтому иногда слишком восторженные писания Капитоныча (Маликова — К. С.) мне делаются даже приторными, потому что они очень теоретичны или, лучше сказать, несоответственно восторженны» [14-151,5].
Найдя в Толстом заинтересованного слушателя, «богочеловеки» попытались его «пропагандировать». Маликов несколько раз приезжал в Ясную Поляну и выступал со своими «проповедями». В какой-то мере содержание этих речей перешло в подготовительные материалы Толстого к произведению «Собеседники», датируемые 1877–1878 гг. Маликов здесь — прототип одного из персонажей, Майкова, выступающего от имени «позитивистов». Одна из реплик Майкова очень хорошо отражает ту сторону «богочеловечества», которой оно повернуто к религии:
«Май [ков] говорит, что религия плод разума, что прежде человек не знал экономии в своих силах, потом узнал экономию в общественных силах — и это уже религия» [114-17,371].
Была ли успешной эта пропаганда «богочеловечества»? С полной определенностью можно сказать — нет, в свою веру Маликов и Алексеев Толстого не обратили. Об этом обе стороны высказались почти одними и теми же словами:
Между тем взгляды самого Толстого были достаточно близки к взглядам «богочеловеков». Так, в числе аргументов в пользу «новой религии» был такой: христианство сыграло свою роль в истории человечества и потому умерло. Толстой же, в одном из набросков 1875 г. — «О значении христианской религии» — записал:
«Значение религии в наше время представляется невольно подобным перегнившей и проржавевшей связи, которая когда-то была главной силой сплочения обществ» [114-17,353].
Перекличкой двух умозрительных концепций звучат и слова из другого наброска Л. Н. Толстого «Определение религии — веры», в котором религии отводится тоже место, что и у Маликова и у Чайковского:
«Религия (…) не только не может противоречить данным разума или жизни, но всякое знание и всякий акт жизни основывается только на религиозном воззрении» [114-62,226].
У Толстого, так же как у «богочеловеков», единственной реальной силой, способной вести человека к совершенству, является любовь. Отличие между взглядами Толстого и Маликова выявляет отношение к смерти. В теории Маликова этого понятия вообще нет, соответственно нет и бессмертия — важнейшей черты отличающей Бога от человека. Во многом, поэтому и возможно богочеловечество — приравненность человека к Богу в вере. У Толстого же смерть — главная характеристика жизни. Его переворот в мировоззрения имел гораздо более глубокие корни, чем у Маликова, уже потому, что Толстой начинал с основ — со смысла бытия, с жизни и смерти. В письме к H.H. Страхову от 30 ноября 1875 г. он последовательно излагает тот ход мыслей, что, в конечном счете, привел его к новому мировоззрению:
«— Что такое хотеть жить?
— Это любить себя. Хотеть умереть — это не любить себя, не себя любить – что одно и то же. (…) жизнь есть только переход от любви к себе, то есть из жизни личной, то есть этой, к любви не себя, то есть к жизни общей, то есть не этой, и потому на вопрос, что делать, я ответил бы: любить не себя, то есть каждый момент сомнения я разрешил бы тем, чтобы выбирать то, где я удовлетворяю любви не к себе» [114-62,226].
Толстой не мог признать человека равным Богу уже потому, что и жизнь и знание человека конечны. Для того чтобы хотя бы приблизится к Богу, человеку надо решить знать ответы на вопросы, по сравнению с которыми даже вопрос о пути развития человечества покажется частным. При всем сходстве выводов в теориях Толстого и Маликова их изначальные посылки совершенно разные. Поэтому он могли говорить «на одном языке» но не могли достичь единства мнений. Согласование позиций должно было произойти на условной «территории» того из мыслителей, кто проявит большую волю в отстаивании собственных взглядов. Сильнее оказался Толстой, и его влияние на Маликова и Алексеева было гораздо более значительным, чем влияние «богочеловеков» на него. Но это не значит, что такого влияния не было совсем. Вот запись Д.П. Маковицкого:
«Л. Н. сказал еще о В. И. Алексееве:
— Вот мой друг, которому я очень обязан. Мы с ним много пережили.
Софья Андреевна об Алексееве: Он имел большое влияние на Л.Н. В смысле упрощения жизни, на Сережу — в смысле революции» [50,87].
Хорошо известна роль В.И. Алексеева в составлении «Евангелия от Толстого», в истории с письмом последнего к Александру III по поводу казни народовольцев, чуть менее — в написании произведений «Дьявол» и «После бала». Но только ли тем был «обязан» Лев Николаевич своему домашнему учителю? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд дает письмо Л.Н. Толстого к В.И. Алексееву, написанное осенью 1881 г.:
«Мы как будто забываем, что любим друг друга. Я не хочу этого забывать, не хочу забывать того, что я Вам во многом обязан в том спокойствии и ясности моего миросозерцания, до которого я дошел. Я в Вас узнал первого человека (тронутого образованием) не на словах, а в сердце исповедующего ту веру, которая стала ясным и неколебимым для меня светом. Это заставило меня верить в возможность того, что смутно всегда шевелилось в душе» [114-49,620].
Именно так: не теоретические положения «богочеловечества» повлияли на Л.Н. Толстого, а пример людей, думающих также (или почти также) как он. Ему важно было убедиться, что не он один рассуждает таким образом, ему важно было отыскать единомышленников среди совсем посторонних людей, самостоятельно додумавшихся до близких ему выводов. И тем важнее для Толстого был пример «богочеловеков», которых он считал «крайними революционерами». О том, что вышесказанное не домысел, свидетельствует, на наш взгляд, фрагмент из еще одного письмо Л.Н. Толстого к H.H. Страхову — от 3 января 1878 г.:
«У меня живет учителем математик, кандидат Петербургского университета, проживший два года в Канзасе в Америке в русской колонии коммунистов. Благодаря ему я познакомился с тремя лучшими представителями крайних социалистов — тех самых, которые судятся теперь. Ну и эти люди пришли к необходимости остановиться в преобразовательной деятельности и прежде поискать религиозной основы. — Со всех сторон (не помню теперь кто) все умы обращаются на то самое, что не дает мне покоя» [114-62,368].
Интересно, что и к Фрею Л. Н. Толстой относился также как к «богочеловекам»: не вдаваясь в полемику по каждому пункту разногласий, отмечал общность ряда коренных идей: «Видите, позитивизм есть разный. Есть научный — вот это Литре, Вырубов, а есть религиозный, воззрения которого близки к моим» [115,77]. «Богочеловеки», Фрей и Л.Н. Толстой увидели друг в друге единомышленников по тому большому счету, которым определяется судьба страны. Каждый двигался самостоятельно, но цель была общая: религиозным обновлением вывести народ из состояния гражданской войны (как они это понимали), пик которой пришелся на 1881 г. И на этом пути они отчасти сознательно, а отчасти интуитивно поддерживали друг друга. «Богочеловеки» (и в особенности В.И. Алексеев) помогли Л.Н. Толстому утвердиться в его новых воззрениях, облегчили ему тот путь, который он должен был пройти. Поэтому, вероятно Сергей Николаевич Толстой называл потом Маликова «предшественником» отца на пути «отрицания насильственных приемов борьбы со злом» [115,110]. Толстой же, в тот момент, когда Маликов и Алексеев оказались в тупике от невозможности воплотить собственную теорию в жизнь, в свою очередь помог им перейти к новым взглядам.
Нам остается проследить рассмотреть вариант угасания «богочеловечества» — вариант Н. В. Чайковского. Поселившись у шекеров, Чайковский предпринял самую серьезную попытку теоретически обосновать «новую религию». Задача была нелегкой: двухлетний «эксперимент» в коммуне окончился неудачей и реальных доказательств верности «богочеловеческих» идей добыть не удалось. Но было одно доказательство, которое для Чайковского значило много белее всех неудач — его собственное чувство. С распадом коммуны вера его в возможность «богочеловечеством» гармонизировать окружающий мир не угасла, а религиозность даже возросла.
Чайковский быстро понял бесперспективность жизни в коммуне под руководством Фрея. Он первым уехал из колонии «богочеловеков». Но он был последним (если не считать длительную эволюцию взглядов Маликова), кто расстался с мыслью воплотить теорию «богочеловечества» в жизнь. Для начала, он признал неудачу лишь наполовину. По его мнению, верность главных положений «новой религии» не могла быть опровергнута только лишь тем, что для их подтверждения были избраны негодные средства. Результатом этого своеобразного компромисса с самим собой стала формула: «бежать к людям… чтоб спасти их». И вот в течение второй половины 1877 г. и весь 1878 г. Чайковский упорно трудился над книгами и собственными черновиками. Он поставил себе цель: не просто изложить принципы «богочеловечества», но обосновать их, опираясь на мировой науки — философии, математики, психологии. В его подготовительных материалах встречаются ссылки на Гельмгольца, Вундта, Сеченова, Тэна, Дарвина, Берви-Флеровского, Бекона, Локка, Юнга. Собственные же его воззрения того периода можно реконструировать при сопоставлении ряда черновых набросков (названных им «своими заметками») и «теоретической» части писем к друзьям.
Но прежде — о том, что помогало Чайковскому в его работе. Во-первых, его товарищи, как покинувшие коммуну, так и оставшиеся с Фреем (а к ним, помимо Л. Эйгоф можно причислить и М. Фрей), на протяжении года — полутора были заняты тем же — осмыслением уроков полученных в коммуне и теоретическим поиском. Это давало возможность поддерживать столь необходимый тонус умственной деятельности, обмениваться информацией, чувствовать важность и даже необходимость собственных усилий. Во-вторых, постоянно открываемые им связи с тем, что думали и писали его современники далекие от «богочеловечества» — ученые и мыслители. Сведения о беседах с Л.Н. Толстым, полученные от В.И. Алексеева, указывали на то, что путь ими избранный не был тупиком. Но особенно должна была обрадовать Чайковского книга В.В. Берви-Флеровского «Философия бессознательного, дарвинизм и реальная истина», вышедшая в 1878 г. В этой книге цель развития человеческого общества понимается как «установление согласия между людьми и животными на основании свободного убеждения» [6,10]. Первостепенная же задача общественного развития формируется следующим образом:
«Чтобы общество, основанное на разделе, превратилось бы, наконец, в общество организации, нужно чтобы быт, основанный на (…) эгоизме, перешел в быт, основанный на чувствах взаимности и деликатности» [6,197].
Сквозь эти формулировки просвечивают те же идеи, что и у «богочеловеков»: отказ от применения силы во взаимоотношениях людей; достижение общественной гармонии через всеобще согласие; признание значимости чувства; внимание к личности каждого отдельного человека.
Это не значит, конечно, что Чайковский смог бы назвать Берви-Флеровского своим полным единомышленником. Автор «Философии бессознательного…» совсем не верил в то, что религия способна изменить характер человеческого общества (признавая, впрочем, ее «историческое» значение), а видел перспективу в социальном прогрессе и «развитии человеческих идей» [6,198 и 210]. Но сам подход к решению насущных проблем человечества (как их понимал Чайковский) у одного из самых известных народнических публицистов того времени, к тому же очень близкого к революционным кругам не мог не вдохновить на новые теоретические поиски.
К чему же пришел сам Н.В. Чайковский? Современное ему состояние общества он, как и А.К. Маликов, определял словом «разлад». Но в отличие от родоначальника «богочеловечества», этот разлад он видел не только и не столько в противоречии науки и религии, сколько в противоречии «существующей жизни и всего того, что выработала до сих пор человеческая мысль» [14–70,79]. Разница была и в «единицах измерения». В основе всех рассуждений Маликова — жизнь общества; у Чайковского — человек. Человечество, по мысли Чайковского, за свою историю выработало тот идеал («истину») который может и должен стать нравственным императивом каждого человека. Но окружающая действительность (общественный строй, экономические отношения, быт) не позволяют ему жить в соответствии с идеалом, выработанным наукой: «Истина неудобна для жизни» [14–70,79]. Это исходная посылка. Из нее следует заключение, что общество больно постольку, поскольку нездоров сам человек. «Разлад человека и общества, — писал Николай Васильевич, — есть, по сути, разлад человеческой натуры: организма, чувства мысли» [14–70,82]. Далее Чайковский показывал себя сторонником социал-дарвинизма и утверждал, что общество представляет собой единый организм, близкий по своим характеристикам, к организму человека:
«Весь мир есть организм, человечество его орган, а сам в себе организованный коллектив, человеческая личность, его самосознающий элемент и индивидуальный организм сам в себе» [14–70,85об].
Примерно такие же взгляды высказывал в своем обобщающем труде «Об уме и познании» И. Тэн, на которого Чайковский ссылался в своих заметках. У Тэна эта мысль звучит так:
«Историк изучает прикладную психологию, а психолог изучает общую историю. Первый замечает и исследует общие превращения, представляемые известной человеческой частице или известной частной группой человеческих частиц и чтобы объяснить эти превращения, он пишет психологию этой частицы или группы» [78,IV].
И так во многих других случаях: там, где Маликов делал выводы, основанные на философских схемах, Чайковский искал подтверждения в психологии. Его следующий тезис о том, что история «есть постепенный, последовательный процесс сознания человечеством своей собственной натуры» [14–70,72], только по виду совпадает с рассуждениями Маликова. На самом же деле является воспроизведением одного из положений книги «Душа человека и животных» Вундта. «Натура» человека, в соответствии с идеями Маликова, имеет три составляющих: организм, чувство, мысль. Человечество, обожествляя каждую из сторон «натуры» познает себя по законам логики. Но почему не наука, не искусство, а именно религия выступает в качестве инструмента самопознания человека? Объяснения Чайковского несколько запутаны, и поэтому их придется привести их почти целиком:
«Очевидное дело, что во всякий данный момент религия человечества будет выражаться строем чувств и конечным результатом работы мышления;
что процесс развития и падения религии есть всегда разложение той системы всех чувств в самом человеке, которая получилась, как результат примирения его с мыслью;
что работа мышления в отношении религиозного чувства должна и не может не подчиняться законам логики;
что счастье или несчастье человечества всегда определяется мерой действительного и постоянного, а не воображаемого и проходящего согласия с мыслью…»[14–70,78].
Похоже на то, что в этом фрагменте Чайковский пытался развить тезис Вундта:
«Как наука получила происхождение из религии, так истинная религия не может черпать силу только из науки. Ибо чувство само по себе, всегда надежный руководитель» [11,365].
К сожалению, то, что было очевидным для самого Чайковского, не всегда ясно было выражено в его черновиках. Со всей определенностью можно сказать лишь, что Чайковский непосредственное чувство предпочитал знанию. В то же время мотив согласия, гармонии мысли и чувства, у него звучал гораздо сильнее, чем у Маликова. Мы вряд ли ошибемся, если отметим, что главной задачей каждого человека (и всего человечества в целом) Чайковский считал достижение единства трех сторон человеческой натуры. Гармонию внутри человека, он считал основной (если не единственной) предпосылкой гармонии в обществе. «Единство», трех сторон человеческой натуры, которым эта гармония определяется, Чайковский представлял так:
«В организме человеческом, как и каждом из его органов, это выражается в присущем от природы стремлении становиться в такое положение, при котором они могли бы исполнять свою функциональную деятельность, следовательно, в то же время и развиваться, доставляя человеку тем самым всю сумму возможных наслаждений (…).
В чувстве.
1) в инстинктивном стремлении сорганизоваться в такую систему, которая (…) устранила бы возможность всякого страдания, в силу (…) гармонии единства со всеми людьми и со всем миром;
2) в голосе самосознания, подсказывающем человеку постоянно, что он свободен в своих действиях, независим от так называемого внешнего мира;
3) в способности чувства переживать все те ощущения, с которыми человек встречается в других людях (…).
В мысли
1) в инстинктивном и сознательном стремлении отыскивать конечную причину всякого сущего, (…) а отсюда уже стремлении отыскать истину законов природы (…);
2) в невозможности для мысли человеческой вообразить себе, хотя бы на единый миг, несуществование самого мыслящего человека. (…)
Наконец во всем человеке в вечном (…) стремлении к внутреннему покою (…) то есть к полному примирению с самим собой, а, следовательно, и с другими людьми и со всем миром» [14–70,84].
В другом месте Чайковский написал и подчеркнул: «Верно понятая и построенная жизнь для себя и есть жизнь для других и наоборот: жизнь для других и есть жизнь для себя» [14–70,2]. Но как достичь этого идеального состояния? Понятно, что люди обязаны измениться, но каким образом? Ответов на эти вопросы черновики Чайковского не содержат. А вот в одном из писем к оставшимся в коммуне Фрея колонистам, Чайковский формулировал такой способ познания жизни, который, по его мнению, способен подтолкнуть к совершенствованию человеческой натуры:
«… живую душу Вселенной, мировую жизнь, т. е. всю организованную сумму жизненных явлений мы можем чувствовать в себе самих — в минуты религиозного откровения» [14-147,13].
И раньше «богочеловеками» признавалась необходимость веры и религиозной жизни. Но путь к ней пролагался через «любовь», которая должна была возникать сама собой по мере осознания истинности вновь открытого пути. Не вышло. Однако в коммуне «богочеловеков» (а позже у шекеров) Чайковский временами испытывал новое для него чувство:
чувство религиозного восторга, объединяющее всех коммунаров в единое целое
чувство единство со всей живой и неживой природой;
«космическое» чувство, заменяющее знание.
Кажется, именно этого добивался Фрей, вводя свои строгие правила, но тогда коммунаров постигло разочарование. Теперь, после того, как жизнь в коммуне осталась позади, Чайковский сформулировал целую программу из шести пунктов («правил»), соблюдение которых должно было помочь ему достичь и удержать в себе это чувства:
«1) Большое чувство любви, причем происходит слияние нервных токов и усиление их друг другом (…)
2) Их (людей — К. С.) по возможности глубокое и сосредоточенное настроение — мне кажется это такое настроение, в каком бывает человек, когда готовиться исповедываться перед всем светом (…).
3) Одинаковый музыкальный тип души, что достигается подходящей музыкой и пением.
4) Деятельное состояние всего организма — какие угодно однообразные движения.
5) Сносные условия работы (чтоб она не была через силу).
6) Чистота и порядок вообще в жизни» [14-147,36–37].
Эти «правила» могут показаться наивными, но Чайковский фиксировал в них собственный опыт по достижению внутренней гармонии. Будущее, считал Чайковский, за «новым» человеком, который придет на смену человеку современному, страдающему от вечного разлада с самим собой. Характеристика этого «нового человека» представляет собой развернутую характеристику будущего более совершенного и разумно устроенного общества:
«Он (новый человек — К. С.) силен, абсолютно чист (…) ибо равен в бесконечном достоинстве и могуществе со всеми другими Богочеловеками. Безмерны его вера, надежда и любовь к самому себе и всем людям (…) Всякая потребность, всякое желание как свое собственное, так и других людей для него абсолютно священны. Всякое свое страдание так же противно, как и чужое (…). Весь внешний мир (…) принадлежит ему, так же как и всякому другому. Он полный коммунист. (…) Эксплуатация, наем, размен других на деньги для него невозможен. Какое бы ни было подчинение себя другим и других себе для него вещь невозможная. Никакая политическая организация, никакая власть ему не нужна — он полный анархист. Его мозг, мысль требует работы — он жаждет познать самого себя как во всей природе, так и в других, как в самом себе, так и во всей свое мировой цельности (…). Внутри его царит полный мир с самим собой, гармония. Чувство, мысли, движение, вера, знание и дело для него одно и то же. (…) Прогресс его бесконечен» [14-147,89].
Этот отрывок мы вправе рассматривать в качестве манифеста «богочеловечества», каким его представлял себе Чайковский в 1878 г. Дальше этого в своей теоретической работе он не продвинулся. К 1879 г. он убедился, что сам не в состоянии развить в себе необходимые качества, что общее и личное не соединяется в нем в единое целое. Поэтому он посчитал невозможным для себя, пропагандировать идеи «новой религии».
Теперь можно вернуться к вопросу о «первом» и «втором» «богочеловечестве» Чайковского. Т. И. Полнер, разделивший «богочеловеческие» воззрения Чайковского на две части, основывался на одном фрагменте его воспоминаний, касающегося 1877–1878 гг.: «… я воротился не к Канзасу (…) — я воротился к религиозной почве, стоявши на которой, я еще не был в Канзасе» [64,157]. Можно согласиться с тем, что в Канзасской коммуне действительно не было особой религиозности. И действительно взгляды Чайковского 1877–1878 гг. несколько отличались от тех, что провозглашались до переезда в коммуну (в самой коммуне изнурительная работа, недоедание, бытовая неустроенность и заболевание лихорадкой отодвинули в сторону робкие попыток наладить религиозный быт). В период же его теоретических поисков посткомунального существования больше стало внимания к человеческой индивидуальности, в противовес общечеловеческим рассуждениям Маликова. Появилось стремление прочнее опереться на достижения естественных наук. Была сформулирована радикальная общественная программа, опирающаяся на принципы коммунизма и анархизма. Наконец, религиозные мотивы в теории уступили место практическим попыткам добиться религиозного чувства.
Было бы странно, если бы коммунарский опыт никак не отразился бы на взглядах и поступках людей, переведших на себе социальный эксперимент. Тем не менее, если мы сравним принципиальные положения теории Маликова 1874–1875 гг. и теории Чайковского 1877–1878 гг., то обнаружим полное совпадение в целях почти неизменный набор способов их достижения, характерных для всего «богочеловечества», вне зависимости от периода его существования. Таких базовых принципиально неизменяемых, а только уточняемых положений четыре. Первый: стремление покончить с «разладом» в человеке и обществе, к достижению всеобщей гармонии. Второй: отрицание пользы насильственных способов переустройства мира. Третий: признание первенства чувства над мыслью, при взаимосвязи веры и знания, науки и религии. Четвертый: осознание принципа «жизнь для себя», как способа «жизни для всех». Это значит, что и Маликов и Чайковский, признавая негодность средств по перестройке человека, не усомнились в правоте цели.
Последний этап «богочеловечества», на протяжении которого часть бывших коммунаров пыталась сохранить его теорию, вопреки результатам, добытым практикой, когда единство между ними поддерживалось желанием не уступить миру «вражды и драки», но не общим действием. И этот период закончился поражением. «Богочеловечество» угасало. Медленно, с постоянным желанием вновь возродиться, но угасало. Вспышки былого «религиозного» чувство долго еще озаряли жизнь бывших «богочеловеков», но сами они понимали, что былого энтузиазма уже не будет. Они не хотели расставаться со своим идеалом, но общество не оставило им ни единой надежды на воплощение в жизнь их принципов. Надо было искать точки соприкосновения с обществом, с жизнью, с реальностью.
Три открытых письма (вместо эпилога)
Для большинства «богочеловеков», в том числе и для основателя «богочеловечества» А.К. Маликова, попытка выстроить новую религию стала высшей точкой их судьбы, яркой вспышкой, высветившей на мгновенье их фигуры на фоне отечественной истории. Всю свою дальнейшую жизнь они прожили также как тысячи российских интеллигентов рубежа XIX–XX вв.: в поиске нравственного идеала, в соответствии с личным понятием чести и достоинства. Но это и была их личная жизнь. Вряд ли нужно (как бы то ни было это интересно) вторгаться в частную жизнь обычных людей.
Иное дело — Н. В. Чайковский. Его общественная деятельность продолжалась еще почти полвека, после того, как в мае 1879 г. он покинул Америку. Приехав в Париж к П.Л. Лаврову, Чайковский (хоть и был, по выражению Л.Г. Дейча «несколько надломлен» [24,237]) сразу же включился в политическую жизнь русской эмиграции. Вскоре он стал одной из ее центральных фигур. Почти безграничная терпимость Николая Васильевича, умение выслушать собеседника, понять оппонента — качества довольно редкие в эмиграции, среди людей нервных, издерганных, больных и разочарованных — поставили Чайковского в уникальное положение человека, которому все доверяли. Самые разные группы и организации, гордые одиночки, не желавшие иметь дело друг с другом, готовы были сотрудничать с Чайковским, сохранившим авторитет одного из зачинателей народнического движения. В результате, как и в кружке «чайковцев» начала 1870-х гг., он, ничего официально не возглавляя, оказался задействован в большинстве всех дел и проектов, разрабатываемых революционной эмиграцией 1880-х -1890-х гг.
После всего, что было сказано об отношении Н. В. Чайковского к насилию, вероятно, нет необходимости пояснять, что он не признавал за революционным террором роли главного средства борьбы за социальную справедливость. Вместе с тем он не хотел и не мог больше оставаться в стороне, видя, как один за другим гибли в России его товарищи и те, для кого он когда-то был примером. В 1880 г. Чайковский принял на себя обязанности лондонского представителя Заграничного отделения Красного креста Народной воли — организации, созданной для помощи арестованным и осужденным революционерам.
Почти одновременно с этим он, по рекомендации П.Л. Лаврова, стал лондонским корреспондентом «Русских ведомостей». С этого времени и на 25 лет Лондон стал домом Чайковского. Чуть позже, он и его старым товарищам (Ф.В. Вольховскому, С.М. Кравчинскому, Л.Э. Шишко), тридцати-сорокалетним ветеранам освободительного движения, выносившим на своих плечах всю тяжесть безвременья 1880-х гг., удалось создать единственное реальное и живое дело в эмиграции — издательское. В 1890 г. начал выходить журнал «Free Russia» (на английском языке), а в 1891 г. был создан «Фонд вольной русской прессы» — самый крупный издательский центр русских социалистов.
Фонд был организацией внепартийной. Главной задачей его сотрудники ставили сохранение и объединение всех сил освободительного движения. Им были возрождены традиции «Вольной русской типографии» А.И. Герцена, выпущены за 10 лет существования более 30 книг и брошюр. Фонд издавал журнал «Free Russia» и внепартийное периодическое издание «Летучие листки». Н.В. Чайковский, с самого первого дня существования «Фонда», был одним из его самых деятельных работников, а после смерти С.М. Кравчинского (в 1895 г.) стал редактором-издателем большинства выпускаемых «Фондом» книг.
В начале 1900-х гг. Н.В. Чайковский вошел в Аграрно-социалистическую лигу — одну из народнических организаций, участвовавших, впоследствии, в создании партии социалистов-революционеров. На первом съезде партии эсеров Чайковский призывал к использованию легальных методов оппозиционной деятельности, и, прежде всего к работе в Думе. Однако «белый террор» 1906–1907 гг. заставил Чайковского частично пересмотреть свои взгляды. Он впервые признал необходимость ответных насильственных действий и даже нелегально вернулся в Россию, чтобы попытаться организовать на Урале и в Сибири «партизанские отряды». В ноябре 1907 г. в Петербурге, при попытке вернуться за границу, Чайковский был арестован.
Одиннадцать месяцев предварительного заключения окончились освобождением Чайковского под залог 50 тысяч рублей, собранных его дочерью в Англии. Само по себе это освобождение стало возможным только потому, что, без преувеличения, все английское общественное мнение выступило в его защиту. Только под одним письмом, с ходатайством об освобождении, направленным российскому послу в Лондоне, поставили свою подпись 9 лордов, 10 епископов, 44 члена Палаты Общин, академики, генералы, известнейшие общественные деятели [57,234].
Оправдательный приговор суда дал Чайковскому возможность остаться в России. Он отошел от политической борьбы и занялся кооперативной деятельностью. Свозив делегацию Сибирских маслоделательных артелей в Лондон, он способствовал налаживанию поставок русского масла в Англию, США и Канаду, вошел в руководящие органы «Совета кооперативных съездов в Москве» и «Общества оптовых закупок» в Петербурге. Работа к кооперации привела его к земской деятельности. Он становится одним из организаторов и руководителей Всероссийского союза городов. В 1914 г., с началом войны, Чайковский, в качестве уполномоченного этого Союза, уехал на Северный фронт. В 1915 г. Н. В. Чайковского избрали председателем старейшей общественно-экономической организации России — Вольного экономического общества.
В феврале 1917 г. начался самый интенсивный (после 1870-х гг.) этап его жизни. В короткий период демократического развития страны Чайковский — сам живой символ российской демократии — стал одной из самых деятельных и энергичных политических фигур. Его политическое влияние проявлялось в самых разных областях жизни: он один из создателей Трудовой народно-социалистической партии и член ее ЦК, член Исполкома и председатель финансовой комиссии I Всероссийского крестьянского съезда; товарищ председателя Общероссийского продовольственного комитета; председатель кооперативной группы Временного совета республики.
Чайковский был одним из тех немногих политиков 1917 г., кто не впал в эйфорию «революционных преобразований». Он занял позицию на крайне правом фланге российской демократии, ратуя за тесное сотрудничество с либералами и непримиримую борьбу с большевиками еще весной 1917 г., когда большинство политиков считало их небольшой кучкой авантюристов.
После октябрьского переворота Н.В. Чайковский последовательно входил в центральные органы первых антисоветских организаций: «Комитета спасения родины и революции», «Всероссийского союза защиты Учредительного собрания», «Союза возрождения России». При этом, уже по традиции, на его долю выпала самая трудная обязанность — согласовывать разнонаправленные интересы, примирять враждующие стороны, добиваться единства действий. Одновременно он занимался и тем, что добывал деньги для подпольной работы, создавал военные организации.
В 1918 г. Н.В. Чайковский подготовил антибольшевистский переворот в Архангельске, а после его успеха (2 августа) возглавил Верховное управление Северной областью. Во главе Северного правительства Чайковский находился до января 1919 г., когда в Архангельск прибыл генерал Е.К. Миллер. После этого, в январе — июне 1919 г., Чайковский принимал участие в политическом совещании, созванном в Париже для того, чтобы сформировать органы единой власти, способной объединить антибольшевистское движение в России. В феврале 1920 г. он вошел министром без портфеля в демократическое правительство Юга России, созданное А.И. Деникиным (просуществовавшим, правда, всего три недели), а в 1921 г. Чайковский стал одним из основателей и руководителей эмигрантского Центра действия — одной из самых крупных и активных антисоветских организаций, объединившей усилия левой (социалистической) и правой (буржуазно-либеральной и консервативной) частей российской эмиграции.
Наступила весна 1922 г. Уже год как окончена Гражданская война, в России проводиться новая экономическая политика, на Генуэзской конференции большевики пытаются добиться международного признания Советской России. В эмиграции раскол: набирает силу «сменовеховство», началось возвращение эмигрантов на родину, писатели и ученые со страниц газеты «Накануне» и других изданий призывают «пойти в Каноссу» и начать деятельное сотрудничество с советской властью. И именно в это время Н.В. Чайковский опять оказывается в центре общественного внимания. Он получает два открытых письма от раскаявшихся противников большевиков.
Первое письмо было написано в феврале, а напечатано в марте, в «Известиях». Автор его — В.В. Игнатьев, член ЦК Трудовой народносоциалистической партии, один из руководителей «Союза возрождения России», соратник Чайковского по Северному правительству. В декабре 1920 г. Игнатьев — руководитель антисоветского подполья в Сибири — был арестован. И вот один из самых решительных и последовательных сторонников бескомпромиссной борьбы с большевизмом обратился к Чайковскому как к «старейшему русскому революционеру (…) человеку неподкупной любви к народу и родине» [32], с объяснением своего решения сотрудничать с советской властью.
Второе письмо, опубликованное в апреле того же года, сначала в газете «Накануне», а затем в тех же «Известиях», было, по сути, развернутым ответом одного из самых талантливых писателей русской эмиграции, графа А.Н. Толстого, на коротенький запрос Чайковского, в котором тот, от имени Комитета помощи русским писателям и ученым, спрашивал, как понимать сотрудничество Толстого со «сменовеховскими» изданиями, существующими «заведомо на большевистские деньги»[31]. Оба письма — и В.В. Игнатьева и А.Н. Толстого — близки по духу и выдвигаемым аргументам. Признавая большевиков единственно возможными, в данной ситуации, представителями возрождаемой русской государственности, авторы призывали эмиграцию выполнить свой долг перед русским народом и в сотрудничестве с советской властью помочь России.
То, что письма эти, рассчитанные на внимание если не всей эмиграции, то, по крайней мере, ее демократической части, были адресованы именно Н.В. Чайковскому, никого не удивило. Только один человек, кроме Чайковского мог считать себя представителем живой и непрерывной традиции освободительного движения с того дня в далеком 1869 г., когда несколько петербургских студентов решили образовать кружок самообразования, выросший потом в организацию «чайковцев». Человек этот — М.А. Натансон — умер в 1919 г., создав последнюю из длинной череды революционных организаций и партий, у истоков которых он стоял — партию «революционных коммунистов». Но Натансон, сотрудничавший с большевиками с осени 1917 г., благословивший разгон Учредительного собрания и вошедший в президиум ВЦИК Советской России, для большинства российской демократии уже давно был ренегатом. Чайковский же последовательно боролся с советской властью, воплощая собой единство демократических традиций и антибольшевизма.
Не было в кругах российской эмиграции другого человека, к которому с равным уважением относились и «правые» и «левые», не был морального авторитета выше, чем у «дедушки русской революции» Н.В. Чайковского. Поэтому совпавшие по времени объяснения отступников были обращены именно к Чайковскому, показалось всем вполне естественным. Всем, но не ему самому. Внешне Николай Васильевич оставался тем же деятельным и активным борцом против большевизма.
В.В. Игнатьеву (или тем, кто это письмо готовил), он дал гневный отпор, назвав его письмо «напыщенной и лживой фальшью» [54,192]. Его собственная деятельность на посту председателя «Центра действия» была оценена большевиками по самой высокой шкале: в 1924 г. он был заочно приговорен в СССР к смертной казни. Но сомнения все чаще и чаще стали посещать его. Сомнения не в правоте его дела — тут он был спокоен и тверд. Вопрос, который он все чаще и чаще задавал себе, был связан с историей почти пятидесятилетней давности: не потому ли люди, изменившие своим идеалам, выбирают его для своей открытой исповеди, что он сам в то время, когда «чайковцы» пошли «в народ» и вступили в единоборство с самодержавием, уехал в Америку, пахать землю и заниматься самоусовершенствованием?
Не мог не вспомнить Николай Васильевич и событий 1888 г., когда Л.А. Тихомиров, последний из членов Исполнительного комитета Народной воли (его «героического» состава), решил покончить с революционной деятельностью и перейти на сторону правительства. Тогда, прежде чем опубликовать брошюру «Почему я перестал быть революционером», Лев Тихомиров отправил Чайковском письмо с объяснениями. «Ты умел несколько раз в жизни думать по-своему, — писал Тихомиров. — Я пишу тебе. С массой ничтожностей я не стану объясняться» [57,192]. Не потому ли ренегаты и отступники обращаются к нему, что чувствуют в нем родственную душу? И имеет ли он право на то уважение, тот почет в демократических кругах России, которым он был окружен последние 20 лет? Эти или подобные вопросы вставали перед ним неоднократно, а когда жизнь, со всей очевидностью клонилась к закату, оставить их без ответа Николай Васильевич не мог.
Когда-то уход в «богочеловечество» навсегда остался для него невысказанным упреком со стороны многих друзей по кружку «чайковцев». Теперь, в конце жизни он хотел быть абсолютно честным с собой, и чистым в общественном мнении. В январе 1926 г. он опубликовал «Открытое письмо друзьям».
«В настоящий момент наступающего конца моей политической карьеры, — писал 75-летний Чайковский в этом письме, — на мне лежит долг перед русской общественностью выяснить, почему пятьдесят два года тому назад я сам перестал быть чайковцем» [91,275].
Ставший под конец жизни православным христианином, Н.В. Чайковский в своей открытой исповеди не оправдывал «богочеловечество». Но и сам он не оправдывался. Спокойно и твердо он отстаивал то самое убеждение, которое вызвало к жизни «богочеловечество» и которому он остался верен всю жизнь. Фразой из этого открытого письма мы и закончим книгу о «богочеловечестве»:
«Я никогда не мирился с классовой ненавистью и всегда сторонился ее».
Приложения
Приложение 1 Тезисы «новой религии». Из письма А. К. Маликова к жене
«(…) Пусть хоть над этим подумают мои критики: была ли когда прежде такая вера. Пусть они постараются следующие тезисы наши:
Мысль идет вслед за верой.
Какова вера, таковы и знания.
Вера, т. е. религия или нравственное чувство людей развивается на основании законов логики, так же как и мысль.
Эти логические ступени чувства идут в истории человечества последовательно и, наконец, завершаются в создании Богочеловечества.
Т. к. всякая предшествующая логическая ступень чувства по закону логики содержит в себе непримиримые противоречия, то отсюда вытекает раскол в чувстве, т. е. страдание — раскол в мысли и кровь в деле».
ГАРФ. Ф. 1112. Оп. 2. Ед. хр. 1032. Л. 10 об.
Приложение 2 «Тезисы новой религии», записанные Д. Айтовым около 11 июня 1874 г
Человек есть материя чувствующая и мыслящая.
В народе во все времена одна или две из этих трех сторон человека обоготворяли и переносили или на предметы, сталкивающиеся с ними (фетишисты) или на Олимп (греки), или на небо (иудеи, христиане, магометане).
Какова религия, таков и общественный строй, таково знание. Знание не может идти дальше религии.
Фетишизм представляет тезис диалектического процесса (открытого Гегелем), древний мир (религии древнего мира, т. е. египтян, персов, индусов) антитезис, классический мир (греки, римляне, Иудея) — возвращение к тезису более или менее примеренным сознанием и в то же время тезисом новой триады, христианство антитезисом этой триады. Нужно опрокинуть диалектический процесс или доказать, что где я указываю, нет триады, или признать, что необходима новая религия, возвращающаяся к тезису с примиренным уже вполне содержанием.
Апогей развития христианства — французская революция 89 года, хотя и объявившая себя атеистической.
Христианская религия говорит: верь и не знай. Философия: знай и не верь. Я говорю: я верю, потому что знаю.
Во всяком человеке есть потребность есть, пить, дышать, любить ближнего и еще другие. Удовлетворяя одни потребности, люди игнорируют другие, но такое неудовлетворение потребностей ведет к смерти, поэтому отшельники, святые отцы, игнорирующие свою материю, хоть мало, но едят; крайне безнравственные люди все-таки делают добрые дела (филантропия) и любят хоть одну личность, жену, мать, сына или кого-нибудь еще.
Цель не оправдывает средства.
Всякого рода насилие, обман, конспирация ни к чему не ведут и противны цельному человечеству.
Я не часть какой либо партии, я самостоятельная личность, руководящая своим чувством и мыслью.
ГАРФ. Ф. 109. 1874. Ед. хр. 144. Ч. 1. Л. 209–210.
Приложение 3 Тезисы «религии Маликова», составленные Махаевым, по просьбе студентов Медико-хирургической академии
Религиозное мировоззрение составляет основание общественного строя.
Общественный порядок и наука настолько высоки, насколько высока религия (под религией подразумевается вся сумма мировоззрений, на основании которой строятся отношения человека к другим людям и природе).
Все бедствия народов Европы происходят от Христианской религии.
Радикальное изменение общественного строя Европы должно основываться на уничтожении христианской культуры.
Христианские воззрения в народе можно уничтожить или путем науки, или новой религии.
Наука недоступна для народа, поэтому реально возможно уничтожить только новой религией.
Новая религия заключает в себе все, до чего доработалось человечество.
Новая религия есть историческое развитие христианской религии.
Верующие признают за человеком способность беспредельного развития.
В человеке прогрессируют и разум, и чувство.
Чувства делятся на положительные и отрицательные. К первым принадлежат чувства любви, доверия, справедливости и т. д. Ко вторым — чувства злости, мести лжи и т. д.
При существовании отрицательных чувств счастье человечества невозможно.
Верующие обладают только положительными чувствами.
Верующие носят название «богочеловеков» — они сосредотачивают в себе все лучшие стороны, которые присваивались богу и человеку.
Последователи новой религии чувствуют друг к другу любовь и доверие.
Признают полнейший коммунизм между своими членами.
Отвергают наем прислуги, как явление уничтожающее понятие о равенстве.
Любовь и доверие друг к другу доставляют великое наслаждение членам новой религии.
У верующих нет чувства разлада между чувством и разумом.
Члены новой религии сильно стремятся к обращению людей в их веру, каждый вновь обращенный доставляет им наслаждение.
Члены новой религии уверены в научности своих воззрений.
Из последних трех положений вытекает сильная в членах новой религии [???].
Члены новой религии влияют на окружающих проповедью и жизнью.
Членам новой религии предоставляется полная свобода действий — любовь и доверие друг к другу есть мерка отношений между собою. Сильное стремление к обращению людей в новую религию служит основанием для самого лучшего образа действий.
Члены новой религии открыто проповедуют свое учение.
Члены новой религии желают доставить счастье не только пролетариату, но и имущим классам.
Революционная программа не основана на науке.
Революционеры делятся на партии, которые враждуют и готовы уничтожить друг друга, ибо в их программах нет науки.
Отсутствие научной программы и определяет понятие о том, что будет после революции, ослабляет энергию революционеров.
Деятельность революционеров ослабляется борьбой чувства и разума.
Революционеры поступают непоследовательно, желая уничтожить имущих людей, ведь последние не виноваты, что их произвела такая среда. Нужно уничтожить причины, производящие подобающих господ, а не людей, которые ни в чем не виноваты.
Революционеры не уничтожают религиозных воззрений, на которых зиждется существующий строй.
Революционеры прививают людям злость, месть, кровожадность, которые противоречат счастию человечества.
Революционеры, раздувая вражду между народом и имущими классами, увеличивают силу и количество своих врагов.
Революция губит лучшие силы, остаются недалекие, способные поддаться обману.
Революция создает власть, портящую лучших людей.
Революционеры придерживаются принципа «цель оправдывает средства», клеймят свою партию и уродуют человечество, развивая в нем обман и кровожадность.
ГАРФ. Ф. 112. Оп. 2. Ед. хр. 1503. Л. 3. — 4.
Источники и литература
1. Аверинцев A.A. Иисус Христос. // Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1. С. 498.
2. Алексеев В.И. Воспоминания. // Летописи государственного литературного музея. М., 1948. Вып. XII. Т. 2.
3. Аптекман О.В. Флеровский-Берви и кружок Долгушина. // Былое. 1922. № 18. С. 63.
4. Аптекман О.В. Флеровский-Берви и чайковцы. // Былое. 1922. № 19.
5. Бакунин М.А. Прибавление А. // Революционное народничество 70-х гг. XIX в. М. — Л., 1964. Т. 1.
6. Берви-Флеровский В.В. Философия бессознательного, дарвинизм и реальная истина. СПб., 1878.
7. Бирюков П.И. Л.Н Толстой. Биография. СПб., 1908. Т. 2.
8. Богучарский В.Я. Активное народничество 70-х годов. М., 1912.
9. Бонч-Бруевич В.Д. Предисловие к воспоминаниям В.И. Алексеева // Летописи государственного литературного музея. Вып. 12. М., 1948.
10. Вперед! 1874. № 3.
11. Вундт В. Душа человека и животных. Т. 2. СПб. 1866.
12. ГАРФ. Ф. 112 (Особое присутствие Правительствующего сената) On. 1. Ед. хр. 293;
13. ГАРФ. Ф. 112 Оп. 2. Ед. хр. 1032, 1471, 1503, 2012.
14. ГАРФ. Ф. 5805 (Н. В. Чайковский). Оп. 2. Ед. хр. 70, 71, 144, 146, 147, 150, 151, 180, 181, 190.
15. ГАРФ. Ф. 109 (III экспедиция Е.И.В. Канцелярии) 1874. Ед. хр. 144. Ч. 1, 3, 105, 314.
16. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. // Соч. М., 1959. Т. 4.
17. Гегель Г.В.Ф. Философия духа. //. Соч. М., 1959. Т. 3.
18. Герцен А.И. К старому товарищу. // Собр. соч. в 30 тт. Т.20 Кн. 2. М., 1960.
19. Герцен А.И. Раздумья (Разные вариации на разные темы). М., 1979.
20. Гинев В.Н. Блестящая плеяда. // Революционеры 1870-х гг. Л., 1986.
21. Глинский Б.В. Революционный период русской истории. Ч. 2. СПб., 1913.
22. Головина-Юргенсон H.A. Автобиография.
23. Энциклопедический словарь Гранат. (Далее — Гранат) Т. 40. Приложение II.
24. Государственный Музей Л.Н. Толстого. Фонд. Л.Н. Толстого.
25. Группа «Освобождение труда». Сб. 4. М. — Л., 1926.
26. Дебогорий-Мокриевич В.К. Воспоминания. СПб., 1906.
27. Дмитриев Г.М. Движение революционного народничества в центральночерноземных губерниях в первой половине 70-х гг. XIX в. Воронеж, 1971.
28. Добролюбов H.A. Собр. соч. в 9 тт. Т. 6. М., 1963.
29. Достоевский Ф. М. Полн. Собр. соч. в 30 т. М., 1981. Т. 22.
30. Дубенская Е.Д. Д.А. Клеменц. // Каторга и ссылка. 1930. № 5.
31. Зайчневский П.Г. Молодая Россия. // Народническая экономическая литература. Избранные произведения. М., 1958.
32. Известия 1922. № 90.
33. Известия. 1922. № 56.
34. Итенберг Б.С. Из истории атеистической мысли и свободомыслия. // Вопросы истории, религии и атеизма. Т. XI. М., 1963.
35. К — в Е. А. К. Маликов. // Приволжский край. 1904. № 101–102.
36. Кирьяков В.В. Дедушка и бабушка русской революции. Н.В. Чайковский и E. Н. Брешко-Брешковская. Пг., 1917.
37. Ковалик С.Ф. Революционное движение 70-х гг. и процесс 193-х М. 1928.
38. Кон Ф.Я. Н.В. Чайковский. // Каторга и ссылка. 1926. № 6.
39. Конт О. Дух позитивной философии. М. 1910.
40. Корнилова-Мороз А.И. Перовская и кружок чайковцев. // Революционеры 1870-х гг. Л., 1986.
41. Корнилова-Мороз H.A. Воспоминания. // Гранат. Т. 40. Приложение II.
42. Короленко В.В. История моего современника. М., 1965.
43. Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988. С. 289.
44. Кропоткин П.А. Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя? // Революционное народничество 70-х гг. XIX в. Т. 1. М., 1964.
45. Лавров П.Л. Исторические письма. СПб., 1905. С. 30.
46. Лавров П.Л. Социалистическое движение в России. // Каторга и ссылка. 1925. № 1.
47. Лавров П.Л. Народники-пропагандисты. Л. 1925.
48. Лившиц С. Некролог Н.В. Чайковского. // Каторга и ссылка. 1926 № Мстиславский С. Человек и его имя. // Огонек. 1926. № 2.
49. Лукашевич А.О. В народ! (Из воспоминаний семидесятника) // Былое. 1907. № 3.
50. Льюис Д.Г. Вопрос о жизни и духе. Т. 1. СПб., 1875.
51. Маковицкий Д.П. У Толстого. // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. Кн. 1.
52. Малинин В.А. История русского утопического социализма. Вторая половина XIX — начало XX в. М., 1991.
53. Малинин В.А. Философия революционного народничества. М., 1972.
54. Мачтет Г.А. Из американской жизни. // Полн. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1911.
55. Мельгунов С.П. Н. В. Чайковский в годы Гражданской войны. Париж, 1929.
56. Михайловский Н.К. Полн. Собр. соч. СПб., 1911. Т. 1.
57. Мстиславский С. Человек и его имя. // Огонек. 1926. № 2.
58. Н.В. Чайковский. Религиозные и общественные искания. Париж, 1929.
59. Некролог А.К. Маликова. // Русские ведомости. 1904. 12 марта.
60. Одинец Д.М. В кружке чайковцев. // Н.В. Чайковский. Религиозные и общественные искания. Париж, 1929. С. 43–97.
61. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. 1873–1888. М., 1988.
62. Перрис Д. Пионеры русской революции. СПб., 1906.
63. Писарев Д.И. Соч. Т. 3. М. 1955.
64. Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 1993.
65. Полнер Т.И. Н. В. Чайковский и его богочеловечество. // Н.В. Чайковский. Религиозные и общественные искания. Париж, 1919.
66. Приволжский край. 1904. № 102.
67. Пругавин A.C. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911.
68. Пругавин A.C. Неприемлющие мира. М., 1918.
69. Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 135 (В. Г. Короленко). Раздел II. 29/25.
70. Революционное народничество 70-х гг. М., 1964. Т. 1.
71. Сен-Симон А. О промышленной системе. // Избр. соч. М., 1948.
72. Срезневский В.Н. Несколько слов о В. И. Алексееве.// Летописи государственного литературного музея. Вып. 12. М., 1948. Т. 2.
73. Тальберг Н. История христианской церкви. М.,1991.
74. Тихомиров Л. А. В подполье. СПб., 1907.
75. Ткачев П. Н. Избр. соч. М., 1932. Тт. 2; 3.
76. Толстой С.Л. Вступительная статья к запискам И. М. Ивакина. // Литературное наследство. М., 1969. Т. 69. Кн. 2.
77. Троицкий H.A. Большое общество пропаганды. Саратов, 1963.
78. Тун А. История революционного движения в России. Пг., 1918;
79. Тэн И. Об уме и познании. СПб., 1872. Т. 1. C. IV.
80. Фаресов А.И. Один из семидесятников. // Вестник Европы. 1904. № 9.
81. Фейербах Л. Сущность христианства. // Соч. М. — Л., 1926. Т. 2.
82. Фигнер В.Н. После Шлиссельбурга. // Полн. Собр. соч. М., 1932. Т. 3.
83. Фроленко М.Ф. Записки семидесятника. М., 1927.
84. Фроленко М.Ф. Из далекого прошлого. // Минувшие годы. 1908. № 7.
85. Фроленко М.Ф. Н. В. Чайковский. Его богочеловечество. // Каторга и ссылка. 1926. № 5.
86. Фурье Ш. Новый хозяйственный и социетарный мир. // Избр. Соч. М., 1954. Т. 4.
87. Цвилинев Н.Ф. Автобиография. // Гранат. Т. 40. Приложение II.
88. Чайковский Н. В. Автобиография. // Русские ведомости. 1863–1913. М., 1913.
89. Чайковский Н.В. Воспоминания. // Перрис Д. Пионеры русской революции. СПб., 1906.
90. Чайковский Н.В. Из воспоминаний. // Н.В. Чайковский. Религиозные и общественные искания. Париж, 1929.
91. Чайковский Н В. Ответ на статью Фаресова «Один из семидесятников». // Вестник Европы. 1905. № 5.
92. Чайковский Н.В. Открытое письмо к друзьям. // Н. В. Чайковский. Религиозные и общественные искания. Париж, 1929.
93. Чайковский Н.В. Письмо к Д.А. Клеменцу. // Голос минувшего на той стороне. 1926. № 3.
94. Чарушин H.A. Н. В. Чайковский. 11 Каторга и ссылка. 1926. № 5.
95. Чернова H.H. Орловская губерния в период развития капитализма в России. // Очерки истории Орловского края. Орел, 1968.
96. Чернышевский Н. Г. Полн. Собр. соч. в 15 тт. М., 1939. Тт. 1; 9.
97. Шишко Л.Э. С. М. Кравчинский и кружок «чайковцев». СПб., 1907.
98. Berlin I. The Populist Moral Condemnation of Russian\'s Political and Social System. // Imperial Russia after 1861. Boston, 1965
99. Billington J. H. Mihailovsky and Russian Populism. Oxford, 1958.
100. Billington J. H. The Icon and the Axe. N-Y., 1967.
101. Billington J. H. The Intelligentsia and the Religion of Humanity. // The American Historical Review. 1960. V. LX. # 4.
102. Broido V. Apostles into Terrorist. London, 1977.
103. Hecht D. Russian Radicals Look to America. 1825–1894. Cambridge (Mass.), 1944.
104. Nordhoff Ch. The Communistic Societies of the United States. N-Y., 1965 и 1975.
105. Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. N-Y. 1970;
106. Troyat H. Tolstoy. N. -Y., 1967.
107. Utechin S. V. Russian political Thought. London. 1963; Russian Philosophy/ V. II. Chicago, 1969.
108. Utechin S.V. Everimens Consise Encyclopedia of Russia. London, 1961. Ventury F. Roots of Revolution. N-Y., 1966.
109. Wren M.C. The Western Impact upon Tsarist Russia. 1971. P. 191. Yarmolinsky A. Road to Revolution. London, 1957.
110. Кункль А. Долгушинцы. М., 1932.
111. Отечественная история. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1994.
112. Фрей В. Письмо коммуниста. // Вперед! 1874. № 3.
113. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. М.-Л., 1928–1964. Тт. 17, 49, 62.
114. Ивакин И.И. Воспоминания о Льве Толстом // Литературное наследство. М., 1969. Т. 69. Кн. 2.


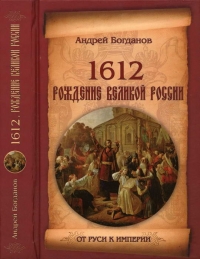
Комментарии к книге ««Я сказал: вы — боги…»», Константин Анатольевич Соловьев
Всего 0 комментариев