Оглавление
Оглавление
Сахаров А.Н., Фомин В.В. Слово к читателю
Обзор развития норманистской теории с позиций антинорманизма
Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки
Краткая биография Н.Н. Ильиной
Вступление
Глава первая. Призвание варягов
Глава вторая. Кто были варяги?
Глава третья. Новая власть и быт славян
Глава четвёртая. Славяне Варяжского моря
Глава пятая. Русь и руотси
Глава шестая. Пороги Днепра
Глава седьмая. Бертинская летопись
Глава восьмая. Южная Русь
Глава девятая. Норманны и Приладожье
Глава десятая. Ложное воззрение на древних славян
Глава одиннадцатая. Славяне на русской равнине
Глава двенадцатая. Пути к иноземцам
Глава тринадцатая. Духовные силы русской древности
Глава четырнадцатая. Мистерия жизни и культ природы
Глава пятнадцатая. Русалии и русалка
Глава шестнадцатая. Обрядовая песня
Глава семнадцатая. Русь
Заключение
Кузьмин А.Г. Тайны рождения русского народа
Часть первая. Этническая природа варягов
Глава первая. Разные версии летописей о начале руси
Глава вторая. «Варяги» русских источников
Глава третья. «Варяги» иностранных источников
Часть вторая. Этноним "Русь" от Балтики до Меотиды
Глава первая. Сведения о Причерноморской и Салтовской Руси
Глава вторая. Сведения о Балтийской Руси
Часть третья. Становление древнерусской цивилизации
Глава первая. Следы взаимодействия Приднепровской Руси с Прибалтикой и Причерноморьем
Глава вторая. Имена социальной верхушки древнерусского государства
Глава третья. Внутреннее и внешнее положение руси в IX-X вв.
Сахаров А.Н. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности
Грот Л.П. Утопические истоки норманизма: мифы о гипербореях и рудбекианизм
Фомин В.В. Варяго-русский вопрос и некоторые аспекты его историографии
Глава первая. Фальшивый старт норманской теории
Глава вторая. Как норманисты-«словопроизводители» дискредитировали лингвистику
Глава третья. Почему норманисты изгоняют Синеуса и Трувора из русской истории?
Глава четвёртая. «Откуда есть пошла Русская земля»
Глава пятая. Зачем историку нужно знать историографию?
С.В. Перевезенцев. Летописец земли русской (очерк-воспоминание памяти Аполлона Григорьевича Кузьмина)
Список сокращений
Сахаров А.Н., Фомин В.В. Слово к читателю
Вашему вниманию предлагается вступление к книге "Изгнание норманнов из русской истории", написанное историками А.Н. Сахаровым и В.В. Фоминым.
В данном тексте даётся краткий обзор развития норманистской теории происхождения варягов и Русского государства и приводятся аргументы против норманнской теории. Так же рекомендуем вам посмотреть (имеется расшифровка) передачу "Час истины" с этими же учёными, посвящённую вопросам происхождения варягов.
---
Обзор развития норманистской теории с позиций антинорманизма
Случайно или нет, но 1914 г. стал не только годом начала Германией войны против России, вылившейся в кровопролитную Первую мировую, но и годом развязывания со стороны германских ученых мощного и довольно успешного наступления на русскую историю. И толчком тому явилось создание очередной норманистской фикции, вызвавшей, в силу тотального господства соответствующих настроений в зарубежной и российской науке, массу подражаний и вместе с тем спровоцировавшей многих исследователей на разработку новых и равно таких же тупиковых тем в варяго-русском вопросе. В названном году шведский археолог Т.Ю.Арне в монографии «La Suede et l'Orient» («Швеция и Восток»), совершенно произвольно трактуя археологический материал в пользу скандинавов, выдвинул теорию норманской колонизации Руси, утверждая, что в X в. в ней повсюду, как он, нисколько не скупясь, отмерял по карте, в позднейших губерниях Петербургской, Новгородской, Владимирской, Ярославской, Смоленской, Черниговской, Киевской, т. е. чуть ли не на всей огромной территории Восточной Европы, «расцвели шведские колонии». Эти же мысли Арне повторил в 1917 г. в сборнике своих статей «Det stora Svitjod» («Великая Швеция»), именуя так крупнейшее государство раннего Средневековья - Древнюю Русь (затем он на протяжении еще несколько десятилетий говорил, что в Гнездове под Смоленском, Киеве и Чернигове существовали «скандинавские колонии»)[1].
Теория норманской колонизации Руси Арне не блистала оригинальностью, т. к. в своей основе давно была высказана в российской историографии в эпоху господства в ней повальной, по характеристике антинорманиста Ю.И. Венелина, «скандинавомании» или, уже по оценке норманиста В.А.Мошина, «ультранорманизма» шлецеровского типа», похороненного, по его же словам, в 1860-1870-х гг. С.А.Гедеоновым[2]. Так, в 1834 г. О.И.Сенковский уверял, «что не горстка солдат вторглась в политический быт и нравы человеков, или так называемых славян, но что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия, со всеми своими учреждениями, правами и преданиями поселилась на нашей земле; эта эпоха варягов есть настоящий период Славянской Скандинавии», что восточные славяне, утратив «свою народность», сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях», в связи с чем произошло общее преобразование «духа понятий, вооружения, одежды и обычаев страны», образование славянского языка из скандинавского. В 1837 г. С.Сабинин утверждал, что норманны на Руси своей массой превосходили славян (население Киевской Руси около 1000 г. составляло, по подсчетам специалистов, как минимум 4,5 миллиона[3], среди которых выходцев из Скандинавии было, если послушать Сабинина, больше половины). В связи с чем, наши предки, как убеждал впавший в состояние норманистского экстаза автор, буквально все заимствовали у скандинавов, включая язык и языческую религию («Замечательно, что религия в древней России была скандинавская, а не славянская»), а также «обыкновение мыться в субботу», обычай дарить детям на зубок и др.[4] Подобные размышления, казалось, канувшего в Лету «ультранорманизма» шлецеровского типа», и не имевшие абсолютно никакой опоры ни в русских, ни в иностранных источниках, были предельно актуализированы Первой мировой войной, а затем существованием Советской России (СССР), в связи с чем теория Арне была просто обречена на то, чтобы считаться «новым словом» в науке. Как верно заметила в 1955 г. находившаяся в эмиграции Н.Н. Ильина, она получила «большой успех в Западной Европе по причинам, имеющим мало отношения к исканию истины». Справедливость этого заключения подтвердил в 1962 г. английский ученый и крупнейший скандинавист П.Сойер, указав, что «нет никаких археологических свидетельств, способных оправдать предположение о наличии там (на Руси. - А.С., В.Ф.) обширных по территории колоний с плотным населением». Но так будут говорить много лет спустя после того, как в науке, благодаря Арне, прочно закрепилось еще одно ложное направление в изучении русских древностей, породившее большое число мнимых доказательств норманства руси, а те, в свою очередь, «плодясь и размножаясь», дали начало другим и т. д.
Вместе с тем Сойер, будучи сторонником норманской теории, дал объективную оценку построениям археологов-норманистов, чрезмерно абсолютизирующих скандинавский материал и на его основе интерпретирующих русскую историю в угодном для себя духе. Приведя слова выдающегося ирландского филолога Т. О'Рэйли, произнесенные в 1946 г., что «археологические факты часто скучны, но зато они обладают непреходящей ценностью; заключения археологов, напротив, нередко интересны, но сомнительны и эфемерны», он констатировал: «Сами по себе археологические находки, топонимы и монеты свободны от пристрастности, они не говорят ни за, ни против скандинавов. Тенденциозность создают те, кто работает с этим материалом». Скандинавские находки в захоронениях на территории Руси, обращал внимание исследователь, «еще не доказывают того, что люди, погребенные в этих могилах, были скандинавами или имели скандинавских предков. Предметы такого рода могут переходить из рук в руки, нередко оказываясь очень далеко от народа, который их изготовил или пользовался им первым. Это может показаться ясным как день, но порой об этом забывают. Некоторые ученые воспринимают обнаружение скандинавских предметов, особенно в России, как доказательство тесных связей со Скандинавией».
После чего Сойер доходчиво объяснил, как можно избежать ошибок. Во-первых, необходимо «остерегаться излишне доверчивого отношения к археологическим гипотезам», ибо если не признавать довлеющих над археологией ограничений, то «она может принести больше вреда, чем пользы». Во-вторых, «пытаясь увязать исторические и археологические данные, очень легко соблазниться самыми удобными гипотезами и отнестись к ним так, как будто они исключают все прочие возможности, поэтому историки, пользующиеся вещественными материалами, должны особенно остерегаться подобных обманчивых доводов»[5]. Но «обманчивые доводы» археологов-норманистов для их единомышленников - историков, лингвистов и других - всегда служат сигналом к началу нового витка в деле норманизации русской истории. В связи с чем теория Т.Ю. Арне, возникнув на совершенно пустом месте и только лишь в силу массовых норманистских настроений, по той же причине моментально получила мощную и совершенно фиктивную поддержку от имени лингвистики. В 1915 г. шведский славист Р. Экблом издал работу, задавшую, несмотря на ее довольно скромный объем (67 стр.), до сих пор очень громко звучащую в разговорах российских норманистов тональность. И в которой он убеждал, что названия от корня рус- и вар- (вер-) Новгородской земли являются доказательством расселения скандинавов в данном регионе. При этом профессионального лингвиста нисколько не смутило отсутствие в Швеции топонимов с такими корнями, что прямо указывает на ошибочность всех его рассуждений[6].
Этот же факт нисколько не смутил и А.А. Шахматова, для которого выводы Арне и Экблома явились той путеводной нитью, посредством которой академик в 1919 г. в монографии «Древнейшие судьбы русского племени» очертил границы «политического центра варягов» на северо-западе Восточной Европы, «откуда они господствовали над финскими и восточнославянскими племенами». Исходя из ложной посылки Арне (как отмечал в 1930 г. норманист Ю.В.Готье, он принял труд «Швеция и Восток» «целиком и без критики»), что «археологические данные устанавливают наличность более или менее обширных скандинавских поселений в IX-X веке на территории России в пределах современной Петроградской, Новгородской, Смоленской, Ярославской Владимирской, и др. губерний», и которые, по мысли Шахматова, являлись административными центрами скандинавов, и при этом беря во внимание неопределенные показания восточных источников об острове русов, ученый посчитал, что речь идет о Старой Руссе и ее округе. И охарактеризовал последнюю как «военно-организованную, ведшую торговлю, разбойническую колонию численностью до ста тысяч человек», где «военная организация приняла государственные формы», в результате чего возникла «русская держава» или «древнейшая Русь». К сказанному им было добавлено, что «островным городом, Holmgardr, скандинавы называли город, получивший позже (после основания Новгорода) имя Старой Русы».
К такому заключению Шахматова привела невиданная для других местностей Северо-Западной Руси насыщенность «русской» географической номенклатуры в районе Старой Руссы, на которую он глядел лишь глазами Экблома: «Город этот расположен на обоих берегах Полисти в незначительном расстоянии от Новгорода; Новую Русу находим в виде селения на реке Поле в Демянском уезде; другую Новую Русу - на западноевропейских картах XVI и XVII века на реке Шелони там, где новгородские источники указывают погост Струпинской; мы не знаем о времени основания этих поселений из летописей, но Старая Руса (под именем Руса) упоминается уже в 1167 году. Отметим в Русе Остров, очевидно, между обоими берегами Полисти... Речка, впадающая в Полисть в самом городе, называется Порусьей; местность вокруг города носила название Околорусья, как видно из писцовых книг 1498 года. Это может указывать на древность названия Русы». И из этой «древнейшей Руси», завершал свое видение начальных страниц русской истории знаменитый летописе- вед, «вскоре после» 839 г. началось движение скандинавской руси на юг, приведшее к основанию в Киеве около 840 г. «молодого русского государства»[7].
Надлежит подчеркнуть, что еще в 1915 г. Шахматов, сразу же попав под гипноз идей Арне, в духе Сабинина стал вести речь о «несметных полчищах скандинавов», будто бы в 30-х гг. IX в. двинувшихся с севера Руси в ее южные пределы. Весьма показательно, что подобные категории отсутствуют у крупнейших представителей норманской теории немца А.Л. Шлецера и датчанина В.Томсена. Так, первый, в начале XIX в. не найдя никаких следов пребывания норманнов на Руси, в недоумении воскликнул: там «все сделается славенским! явление, которого и теперь еще совершено объяснить нельзя», что славянский язык «нимало» не повредился норманским и что надобно полагать, продолжал он далее, стремясь придать норманской теории хотя бы какую-то видимость вероятия, что норманнов «было очень немного по соразмерности; ибо из смешения обоих очень различных между собою языков не произошло никакого нового наречия». Второй в 1870-х гг. отмечал по той же причине, что и Шлецер, что шведов на Руси «было сравнительно так мало, что они едва ли могли оставить по себе сколько-нибудь заметные племенные следы»[8]. Но в начале XX в. норманисты, размах рассуждений которых о своих любимых героях увеличивался прямо пропорционально стремительно возраставшему вводу в научный оборот фиктивных археологических аргументов, резко расширяют масштабы присутствия норманнов в русской истории. Так, в 1908 г. Ф.Ф. Вестберг говорил, что шведы-русы образуют, а именно эту формулировку и повторил в 1919 г., географически увязав ее со Старой Руссой, Шахматов, «организованную по военному, занимающуюся грабежом и торговлею, разбойничью колонию в числе 100 000 в северно-славянской земле». Эта же цифра начинает гулять и по страницам зарубежных изданий. Так, например, в 1912 г. англичанин А.Бьюри повествовал, что шведы в количестве 100000 человек, перейдя Балтийское море, основали Новгород, захватили всю торговлю Восточной Европы с Багдадом, Итилем и Константинополем и подчинили себе славян[9].
В 1920 г. академик С.Ф.Платонов, полностью поддержав гипотезу Шахматова о Старой Руссе, ибо она «уже теперь имеет все свойства доброкачественного научного построения...», дополнительно указал, что «вся местность к югу от оз. Ильменя слыла, еще в XV веке, под именем Русы». Это имя, по его характеристике, «мелькает на всех важнейших водных путях от Ильменя: на Шелони (Новая Руса на Мшаге); на Ловати и Полисти (Старая Руса, р. Порусья и озеро Русское, которое надобно считать за исток р. Порусьи); на р. Поле (Новая Руса близ волоков к оз. Селигеру и Стержу; также село Русино или Росино у р. Рытой ниже Демьянска); на Мете (дер. Руска близ Ям-Бронниц и там же р. Русская, приток или рукав р. Рог). Нет поводов сомневаться в древности приведенных названий и в том, что они намечают пути, которыми пользовалась русь», т. е. норманны. Продолжая далее, что «словом «Руса» в XV веке назывались не только отдельные поселки, но иногда и целые районы», например, «весь район между pp. Полистью и Полою...», историк констатировал, что в XV в. «употребление имени Руса как будто колебалось: древнейшее значение слова (Руса=страна) сменялось новейшим (Руса=Старая Руса=город)»[10].
О Южном Приильменье как месте проживания огромного числа скандинавов с увлечением вели речь российские эмигранты. Так, в 1925 г. лингвист Ф.А. Браун, говоря, что шведская русь «непрерывно притекала из-за моря...» в земли восточных славян, отмечал наличие «древнейших» и «многолюдных скандинавских поселений», «густой сетью» будто бы покрывавших «весь край до Ильменя, заходя и за это озеро, на что указывают и многочисленные следы имен «Руси» и «варягов» в географической номенклатуре этой области». В 1931 г. историк В.А.Мошин точно такими же словами убеждал, что теорию норманской колонизации Восточной Европы подтверждают остатки скандинавских поселений IX-X вв., которые «густой сетью покрывают целый край к югу» от Ладожского озера до Ильменя, что к югу от последнего «целая область кишит скандинавскими поселениями, рассеянными по всем важнейшим водным путям, идущим от Ильменя, что видно из названий «Русь». Тогда же языковед М.Фасмер, считая, что в X в. русское непременно означало скандинавское, «увидел» многочисленные следы пребывания викингов в Восточной Европе в 118 топо- и гидронимов Восточной Европы (в несколько раз больше, чем насчитал в 1915 г. Р.Экблом). В 1943 г. историк Г.В.Вернадский полагал, что к середине IX в. в районе о. Ильмень «возникла община шведских купцов» с центром, вероятно, в Старой Руссе[11].
Но самым активным популяризатором и вместе с тем «соавтором» теории норманской колонизации Руси являлся в 20-60-х гг. XX в. датский славист А.Стендер-Петерсен, работы которого оказали огромное воздействие на специалистов в области изучения Древней Руси, в том числе советских и нынешних российских. По его мнению, землепашцы из центральной Швеции, мирно и постепенно проникая на восток, вклинились «в пограничные области между неорганизованными финскими племенами и продвигающимися с юга славянами», в результате чего в треугольнике Белоозеро, Ладога, Изборск осело шведское племя русь («das schvedische Ruotsi - oder Rus'-volk»). Co временем эта шведская русь, вступив в мирный симбиоз с финскими и славянскими племенами и втянувшись в балтийско-волжско-каспийскую торговлю, создала, опираясь на «определенные традиции государственности», принесенные из Швеции, государство «Русь». Первоначально Стендер-Петерсен видел в нем Верхневолжский («русский») каганат, якобы существовавший уже в 829 г. в районе очерченного им треугольника и Верхнего Поволжья. Затем все основные события ученый перенес в Приладожье, твердо считая, что в первой половине IX в. «возникло вокруг Ладоги, а затем при Ильмене под руководством свеев первое русское государство, в создании которого приняли участие и славяне и финны», и которое взяло в свои руки балто-каспийскую торговлю (в другой редакции он вел речь о возникновении около VIII в. «Ладожского шведского княжества», которое не позднее IX в. превратилось в норманский каганат во главе с каганами, в скором будущем подчинивший себе Новгород и Киев).
И этот выдуманный автором «Ладожский каганат» (ранее Стендер-Петерсен то же самое говорил в отношении точно такого же мифического Верхневолжского каганата) заявил о себе в Константинополе и Ингельгейме в 839 году. Позже русско-свейские дружины «под предводительством местных конунгов» двинулись на завоевание Днепровского пути и захватили Киев, освободив местных славян от хазарской зависимости. Тем самым они завершили создание «норманно-русского государства», в котором весь многочисленный высший слой - князья, дружинники, управленческий аппарат, а также купцы - были исключительно скандинавами. Но в короткое время они растворились в славянах, что привело к образованию национального единства и созданию в рамках XI в. «особого смешанного варяго-русского языка». В области Двины, повествовал далее Стендер-Петерсен, существовало еще одно «скандинаво-славянское» государство с центром в Полоцке, в 980 г. разгромленное «скандинавским каганом» Владимиром. Невероятная массовость присутствия шведов в Восточной Европе дополнительно вытекала из таких слов этого богатого на воображение датского лингвиста, что шведы на Русь шли «с незапамятных времен беспрерывно...», что «наплыв» скандинавских купцов в IX-XI вв. в Новгород «был, по-видимому, огромный», что в 980 г. Владимир Святославич отбыл якобы из Швеции в Новгород с наемным «громадным войском» и др.[12]
В 1950-1960-х гг. шведский археолог Х.Арбман, также тиражируя и закрепляя в западной историографии теорию норманской колонизации Руси, и доказывал, что главной областью колонизации военно-торгового и крестьянского населения Скандинавии «первоначально было Приладожье, откуда часть норманнов проникла в Верхнее Поволжье, а другая часть, двинувшись по Днепровскому пути, основала норманские колонии в Смоленске-Гнездове, Киеве и Чернигове». Скандинавы, расселяясь по Восточной Европе, установили господство над ее славянским населением и создали Киевскую Русь. В целом, как констатировал в 1960-х гг. И.П.Шаскольский, в работах шведских, финских, норвежских и других западноевропейских ученых середины XX в. присутствовало стремление «показать, что главным содержанием истории Швеции IX-XI вв. были не события внутренней жизни страны, а походы в Восточную Европу и основание шведами Древнерусского государства»[13].
И на такой путь их прямо толкали (помимо, как отмечал немецкий археолог Й.Херрман, говоря о германской науке, «прямолинейно-националистических целей»[14] и, необходимо добавить, антирусских настроений) выводы археологов, также вольно, как и Т.Ю. Арне, обращавшихся с археологическим материалом. Так, например, Арбман охарактеризовал известный большой курган Черная могила на Черниговщине (а по нему и другие большие курганы этого же района) как погребальный памятник норманна лишь по наличию в нем двух франкских мечей, выдав их за скандинавские, хотя мечи франкского производства имели самое широкое хождение по всей Европе и найдены там, где скандинавов никогда и не было. В 1962 г. интерпретацию Арбманом захоронения в Черной могиле английский археолог П.Сойер назвал наиболее характерным примером тенденциозной и неубедительной аргументации. А в отношении Гнездова он добавил, что, «конечно же, обнаруженного скандинавского материала недостаточно, чтобы подтвердить заявление Арбмана о том, что это шведское кладбище, последнее пристанище представителей шведской колонии» (сегодня В.Я. Петрухин, заполонив историю Руси не только норманнами, но уже и хазарами, увидел в Черной могиле ударную «интернациональную» стройку раннего феодализма: «...Славяне, норманны и хазары возвели своему предводителю единый монумент»)[15].
Теория Арне-Стендер-Петерсена-Арбмана в завуалированном виде присутствовала в советской науке, на словах боровшейся с норманизмом, а на деле исповедовавшей главный его тезис о скандинавской природе варягов. И ее активными проводниками выступали ленинградские археологи или представители «ленинградской школы скандинавистов», как их именует ее воспитанник А.А. Хлевов, победившей в борьбе за «реабилитацию» скандинавов в ранней русской истории». Так, в 1970 г. Л.С. Клейн и его ученики Г.С.Лебедев, В.А. Назаренко довели до сведения исследователей, занимавшихся изучением Руси, и, естественно, ставших брать их цифры в расчет и подверстывать под них свои построения, что норманны - дружинники, купцы, ремесленники - в X в. составляли «не менее 13 % населения» по Волжскому и Днепровскому торговым путям. По Киеву эта цифра выросла у них до 18-20 %, т. е. каждый пятый житель многонаселенной столицы Руси был, оказывается, скандинавом, а в Ярославском Поволжье численность последних, по их мнению, уже «была равна, если не превышала, численности славян»[16]. Такого рода рассуждения советских «антинорманистов»-марксистов, после 1991 г. ставших именовать себя «объективными», «научными» и «умеренными» норманистами, продолжали, как и прежде, подпитывать шведские археологи, до сих пор являющиеся в глазах их российских коллег главными экспертами в оценке русских древностей.
В 1985 г. шведский археолог И.Янссон предположил, стремясь, видимо, придать разговорам о самом массовом присутствии скандинавов на Руси хоть какие-то черты материальности, а значит, убедительности, что в эпоху викингов их численность могла превышать 10% населения Швеции (но подобная конкретизация, учитывая тот факт, что в последней около 1000 г. проживало от 500 000 до 800 000 человек, означает, что в землях восточных славян за два, как минимум, столетия в общей сложности побывало от 1 до 1,6 миллиона скандинавов, обязанных, естественно, оставить там явственные и многочисленные следы своего пребывания). Размер «шведской иммиграции», по словам Янссона, «был настолько велик, а захороненных женщин (скандинавок. - А.С., В.Ф.) настолько много, что иммигрантами не могли быть только воины, купцы и др. В их числе должны были быть и простые люди». В 1998 г. он добавил, что его дальние предки шли на Русь для несения военной службы, занятий ремеслом и даже сельским хозяйством, переселяясь «на восток Европы целыми коллективами, да и в походы и на военную службу пребывали большими группами, что предполагает их постоянное проживание, нередко семьями, в городах и иногда сельских местностях»[17].
Наши археологи, нисколько не желая отставать ни от Арне, ни от Янссона, эхом повторяют сказанное ими. Так, в 1996-1998 гг. В.В. Мурашова, ведя речь об «огромном количестве» скандинавских предметов «во множестве географических пунктов» Восточной Европы, проводила не только идею о большой иммиграционной волне из Швеции на Русь, но и утверждала, что «есть основания говорить об элементах колонизации» норманнами юго-восточного Приладожья. В 1999 г. Е.Н.Носов не сомневался, что в ряде мест скандинавы проживали «постоянно, семьями и составляли довольно значительную и влиятельную группу общества»[18]. Настроения археологов, в духе времени расцвета «ультранорманизма» в нашей науке, в духе Арне и Стендер-Петерсена рождавшие мнимые материальные свидетельства пребывания скандинавов «во множестве географических пунктов» Руси, передаются, в силу их норманистских воззрений, профессиональным историкам. И в 1991 и 1993 гг. А.П. Новосельцев говорил, что происхождение термина «Русь» и династии киевских князей - второстепенные вопросы, навязанные науке «патриотами»(свое отношение к антинорманистам прошлого он выразил в словах, что это «посредственности типа Д.И. Иловайского). Тогда как «прекрасный знаток наших древностей» А.Стендер-Петерсен, глубоко уважавший «Россию, русский народ, его прошлое», «считал, что термин «Русь» северного происхождения, как и династия киевских Рюриковичей»[19].
В 1995-2000 гг. Р. Г. Скрынников, повторяя и превосходя глубоко уважавшего «Россию, русский народ, его прошлое» Стендер-Петерсена, объяснял, что во второй половине IX - начале X вв. на Руси, которую ученый переименовал в «Восточно-Европейскую Нормандию», «утвердились десятки конунгов», основавших недолговечные норманские каганаты, что там находилось «множество норманских отрядов», что в X в. «киевским князьям приходилось действовать в условиях непрерывно возобновлявшихся вторжений из Скандинавии», что разгром Хазарии был осуществлен «лишь очень крупными силами», набранными в Скандинавии, что в балканской кампании Святослава «скандинавское войско по крайней мере в 1,5-2 раза превосходило по численности десятитысячную киевскую дружину», что его сын Владимир, будучи новгородским князем, «подчинил норманнское Полоцкое княжество на Западной Двине...» и т. д. и т. п. При этом он уверял, что «на обширном пространстве от Ладоги до днепровских порогов множество мест и пунктов носили скандинавские названия». Но чтобы как-то затушевать столь явный фальсификат, т. к. науке совершенно ничего не известно о «множествах» скандинавских названий на Руси, Скрынников тут же «стер» это множество, превратив его в пустой звук и тем самым расписавшись в безосновательности своей же посылки: «Со временем следы норманской культуры окончательно исчезли под мощным слоем славянской культуры»[20].
Но, как хорошо известно, ничто никогда окончательно не исчезает. И о пребывании норманнов в Англии и Франции до сих пор говорят многочисленные скандинавские топонимы. Так, во Франции их сотни (на данный факт Е.А. Мельникова закрывает глаза и говорит, что во Франции «количество скандинавских по происхождению лексем исчисляется единицами...» и что скандинавы не оставили «следов в местной культуре»[21]). Некоторые города в Нормандии, подчеркивают зарубежные ученые, «такие, как Quettehou и Houlgate, сохранили названия, которые присвоили им основатели-викинги тысячу лет назад», а «из 126 деревень на о. Льюис - одном из внешних Гебридских островов (Великобритания. - А.С., В.Ф.) - 110 имеют либо чисто скандинавское название, либо какое-то его подобие». Восточная Англия, подвергшаяся датской колонизации и где в 886 г. по мирному договору предводителя датчан Гутрума с англосаксонским королем Альфредом Великим был основан Данелаг (по-английски Денло, «область датского права»), до сих пор несет на себе ярко выраженный скандинавский отпечаток. «Приблизительно 700 английских названий, включающих элемент bu, без сомнения, доказывают, - отмечает П. Сойер, - важность скандинавского влияния на английскую терминологию». Западноевропейские исследователи также отмечают, что свидетельством пребывания норманнов во Франции является «множество скандинавских личных имен, к которым добавлен суффикс -ville», что «линкольнширский судебный реестр за 1212 г. содержит 215 скандинавских имен, и только 194 английских», что согласно кадастровой описи 1086 г. - «Книге Страшного суда», «у землевладельцев в период до нормандского завоевания в ходу было по меньшей мере 350 скандинавских личных имен», что скандинавы в Линкольншире и Йоркшире наложили «свой отпечаток на тамошнюю административную терминологию»[22]. В целом, длительное завоевание датчанами восточных областей Англии отразилось в английском языке в виде многочисленных лексических заимствований (до 10% современного лексического фонда) и ряда морфологических инноваций[23].
Ничего подобного русская история не знает и не знает потому, что варяги и варяжская русь, призванные в 862 г. в земли восточных славян и сыгравшие исключительно важную роль в их истории, не имели никакого отношения ни к шведам, ни к скандинавам вообще, несмотря на то, что последними в гигантском количестве - сотнями тысяч и даже миллионами! - по своей прихоти и вопреки источникам наводняют Русь отечественные и зарубежные норманисты. И изгнание этих норманнов - этих мнимоварягов и мниморусов - из русской истории, а вместе с ними и всех норманистских фантазий из нашей науки - неотложная задача современных исследователей (если бы варяги и варяжская русь действительно были норманнами и таковыми бы выступали в наших летописях и других памятниках, то тогда бы, понятно, не существовало самого варяго-русского вопроса и никто бы, конечно, не сомневался в его норманистской трактовке). И изгонять их надо потому, что норманистские мифы, преподносимые от имени якобы «объективной науки» якобы «объективными исследователями» типа археологов Л.С.Клейна, Д.А. Мачинского, В.Я. Петрухина, филолога Е.А. Мельниковой, засоряют наше историческое сознание и тем самым не позволяют в истинном свете видеть наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Причем эти «объективные исследователи», используя свое невероятно огромное влияние в науке, всемерно противятся установлению исторической правды. А полное отсутствие у норманской теории истинных аргументов с лихвой компенсируют масштабным и беззастенчивым шельмованием доводов антинорманистов в глазах читателя, выросшего на идеях норманизма.
Есть еще одна причина, которая заставляет изгонять из нашей истории не принимавших в ней участие норманнов - это антирусская направленность норманской теории, порожденной русофобскими настроениями части шведского общества начала XVII столетия. И эта направленность норманской теории с особенной силой была явлена всему миру сверхизвестными «норманистами» - вождями Третьего рейха, стремившимися посредством ее идеологически обосновать агрессию против СССР, чуть не обернувшейся для нас катастрофой. Как втолковывал немцам в «Майн кампф» Гитлер, «организация русского государственного образования не была результатом государственно-политических способностей славянства в России; напротив, это дивный пример того, как германский элемент проявляет в низшей расе свое умение создавать государство». Поэтому, вещал он, «сама судьба как бы хочет указать нам путь своим перстом: вручив участь России большевикам, она лишила русский народ того разума, который породил и до сих пор поддерживал его государственное существование». Фюреру в унисон вторил Гиммлер: «Этот низкопробный людской сброд, славяне, сегодня столь же не способны поддерживать порядок, как не были способны много столетий назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюриков»[24].
Норманизмом, подчеркивал в 1961 г. немецкий историк А.Андерле, руководствовались официальные учреждения фашистской Германии. Так, напомнил он, в инструкции «12 заповедей поведения немцев на Востоке и обращения их с русскими», врученной в секретном порядке «сельским управляющим» и предназначавшейся в качестве руководства к действию при ограблении советского населения, настойчиво повторялась перифраза из русской летописи: «...Наша страна велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и владейте нами!». Этим же «сельским управляющим» за три недели до нападения на СССР внушалось, что «русские всегда хотят оставаться массой, которой управляют. В этом смысле они воспримут и немецкое вторжение. Ибо это будет осуществлением их желания: «Приходите и владейте нами». Поэтому у русских не должно создаваться впечатления, что вы в чем-то колеблетесь. Вы должны быть людьми дела, которые без лишних слов, без долгих разговоров и без философствования четко и твердо выполняют то, что необходимо. Тогда русские будут вам услужливо подчиняться»[25].
Надлежит напомнить горькое признание известного писателя-историка Русского Зарубежья М.Д. Каратеева, жизнь которого заставила увидеть в норманской теории, привитой ему в детские годы, истинную подоплеку. В 1968 г. он констатировал от имени своих собратьев, вынужденных после революции покинуть Россию, что «сколько непоправимого вреда принес норманизм престижу нашей страны и нам самим, начали понимать за границей, очутившись в «норманском» мире и поневоле сделав кое-какие наблюдения, сравнения и выводы». Ибо за ним, справедливо заострял Каратеев внимание, «кроется не одно лишь тщеславное желание Запада отстоять видимость своего превосходства над русским народом. Дело обстоит гораздо серьезней: норманская доктрина пошла на вооружение тех русофобских сил западного мира, которые принципиально враждебны всякой сильной и единой России, - вне зависимости от правящей там власти, - и служит сейчас чисто политическим целям: с одной стороны как средство антирусской обработки мирового общественного мнения, а с другой - как оправдание тех действий, которые за этой обработкой должны последовать. Так ошибка историческая... опоганила и русско самосознание и отношение к нам других народов, обернувшись ошибкой политической огромного масштаба. За неуважение к своему прошлому приходится платить дорогой ценой»[26].
А уважать свое прошлое - это означает вести вдумчивый и серьезный разговор, где есть источники и где нет места никаким спекуляциям и передергиваниям. Тогда все встает на свои места, а мифы и мистификации исчезают. С ними исчезают и норманны-призраки русской истории. Об этом и идет речь в настоящем сборнике.
Примечания:
1. Аrnе T.J. La Suede et l'Orient. Etudes archeologiques sur les relations de la Suede et de l'Orient pendant l'age des vikings. Upsala, 1914. P. 225, 229; idem. Det stora Svitjod. Essauer om gangna tiders svensk-ruska kulturfobindelser. Stockholm, 1917. S. 37-63; Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной науке.-М., Л., 1965. С. 168-172.
2. Венелин Ю.И. Скандинавомания и ее поклонники, или столетния изыскания о варягах. - М., 1842; Мошин В А. Варяго-русский вопрос // Slavia. Casopis pro slovanskou filologii. Rocnik X. Sesit 1-3. Praze, 1931. C. 113,130,347,350,364,533.
3. Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе. (Опыт исчисления). - М. 1941. С. 86; Ловмяньский X. Русь и норманны. - М., 1985. С. 99, 153.
4. Сенковский О.И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения. Т. I. Отд. II. - СПб., 1834. С. 18, 22-23, 26-27, 30-40, 70, примеч. 30; его же. Эймундова сага // То же. Т. II. Отд. III. - СПб., 1834. С. 47-49, 53, 60, примеч. 23; Сабинин С. О происхождении наименований боярин и болярин // ЖМНП. Ч. 16. СПб., 1837. С. 45, 71,78-79, 81.
5. Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки. - Париж, 1955. С. 75; Сойер П. Эпоха викингов. - СПб., 2002. С. 21, 74, 95, 98-99, 290, 331 , примеч. 26.
6. Ekblom R. Rus- et vareg- dans les noms d lieux de la region de Novgorod. - Stockholm, 1915. P. 11-30,40-57.
7. Шахматов A.A. Древнейшие судьбы русского племени. - Пг., 1919. С. 54—60; Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе. - М., 1930. С. 248.
8. Шлецер А.Л. Нестор. Ч. I. - СПб., 1809. С. 343, примеч. *; то же. Ч. II. - СПб 1816. С. 171-172; Томсен В. Начало Русского государства, - М., 1891. С. 115
Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11. - Пг., 1915. С. XXVII. Здесь далее курсив принадлежит авторам.
9. Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе / ЖМНП. Новая серия. Ч. 14. № 3. СПб 1908. С. 27; Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отноше ний. - М., 1956. С. 40.
10. Платонов С.Ф. Руса // Дела и дни. Исторический журнал. Кн. 1. Петербург 1920. С. 1-5.
11. Браун Ф.А. Варяги на Руси // «Беседа»: №6-7. Берлин, 1925. С. 324, 332-333; Мошин В А. Начало Руси. Норманны Восточной Европе // Byzantinoslavika Rocnik III. Svarek 1. Praha, 1931. С. 57, 291; Vasmer M. Wikingerspuren in Russland. - Berlin, 1931. S. 3, 11-22; Вернадский Г.В. Древняя Русь. - Тверь-М., 1996. С. 338-339
12. Stender-Petersen A. Varangica. Aarhus, 1953. P. 245-252, 255-257; idem. Anthology of Old Russian Literature. New York, 1954. P. 9, note c; idem. Das Problem der altesten byzantinisch-russisch-nordischen Beziehungen // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma 4-11 Settembre 1955. Relazioni. Vol. III. Roma, 1955. P. 174-188; idem. Der alteste russische Staat // Historische Zeitschrift. Bd. 191. H. 1. Munchen, 1960. S. 1, 3-4, 10-17; Стендер-Петерсен А. Ответ на замечания В.В. Похлебкина и В.Б. Вилинбахова // Kuml. 1960. Aarhus, 1960. S. 147-148, 151-152.
13. Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной историографии // История СССР. 1960. № 1. С. 227,230-231; его же. Норманская теория в современной буржуазной науке. С. 26-27, 101-103, 127-129.
14. Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 51.
15. Сойер П. Указ. соч. С. 95-96; Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков. - Смоленск, М., 1995. С. 194.
16. Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения // Исторические связи Скандинавии и России. Л., 1970. С. 234, 238- 239, 246-249; Хлевов А.А. Норманская проблема в отечественной исторической науке. - СПб., 1997. С. 69.
17. Янссон И. Контакты между Русью и Скандинавией в эпоху викингов // Труды V Международного конгресса славянской археологии. Киев, 18-25 сентября 1985 г. Т. III. Вып. 1б. М. 1987. С. 124-126; его же. Русь и варяги // Викинги и славяне. Ученые, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях. - СПб., 1998. С. 25-27.
18. Мурашова В.В. Предметный мир эпохи // Путь из варяг в греки и из грек... - М., С. 33; ее же. Была ли Древняя Русь частью Великой Швеции? // Родина. № 10. С. 9, 11; Носов Е.Н. Современные археологические данные по варяжской проблеме на фоне традиций русской историографии // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. - СПб., 1999. С. 160.
19. Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // ВИ. 1991. № 2/3. С. 7; его же. «Мир истории» или миф истории? // То же. 1993. № 1. С. 27-28.
20. Скрынников Р.Г. Войны Древней Руси // ВИ. 1995. № 11-12. С. 26-27, 33, 35, 37; его же. История Российская. IX—XVII вв. - М. 1997. С. 54-55, 67; его же. Русь IX-XVII века. - СПб., 1999. С. 17- 18,20-45,49-50; его же. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX-XVII вв. - СПб., 2000. С. 10, 15-17, 22- 23.
21. Мельникова Е.А. Укрощение неукротимых: договоры с норманнами как способ их интегрирования в инокультурных обществах // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 2 (32). С. 26.
22. Сойер П. Указ. соч. С. 211-242; Викинги: набеги с севера. - М., 1996. С. 63, 101 107-108; Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. - М. 2003. С. 231.Б.
23. Мельникова Е.А. Древнерусские лексические заимствования в шведском языке // ДГ. 1982 год. М. 1984. С. 66.
24. Цит. по: Чивилихин В. Память. Роман эссе. - Л., 1983. Кн. 2. С. 358-359; Oткуда есть пошла Русская земля. Века VI X / Сост., предисл., введ. к документ коммент. А.Г.Кузьмина. Кн. 1. - М., 1986. С. 6.
25. Андерле А. Из истории идеологическс подготовки гитлеровской агрессии против СССР // ВИ. 1961. № 6. С. 91.
26. Каратеев М.Д. Норманская болезнь русской истории // Сб. РИО. Т. 8 (156). Антинорманизм. М., 2003. С. 190-191
Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки
Краткая биография Н.Н. Ильиной
ИЛЬИНА Наталия Николаевна (1882-1963), родилась в дворянской семье: отец - Николай Антонович Вокач (1857-1905) - кандидат права, коллежский секретарь, племянник известного сановника Петра де Витте, мать - Мария Андреевна Муромцева (1856-?) - родная сестра Сергея Андреевича Муромцева, председателя Первой Государственной Думы, и Николая Андреевича Муромцева, члена Московской городской управы. Наталья Николаевна получила прекрасное образование - окончила Московские Высшие женские курсы (так называемые курсы проф. В. И. Герье, они существовали в 1872-1918 гг., уровень преподавания на них ни в чем не уступал университетскому и соответствовал словесно-историческому факультету).
27 августа 1906 г. Наталия Николаевна вышла замуж за выпускника университета Ивана Александровича Ильина (впоследствии выдающегося русского философа, известного деятеля правого движения в эмиграции). Скромность во всем была их отличительной чертой. Евгения Герцык, родственница Наталии, вспоминает. «Двоюродная сестра не была нам близка, но - умная и молчаливая - она всю жизнь делила симпатии мужа, немного ироническая к его горячности. Он же благоговел перед ее мудрым спокойствием. Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой - все строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц потратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный театр. Квартирка - две маленькие комнаты - блистала чистотой - заслуга Натальи, жены...» (Герцык Е. Воспоминания. Париж, 1973. С. 153-154). Молодые Ильины жили отдельно от родителей, зарабатывали своим трудом - преподаванием в университетах и институтах, совместными переводами с иностранных языков, публикациями брошюр, статей, книг. Вместе они перевели работу Г. Зиммеля «О социальной дифференциации» (М., 1908), а также книгу Эльсцбахера «Анархизм» и два трактата Руссо, которые не удалось издать.
В конце 1909 г. вместе с женой И.А. Ильин уезжает в научную командировку и проводит в Германии, Италии и Франции два года. Он работает в университетах Гейдельберга, Фрейбурга, Геттингена, Парижа, а вернувшись в Москву, трудится над диссертацией «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека».
С 1914 г. И.А.Ильин активно включился в общественную жизнь. Февральскую революцию 1917 г., а затем и октябрьский переворот воспринял как катастрофу и включился в борьбу с большевистским режимом. Продолжая читать лекции на юридическом факультете Московского университета и в других высших учебных заведениях Москвы, он активно противостоял официальной политике, отстаивая принципы академической свободы, подвергавшиеся в те годы попранию. Вопрос об эмиграции для него тогда не стоял; позже И.А. Ильин писал: «Уходят ли от постели больной матери? Да еще с чувством виновности в ее болезни? Да, уходят— разве только за врачом и лекарством. Но, уходя за лекарством и врачом, оставляют кого-нибудь у ее изголовья. И вот - у этого изголовья мы и остались. Мы считали, что каждый, кто не идет к белым и кому не грозит прямая казнь, должен оставаться на месте» (Очерки внутренней России // «Новое время», 25 окт. 1925, № 1348).
Шесть раз большевики подвергали Ильина аресту, дважды его судили (30 ноября 1918 г. на Президиуме Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией и 28 декабря 1918 г. в Московском Революционном Трибунале), но оба раза он был оправдан за недостаточностью обвинения и амнистирован. Последний раз его арестовали 4 сентября 1922 г. и обвинили в том, что он «с момента октябрьского переворота до настоящего времени не только не примирился с существующей в России Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности», и в конечном итоге был приговорен к высылке (еще в мае 1922 г. В.И.Ленин предложил заменять применение смертной казни для интеллектуалов, активно выступающих против советской власти, высылкой за границу). Вместе с ним разрешили выехать и его жене Наталии Николаевне Вокач-Ильиной. С 1922 г. чета Ильиных в эмиграции (они были высланы на «философском» пароходе). Шестнадцать лет они прожили в Берлине, где И.А.Ильин преподавал в Русском национальном институте. Однако с приходом к власти нацистов с 1934 г. И.А.Ильину запретили преподавать, а в 1938 г. после нескольких арестов гестапо Ильины сумели переехать в Швейцарию (на их выезд был наложен запрет).
В Швейцарии они поселились в пригороде Цюриха Цолликоне. Именно здесь Ивану Александровичу удалось закончить «Аксиомы религиозного опыта», над которыми он проработал более тридцати лет, два тома исследований по религиозной антологии с обширными литературными добавлениями и подготовить более 200 статей. Наталия Николаевна занималась философией, искусствоведением, позже - историей, была духовно близка мужу, вместе с ним встречала все невзгоды. Именно жене Ильин посвятил все свои основные труды.
Работа Натальи Николаевны над книгой «Изгнание норманнов...» пришлась на конец 30-х гг., когда над Европой уже сгущались тучи Второй мировой войны. Заметим, что помимо своей научной несостоятельности (доказательству чего собственно и посвящалась книга Н.Н.Ильиной), норманская теория стала еще и краеугольным камнем обоснования превосходства Запада над русским народом, используемого русофобами всех мастей. Многие историки Русского Зарубежья отмечали пагубность норманизма, возникшего когда-то в угоду политическим целям и вытаскиваемого всякий раз для опять-таки политических целей. Так, например, для обоснования второсортности славянского этноса на эпизод о призвании варягов ссылались и Гитлер, и Геббельс.
И.А. Ильин с вниманием и уважением относился к историческим изысканиям жены, «норманский вопрос» нередко становился предметом обсуждения в его переписке с друзьями и коллегами. Так например, П.Б.Струве в письме к И.А.Ильину от 25.VIII. 1938 г. рекомендует исторические труды к ее работе над норманской теорией: «Нат. Ник. очень рекомендую только что вышедшее посмертное издание «Лекций по русской истории» А.Е. Преснякова: т. I., «Киевская Русь». Тут много интересного и важного. Весьма хорошо составлена глава IV: «Русь и Варяги» (Полторацкий Н.П. Иван Александрович Ильин: Жизнь, труды, мировоззрение. Hermitage, 1989. С. 146-147).
Однако с П. Б. Струве по поводу норманской теории у И.А.Ильина были расхождения, и весьма серьезные, так например, в письме к Валентину Александровичу Рязановскому 28 ноября 1950 г. И. А. Ильин писал: «Прежде всего, спасибо Вам за направление Вашей мысли, которую я вполне разделяю. Давно пора сбросить этот шлецеровски-байеровский гипноз, который странно заворожил русских историков, кончая Ключевским и Струве (П.Б.). (...) Еще в 1938 году, при нашем последнем свидании с Петром Бернгардовичем, жена моя, Наталья Николаевна, заканчивавшая тогда книгу, озаглавленную «Изгнание норманнов», подняла этот вопрос с ним. Мы оба изумились, когда он вдруг пришел в раж, начал вопить и бить себя по коленам - ...за норманнскую теорию. Аргументы его были очень слабы и смахивали на «веру норманнов». А Гедеонова он пробовал убить, возопив о нем, что он был «статский советник». Я уже после объяснял это психологически: значение норманнов, по-видимому, имело для него некоторым образом персональный смысл... Но по истине - это не аргумент. Однако говорят, что после него остались обширные наброски по русской истории именно в этом направлении. // Давно была пора развернуть эту проблему широко и научно, как у Вас» (Архив И. А. Ильина, # 17: «Копии с моих писем», с. 75 (пагинация Н.П.Полторацкого), цит. по: Полторацкий Н.П. Указ. соч. С. 151).
Последние свои годы Ильины проживали в Цолликоне, в окрестностях Цюриха, где И. А. Ильин скончался после ряда болезней 21 декабря 1954 г. Наталья Николаевна пережила мужа на 9 лет и сделала очень много для издания новых и переиздания старых трудов замечательного русского философа. Умерла 30 марта 1963 г., была похоронена рядом с мужем в Цолликоне. 3 октября 2005 г. останки Ивана Александровича и Наталии Николаевны перезахоронены в Донском монастыре (рядом с прахом генерала А.И. Деникина и его супруги)
Биографический очерк подготовлен И.А.Настенко
Вступление
В эти горькие дни, в эти страшные дни, переживаемые Россией[1], наша мысль уводит нас в дали прошлого. Мы ищем в забытых, но незабвенных веках, в ушедшей, но и теперь трепещущей в нас жизни основу былой русской славы и верный путь к ее новым лучам.
Вокруг нас разрушение... и мы хотим узнать, как строилось то, что мы так плохо берегли. Мы хотим узнать, как началось наше государство и, минуя недавние века, допрашиваем IX век о тайнах рождения России.
Многое говорят историки про эту пору нашей жизни, но они разно рисуют и разно объясняют события тех давних времен. Мы готовы им верить... однако все принять, значит не принять ничего: выводы одного исследователя слишком часто исключают то, что выдается за истину другим. Надо судить и выбирать. И прежде всего надо осознать свое право на такой суд и на такой выбор.
История моей родины есть моя история, и тот, кто пишет книгу о моей стране, пишет книгу обо мне самом, читателе этой книги. Душа человека не образуется одними впечатлениями его короткой жизни, она хранит в себе наследие отцов, тени их чувств и размышлений, звучание их песен и вздохи их молитв. Душа в глубине своей помнит это далекое прошлое, и кто скажет, в какой мере ее переживания и ее дела исходят из глубинной памяти сердца? Историк моей родины говорит и обо мне, малой части ее, и это одно уже дает мне право не только ему верить, но и судить об его суждениях.
Нельзя забывать и того, что знание минувших лет создают не одни историки. Его творит народ в преданиях, былинах, песнях, его творит просвещенная часть народа в своих общих воззрениях на мир и человека и в размышлениях о протекших летах. «История - наука не точная, не математика. Она подвижна и изменчива, как сама жизнь»[2]. Исследователем прошлого всегда руководят те или другие народные силы; они воспитывают его, дают исходные точки его изысканиям, направляют его труд, а нередко и сбивают его с верного пути. История есть воспоминание всего народа о самом себе, и поэтому каждый волею или неволей участвует в ее создании. И чем сознательнее это участие, чем больше мысли и любви отдается работе воспоминания, тем глубже самопознание народа. Чем живее общение между учеными историками и всем обществом, с которым они делятся своим знанием, тем плодотворнее и безошибочнее идет дело исторической науки.
Конечно, читатель должен быть скромным. Вникая в исторические проблемы, пусть не думает он, что возможно найти их решение вне научной работы. Но выводы историка - «не догматы», и каждый смеет их проверить своими познаниями, остротой своей исторической памяти, силою своего разума и духовным ведением своей души.
Рассмотрим же суждения исследователей старины, изучавших былые дни нашей жизни, те дни, к которым относят обычно рождение России. Рассудим, что следует принять в этих учениях как слово правды, что должно отбросить как необоснованное мнение или призрачный факт. Возьмем и на себя труд воспоминания о нашем далеком прошлом, которое стало таким близким и дорогим для нас в эти темные дни.
Глава первая. Призвание варягов
«Русское государство основано норманнами» - вот что слышим мы уже в раннем нашем детстве еще до поступления в школу. Нам рассказывают, ссылаясь на древнего летописца, о том, как смелые и жестокие норманские пираты грабили и подчиняли себе племена славян и финнов в Новгородской земле, и о том, как славяне и финны, свергнув это тяжелое иго, не сумели ужиться в мире между собою и призвали к себе трех варягов-норманнов из племени «русь» для того, чтобы они княжили в землях Новгорода и владели их наследием. «Зачем позвали врагов?» - спросил однажды один русский мальчик, выслушав это первое известие о своей родине. Детский, наивный вопрос... А между тем в нем звучит смутное сознание психологической несообразности такого призвания и ропот того здорового чувства, которое вот уже двести лет, от Ломоносова до наших дней, не примиряется с норманской теорией, теперь будто бы доказанной. «Норманский вопрос решен в пользу норманнов», - пишет в 1930 году очень осторожный историк Ю.Готье и дальше поясняет: «окрепли и сети, наброшенные норманнами на славян и финнов, они превратились в железный остов, на котором установились основы первого русского государства»[3]. Норманская теория «признана правильной» в исторической науке... Но какими доводами укрепляется это решение? Мы не хотим и не можем принять его на веру, мы требуем доказательств, способных убедить, т. е. сломить в нас силу глубинного сопротивления, и готовы их изучить с терпеливым вниманием.
Исходной и опорной точкой норманской «системы» до сих пор слывет «русская летопись». Естественное (донаучное) понимание этой хроники - так думает чешский ученый Нидерле - дало основу теории, утверждающей, что варяги-русь пришли из Скандинавии и что они были германцы[4]. По словам датского филолога Томсена, «для того, кто читает его (Нестора) без предвзятого мнения и изощренных толкований, не может быть сомнения в том, что имя варяги употреблено в смысле общего обозначения обитателеи Скандинавии и что русь есть имя одного отдельного скандинавского племени»[5].
К событию «призвания варягов» должны быть отнесены летописные записи 859 и 862 годов. Прочтем их и постараемся понять «естественно», без предвзятого мнения и без научного истолкования.
1. «В лето 6367 (859). Имаху дань варязи из заморья на чуди и на словенех, на мери и на всех кривичех; а козари имаху на полянех и на северех, и на вятичех, имаху по беле и веверице от дыма».
2. «В лето 6370 (862). Изъгнаша варяги за море и не даша им дани, и начаша сами в собе володети: и не бе в них правды и въста род на род, быша в них усобице и воевати почаша сами на ся. Реша сами в себе: «поищем себе князя, иже бы володел нами и судил по праву». Идоша за море к варягом к руси[6], сице бо ся зваху тьи варязи русь, яко се друзии зовутся свое (свей), друзии же урмане, англяне (агляне), друзии (инии) гъти; тако и си. Реша руси чудь словене, кривичи: «вся (и весь) земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет; да пойдете къняжить и володети (владеть) нами». И избрашася з братья с роды своими, пояше по себе всю русь, и придоша (к словеном и седе) старейший Рюрик седе в Новеграде, а другие Синеус на Белеозере, а третии Изборьсте Трувор. От тех (и от тех варяг) прозвася Русская земля, новъгородци (Новъгород); ти суть людье ноугородьци (ции) от рода варяжьска, преже бо беша словене»[7].
В первом тексте мы читаем, что заморские варяги брали дань с племен славянских и финских Новгородского севера[8]. О том, к какому племени принадлежали эти варяги, не сказано ничего. Во втором тексте летопись сообщает что варяги, получавшие дань, изгоняются за море и лишаются дани; а через 3 года славяне и финны ищут себе князя у заморских варягов, и эти призываемые варяги называются русью, подобно тому, как другие варяги называются шведами еще другие норвежцами, англичанами, датчанами...
Что же узнаем мы из слов летописца о варягах-руси? Мы узнаем что славяне и финны, призывающие их на княжение, идут к ним за море. Место, откуда призваны князья, остается неопределенным, потому что выражения «из-за моря» или «за море» могут относиться к разным странам. Иногда такое выражение указывает на Скандинавию: «В лето 6630... приходи свеискии (шведский) князь с епископом в 60 шнек на гость иже из моря шли в 3 лодьях»[9] в других случаях - на остров Готланд: «В лето 6638... идуце и замория с гот»[10]; или же на Финляндию: «В лето 6819... ходиша новгородци войною на немецкую землю за море на емь»[11]; наконец, подобное же выражение может относиться и к Германии: «В лето 6745... придоша в силе велице немцы из заморья в Ригу»[12], или: «В лето 6709... варяги пустиша без мира за море... а на осень придоша вирязи горою», т. е. сухим путем, «на мир»[13].
Мы узнаем далее из текста летописи, что призванные варяги принадлежали к особому племени по имени русь. В самом деле, русь противопоставляется другим варяжским племенам, называемым иначе, а именно шведам, норвежцам, англичанам, датчанам, и этих других варягов, очевидно, не следует смешивать с нею.
Так как норманнами издавна принято называть шведов, норвежцев, датчан, иногда англичан[14], то мы заключаем: летописец, указывающий на русь как на особое племя, стоящее вне группы норманских племен, не относит эту русь к этим племенам, т. е. к норманнам.
Мы не ожидали этого вывода, мы не сразу ему верим и стараемся узнать из той же летописи еще что-нибудь о «варягах-руси», но... она больше не говорит о них.
Что же это значит? Если в словах летописца нет ничего о норманстве «варягов-руси», а многие исследователи выводят из его слов норманство этого загадочного племени, то мы вправе предположить, что их чтение не просто чтение, но толкование прочитанного; вероятно, они твердо знают не из летописи, что «варяги-русь» суть норманны, и потому видят в ней больше того, что в ней есть, и это большее неотрывно связывают с ее сказанием.
Проверим это предположение. Ссылаясь на разобранный текст, Погодин пишет: «Итак, варягами Нестор ясно называет свое (шведов), оурмян (норвежцев), англян (англичан), готов, народы, очевидно, единоплеменные. Все племена сии назывались норманнами, скандинавами. Итак, варяги Нестеровы суть скандинавы. Это математически ясно»[15]. Поэтому для Погодина в той же мере ясно, что и «варяги-русь» - скандинавы. Рассуждение это, возражает Забелин, построено по следующей схеме: «Если из пяти собеседников четверо немцы, то, следовательно, и пятый собеседник непременно должен быть немцем же; следовательно, и самоё слово собеседник непременно должно означать немцев же»[16]. Погодин, по мнению Забелина, мыслит так: если из пяти племен, называемых варягами, четверо (шведы, норвежцы, англичане, готы) - норманны, то и пятое племя (русь), называемое варягами, непременно должно быть норманским, и самоё слово «варяг» должно означать норманна. Конечно, это плохая логика, и сам Погодин помогает раскрыть основу своей ошибки. Он пишет: «Если бы Нестор не хотел указать... на племя своих варягов-руси, то к чему было прибавлять ему всех этих шведов, готов, англичан»...[17] Но летописец «прибавляет» их для того, чтобы показать, что «варяги-русь» - особое племя, не шведы, не готы и т. д. Все они - варяги, но не все они одного племени, точнее, не одной народности! Шведы, готы, урмане - норманны, это известно. К какой народности принадлежит русь - остается загадкой. Более определенного знания о руси из разбираемого текста извлечь невозможно. Погодин приписывает летописцу скрытую мысль о норманстве всех варягов, но достаточных оснований для такого понимания летописного рассказа у него нет. Другими словами, Погодин вводит в летопись свое убеждение, что варяги - норманны, и свое предположение, что и летописец это будто бы знал.
Погодин не был создателем норманской теории; он принял ее от своего предшественника Шлёцера, немецкого ученого, занявшегося изучением русских летописей. Исследуя текст 859 года, - о варягах, наложивших дань на Новгородский север и потом изгнанных, - Шлёцер под варягами разумеет норманнов и тут же поясняет почему: «Норманны, опытные моряки, которые дерзают плавать от Балтийского моря до Италии, конечно, должны были предпринимать такие экспедиции в самом Балтийском море»[18]. Далее он добавляет, что исландские саги, упоминая об Адлейгаборге (Старой Ладоге), указывают и путь этих набегов через устье Невы[19]. Конечно, это не доказательство, а лишь довольно основательное соображение. Но, допустим, что варяги, нападавшие на славян, были норманны, причем же тут, однако, «варяги-русь», призванные в 862 году? «Среди варягов - общее имя для всех жителей Балтийского и Северного моря германского происхождения, - пишет Шлёцер, - было племя, носившее особое название русских. Это положение ясно высказано в хронике»[20]. Утверждение совсем неожиданное: откуда это известно, что варяги - германцы Балтийского и Северного морей? Летопись об этом молчит. Между тем Шлёцер, установив частное положение: в 859 году на славян нападали варяги-норманны, т. е. германцы, превращает его без всяких к тому оснований в общее: все вообще варяги - норманны. После этого оказывается, что и «варяги-русь» не могут быть никем иным, как германцами, и притом якобы, по мнению самого летописца. «Варяги - родовое имя», - поясняет Шлёцер, виды его - шведы, норвежцы, англичане, датчане, русские. «Варяги - германское племя, в состав которого входит целый ряд племен, между прочим русь»[21].
Что все варяги были германцами, а именно норманнами, есть убеждение, вполне независимое от русских летописей. Оно-то незаконно, вопреки логике, вторгается в их тексты, сплетается с ними и прячется между строками древних воспоминаний. Чуждость этого суждения летописному рассказу обнаруживается, наконец, с полной очевидностью у самого родоначальника норманской системы. Германский ученый Байер, одаривший русскую науку и норманской теорией, и главными доказательствами ее верности, совсем не изучал русских летописей. «Великий знаток языков (не исключая и китайского), великий латинист и эллинист в 12 лет своего пребывания в России не научился, однако, и никогда не хотел учиться языку русскому»[22]. Он читал лишь отрывки хроники в плохом переводе[23].
Так родилась норманская теория, так нашла она себе основу в более чем свободном толковании сообщений русской летописи.
Внимательный читатель должен извлечь возможную пользу из неосторожных выводов норманистов: обострить свою мысль, углубить свое видение и проверить смысл древних слов.
Примечания:
3. Готье. Железный век в Восточной Европе. 248. 262 (1930).
4. Niederle. Manuel de l'Antiquite Slave. I. XIX (1923).
5. Томсен. Начало Русского государства / Пер. Аммона (1891).
6. Согласно новейшим исследованиям, следует читать не «к Руси», но «в Руси». См.: Приселков. Троицкая летопись, 57 и прим. 8 (1950).
7. Полное собрание русских летописей. I. II. Лаврентьевская и Троицкая летописи. 8-9. Издание Археографической комиссии. 1846.
8. Уплата дани одним древним народом другому не всегда была знаком подчинения. Нередко культурное государство или города-колонии платили дань варварам для того, чтобы себя оградить от их набегов. Так, греческая колония Ольвия платила дань скифам, Римская империя - россаланам, готам, Византия - гуннам, аварам, болгарам. Персы брали дань с Византии за оберегание горных проходов Кавказа. За ту дань, которую Киев платил хазарам, он получал доступ к южным морям. Когда народ сознавал себя достаточно сильным для того, чтобы отразить нашествие врагов, он прекращал уплату дани.
9. Летописец Новгородский. Москва: Синод. типогр., 1819. С. 29
10. Там же. 17.
11. Там же. 204.
12. Там же. 155.
13. Там же. 77-78.
14. Норманнами первоначально назывались норвежцы, потом это имя было распространено на шведов и датчан.
15. Погодин М. Исследования, замечания и лекции о русской истории. II. 23.
16. Забелин. Истории русской жизни с древнейших времен. I. 129.
17. Погодин. Исследования, замечания и лекции о русской истории. II. 110.
18. Schlotzer. Нестор. Russische Annalen in ihrer slawonischen Gnmdsprache. I. 156 (1802).
19. Там же. 157.
20. Там же. 178.
21. Там же. 187.
22. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 49.
23. Коялович. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. 99-100 (1884).
Глава вторая. Кто были варяги?
Рассказ нашей летописи о призвании варягов дает сведение неточное. Правда, оно может быть опорой для постановки вопроса о зарождении Русского государства или о появлении на Новгородской земле новой варяжской династии; имея в виду это сведение, можно спросить: кто же были варяги? Кто была Русь? Но удовлетворительного ответа на эти вопросы в нем найти нельзя.
Историческая критика объяснила смутность первых сообщений древней хроники. В самом деле, летописцы XI в. не могли знать точно, что происходило в нашем краю более чем за двести лет до них. Правда, уже с X в. при церквах, в святцах, отмечались некоторые события народной жизни, но этих заметок было недостаточно для понимания более ранней языческой эпохи. В греческих хрониках также было мало сведений о древней Руси. Между тем автор «Повести временных лет», составленной в начале XII века, хотел осмыслить «начало» русской жизни. «Повесть» есть уже попытка исторического истолкования, попытка установить ход русской истории сопоставлением и объяснением сохранившихся известий о ней. Когда норманисты и их противники стали внимательно изучать летописи, то обнаружилось, что и древнейшая хронология «Повести» неточна, и рассказ о начале Руси есть плод соображений ее автора[24]. Помыслы летописцев направлялись мыслью и настроениями того общества, к которому они принадлежали и в котором монастырь и княжеский двор имели руководящее положение. Поэтому сознание высоты новой христианской веры, сознание единства Руси, преданность княжескому дому, символу этого единства, незримо властвуют в летописном рассказе. Под влиянием таких настроений было естественно пренебречь народными преданиями о «Руси», относящимися к языческому времени[25], пододвинуть к христианской поре нашей истории начало Русского государства и объяснить русское имя как следствие появления на нашей равнине новой династии. Краткие, сбивчивые известия, затуманенные веками, указывали на Варяжскую землю как на родину призываемых князей.
Ввиду всего этого, данные летописи невозможно принимать без уточнения их и без проверки, и первые норманисты, утверждая свое учение на летописных известиях, все же искали и другие доказательства своей мысли, что варяги - норманны, и мысли летописца, что варяги 862-го года - русь. После того как критики «Повести» обнаружили произвольность некоторых ее положений, на внелетописные доводы легла почти вся тяжесть «норманской системы».
Мысль о норманстве всех варягов вообще была поддержана лингвистическими соображениями: варяги норманны потому, что слово «варяг» - норманское, оно происходит от шведского слова wara=o6eт, присяга через предполагаемую форму waring=воин, принявшей обет[26]. Эта лингвистическая догадка почему-то получает нередко форму доказанной истины. Между тем существуют и другие попытки объяснить нашего загадочного «варяга». Так, Шахматов полагает, что русский «варяг» и греческий «варанг» (βαραγγος) восприняты от переделки аварами имени франков[27], а Гедеонов находит у славян Варяжского моря живое слово германского корня varag, warang=мечник, от которого может быть произведено, грамматически правильно, русское слово «варяг»[28]. Осторожный читатель чувствует себя в праве заключить, что шведское происхождение слова «варяг» вовсе не доказано, тем более, что в северной (скандинавской) письменности соответствующее слово vaeringjar появляется впервые в связи с 1020 годом (сага о Болле Боллисоне) и применяется лишь к норманнам, поступившим в варангский корпус Византии, а в наших летописях мы уже встречаем упоминание о варягах в записях, связанных с IX столетием[29].
Слово «варяг» по своему смыслу означает воина или купца-пирата, приходящего обычно из-за моря, и само по себе не указывает на какое-либо определенное племя. Восточные славяне называли так всех балтийских пиратов - шведов, норвежцев, ободритов (славянское племя), маркоманов-вагиров[30]. В Сказании о Мамаевом побоище (XIV в.) говорится о дунайских варягах в дружине князя Димитрия Ольгердовича[31]. Одна из новейших летописей упоминает о варягах, живших еще до основания Киева на берегах Теплого (т. е. Черного) моря[32]. Свое профессиональное значение слово «варяг» сохранило и в настоящее время: в народном языке Архангельской губернии «варяжей» называют купца-заморца, в Тамбовской губернии «варять» означает заниматься развозной торговлей по селениям, а в Московской губернии «варягом» зовется мелочной «наезжий купец, разнощик»[33]. Помимо профессионального значения, слово «варяжский» имело и значение географическое: Варяжское, т. е. Балтийское море, Варяжское поморье; Ипатьевская летопись упоминает о сербских князьях «с кашуб, от поморья Варяжскаго, от Стараго града за Кгданском»[34]. В Патерике Печерском (XIII в.) сообщается: «Бысть в земле Варяжской князь Африкан»[35]. Поэтому в древности слово «варяг» применялось, между прочим, для обозначения народов, а именно тех, которые жили на Балтийском море и высылали на Русь дружины морских пиратов; так, в XI веке у нас варягами называли всех норманнов[36].
«Неправедно рассуждает, кто варяжское имя приписывает одному народу», - говорит Ломоносов. «Многие сильные доказательства уверяют, что они от различных племен и языков состояли и только одним соединялись - обыкновенным тогда по морям разбоем»[37]. Варягами могли называться и норманны - жители северных берегов Балтийского моря, и славяне - венды, заселявшие южные его берега. Лингвистические соображения о слове «варяг» недостаточны для просветления неясных речений летописного свода.
Эту неясность не устраняет и попытка историков определить народность варягов по именам первых князей, их бояр и послов. Следуя за Байером и Шлёдером, русские историки-нормаиисты признают эти имена скандинавскими и находят их в исландских сагах и в исторических сочинениях германского севера. Рюрик, по их мнению, не славянское имя, но датское или норвежское Hrorecur, Hraerek. Синеус происходит от Snio или Sinnuitz или Signiater или Siniam или Sune. Трувор - от Thorward и так далее[38]. Какое именно из многих скандинавских имен превратилось в то или другое славянское имя, норманисты решают разно, например, Байер предложил для Рогволода - Roghwaltr, Roegewald, Куник - Rognvaldr, Rognheitr. Некоторые из предлагаемых норманских имен - не имена, но прозвища (шведское Рериксон у Куника), возмещавшие недостающий шведский прообраз Рюрика. Иные ученые считают норманскими имена и воевод, и слуг княжеских (Погодин), другие признают имена Малуши, Малка, Добрыни - славянскими (Куник). «Имена первых русских князей-варягов и их дружинников почти все скандинавского происхождения», - пишет Ключевский[39] и добавляет к этому в другом месте: «В перечне 25 послов, - речь идет о договоре Игоря с греками, - нет ни одного славянского имени; из 25 или 26 купцов только одного или двоих можно признать славянами»[40].
Все это высказывается очень убежденно, но для читателя - не убедительно. Созвучия имен у норманских и славянских народов могут быть в иных случаях естественно объяснены их общим арийским происхождением; так как после разделения эти народы продолжали сноситься между собою, то были возможны и заимствования: то или другое имя могло перейти от одного народа к другому. Но прежде чем искать имена нашей истории у иноземцев, следовало бы попытаться найти их в другом сочетании у себя, или у родственных славянских племен, или у инородцев, живущих на нашей земле.
Это делает Гедеонов. Он устанавливает, что имя Рюрика встречается у славян: у поляков - воевода Ририк (Псковская летопись 1536 г.); у чехов - Rerich, как название рода; в Лузации - Петр Рерик[41]. У вендов имя Рериков - Reregi было прозвищем ободритских князей и может быть сопоставлено с чешским словом rarog или польским rarag=comn, так как переход «а» в «е», «о» в «и» свойственен славянскому языку. Древние славяне сражались под стягами, на которых были изображены символические животные или птицы, причем названия их могли переходить на племена, которым принадлежали эти стяги. Далее: известны река Reric, приток Одера у Кенигсберга, и город Reric (Мекленбург) в земле славян-ободритов, разрушенный датчанами в 809 году[42].
В славянской истории, продолжает свои изыскания Гедеонов, нарицательное и племенное имя, название города, реки и т. д. могло быть и личным именем, напр., тур - бык, Тур - имя князя[43], Дунай - река, Дунай - личное имя. Поэтому вполне последовательно предположить, что нарицательному имени reric (сокол), племенному Reregi, соответствует личное имя Рюрик[44].
Столь же внимательное исследование имен других князей, их воевод, а также имен послов, отчасти искаженных греками, которые писали договоры, и болгарами-переводчиками, делает возможным такой вывод: во всех договорах с греками все имена князей и бояр - славянские; норманские имена встречаются только среди имен послов и гостей, но и там их не больше 12-15. Присутствие норманского элемента в сношениях руси с греками исторически объяснимо: в славянских дружинах служили иноземцы, и было в обычае назначать послом того из них, кто проявил военную доблесть; это была благодарность за услуги, потому что послы получали от греков щедрые дары; кроме того, норманны участвовали в русской торговле, что могло быть основанием для допущения их в посольство, которое заключало торговый союз[45]. Среди имен, помещенных в договорах, есть имена литовские, есть и финские - Рюар у Олега, Каницар у Игоря[46], а также имена степных народов, напр. Карлы[47].
При таком обоснованном противомнении лингвистические догадки норманистов бессильны утвердить теорию о скандинавском происхождении наших варягов. Но и помимо этого, как заметил еще Эверс, созвучия между именами «могли послужить для укрепления исторического суждения, но доказать его они не могут»[48]. «Лингвистический вопрос не может быть отделен от исторического, филолог от историка», - пишет Гедеонов. «При отсутствии иных положительных следов норманского влияния на внутренний быт Руси, норманство до XI столетия всех исторических русских имен уже само по себе дело несбыточное»[49].
На этой же точке зрения стоит и Забелин. В своей книге «История русской жизни» он предостерегает от увлечения филологией как методом исторического исследования. «Лингвистика в иных случаях весьма способствует зарождению и широкому развитию различных фантасмагорий», - пишет историк. «Эта опасность особенно велика в том случае, когда предметом изучения являются одни собственные имена»[50]. Критика слов может иметь только подсобное значение для важнейшей части исторической науки - критики дел[51]. Указанное методологическое правило требует, чтобы анализ слов был проверен анализом событий, с этими словами связанных. Лингвистическое соображение, что призванные варяги были норманнами, могло бы получить значение исторического факта лишь в том случае, если бы оно было подтверждено «делами», совершенными в нашей стране, среди нашего народа в эпоху призвания князей.
Примечания:
24. Так, напр., Гедеонов разъяснил, что запись «Повести» о варягах-руси есть лишь предположение летописца, основанное на единовременности двух событий: 1) первого помина о руси в греческой хронике (Георгия Амартола) в связи с походом Аскольда и Дира на Константинополь и 2) призвания варягов. См.: Варяги и Русь. 459-461. Это подтверждается филологическим анализом летописи, сделанным Шахматовым: в записи, относящейся к 862 году, летописец после слов «идоша за море к варягом» прибавил - «к руси, сице бо ти звахуся варяги русь» и дальше после слов «и от тех варяг прозвася» написал «Русская земля». Таких слов не было ни в более древнем «Начальном своде», ни в древнейшем, Киевском. Разыскания о древнейших летописных сводах. Гл. XIII. К сожалению, исторические соображения Шахматова о норманской руси не соответствуют результатам его филологической критики. Сергеевич считает варяжскую русь не фактом, но догадкой летописца: «Происхождение этого наименования от имени варягов-руси есть догадка грамотеев XII века, справедливость которой и до наших дней ничем не подтвердилась». Русские юридические древности. Т. 91 (1902)
25. Одно из этих преданий, сбереженное в западных славянских хрониках, говорит, что чехи, поляки и русские произошли от трех братьев: Чеха, Лexa и Руса. Другое предание, записанное византийцем Симеоном Логофетом, выводит русское имя от храброго Руса. Конечно, нельзя предоставлять решение проблемы Руси народному чувству, силою которого создаются такие легенды, но, при всей их наивности, в них может быть и серьезная мысль. Так, первое предание основано на сознании родства между славянскими племенами и Русью, второе проникнуто сознанием самобытности русского племени.
26. Куник. «Каспий» Дорна. 420 (1875).
27. Шахматов. Древнейшие судьбы русско племени. II. 1919 г.
28. Гедеонов. Варяги и Русь. 168 (1876).
29. Там же. 159.
30. Там же. 170. Срв. свидетельство германского летописца Гельмольда: «И в славянской земле много марок, из которых не последняя наша Вагирская провинция, имеющая мужей сильных и опытных в битвах, как из датчан, так и из славян». У Погодина. Г. Гедеонов и его система происхождения варягов и руси. Записки имп. Акад. наук. VI. 22 (1865).
31. Гедеонов. Варяги и Русь. 171.
32. Книга о древностях Русского государства, № 529. У Карамзина. История государства Российского. I. Примеч. 282.
33. Даль В. Толковый словарь. I. 409 (1905).
34. Ипатьевская летопись 227. У Гедеонова. Варяги и Русь. 139.
35. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 174.
36. Гедеонов. Варяги и Русь. 171.
37. Ломоносов у Погодина. Исследования, замечания и лекции о русской истории,II. 180.
38. Карамзин. История государства Российского. I. 46. Ключевский. Краткое пособие по русской истории. 21. Курс русской истории. I. 157.
39. Ключевский. Курс русской истории. I. 157 (1911).
40. Там же. 198.
41. Гедеонов. Варяги и Русь. 193.
42. Там же.
43. Там же. 196. «Тур, Туры, древнейшие славянские наименования мест и людей», Шафарик у Гедеонова. Варяги и Русь. 247.
44. Гедеонов. Варяги и Русь. 196.
45. Там же. 262.
46. Крохин. Начало Русского государства в свете новых данных. 57.
47. Гедеонов. Варяги и Русь. 289.
48. Эверс Г. Предварительные критические исследования для российской истории, 81 (1826).
49. Гедеонов. Варяги и Русь. 184.
50. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 192.
51. Там же. 43-44.
Глава третья. Новая власть и быт славян
Следуя мудрому совету историка русской жизни, рассмотрим, согласуется ли суждение о норманстве призванных варягов с тем жизненным делом, которое осуществлялось в нашей стране при первых князьях новой династии.
Допустим на время правильность теории норманистов. Подчиняясь исторической закономерности, племенные свойства новой власти должны были бы отразиться на ходе дел в подвластной ей стране. Мы хорошо знаем, что так и бывало в Западной Европе после победных нападений норманнов на Францию и Англию; мы знаем, какова была их власть. В героях скандинавских набегов - главным образом датчанах и норвежцах - некоторые свойства северных германцев проявлялись с особенной яркостью и силой. Они были неистово жестоки и жадны к материальным благам. Охваченные религиозным и патриотическим фанатизмом эти потомки Одина грабили церкви, надругивались над христианскими святынями, убивали и священников, и владельцев замков, и простых христиан. Овладев той или другой страной, они устраняли прежних властителей, делили между собою землю и давали новые названия селениям, а обитателей их обращали в подвластную им рабочую силу. Они становились господствующим классом в завоеванном ими государстве, долго сохраняли и свой язык, и свой норманский быт, причем отдельные черты их культуры, сливаясь с культурой чужой, все же продолжали жить в ней, как заметные силы[52]. Так было в Галлии и на Британских островах.
Но в нашей стране и после появления новых властителей все шло по-прежнему, по-славянски, несмотря на то что Новгородская земля была наводнена варягами и что сами новгородцы «оваряжились»: «ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска, преже бо беша словяне»[53]. Норманисты принимают в полной мере это положение летописи; трудно говорить о призвании немногих норманнов после того, как было указано на противоестественность, небывалость в истории такого факта, чтобы народ, только что прогнавший иноземцев за пределы своей земли, призвал бы к власти соплеменников этих изгнанных. У представителей норманской теории чаще всего идет речь о завоевании славянских земель норманнами, предполагающем, разумеется, большое количество завоевателей, вторгшихся в северные, а потом и в южные области русской страны. И вот, несмотря на такое «победоносное шествие» чуждого племени, политическая власть в «завоеванной» земле продолжает быть по существу своему славянской. Как и в других славянских краях, она принадлежит колену, т. е. всем братьям, при главенстве старшего. Князь продолжает быть не только военачальником - его нередко заменяет в этом деле воевода, - но и служителем богов, и судьею: особа его почитается священной, он молится славянским богам и совершает славянские религиозные обряды. Наряду с варяжскими князьями в южных областях продолжают править прежние властители, «светлые князья» договора Олега с греками. Когда князь находит это нужным, он призывает на совет бояр или всю дружину а также «старцев градских». В управлении городом принимают участие десятские, сотские и тысяцкий; для решения важнейших вопросов по-прежнему собирается вече. Землю новые князья не делят между своими дружинниками и не дают скандинавских названий ни новым, ни старым городам. Норманские слова не засоряют славянский язык, и даже для названия предметов, связанных с морским промыслом, применяются слова славянские (ладья, корабль)[54].
Отсутствие в русской жизни признаков господства чужой народности над туземной всегда беспокоило сторонников норманской теории. Погодин в конце своей деятельности писал: «Может быть, и я сам увлекаюсь норманским элементом, который разыскиваю 25 лет, и даю ему слишком много места в древней русской истории»[55]. Он действительно искал норманское начало слишком усердно, не раз погрешая против элементарных правил индуктивной логики. Это случается, к сожалению, очень часто в вопросе о так называемых «влияниях» и «заимствованиях»: если та или другая особенность нашего быта имеет сходство с бытом западных европейцев, то ее объявляют «заимствованной» у них, а между тем сходство может объясняться или тем, что и мы, и они - люди, или тем, что и мы, и они - арийцы, или тем, что и мы, и они обогащали свою культуру из одного и того же третьего источника. В «Русской Правде» есть закон:«Аще кто поедет на чужом коне, не прошав его, то положити 3 гривне»[56]. Шлёцер указал на сходство этого закона с законом ютландским (датским) как на следствие норманства наших князей[57]. Карамзин, разделяющий эту точку зрения, пишет: «Сей закон слово в слово есть повторение древнего ютландского и еще более доказывает, что гражданские уставы норманнов были основанием российских»[58]. Однако в примечании историк добавляет, что «ютландский закон новее Ярославова», т. е. появился позднее русского; «но сие сходство доказывает, что основанием того и другого был один древнейший закон скандинавский, или немецкий»[59]. На самом деле оказывается совсем другое. Уже в первой половине VIII века в Византии был составлен свод законов, так называемая Эклога; в IX веке вышла славянская переделка этой Эклоги - «Закон судный людем», которая и появилась на Руси в виде дополнения к Кормчей. В «Законе судном» есть постановление: «Аще кто без повеления на чужом коне ездит, да ся тепет по три краты» (т. е. получает три удара); «Русская Правда» приняла это постановление, но телесное наказание заменила штрафом[60]. Кто же у кого заимствовал закон об езде на чужом коне без дозволения его хозяина?[61]
Если уже в прошлом веке мнение, утверждавшее норманизацию Руси, не имело твердой основы, то ныне оно утратило какую бы то ни было опору в науке о древностях: археология осветила нам древнюю жизнь и кроме того наглядно доказала превосходство русско-славянской культуры IX века над современной ей культурой Скандинавии. Однако норманисты, признавая в известной мере досадное для них отсутствие норманских влияний в славянской жизни, все же пытаются иногда объяснить этот факт лишь малочисленностью варягов-завоевателей. Забывая, что ими уже допущено большое число варягов-«находников» в нашей стране, они говорят, что малочисленные норманны должны были скоро ославяниться и раствориться в славянской стихии.
Попробуем отдать себе отчет в значении этого магического слова «ославяниться», которое призвано устранить одну из основных несообразностей норманской гипотезы.
Один народ отличается от другого прежде всего тем способом, каким он созерцает Бога, мир и себя самого в Божьем мире; этот способ созерцания, этот своеобразный духовный строй воспринимающей души и образует прежде всего чувства, суждения и деяния людей, принадлежащих к данному народу. Мир, в котором они живут, воспринимается ими как бы через призму основного способа видения, и таким взаимодействием внешнего бытия и духовной первоосновы души создается самобытность народа в его творческой жизни и в его культуре. Духовный строй своего созерцания народ получает из глубины веков, от каких-то забытых, но не умирающих видений, от неосознанного ведения тайн, коснувшихся его жизни и ее потрясших. Проявляясь во взаимодействии с окружающим его миром, - дух народа принимает и от этого мира обратные воздействия, выковывающие в основном способе созерцания новые черты, испытывает и обратные действия своей культуры, поддерживающие своеобразие его духовных сил и их проявлений. Так, таинственные первоначальные впечатления, долгое, непрерывное усвоение того, что показывает очам и что говорит земля, на которой протекает жизнь народа, и небо, осеняющее его, образы самобытной культуры, его обступающие, ему привычные - все это определяет своеобразие его душевно-духовных свойств и отличия его от других насельников земного мира.
Возможно ли, чтобы люди, оказавшись в среде, чуждой их племени, могли сразу изменить свой, веками выкованный, способ восприятия жизни? Тот или другой единичный «заморец», вследствие каких-либо индивидуальных особенностей своих, сближающих его с племенем чужим, мог бы, пожалуй, в короткий срок уподобиться русскому человеку. Но когда иноплеменники появляются в стране многочисленными или сплоченными группами, когда они оседают в ней как победители и господа, то изменения душевного строя можно ждать лишь в их отдаленнейших потомках. Думать иначе, значит пренебрегать законами душевной и социальной жизни. Учить, что норманны-завоеватели не создали ничего норманского в Русской земле потому, что они сразу ославянились, - значит соблазнять неопытный ум к мышлению, руководимому не продуманными понятиями, закрепляющими черты действительной жизни, но пустыми словами, удобными для устранения трудно разрешимых проблем.
Итак, надо признать, что и политическая жизнь нашей страны после призвания варяжских князей, и наша культура того времени не дают согласия на норманство новых властителей в Новгороде и Киеве. Утверждение, что варяги 862 года - норманны, не объясняет последующего хода русской истории, но лишь затрудняет ее понимание. И, напротив, все, что мы знаем о жизни славянских племен в Новгородском краю и в Приднепровьи, все это вполне согласуется с предположением, что новые князья были славяне. Из такого положения дел естественно возникает необходимость исследовать, могли ли «варяги-русь», упоминаемые в летописи, быть славянами и могли ли варяги-славяне явиться к нам по зову или по своему изволению из заморской страны?
Примечания:
52. Thierry A. Histoire de la Conquette de l'Angleterre par les Normands. 134. 142.... 178. 194.... (1883).
53. Лаврентьевская. 8-9.
54. Гедеонов. Варяги и Русь. 374....
55. Погодин у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. 1.115.
56. Правда Росьская. Изд. Калачева по акад. списку XV века. У Фарфоровского. Источники русской истории. Русь допетровская. I. 24.
57. Schlotzer. Нестор. I. 204.
58. Карамзин. История государства Российского. II. 57.
59. Там же. Примечание 91, с. 53.
60. 3.Ключевский. Краткое пособие по русской истории. 39-40. См. также: Курс русской истории. I. 255-257
61. Осторожность в вопросах о заимствовании необходима уже в силу их сложности. Так, например, решение вышеприведенной исторической загадки об езде на чужом коне осложняется особенностью византийских законов, имевших в виду сельскую жизнь: уже в VIII веке они соединяли римско-эллинские правовые воззрения с обычным правом славянских общин, так или иначе водворившихся на Балканском полуостров или в Малой Азии. Славянское правосознание оказало известное воздействие на греческие законы, чем отчасти и можно объяснить сходство между некоторыми статьями византийского законника VIII века и статьями русских законодательных сборников XI века, т. е. эпохи Ярослава. Ср.: Успенский. История Византийской империи. I. Часть первая. 27-28 (1912).
Глава четвёртая. Славяне Варяжского моря
Прибалтийская часть Германии и в очень древние, точно не установленные времена, и в эпоху «призвания князей» была заселена многочисленными племенами, родными славянам нашей равнины. У немцев эти племена были известны под общим именем «вендов»; сами же они называли себя славянами.
Вендские племена, сидевшие ближе к морю, объединялись в племенные союзы. Так, в западной области Варяжского поморья, близ устья Эльбы и у Висмарского залива, жили славяне-ободриты. Самое крайнее, пограничное, ободритское племя - вагры, очень воинственное, до VIII-го века самостоятельно и успешно боролось с немцами и датчанами, нападавшими на славянскую землю; но позднее сила его исчерпалась и оно слилось с соседним племенем бодричей-рарогов, у которых были дружины, годные не только для защиты, но и для нападения на чуждые страны. Далее к востоку и югу между средней Лабой (Эльбой) и Одрой (Одером) жили племена, называемые лютичи-велеты; прибрежную область между Одрой и Вислой занимали поморяне. Ближайшими соседями вендов на востоке были пруссы (не славяне) и родные приморским славянам, но им враждебные поляки. Славянские поселения встречались и дальше на нижнем Немане.
Балтийские славяне были прекрасными земледельцами, садоводами и рыболовами. Янтарь, добываемый на Балтийском море еще до P. X., проложил торговые пути из вендского края во многие страны Европы и Азии; оживленная морская и сухопутная торговля обогатила страну, и морские пристани славян превратились в цветущие грады. Особенно славны были Старград (ныне Ольденбург) у вагров, Рарог или Рерик (ныне Мекленбург) у бодричей, Аркона на острове Ругии или Ране (ныне Рюген) у велетов-руян со знаменитым храмом бога Святовита - религиозное средоточие балтийского славянства, Щетин (ныне Штетин) близ устья Одры у велетов, Волын - в морском заливе недалеко от Штетина - у поморян и др.
В эти города приезжали для торговых сделок представители разных народов, ездили туда и наши славяне[62].
Жестокий напор немцев на Варяжское поморье и отсутствие народного единства у балтийских славян привели к тому, что уже в конце XII века цветущий край бодричей был разорен, а поморская торговля перешла во вражеские руки. Славянские племена южной Прибалтики частью истреблялись, частью онемечивались. Ныне от них остались почти одни воспоминания. В болотистом Шпревальде еще живут венды, напрасно умоляющие о независимости; не забыты легенды, полные печали, и множество имен воды и земли частью искаженных немцами: так, на Рюгене «Ступень к морю» превращается в Штубенкаммер, а «Божий камень» - в Бускам... Там же на Рюгене еще не обрушились в море плиты фундамента, на котором был построен языческий храм Святовиту.
В русской исторической науке уже давно затеплилась мысль, что Великий Новгород основан не восточным славянством, которое лишь позднее продвинулось в его область с юга, но славянством западным, из богатого и цветущего поморья (Каченовский). В самом деле, жизнь Новгорода полна созвучии с жизнью в славянских городах южной Прибалтики, и можно во всяком случае признать, что в Новгородской области издревле существовали вендские поселения[63].
Названия новгородских улиц, урочищ и весей близки собственным именам южной Прибалтики. Новгород устроился на обоих берегах Волхова близ Ильмень-озера. В древнейшей части города, названной Славно, пролегали улицы Варяжская и Нутная; тут же протекал ручей Витков[64]; в Славне было и место торга: под 1156 годом Новгородская летопись сообщает: «поставиша заморстии» (венды) «православную церковь святыя Пятницы на Трговищи»[65] На том же берегу в «городище» жили князья. Против Славно на западной стороне реки был построен кремль; там же пролегали улицы Прусская и Росткина[66]. Под 1165 годом летопись сообщает, что здесь, на улице Редятиной была построена «церковь Цариця Щетициницы»[67]. Известны кроме того в Новгороде улицы Бискупля, урочище Волосово, а в 12 верстах от города есть село Ракомо; оно расположилось между оврагом и рекой Веряжею[68].
Имя «Славно» является как бы последним звеном в длинной цепи подобных же названий - Словенск, Словуя, Словиск, Славогощ, указывающей путь на запад в землю вендов-славян, или путь от этих славян в Новгород. На одном из притоков Немана также был город Славно. Другие новгородские названия уводят еще дальше к городу Щетину, к острову Ругии, с островом Виттовым и селением Витте, с городом Ростоком и Арконой. Нута - река в южной Прибалтике. Само озеро Ильмень созвучит вендской Ильмень-реке; и теперь она зовется Ильменау. Таких созвучий между Варяжской и Новгородской землей можно бы привести очень много[69].
Кроме того, по материку, соединявшему западные и восточные славянские племена, легкими признаками намечается путь прибрежный. Предание вспоминает о поселении вендов по реке Виндо в Курляндии и о славянских поселках по Чудскому берегу Балтийского моря в 825 году[70], напр. Василки, Витки и др.[71]
Сходство древнего новгородского наречия с наречием западно-славянским (напр., употребление слова пискуп вместо епископ), политического быта Новгорода с политическим бытом вендских городов, варяжский нрав HOBTOJ родцев (ушкуйники) - все это укрепляет предположение, что в Новгородской области жили и славяне балтийские. «Имя Новгорода становится совершенно понятным, когда вспомнить о Старграде (даже не одном, а двух), находившихся на балтийском Поморье; имя Славно кажется противнем такого же балтийского Славна (Slauna, Slaiene); характер новгородской вольницы и торговой знати точно такой же, что и поморский; характер веча (ср. Thietmar Ctr. VI. 18), вечевого устройства и вечевой степени сходен до подробностей; одинаково и устройство княжеского двора»[72].
С другой стороны, в истории балтийского славянства можно найти целый ряд данных, говорящих об его колонизаторской предприимчивости. Непрестанные нападения немцев и датчан, особенно опасные для городов побережья, а также соблазны моря давно сделали вендов превосходными воинами-моряками. Как торговцы и как пираты, они появлялись в землях, далеких от их родины: поселения велетов известны в Голландии (Вильтенбург, ныне Утрехт) и на Британских островах (Вильта, Вильтон, Вильтенир)[73]. Хроника немецкого летописца Гельмольда сообщает, что вагры даже владели каким-то отдаленным народом[74]. Арабский писатель Эдриси (нубийский географ) сохранил темное предание о выселении целого рода славянских князей из балтийского Поморья в глубину европейского материка[75]. С другой стороны, мы знаем, что урочище вблизи Новгорода носит название Волотово, что народное предание нашего севера помнит о воеводе Волите-Варенте, т. е. лютиче-варяге, который жил на ледовитом Поморье в Волотовом городище, называемом Варангским[76].
Путь от вендов на Русь не был особенно далеким. По свидетельству XI века, в великий город Волын, при впадении Одры в море, «съезжались окрестные народы, варвары (т. е. славяне и другие язычники) и греки (т. е. православные русские...); от него расстояние такое, что, пустившись на парусах, можно на 14-й день выйти на берег в Острогарде (Новгороде), в Русской земле»[77]. Во времена года, удобные для морской торговли, балтийские города пустели. «Ежегодно плыло в море великое множество щетинцев, и можно было в Щетине найти много таких бывалых людей, которые знали в точности все местности и нравы всякого народа»[78]. Близ устья Персанты, в Колобреге (Кольберг), известном своими солеварнями, бывало, что большая часть жителей в отсутствии, в морском плавании79. Торговые сношения вендов с восточным славянством установились издавна; в VIII-X вв. их укрепляла оживленная торговля с арабами через Русь, а после покорения Вендской земли немцами торговые связи южной Прибалтики унаследовал союз ганзейских городов.
Если древние насельники новгородские могли быть ветвью западного славянства, то возможно, что и позднейшие находники приходили из тех же краев гонимые к тому же жестокостью немцев, разорявших цветущий славянский берег Варяжского моря и безжалостно уничтожавших несчастный славянский народ. В 1155 году, в конце 400-летней борьбы славян за свою свободу и самобытность с германцами, Прибыслав, князь вагров и бодричей, сам христианин, такою речью отвечал епископу Гаральду, приехавшему в Любек уговаривать народ держаться христианской веры: «Властители наши так жестоко нас угнетают, что при податях и тяжком рабстве, на нас наложенных, нам смерть лучше жизни. Когда же нам досуг думать об этой новой вере, как нам строить церкви и принимать крещение, когда нам всякий день приходится помышлять о бегстве? Если бы по крайней мере было куда бежать. Перейти за Гравну - и там такая же напасть; удалиться к Пене-реке - напасть все та же Что же остается нам другое, как, покидая землю, бросаться в море и жить среди волн?»[80]. Гонимые немцами венды делали это, конечно, и раньше.
Если исследователь признает участие балтийских славян в жизни Новгорода, то ему откроется путь к истокам жизни великого города, а это поможет ему осветить события IX века. Древняя вендская колонизация в Новгородской области дает основание для того, чтобы спросить: не от западных ли славян Варяжского моря призвал Новгород новых, но родных ему властителей земли?
К сожалению, эта мысль о балтийских славянах, естественно возникающая при изучении фактов прошлого, была почти неизвестна большинству русских людей; преподаватели русской истории чаще всего о ней умалчивали Между тем она живет в русском обществе издавна. В некоторых списках русских летописей рассказано предание о новгородском старейшине Гостомысле повторенное, с дополнениями, в других источниках. Этот мудрый правитель «седой умом и власами», дал новгородцам совет: пойти за море в Прусскую и Варяжскую землю, т. е. к западным славянам, и пригласить оттуда князя для управления Новгородской землею[81]. В Степенной книге для прославления царского рода (XVI век) передается легенда о Прусе, брате римского императора Августа; Прус будто бы поселился на берегах Вислы у варягов, а от привислянских варягов и вышли в 862 году Рюрик, Синеус и Трувор[82] В своих «Записках о Московии» (XVI век) Герберштейн писал: «...мне кажется вероятным, что русские призвали к себе князей из вагров или варягов, а не из иноземцев, несходных с ними ни верою, ни нравами, ни языком»[83]. В XVII веке автор описания древних монет, преподнесенного Петру Великому, высказывает свои соображения о происхождении первых князей: «Российские летописцы объявляют, - пишет он, - что первый князь Рюрик с братьями вышел из Варяжской земли, кая и где оная летописцы не согласуются. Однако ж древнейший летописец Гельмольдус, уже за семь сот лет изложил и историю изрядную о славянском народе писал, объявляет, что хвальнейшие и самые знатные люди словенского народу в Вагрии жили, которая провинция и доныне в географических листах пишется Вагрия межь Мекленбургской и Голштинской земли.
Только надлежит ведать, что в оныя другие времена Вагрия не такая самая малая провинция была, как в нынешних географических листах значится, но все пространные провинции, окрест Вагрии лежавшие, к Вагрии причислялись, а столица в Вагрии называлась Стар-Град, который ныне называется Ольденбург. И из выше означенной Вагрии из Старого-Града князь Рюрик прибыл в Нов-Град и сел на княжение. И так Великий Новгород от того ли Старого Града в Вагрии называтися начал Новград, или что против града Словенска был вновь построен, в том иные да рассудят»[84].
Ломоносов, карпато-русский историк Венелин и многие другие русские исследователи утверждали, что призванные князья были балтийские славяне; крепкую научную основу дал этому учению Гедеонов и позднее Забелин. Но немецкая традиция укоренилась в русской науке, и норманисты нередко умалчивают о своих противниках, нарушая этим правило беспристрастного исследования, так изложенного Ломоносовым: «ежели он прямым путем идет, то должно ему все противной стороны доводы на среду поставить и потом отвергнуть». Русские люди вынуждены повторять догадку о норманстве варяжских князей, насилуя свою мысль, подавляя возмущение сердца и не подозревая, что эта догадка осуждена целым рядом историков и гением России.
Примечания:
62. Гильфердинг. История балтийских славян. I. 5, 27,42, 54,140 и др. (1874).
63. Гедеонов. Варяги и Русь. 347....
64. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. II. 77 (1879).
65. Летописец Новгородский. Москва. 1819. 37.
66. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. II. 78.
67. Летописец Новг. Москва. 1819. 42.
68. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 177; Гедеонов. Варяги и Русь. 347.
69. Ср. карту Померании, гравированную Николаем Гейлькеркиусом у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 167.
70. Dicuil. Da mensura orbis у Гедеонова. Варяги и Русь. 347.
71. Крохин. Начало Русского государства в свете новых данных. 14.
72. Котляревский у Гедеонова. Варяги и Русь. 349.
73. Гильфердинг. История балтийских славян. 54; Забелин. История русской жизни с древнейших времен. И. 30.
74. Гельмольд. I. XII. У Гедеонова. Варяги и Русь. 186.
75. Гедеонов. Варяги и Русь. 137.
76. Там же. 347; Забелин. История русской жизни с древнейших времен. 183.
77. Адам Бременский. II. 19 у Гильфердиша. История балтийских славян. 67.
78. Sefried. 179 у Гильфердиша. История балтийских славян. 67.
79. Sefried. 116 у Гильфердиша. История балтийских славян. 64.
80. Гильфердинг. История балтийских славян. 237.
81. Ср.: Карамзин. История государства Российского. 1.114 и примечания 70, 91 и 274; Гедеонов. Варяги и Русь. 439,141 и примечание 49.
82. Там же. 138.
83. Герберштейн у Забелина. I. 140.
84. У Погодина. Исследования, замечания, лекции о русской истории. II. 213.
Глава пятая. Русь и руотси
Соображения, доказывающие, что призванные варяги были норманнами, относятся, конечно, к существенной части норманской теории. Но не в них ее главное основание. На равнинах нашей страны во второй половине IX века известен целый народ под именем «русь», обладавший военной силой и политическим значением. Из летописи и из других источников мы узнаем, что русы покоряют другие племена, идут походом на Византию, организуют объединяемые ими земли; они же нападают на берега Черного и Каспийского морей. Призвание варягов могло быть эпизодическим деянием Новгородского севера[85], но дела Руси - это дела государственного образования, объединяющего север и юг, дела, которыми русский народ укреплял свое независимое бытие среди соседних народов и упорядочивал политические и торговые связи с ними; военные подвиги Руси заставили чужеземцев считаться с ней как с грозной силой. Ввиду всего этого, понятно, что скандинавство русов, объясняющее и скандинавство призванных варягов, - есть тот камень, на котором зиждется норманская теория. Суждение, что норманны создали Русское государство, предполагает в своей основе суждение, что русь - скандинавский народ.
Основное положение норманской теории можно разложить на три части:
1. Имя Русь - иноземное, шведско-финское по своему происхождению;
2. Язык Руси - норманский (шведский) язык;
3. Русы - шведское племя. Эти три суждения опираются на три доказательства: одно из них сопоставляет имя Русь с финским словом Руотси, другое указывает на иноземные названия днепровских порогов, третье основано на известии, помещенном в германских летописях.
Знаменитый в истории норманского учения аргумент «Руотси» утверждается на созвучности или, точнее, на звуковом сходстве в словах «Руотси» и «Русь»: финны называют шведов руотси, и это название, говорят норманисты, перешло к славянам в форме русь, подобно тому, как финское суоми превратилось в русское сумь; само же руотси возникло или от названия упландского берега в Швеции Рослаген, или от племени росов в Рослагене[86].
Мысль об иноземном происхождении имени Русь следует за другим суждением: форма Русь, якобы не славянская, и потому ее зарождение надо искать у другой народности.
На это мнение не дает своего согласия известный славист академик Ламанский: нет никакого основания считать форму русь чуждой нашему и вообще славянскому языку, ей подобны формы серебь, волынь и многие другие. Формы - лидь, весь, ямь образовались по аналогии с формами серебь, волынь, а не наоборот. Существует в нашем языке целый ряд имен женского рода на «ь», имеющих собирательное значение: знать, владь (волосы), молодь, пыль, чернь, челядь, жить (да подвижится земная жить страхом - Григорий Богослов, перевод XI в.)[87]. Норманистам возражает и Гедеонов: «На странное заявление Куника (Beruf. 48-86) относительно предполагаемого им неславянства формы имени Русь я скажу только, что это имя составлено по первообразу и следует лингвистическим законам простых собирательных, грамматической формы, принадлежащей к древнейшему слою языков»[88].
Приведенных доводов достаточно для того, чтобы попытаться найти начало слова «Русь» в славянском языке или в тех лингвистических формах, которые послужили для него основой. Объяснение своему достоянию следует искать прежде всего у себя, и лишь при неудаче на этом пути допустимо избирать пути иные. Норманисты поступают иначе: слишком часто они начинают поиски «за морем» у иноплеменников и кончают их там же.
Итак, исходную мысль доказательства «Руотси» нельзя признать общепризнанной истиной. Дальнейшие затруднения норманской школы состоят в том, что грамматическая форма имени «Русь», одинаковая в единственном и во множественном числе, неизвестна в племенных именах Скандинавии, а лингвистическая связь между Русью, Руотси и Рослагеном - сомнительна[89]. Наконец, для того чтобы оправдать самый аргумент, необходимо разрешить задачу неразрешимую - найти русь среди скандинавских племен.
Соображения о Рослагене оказались мало убедительными даже для норманистов. Этим именем стала называться лишь в XIII веке приморская область южной Швеции, населенная общинами родсов, т. е. гребцов, которые никакого отношения ни к имени, ни к племени русов не имели. Погодин отказался от «Рослагена» и признал, что «Руотси» есть случайное созвучие с Русью»[90]. Куник, которому это злополучное Руотси послужило для обоснования норманской гипотезы в его большом историческом труде «Призвание шведских родсов финнами и славянами», позднее сделал такое признание: «Г. Гедеонов и другие совершенно справедливо требуют от норманской школы, чтобы она, обанкротившись со своим Рослагеном, позаботилась вновь открыть природных шведских россов»[91]. Однако в Швеции росов не нашли, несмотря на многолетние поиски. Куник предложил догадку, что имя Росы произошло от гото-шведской формы Hrods, звучащей в названии готов III века Hredhgot'ами; название это, сохраненное в северном эпосе, было будто бы когда-то перенесено на шведских готов; но догадка Куника также предполагает в Швеции никем не найденное племя с именем, однозвучным имени Руси[92].
Малоубедительное доказательство, обозначаемое словом «Руотси», продолжает, однако, жить в исторической науке. По мнению Шахматова, «главным и в полном смысле решающим доводом (в пользу норманской теории) является то, что до сих пор «Русью» называют Скандинавию западные финны»[93]. Так думают и ныне многие сторонники норманской школы.
Согласимся и мы, на время, признать правильным неудавшееся объяснение слова «Русь» из финского языка: неприемлемость доводов «Руотси» станет тогда вполне очевидной.
В самом деле, ценность того или другого лингвистического вывода для исторического исследования может быть и должна быть проверена сопоставлением его с явлениями жизни: верное соображение о том или другом названии призвано содействовать объяснению тех явлений, которые с этим названием связаны.
Посмотрим, насколько велика объясняющая сила аргумента «Руотси».
К имени Руси относится ряд древних известий. Вооруженные открытием, что «Русь» и «Руотси» однозначны и обозначают шведов, мы будем соответственным образом понимать эти известия и объяснять их.
1. Славяне и до, и после призвания князей знали шведов и называли их - свей (летопись). Шведы никогда и нигде не называли русью шведское племя, не называли они так и Русское государство (северная письменность). Финны называют шведов «руотси» (русью?), а славян - «венелайнен» (венды).
2. Славяне призывали варягов-русь (летопись), т. е. руотси, т. е. шведов?
3. Славяне Киевского края, а позднее и славяне новгородские, называют себя русью (руотси? шведами?).
4. Послы из неизвестной страны, принятые франками за шведов, называли пославший их народ русью (т. е. руотси? шведами?) (Вертинская летопись).
Если мы сопоставим все эти древние свидетельства, то события IX века предстанут перед нами в таком виде: славяне, которые издавна называли шведов свеями, стали их называть русью после того, как узнали, что так их называют финны (Варяги-русь). Но когда шведы овладели славянами (русь = руотси - шведы), то эти славяне приняли имя Руси, т. е. имя, обозначающее шведов, а для шведов возродили прежнее имя свеев. Финны перестали называть руотси (русью) шведов, покоривших славян, и применили к ним название венеды, издавна обозначавшее только славян. Между тем сами шведы приняли чуждое им название русь в чуждой им форме финского руотси[94].
Так, допущение однозначности Русь и Руотси превращает жизнь IX века поскольку она связана с русским именем, в цепь невозможностей, несообразных ни с психикой народов, уважающих свои имена, ни с существом исторических событий.
Ломоносов, со свойственной ему силой мысли и слова, отверг доказательство Руотси. В своей критике диссертации Миллера, где оно приводится - тогда еще чуждое поискам шведского племени русь, - он рассуждает так: «Не явно ли он показал здесь пристрастие к своим неосновательным догадкам полагая за основание оных такие вымыслы, которые чуть могут кому во сне привидеться? Пример англичан и франков, от него здесь присовокупленный не в подтверждение его вымысла, но в опровержение служит, ибо там побежденные от победителей имя себе получили, а здесь ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но все - от чухонцов»[95].
Примечания:
85. Шахматов («Разыскания о древнейших русских летописных сводах», 1908) указывает на сомнительность родства между Игорем и Рюриком и на загадочность происхождения Олега. Если у киевских князей нет родственной связи с Рюриком, то «призвание варягов» Новгородом не имеет к Киеву прямого отношения.
86. Schldtzer. Нестор. 179; Погодин. Исследования, замечания и лекции о русской истории. II. 151; Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени. 50.
87. Ламанский. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. Исторические замечания. И. Русь. 39.
88. Гедеонов. Варяги и Русь. 426.
89. Тождеству Русь и Руотси мешает буква «т», а тождеству Руси и Рослагена - две трети последнего слова.
90. Погодин. Г Гедеонов и его система происхождения варягов и руси. Записки императорской Академии наук. VI. 2. 6. 1865.
91. Куник. Замечания на книгу Гедеонова. Записки императорской Академии наук. VI. 2, с. 64.
92. Дорн. Каспий. 430.
93. Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени. 50.
94. Ср.: Ломоносов у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 76; Гедеонов. Варяги и Русь. 398....
95. Ломоносов у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 76.
Глава шестая. Пороги Днепра
Некоторые сторонники норманской теории признают неудачу догадки о финно-скандинавском начале в имени Руси. Но, говорят они, откуда бы ни происходило это название, в IX веке оно все же означало шведское племя - ведь выражение «русский язык» даже X веке надо понимать, как язык норманский к этому обязывают названия днепровских порогов.
Второе из трех главных доказательств норманской теории основано на греческом источнике. В «Книге об управлении государством», написанной в середине X века (948-952), византийский император Константин Багрянородный рассказывает о торговом походе русских купцов из Новгорода в Царьград Дойдя до описания переправы через днепровские пороги, автор книги сообщает их названия, причем оказывается, что все пороги, кроме двух, имеют два названия; одно из них всегда славянское, а другое как будто относится к другому языку, иноземному; но трудно решить, к какому именно, потому что названия записаны в искаженном виде. Называя пороги, император добавляет: «по-славянски» перед славянским названием, «по-русски» перед «иноземным».
Вот эти названия:
1-й порог называется Несупи (Νεσσουπη), что значит по-русски и по-славянски «не спи».
2-й порог называется по-русски Улворси ('Ουλβορσἦ), по-славянски Островунипрах ('Οστροβουνἰπραχ), что значит «островной порог».
3-й порог зовется Геландри (Γελανδρἰ), что значит по-славянски «шум порога».
4-й порог называется по-русски Айфар ('Αειφαρ), по-славянски Неасит (Νεασἦτ), потому что пеликаны гнездятся на камнях этого порога.
5-й порог называется по-русски Варуфорос (Βαρονφορος), по-славянски Вульнипрах (βουλνηπραχ), потому что он образует большой водоворот.
6-й порог называется по-русски Леанти(Λεαντἰ), по-славянски Верутци (Βεροὗςη), что значит «бурление воды».
7-й порог называется по-русски Струкун (Στροὗχουν), по-славянски Напрези (Ναπρεςη), что значит «малый порог».
Если мы займемся толкованиями этих названий, то очень скоро попадем в запутанную сеть лингвистических догадок. В самом деле, искаженность «русских» названий порогов в греческой передаче не дает возможности достоверно определить, из какого словаря они взяты, и, наоборот, делает возможным самые противоречивые мнения. Историки-норманисты признают все русские имена скандинавскими, причисляя к этим русским названиям и общее имя 1-го порога («не спи») и славянское Геландри - гул (iадрый), по толкованию Гедеонова[96]. Иловайский делает попытку объяснить все русские названия из славянского языка (загадкой остается для него лишь Леанти) и заключает, что различие в русских и славянских именах объясняется различием двух славянских наречий[97]. Гедеонов раскрывает нормано-финскую, но славянизированную основу в трех, четырех русских названиях порогов[98].
Между тем не в этих лингвистических выводах следует искать главный смысл и значение днепропорожского доказательства. В самом деле, примем условно норманское происхождение всех русских названий, кроме первого Несупи - «не спи». Может ли этот факт сам по себе доказывать, что норманны основали Русское государство? Конечно, нет. Вспомним, что в течение более 200 лет нашей столицей был Санкт-Петербург, город, который, несмотря на свое иноземное имя, заложен славянином, царем славянского народа. С исторической точки зрения не важно, все или не все пороги носят скандинавские имена: усвоение иноземных географических имен - дело обычное, и ныне первый порог носит татарское или половецкое имя Кайдаксин[99]. В X веке южная Русь могла перенять имена порогов у норманских купцов, ездивших вместе с киевскими и новгородскими купцами по Днепру. Значит, соблазн исходит не из предполагаемого норманства имен, самого по себе, но из противопоставления русского и славянского языка.
Не надо забывать, однако, что в книге греческого императора слова «по- русски» не всегда связаны с «норманским» именем; ведь первый порог и по-русски, и по-славянски называется Несупи - «не спи», что, конечно, противоречит догадке о норманстве русского языка. Тот же Константин Багрянородный называет однажды русскими киевских славян[100]. Русская летопись отождествляет русский и славянский языки: «Тем же словеньску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есме Русь: темже и нам Руси учитель есть Павел апостол, понеже учил есть язык словенеск и поставил есть епископа и наместника по себе Андроника словеньску языку. А словенеск язык и рускый один, от варяг бо прозвашася Русью, а первее быша словене; аще и поляне звахуся, но словеньская речь бе. Поляне же прозвашася занеже в поле седяху, язык словеньский бе им един»[101].
Противопоставление русского языка как языка иноземного местному, славянскому, уже ввиду этих свидетельств становится невозможным, и то различение, которое делает византийский император, гораздо проще объясняется бытовыми различиями между русичами Киевской области и словенами Новгородского края. Каждая из этих племенных групп называла пороги по-своему; одна из них могла занять часть имен у иноземцев, другая - сохранить славянские имена, и различие между русским и славянским языками есть, таким образом, различие двух наречий, различие племенное, а не народное. К тому же странно искать шведский язык на Руси в половине X века, если «норманны» уже при Олеге «ославянились» и поклонялись славянским богам[102]. К этому можно еще добавить, что все описание пути русско-славянских торговых караванов, помещенное в «Книге об управлении государством», дает очень точное и яркое представление об исконной славянской торговле в области Днепра, отдельные черты которой сохранились в иных местностях России до наших дней. Осведомителем императора был, вероятно, новгородский славянин, что следует из особенностей речи («внешняя Русь», прах вместо порог), а также из довольно правильной записи славянских, т. е. новгородских названий. «Не мог же Константин, - пишет Гедеонов, - если он хотел сведений о норманской руси, обратиться к славянину»[103]. По словам этого осведомителя, торговые караваны направлялись из «внешней Руси», т. е. из Новгорода и из других славянских городов, и не имели отношения к скандинавским странам. Местом их встречи был Киев, куда из горных лесных областей доставлялись сплавом ладьи, срубленные зимою, и продавались русам, которые и оснащивали их. После этих приготовлений караван отплывал вниз по Днепру. Пройдя пороги, опасные и сами по себе, и ввиду возможных нападений печенегов, торговцы делали стоянку на острове Св. Георгия (Хортице) и, по славянскому религиозному обычаю, приносили в жертву божеству петухов, хлеб и масло, молились и гадали под священным дубом.
Но главный порок днепропорожского доказательства коренится в исключительности того факта, на который оно ссылается: двойные названия встречаются лишь в этом случае, эта двойственность, по выражению Гедеонова, есть лишь лингвистическая странность[104]. Аргумент опирается не на типичное явление жизни, не на правило или закон, но пробует обосноваться на явлении случайном. Делать общий исторический вывод из такого явления недопустимо.
Примечания:
96. Гедеонов. Варяги и Русь. 541.
97. Иловайский. Разыскания о начале Руси. 320....
98. Греческие 'Ουλβορσἦ, 'Αειφαρ, Βαρονφορος, Λεαντἰ могут иметь в основе полускандинавские, полуфинские Holmfors, Eber, Barafors, Gloende (Гедеонов. Варяги и Русь. 533).
99. Гедеонов. Варяги и Русь. 537. 541.
100. Niederle. Manuel de l'Antiquite Slave. I; L'Histoire. IX. 198-207.
101. Полное собрание русских летописей. I. Лавр. 12. (по Радзивиловской летописи).
102. ...«а Ольга водивъше на роту и мужа его по руському закону, и кляшаяся оружи-ем своим и Перунъм, богом своим, и Волосьмь, скотьимь богомь, и утвьрдиша мир». Лавр. 32. Ср.: Гедеонов. Варяги и Русь. 550-551.
103. Гедеонов. Варяги и Русь. 534-535.
104. Там же. 535-536.
Глава седьмая. Бертинская летопись
В одном из монастырей Западной Европы, Вертинском, сохранились древние летописи - источник сведений, заслуживающий, по мнению историков, полного доверия. Летописное дело было у германцев делом государственным; им заведывали назначенные лица из просвещенной духовной среды. Так, в период времени от 835 до 861 года летопись вел епископ города Труа - Пруденций.
Под 839 годом Вертинская летопись рассказывает об одном загадочном происшествии, которое, ввиду малой убедительности лингвистических доказательств норманской теории, получило в ней большое значение.
В город Ингельгейм (на Рейне), где находился тогда император франков Людовик Благочестивый, прибыло посольство от византийского императора Феофила. С этим посольством Феофил отправил каких-то людей и письмо, разъяснявшее, что эти люди «называли себя, т. е. свое племя, русью (Rhos)» и что «направил их к нему (Феофилу) их царь, названием «хакан» (Chacanus vocabulo) ради дружбы, как это они утверждали». В упомянутом письме Феофил просил Людовика дать этим людям возможность безопасно вернуться к себе через его державу и оказать им помощь, потому что путь, по которому они пришли в Константинополь, проходит среди варварских племен, диких и потому свирепых, и он не хочет отсылать тех людей по этому опасному пути. Людовик, прилежно исследовав «причину» их прибытия, дознался, что они принадлежат к племени шведов (eos gentis esse suieonum), установил, что они скорее разведчики, присланные в франкскую и греческую державы, чем просители дружбы, и присудил задержать их до тех пор, пока можно будет узнать достоверно, пришли они к нему с честными или нечестными намерениями. Людовик объяснил Феофилу через своих легатов, а также в письме, что из любви к нему он охотно согласится отправить на родину тех людей и дать им пособие и охрану, если только они не окажутся обманщиками; в противном случае их следует направить с послами к нему, Феофилу, для того, чтобы он сам решил, что с ними сделать[105].
Чем кончилось дознание и какова судьба незнаемых людей - летопись не сообщает.
При внимательном чтении приведенного известия обнаруживается что оно очень смутно. Это и естественно: летопись рассказывает об эпизоде случайном, о некоем недоразумении, которое еще не расследовано до конца Дело послов неясно не только для тех, кто читает летопись через тысячу лет после написания известия 839-го года, но и для самого летописателя, и для канцелярии франкского правительства, сообщившей Пруденцию письмо греческого императора, письмо Людовика и данные дознания.
Как всякое неясное свидетельство, запись Вертинских летописей допускает различные толкования. А всякое толкование, т. е. попытка уяснить неясное в словах или фактах, необходимо должно искать себе поддержки в других более ясных, словах или фактах. Уже одно это мешает признать аргумент извлеченный из германской хроники, самостоятельным и главным аргументом в пользу норманства Руси. Он занял это место не по праву, он сам нуждается в опоре, и тот, кто его выдвигает, должен искать ее во всей совокупности доступных нам данных о загадочном названии «Русь».
В рассказе Вертинской хроники норманисты считают самым существенным следующее известие: люди, явившиеся в Константинополь и заявившие там, что они от племени русь, оказались, по мнению франков, шведами Если послы руси - шведы, то и русь - племя шведское. Соловьев, получивший норманскую точку зрения от своих предшественников, в своей «Истории России» выразился так: «Свидетельство русского летописца подтверждается свидетельствами иностранными: известием, находящимся в Вертинских летописях что народ русь принадлежит к племени свеонов»[106].
Это суждение основано на доверии к первым норманистам, но правды в нем нет: Вертинские летописи не причисляют русь к скандинавам; это делают историки на основании скандинавского происхождения послов. Но если франки, мало знакомые со шведами и совсем не знающие русь, решают что послы руси - шведы, значит ли это, что они в действительности были шведами? Если же и на самом деле эти послы - шведы, значит ли это, что русь - шведскии народ?
Целый ряд историков полагает, что послы руси могли и не быть шведами и что произошла ошибка со стороны франков, расследовавших это дело «Представители руси были признаны шведами, - пишет академик Васильевский, - ни процедура дознания, ни основания для такого заключения нам не указаны ; вопрос о злонамеренной цели соглядатайства окончательно решенным не был сочтен; это еще подлежало дальнейшей проверке. Шведы ведь вообще не играли важной роли в норманских набегах; пока их гораздо меньше знали, чем датчан или норвежцев; нам думается, что именно потому к их племени и отнесли людей, которые по виду и языку были похожи на норманнов, т. е. на датчан или норвежцев, но которые, однако, не оказались ни датчанами, ни норвежцами»[107].
На возможность ошибки при установлении национальности послов указывают и другие историки. Забелин считает возможным, что послы были не шведы, а киевские росы или балтийские варяги-славяне, служившие в дружине киевского князя; в летописи не указано, на каком основании их признали шведами. «Могло случиться, что они славяне и живут по соседству со свеонами, что чиновникам Людовика из этих двух имен более подходящим и более знакомым показалось одно - "свеоны"»![108] Такое смешение имен допускает Иловайский; он указывает, между прочим, со слов Венелина, что на Балтийском море было славянское племя свеняне[109].
Но пусть дознание в деле послов велось безукоризненно, и таинственные люди на самом деле были шведами; может ли их племенное происхождение само по себе удостоверить, к какому племени принадлежит пославший их народ? Мы знаем, что в числе послов, представлявших в Греции то или другое славянское государство, бывали иноземцы, награждаемые этим способом за военные услуги. Так как в дружинах наших князей служили не только свои люди, но и норманны, и литва, и финны, и угры, то все эти чужие народности могли быть представлены в посольстве нашего княжества. Был случай, когда норманн Сигвальд договаривался от имени поморского князя Болеслава; норманн Эймунд был послом Ярослава[110]. Загадочные люди называли свой народ русью в Константинополе, где они представляли собою посольство, но о том, что они говорили в Ингельгейме, ничего не известно.
Первые норманисты сознавали, конечно, что шведская национальность послов еще не дает достаточно оснований для суждения о норманстве Руси, и восполняли этот недостаток догадкой, что «хакан» Вертинских летописей никто иной, как Гакон, некий, никому не известный шведский конунг, задумавший будто бы установить дипломатические сношения с Византией[111]. Но Гедеонов разъяснил, что шведское имя Гакон (Hakon) лингвистически не соответствует грецизированному χαχάνος потому что германское «Н» («Ха») в греческом языке передается через густое придыхание, а не буквою «X»[112]; кроме того, как это доказано уже Куником, Chacanos vocabulo может обозначать с равным правом имя и титул[113]. Настаивать на догадке о мнимом Гаконе было невозможно, и шведскую русь, управляемую хаканом, стали искать на нашей равнине. Однако и для такого предположения Вертинские летописи не дают никакого основания, что разъяснено тем же Гедеоновым. В самом деле, послы руси сказали, что их народ русь, что им управляет хакан; если хакан не имя, а титул, норманисты должны считаться с тем неоспоримым фактом, что так титуловали правителей в днепровской Руси, бывшей долгое время под властью хазар[114]. Русский хаканат удостоверен греческими источниками для периода времени между 839 и 871 годами. Кроме того, арабское свидетельство Ибн Даста: «Русь имеет царя, который зовется хакан-русь»[115], взятое из первоисточника IX в.[116], относится тоже к южной хазарской Руси, потому что скандинавы своих властителей хаканами не называли[117]. Титул этот так укрепился в Киеве, что встречается даже на памятнике XI века, а именно в «Слове о законе, данном через Моисея, и о благодати и истине, происшедшей через Иисуса Христа» митрополита Илариона. «Похвалим же и мы, - говорит он, - великаго когана нашея земли Владимера»[118]. О когане поется и в «Слове о гюлку Игореве»: «Рек Боян и ходи на Святославля песно творца стараго времени Ярославля Ольгова коганя хоти»[119].
Ввиду всего этого, гораздо естественнее отнести хакана Вертинских летописей к славянской Руси, а не к предполагаемой шведской, тем более что посольство 839 года, по-видимому, не было исключительным явлением; годом раньше в Грецию приехали хазарские послы с просьбой к греческому императору помочь выстроить крепость для защиты от диких племен (печенегов, мадьяр). Такая крепость и была выстроена византийскими зодчими в хазарской стране, на Нижнем Дону (Саркел). Другими словами, в эту эпоху между Хазарией, к которой относилась и Русь со своим хаканом, и Византией происходили дружественные сношения[120].
На славянство Руси, от которой послы, по их словам, пришли в Грецию, указывает, между прочим, следующая подробность текста летописи 839 года: в ней дан латинский перевод письма императора Феофила, и название Русь сохраняет в этом переводе греческую несклоняемую форму (Rhos), которая может соответствовать только славянской форме Русь; в скандинавских языках, как мы уже знаем, народное имя не может принять форму, одинаковую
для единственного и множественного числа[121].
Невозможность доказать племенное единство руси и шведов, исходя из записей Вертинских летописей, очевидна и в том случае, если признать подозрительность франков вполне обоснованной и допустить обман со стороны чужеземцев, приехавших к Людовику из Византии. Люди эти - шведы, но самозванцы; они присвоили себе звание русских послов, обманули греков, однако у франков их обман был раскрыт. «Быть может (и это вернее), они были обманщиками... это было в характере норманнов, которые несколько раз принимали крещение... ради новых одежд и подарков»[122]. При таком толковании известия о неведомых послах, мысль о шведской руси или о шведах-русах, неприемлемая даже для франкских правителей, исчезает, как дым, сама собой. «Пусть продолжает норманская школа приводить это известие в доказательство своих мечтательных мнений, - пишет Гедеонов, - пусть основывает она свои убеждения в тождестве руси и шведов на том обстоятельстве, что порученные благосклонности Людовика шведы приговорены им к заточению как обманщики и шпионы, единственно потому, что они присвоили себе непринадлежащее им имя Руси в Константинополе; пусть возвращается эта школа, спасения ради, к торжественно забракованному Кругом и Куником превращению азиатского хакана в шведского Гакона; для меня драгоценные слова Пруденция останутся верным свидетельством как существования задолго до Рюрика южной славянской Руси под управлением хаканов, так и коренного отличия русской и шведской народности, останутся, по крайней мере, до тех пор, пока не будет логически доказано, что итальянцу стоит выдать себя за китайца и быть посажену в тюрьму за этот обман, чтобы тем самым укрепить итальянское происхождение за уроженцами небесной империи»[123].
После критики Гедеонова Погодин, со свойственной ему прямолинейной строптивостью мысли, продолжал отстаивать мнимого Гакона, но добросовестный Куник отказался от прежнего своего толкования Вертинской записи. Выражение Chacanus vocabulo «ждет еще своего истолкователя», писал он в ответе Гедеонову[124], а в другом месте заметил, «свидетельство это окончательно еще не устранено, да еще доселе не вполне объяснено из византийской истории»[125]. Мало того, Куник делает и такое заявление: «После того как по крайней мере в русской науке признано невозможным разрешить варяго-русский вопрос чисто историческим путем, решение его выпадает на долю лингвистики»[126]. В этих словах историка звучит признание недостаточности исторических свидетельств, в том числе и рассказа Вертинских аннал, в пользу норманства руси. Но, к глубокому изумлению читателя, Вертинские летописи доныне почитаются опорой норманской теории, и даже больше, - основанием всех других ее доказательств. Ни сила критической мысли, разоблачившей несостоятельность основного аргумента норманской теории, ни уступки старых норманистов, склонившихся перед этой силой, не могли поколебать в глазах многих историков его значения. Недоразуменный эпизод 839 года, извлеченный германским ученым (Байером) из архивов прошлого и произвольно им истолкованный, оказался достаточным для того, чтобы присвоить основание и устроение Русского государства чуждому племени и запутать все понимание начальной русской истории в лабиринте неразрешимых противоречий.
Мы уже приводили мнение Гедеонова о случайности факта, на котором основывается днепропорожский аргумент. Но такая случайность присуща всем главным доводам норманской теории и обличает произвольность ее положений. Суждения ее не вытекают естественно и логически из действительных событий, из органического их развития, а навязываются прошлому беспочвенным рассудком. Поэтому они могут подтверждаться лишь капризами исторической жизни: случайным созвучием в словах Руотси и Русь, двойными названиями нескольких порогов, темным эпизодом в рассказах Вертинских летописей. Норманская теория, в результате изучения ее основных положений, оказывается искусственной надстройкой над подлинной жизнью, она насилует и искажает ее закономерное течение и превращает живой организм народа в какого-то уродливого гомункула, образ которого бессильно представить себе воображение и сущность которого непонятна разуму, привыкшему уважать свой логически строй.
Примечания:
105. Латинский текст этого отрывка из Бертинских летописей у Карамзина. История государства Российского. I. Примечание 110.
106. Соловьев. История России с древнейших времен. I. 95.
107. Васильевский. Труды. III. CXIV....
108. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 506-508.
109. Иловайский. Разыскания о начале Руси. 285. Примечание.
110. Гедеонов. Варяги и Русь. 261....
111. Schlotzer. Нестор. 179....
112. Гедеонов. Варяги и Русь. 488.
113. Там же. 487.
114. «а козари имаху (дань) на полянех, и на северех и на вятичех, имаху по беле и веверице от дыма». Лавр. 8.
115. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). 267-268.
116. Вестберг. К анализу восточных источников о Восточной Европе. Ж. М. Н. П. Февраль и март. 1908.
117. Ср.: Гедеонов. Варяги и Русь. 483....
118. Творения Святых Отцев. Год II. Кн. II. У Гедеонова. Варяги и Русь. 485-486.
119. Изд. Пекарского. 18. Зап. Академии. V. I. У Гедеонова. Варяги и Русь. 486.
120. Васильевский. Труды. III. CXIV....
121. Гедеонов. Варяги и Русь. 412-413, 496-497.
122. Там же. 504.
123. Там же. 557-558.
124. Замечания на книгу Гедеонова. Записки импер. Академии наук. VI. 2. 83-84 (1866).
125. Дорн. Каспий. 432 (1875).
126. Там же. 460.
Глава восьмая. Южная Русь
Когда появилась норманская теория, тогда о русском прошлом знали еще очень мало, и ей легко было пренебречь такими известиями, которые перечили ее утверждениям. Но шло время, исторические познания все более и более умножались и захватывали все более глубокую древность; образы протекшей жизни, ими воскрешаемые, вторгались в окаменелую схему норманского учения и подтачивали его устои. Норманисты начали борьбу с этим разрушительным потоком фактов; упорно отстаивая свои доводы, они приспособляли их к новой исторической обстановке.
По странной иронии судьбы, серьезная угроза торжеству норманской доктрины обнаружилась в недрах ее главного доказательства - в туманном рассказе Вертинских летописаний. Рассказ этот дал краткое сведение о народе «русь», который под управлением хакана живет где-то на юге нашей страны. Этим известием антинорманисты воспользовались для очень отчетливой постановки норманской проблемы. В самом деле, если русь была известна на наших равнинах уже в 839 году, т. е. до призвания варягов в 862 году, то она не могла быть вызвана к жизни этими «варягами-русью», и вопрос об ее норманстве падает сам собою, независимо от народности призванных князей и дружин[127].
Известие 839 года получило подтверждение в других свидетельствах о русах IX века. В греческих житиях святых, в книге арабского писателя Ибн Хордадбеха «О путях и царствах», в «Беседах» и «Окружном послании» патриарха Фотия, современника и свидетеля нападения русов на Константинополь в 860 году, в германском таможенном уставе начала X века и в других источниках говорится о руси, как о народе, уже ранее известном иноземцам; народ этот ведет с ними торговлю, а иногда делает на них военные набеги, являясь из наших необъятных равнин или с берегов Черного моря. Никита Пафлагонский (IX-X век) рассказывает, что в Амастру (город Малой Азии на южном берегу Черного моря), «как на общее торжище, стекаются скифы, живущие по северной стороне Эвксина..; они привозят свои товары и получают взамен то, что есть у нее». Указав на это известие, Васильевский замечает: «Всего скорее здесь идет речь о русских»[128]. Ибн Хордадбех уже в 846 году дает сведения о русских купцах: они «направляются из дальнейших концов Саклаба (славянских стран) к морю Румскому (Черному)», надо думать, по Днепру «и продают там меха бобровые и черных лисиц, а также и мечи. Царь Рума (Византии) взимает десятину с их товаров. А не то они спускаются по Танаису (Дону), реке славян, проходят через Каммидж, столицу Хазар (Итиль), и властитель страны взимает с них десятину; и оттуда они спускаются на судах по морю Джурджана (Каспийскому) и выходят на берег, где им любо. Иногда они привозят свой товар на верблюдах из города Джурджана в Багдад»[129]. Здесь идет речь о торговом движении, захватившем уже большие пространства Восточной Европы; оно направлено не только в Грецию, но и в Азию, подчинено твердо установленным нормам и началось, очевидно, гораздо раньше того времени, когда о нем рассказал арабский писатель. Сила торговой предприимчивости русов направлялась не только на юг и восток, но и на запад. В германском Раффелынтеттенском таможенном уставе есть такое постановление: «что же касается славян, которые приходят из ругов», т. е., по мнению Васильевского, из Руси, «или из богемов ради торговли, то они могут торговать везде после дунайского берега, а также в Рётеле и Ридмарке, но обязаны платить пошлину»[130]. Русские купцы шли через Польшу и Прагу и привозили с собою воск, лошадей и рабов[131]. Все это происходило до прибытия в Киев Олега.
Иноземцы знали Русь прежде всего потому, что она вела с ними торговлю. Но этот смелый и подвижной народ устраивал и воинские набеги на чужие страны, укрепляя ими свои торговые связи и добытые права. В первой четверти IX века русь явилась в Сурож (Судак). «По смерти же святого (Стефана Сурожского, умершего в конце VIII века) мало лет миноу, прииде рать велика роуаская из Новагорода князь Бравлин силен зело, плени от Корсуни и до Керча с многою силою прииде к Соурожу»...[132] Степенная книга царского родословия (XVI в.) уж знала и учитывала это известие: «Иже и прежде Рюрикова пришествия в Словенскую землю, не худа бяше держава словенскаго языка воинствоваху бо и тогда на многия страны и на Селунский град, и на Херсон и на прочих тамо якоже свидетельствует нечто мало от части в чудесех великомученика Димитрия и святаго архиепископа Стефана Сурожскаго»[133]. Несколько позднее сурожского нападения, в первой половине IX века, случился набег русов на Амастриду[134] (Малая Азия) и, наконец, в 860 году победный поход руси на Константинополь. Русы пришли в столицу империи на 200 ладьях, человек по 50 в каждой, застали греков врасплох, ворвались в предместья, разграбили их и ушли только тогда, когда нашли это нужным[135].
На основании всех этих сведений бытие русского народа до Рюрика оказывается прочно установленным. Норманисты сознавали, что такой факт разрушает их теорию, и не пожалели усилий для того, чтобы поколебать его достоверность. Так, Куник доказывал, что и в сурожском, и в амастридском сказаниях имеется в виду поход Аскольда и Дира, т. е. поход 860 года; вывод этот оказался, однако, не совсем убедительным даже для него самого, и он отказался от своего предположения в пользу другого, а именно, что Бравлин - князь Владимир, и нападение на Сурож - не что иное, как поход Владимира на Корсунь в 988 году[136]; эта догадка была признана неудачной даже норманистами. Но, по существу дела, такие произвольные толкования событий не были нужны для поддержки норманской гипотезы. Помощь явилась с другой стороны: так как хронологические указания летописи оказались неточными, то и время прибытия «варягов-руси» не могло быть точно определено; не исключена была возможность того, что они появились на нашей земле до 862-го года.
Исходя из этого соображения, норманисты сочли возможным утверждать, что варяги-норманны жили на нашей равнине уже в начале IX века и тогда же основали колонию в Крыму[137]; русь IX века не что иное, как эти норманны.
Однако если ошибки летописца в установлении времен и допустили как будто возможность поселить норманнов на юге нашей страны в самом начале IX века, то для такого недоброго дела явилось и препятствие, обусловленное точными сведениями о месте и времени пребывания Руси на нашей равнине.
Имя Руси крепко связано с Югом. Это установлено не только свидетельством греческих источников; о том же говорит и русская летопись. Правда, южное местонахождение русов плохо согласуется с начальным известием «Повести временных лет» о том, что Русская земля получила свое имя от призванных Новгородом «варягов-руси». Но, пренебрегая этим утверждением, сам летописец не раз сообщает в последующем рассказе, что князья и варяжские воины называются русью лишь в Киеве: «В лето 6389. Поиде Олег (из Новгорода) поим воя многи, варягы, чудь, словени, мерю, весь, кривичи»[138], и дальше, по прибытю в Киев, «рече Олег: се буди мати градам руським. Быша у него варязи и словени и прочи прозвашася русью». «Любопытно, - пишет Соловьев, - что по смыслу этого известия варяги и славяне прозываются русью только по утверждении в Киеве»[139]. Это противопоказание летописи было оценено во всем его значении Гедеоновым: «мы благодарны Нестору за его противоречия; забыв с первых строк летописи о своей системе происхождения Руси, он приводит факты в их настоящем историческом виде; словенами зовет исключительно северные, русью - южные племена; о небывалой варяжской руси нет более и помину»[140].
Теперь, когда этот вывод подтвержден детальным анализом летописей, в котором принимали участие и норманисты, и противники их, в нем нельзя уже сомневаться. По мнению Шахматова, тенденциозная теория «Повести временных лет» о варяжском происхождении Руси «находила себе опровержение в соответствующем месте Начального свода (т. е. той части летописи, которую Шахматов относит к 1095 году и которая, по его предположению, была одним из источников «Повести временных лет», появившейся в начале XII века), ибо оказывалось, что варяги назвались русью только после перехода в южную Русь»[141].
Если русь IX века - южный народ, то для признания ее норманского происхождения необходимо установить, что с самого начала IX века норманны уже жили на юге России. Между тем достоверные факты говорят нам, что в ту эпоху на юге норманской оседлости не было.
Такую весть приносит голос земли, голос земных недр, открытых археологами и спрошенных о том, что же происходило на Днепре в старое время?
Нумизматика установила почти полное отсутствие англо-саксонских монет в кладах южной России[142]. Между тем во всех странах, где норманны были коренными жителями - в Швеции, Дании, Германии - и где они поселялись надолго, например, в прибалтийских губерниях, англо-саксонские монеты встречаются во всех кладах, что объясняется постоянными сношениями норманского населения с Англией[143]. К этому следует добавить, что в Скандинавии IX века было очень мало византийских монет[144], в Приднепровье той же эпохи было мало вещей скандинавских; между тем Киевская Русь не только в IX веке, но и гораздо раньше вела торговлю с Византией. Норманны IX века редко ездили по Днепровскому пути, и лишь в X веке дорога из варяг в греки стала им более доступной, но с разрешения русского князя.
Строгая и точная постановка проблемы антинорманистами: если Русь существовала до призвания варягов, то она, во всяком случае, не может быть норманской - вновь обретает свою прежнюю силу. Русский народ, который уже в самом начале IX века вел широкую торговлю и с Западом, и с Грецией, и с азиатским Востоком, не может быть народом, пришедшим из Скандинавии. Русь IX века - не норманны.
Но не только по месту и времени своего бытия, по всему облику своему русь очень мало походит на норманские дружины, поселяющиеся в чужой стране. По понятиям греков, русы - это народ скифских равнин, народ «не именитый», но известный уже с давних пор. Из II беседы Фотия мы узнаем, что «поднял оружие тот самый народ, о котором многие многое рассказывают... оный, называемый рос, который, поработив живущих окрест его и возгордясь своими победами, воздвиг руки и на Римскую (Византийскую) империю»[145]. Люди русского племени уже раньше живали в Греции, их участь и была причиной набега руси. «Ибо эти варвары справедливо рассвирепели за умерщвление соплеменников их»[146]. Поход был актом гнева и мести за какое-то нарушение права: «Мы, греки, убийственно рассчитались с теми, которые должны были нам что-то малое, ничтожное»[147]. Варвары хорошо знали столицу империи, набег их «схитрен был так, что и молва не успела предупредить нас, чтобы мог кто подумать о безопасности»[148].
Народность руси IX века определяется, однако, не только общей ее характеристикой, но и некоторыми отдельными чертами ее жизни. Из амастридского «жития» мы узнаем, что русы были язычники и поклонялись водам и деревьям. Это верование само по себе не связано с тем или другим племенем, оно существовало, вероятно, и у праарийцев, но у наших славян оно проявлялось особенно ярко и долго сохраняло свою силу. Прокопий в VI веке отмечает в вере антов (восточных славян) именно почитание водных богинь[149], а русские летописи упоминают о пристрастии славян-язычников к обоготворению растений, рек и колодцев: «рощениям, кладезем и рекам жряхоу»[150]. Славянские боги жили в лесах и «святых рощах», неподалеку от городов. Дубам на Руси поклонялись повсеместно, а заповедный лес назывался Божелесьем[151].
Из того же амастридского «жития» мы узнаем, что русь соблюдала религиозныи обряд, известный под названием «ксеноктонии». Предполагают что крымские греки унаследовали его от тавров и ввели его в культ Артемиды богине-девственнице приносили в жертву девственных юношей и девушек[152]. У руси была давняя связь с таврами, т. е. с древним племенем, населявшим юг России еще до скифов; русь и тавро-скифы - один и тот же народ в представлении византийских писателей, что и объясняется близким соседством этих племен. Если тавры - остатки древнего населения Крыма, то амастридское «житие» указывает на какую-то исконную южную русь, которая имела сношения с таврами, скифами и греками и приняла в свой религиозный культ жестокии обряд доисторического времени. Указанная особенность русского язычества заставила академика Васильевского отказаться от норманской теории которую он до того считал неопровержимой. Не решаясь признать русь славянами, он делает не слишком уверенное предположение, что тавро-скифы - готы, и добавляет, что для объяснения русского имени готская теория «была бы во многих отношениях пригоднее норманно-скандинавской»[153].
Другие источники, рассказывающие нам о руси IX века, прямо относят ее к славянам Раффельштеттенский устав говорит о славянах, приезжающих из Руси. Ибн Хордадбех называет русов славянами: «Что же касается русских (купцов), а они суть племя из славян, то они направляются из дальнейших концов Саклаба (славянских стран) к морю Румскому...»[154]; дальше следует описание их пути, приведенное раньше. «Точностью и достоверностью - замечает Гаркави, - это первое в арабской литературе известие о русских превосходит все позднейшие писания арабских географов»[155]. После рассказа о торговом пути русов Ибн Хардадбех сообщает о пребывании их в Багдаде «евнухи славянские служат им переводчиками. Они выдают себя за христиан и, как таковые, платят поголовную подать»[156].
Норманисты делают попытку затемнить ясный смысл слов арабского писателя ссылкой на неопределенное значение имени «славяне» во всей арабской литературе[157], или предположением, что русские (т. е. норманские) купцы научились славянскому языку у побежденных народов и что Ибн Хордадбех по этому чужому для них языку признавал их за славян[158] Но Ибн Хордадбех был начальником почт, т. е. ведомства, имевшего непосредственное отношение к торговым связям страны; он переиздал свои сочинения в 886 году после шестилетнего пребывания в Багдаде, где бывали русские купцы и где постоянно жили славянские евнухи, где эти евнухи, в присутствии должностных лиц, расспрашивали купцов для установления их личности и, конечно просто беседовали с ними. Трудно допустить, что очевидец руси и ее сношений с арабским Востоком ошибался и не знал точно того, о чем он говорил; при таком способе критики можно отвергнуть любое свидетельство и покрыть всю древность мглой сомнения и подозрений.
В том же IX веке произошло одно событие, которое, независимо от других фактов, указывает на южную славянскую Русь. Мы имеем в виду так называемую «хазарскую» миссию первоучителей Кирилла и Мефодия.
Во время своего пребывания на юге России, в Херсоне, Константин-Философ (св. Кирилл) встречался с неким русином. Об этой встрече «житие» св. Кирилла рассказывает так: «...и обрет же тоу Евангелие и Псалтирь роушьскыми письмены писано и человека обрет глаголюща тою беседою и беседовавь с нимь, и силоу речи приемь, своей беседе прикладае различии писмен, гласнаа и согласнаа и к богу молитвоу дрьже и вьскоре начеть чисти и сказовати»[159]. Это значит, что св. Кирилл, говоривший на болгарском языке, силою речи, т. е. без предварительного изучения, понимал язык русский, что, конечно, вполне естественно, если признать русскую речь IX века наречием славянского языка. «О русской беседе не говорится «разоумь приемь», т. е. не предполагается изучение незнаемого языка, а «силоу речи приемь», выражение, которым и в наше время можно означать усвоение себе одного из наречий уже знакомого языка. При известной речи письмена неизвестные»[160]. Под русскими письменами разумеются, вероятно, «черты и резы», которые были в употреблении у славян-язычников, подобно тому, как «руны» служили норманнам. По словам болгарского Черноризца Храбра: «Прежде убо словене не имеху книг ну чръртами и резами чьтеху и читааху, погани суще»[161].
Само собой разумеется, что такое понимание встречи св. Кирилла с русином невозможно для норманской теории: русские письмена, с ее точки зрения, не могли быть славянскими. Для того чтобы отнести их к норманским, было сделано предположение, что норманская колония, которая будто бы существовала уже в то время на Крымском полуострове, приняла от готов их богослужение, и потому русские письмена Евангелия и Псалтири, не что иное, как письмена готские[162]. Догадка эта имеет в своей основе не факты, но убеждение в правильности норманского мнения: русь - норманны, поэтому, где бы ни обнаружена была русь, эта русь должна была прийти из Скандинавии. Между тем очевидно, что суждение: русь есть норманское племя - не может быть предпосылкой в системе суждений, доказывающих норманство руси. Точно так же неправильно заключать, что русь Фотия, русь греческих житий, русь араба Ибн Хордадбеха, русь болгарского жития св. Кирилла - норманская потому, что русские послы Вертинской летописи были шведы. Это значило бы лишить все новые свидетельства всякого интереса и доказательной силы. Каждый новый памятник прошлого, привлекаемый для того чтобы укрепить то или другое предположение, должен почерпать доказательную силу прежде всего из самого себя, затем - из сопоставления его с другими сведениями по тому же вопросу; и ни в коем случае он не смеет эту силу украдывать на стороне. Объяснение русских письмен из готского языка неприемлемо прежде всего потому, что оно предвзято. Еще хуже то, что догадка эта вовсе не объясняет взаимопонимание в беседе Константина-Философа и русина. С другой стороны, самая ссылка на готов ради истолкования крымского эпизода обнаруживает невозможность даже для норманистов понять русина с его «роушьскими письменами», исходя из одного утверждения норманства руси.
Между тем внимательное изучение миссии братьев-первоучителей и сопоставление событий, связанных с этой миссией, укрепило вывод антинорманистов, признавших русские письмена IX века - письменами славянскими.
Известно, что русы вскоре после своего победоносного нападения на Византию в 860 году прислали к грекам посольство с предложением мира и с просьбой о Христовой вере. В «Окружном послании» патриарх Фотий, между прочим, говорит, что народ русь «ныне переменил языческое и безбожное учение, которое прежде содержал, на чистую и правую христианскую веру, и вместо недавнего враждебного на нас нашествия и великого насилия с любовию и покорностью вступил в союз с нами. И столько их воспламенила любовь к вере, что и епископа, и пастыря, и христианское богослужение с великим усердием и тщанием прияли»[163]. Согласно исследованиям Ламанского[164], св. Кирилл, ученик и друг патриарха Фотия, и брат Кирилла - Мефодий были посланы уже в 861 году на юг России в ответ на эту просьбу руси. Константин взял с собою славянское Евангелие; славянская азбука была им изобретена в 855 году. Об этом переводе Святой Книги он и беседовал в Корсуни с русином, желая проверить, насколько его перевод понятен славянам русских равнин.
Таким образом, «русская» миссия Кирилла и Мефодия подтверждает свидетельство амастридского «жития» об исконной, а не пришлой из Скандинавии, языческой руси на юг нашей страны и дает прочное фактическое основание для положительного суждения о народности древних россов Черноморья и Днепра: русь IX века - славяне.
Примечания:
127. Подобная же постановка вопроса встречается и в иностранной литературе, напр.: Krek G. Einleitung in die Slavische Literaturgeschichte. 463 (1887).
128. Васильевский. Труды. Ill (1915). Введение в житие Георгия Амастридского. CXIX.
129. Ибн Хордадбех у Васильевского. Труды. III. Введение в житие св. Георгия Амастридского. CXIX.
130. Раффелыитеттенский таможенный устав начала X века; в нем есть указания и на порядок, установленный в Восточной марке (позднее Австрийское герцогство) уже в IX веке. У Васильевского. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. 112-123.
131. Васильевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. 125.
132. Житие св. Стефана Сурожского, дошедшее до нас не в греческом подлиннике, но в переделках - греческой и русской, у Васильевского. Труды. III. CCLXIX.
133. Степенная книга, ч. I, у Васильевского. Труды III. Житие св. Стефана Сурожского. Обзор литературы.
134. Греческое житие Георгия Амастридского. У Васильевского. Труды. III. Введение в житие Георгия Амастридского.
135. Описание этого похода у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 493....
136. Куник. О записке готского топарха. (По поводу новых открытий о Таманской Руси и крымских готах). Записки Академии наук, т. 24. 1874.
137. Существование такой колонии было уже предположено Шафариком.
138. Лавр. 10.
139. Соловьев. Истории России с древнейших времен.
140. Гедеонов. Варяги и Русь. 432.
141. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. 1908. Гл. XIII.
142. Савельев. Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. XXXIV, у Гедеонова. Варяги и Русь. 53.
143. Гедеонов. Варяги и Русь. 55.
144. Arne. La Suede et l'Orient. 89-90.
145. Окружное послание Фотия у Забелина. I. 502.
146. II беседа Фотия у Забелина. I. 498.
147. I беседа Фотия у Забелина. 1.495.
148. I беседа Фотия у Забелина. I. 496.
149. «Они поклонялись также рекам и нимфам и некоторым другим божествам». Прокопий. О готской войне. 408.
150. Лаврентьевская. Год 986. Ср.: Летописец Архангелогородский. Год 852.
151. Поэтические воззрения славян на природу. 295.... 322....
152. Васильевский. Труды. III. CXL-CXLI.
153. Там же. CCLXXVI-CCLXXXIII. Введение в житие св. Стефана Сурожского.
154. Ибн Хордадбех. Франц. перевод de Goeje у Васильевского. III. CXIX; Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). 49....
155. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). 54.
156. Ибн Хордадбех. Франц. пер. de Goeje у
Васильевского. III. CXIX.
157. Вестберг. К анализу восточных источников о Восточной Европе. Журнал Мин. нар. проев. Февраль-март.
158. Васильевский. Введение в житие св. Георгия Амастридского. Труды. III. CXXIII.
159. Житие св. Константина § VIII. У Гедеонова. Варяги и Русь. 558.
160. Гедеонов. Варяги и Русь. 559-560.
161. Черноризец Храбр у Гедеонова. Варяги и Русь. 564. До изобретения славянской азбуки славяне-христиане пользовались римскими и греческими буквами; «самый язык св. Писания, язык церковно-славянский по всем древнейшим его памятникам вполне убеждает нас своей чистотою и ясностью в выражении христианских идей, что славяне уже с давних времен», т.е. до св. Кирилла, «привыкли на своем языке высказывать христианские понятия и убеждения и имели уже готовые, чисто христианские выражения» (Буслаев. Лекции наследнику цесаревичу. Л. 25).
162. Шафарик. Slav. Alt. И. У Гедеонова. Варяги и Русь. 559.
163. Фотий. Окружное послание у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 502.
164. Шахматов. Вл.И.Ламанский // Известия импер. Ак. наук, № 18, 1914.
Глава девятая. Норманны и Приладожье
В начале IX века на юге Русской страны жила славянская русь - этот факт, исторически удостоверенный, разрушает норманскую теорию. Поэтому для того чтобы ее укрепить, норманисты должны были найти в том же веке норманскую русь на севере в Новгородской области. В самом деле, если завоевательное движение скандинавских дружин происходило будто бы с севера на юг, из Новгородской земли в Киевскую и в другие области нашей страны, то его опорные пункты - норманскне укрепленные места, «колонии» - должны были возникнуть прежде всего на севере. Во второй половине IX века, когда начался победный поход на юг, русь, конечно, уже хорошо обосновалась где-нибудь неподалеку от Новгорода, а на юге ее и быть не могло: Русь IX века, говорят норманисты, не южная Русь, но Русь северная, что доказывают известия, переданные арабскими писателями, и открытия, сделанные археологией.
Эти суждения, сразу поражающие читателя своей несообразностью, все же должны быть приняты во внимание, потому что они не один раз высказывались в исторической литературе.
О свидетельствах арабских географов нелегко судить даже специалистам-востоковедам. Помимо трудностей перевода с арабского языка на языки европейские, исследователь должен преодолеть трудность понимания, потому что известия арабов большей частью не точны, и под воздействием фантазии быль, ими сообщаемая, приобретает порою свойства небылицы. Таков рассказ об «острове русов», доказывающий, по мнению некоторых норманистов, существование северной норманской руси; он повторяется у многих мусульманских писателей и, как утверждают арабисты, имеет в своей основе первоисточник, относящийся к 1-й четверти IX века[165].
Приведем несколько отрывков этого известия: «Что касается до руси, то находится она на острове, окруженном озером. Остров этот, на котором живут они (русы), занимает пространство трех дней пути, покрыт он лесами и болотами; нездоров и сыр до того, что стоит наступить ногою на землю и она уже трясется по причине обилия в ней воды. Они имеют царя, который зовется хакан-рус. Они производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, отвозят в Хазран и Булгар и продают там». Далее сообщается, что русы не имеют ни пашен, ни городов и живут торговлей; еще дальше говорится, что «городов у них большое число, и живут на просторе, гостям оказывают почет и обращаются хорошо с чужестранцами»[166].
Описание острова русов представляет собою довольно бессвязное смешение известий о разных предметах, русь является в нем то как народ, занимающий большие пространства земли, строящий города, то как военная банда, промышляющая разбоем и оберегаемая водами и топью болот. Если неоспоримо бытие туземной южной Руси, то можно отнести этот рассказ и к русскому народу, управляемому хаканом, и к Черноморской Руси[167] или к какой-нибудь русской дружине, подобной запорожцам на днепровских островах. Норманская теория, конечно, не может принять это объяснение, ее представители рассуждают иначе: «Такое сильное разбойничье гнездо русов немыслимо на Керченском проливе (Тмутараканская Русь), если Киев ко времени составления наших записок не находился еще в руках русов (т. е. норманнов)». Между тем у арабских писателей нет «ни малейшего намека на какое бы то ни было русское (т. е. норманское) владение на юге, будь то в Приднепровье, будь то на побережье Черного моря»[168]. Отсюда делается тот вывод, что русь следует искать на славянском севере. Нетрудно усмотреть, что подобный ход мыслей уже предполагает в руси не туземный народ, а пришельцев-скандинавов, которые будто бы утвердились в Киеве лишь во второй половине IX века; кроме того, рассуждая так, норманисты не считаются с другими источниками, между прочим, и с книгой Ибн Хордадбеха о торговле русов по Днепру. Довольно произвольное помещение «острова русов» в Новгородскую область нисколько не освобождает от руси юг нашей страны.
Но отвлечемся пока от этого соображения, допустим, что руси на юге нет, и будем искать ее на севере. Где же именно? В этом вопросе мнения норманистов расходятся. Одни помещают ее в Новгороде, известном исландским сагам под именем Holmgard, что значит «островной город»; скандинавское название Новгорода оказывается, таким образом, очень подходящим к арабскому «острову русов», разбойничьему гнезду в славянской земле (Вестберг, Томсен). Согласно другому взгляду, разбойники-норманны устроились в Старой Руссе. «Едва ли это Новгород; самоё имя Новгорода показывает, что ему предшествовал другой политический центр, и на него перенесено скандинавское Holmgard... может быть, скандинавы называли Holmgard - город, который потом назван Старой Руссой (на Полисти)... В Руссе - остров с церковью св. Преображения»[169]. Здесь самоё название «Старая Русса» связывается с норманнами, что, конечно, весьма малоубедительно; исходя из подобного рода соображении, можно было бы населить норманнами все славянские земли от Волги и до острова Рюгена, т. е. земли, где мы находим множество географических имен, происходящих от корня «рос», «рус». Островов и болот в этих областях также очень много. Наконец, есть и третья догадка: «остров русов» следует «искать где-нибудь на берегах Ладожского озера», в этих местах археология открыла следы норманского пребывания[170].
Итак, норманские пираты устроились на Новгородском севере. Где бы они ни свили свое разбойничье гнездо - в Новгороде, Старой Руссе или на Ладожском озере - они расположились там, конечно, со своим хаканом... Но откуда у них хаканат? Когда мы узнаем, что южная Русь, связанная данью с хазарским царством, называла своего князя хаканом, то нам кажется это вполне естественным; титул этот засвидетельствован к тому же очень многими источниками. Но с какой стати назвали бы своего конунга хаканом норманны в Новгородской стране, независимой и далекой от хазар, и назвали бы тотчас после своего прибытия? И где свидетельства о существовании хазарского титула у шведов? Норманисты пытались обойти это затруднение предположением, что арабы назвали русского «царя» хаканом потому, что получили известие о нем от хазар (Томсен). Но такое объяснение приводит к новой трудности: норманского конунга, никогда не имевшего хаканского титула, уже нельзя отождествлять с хаканом Вертинских летописей, о котором сообщили не хазары, а
шведы, и на место южной руси поставить северную норманскую русь. Допустим, однако, и эту несообразность, этот шведский хаканат. Во всяком случае, норманны - шведы и готландцы - появлялись на северных окраинах нашей страны. Вопрос в том, были ли это вооруженные купцы, которым удалось устроить себе лишь временные стоянки, места торгового обмена, или же - колонизаторы-завоеватели, прочно освоившие южный берег Ладожского озера и двинувшиеся оттуда на юг для овладения славянскими землями по Волхову, Днепру и Волге?
Норманская доктрина ищет решение этих проблем в археологии.
Прислушаемся теперь к тому, что говорят о норманнах тихие могилы нашей северной земли.
Русские археологи уже собрали большое количество материала, существенного для познавания нашей древности, но пользоваться им в исторических исследованиях надо с некоторой осторожностью, потому что археология не нашла еще бесспорного метода для своих изысканий, она не открыла еще верного способа определять народность, которой принадлежат те или другие могилы. Дело в том, что погребения у разных народов арийского корня имеют между собою много сходства, основанного на сходстве их религиозных воззрений; с другой стороны, у племен одной и той же арийской ветви, например у германской или славянской, существуют нередко различные погребальные обычаи, которые к тому же меняются от одной эпохи к другой вместе с переменами в общих условиях жизни и быта. Та или другая могила может быть отнесена к определенной народности только в результате сопоставления ее устройства и ее содержания (т. е. совокупности найденных в ней вещей) как с общей культурой той страны, где она находится, так и с культурами соседних стран, с историей племен, эти страны населявших, одним словом, со всею полнотою жизни, которая шумела в этом краю и оставила свой след в молчании кургана. Все это усложняет труд исследования и требует от ученого и способности находить новые пути для познавания культуры, сбереженной в земле, и умения связывать археологические данные с исторической обстановкой в изучаемой стране. В противном случае выводы археологов не будут иметь убеждающей силы. Двадцать шведских фибул (пряжек) в могилах южного Приладожья не могут доказать сами по себе, что здесь существовала шведская колония, как этого хочется шведскому профессору Арне[171], труд которого имел большой успех в Западной Европе по причинам, имеющим мало отношения к исканию истины. Не говоря уже о том, что эти фибулы могли попасть на южный берег Ладожского озера путем торговли, - самоё представление о шведской фибуле едва ли обладает полной ясностью. Русский археолог, производивший раскопки в этих местах, замечает, что из трех видов скорлупообразных фибул, признаваемых обычно скандинавскими, только один вид, а именно фибулы без накладок, штампованные, «действительно должны быть привезены скандинавами, что же касается до прочих, то родина их представляет еще вопрос, допускающий различные, более или менее вероятные догадки, но и только»[172]. К этому следует добавить, что и шведские фибулы могли быть доставлены в славянскую землю не шведами: русские торговцы, ездившие за море, также привозили изделия скандинавских мастерских. Вопрос о фибулах связан с очень древними культурными движениями и влияниями; он принимает совсем иное решение, если иметь в виду предысторическое воздействие Сибирской культуры на Пермский край и вообще всей греко-восточной культуры на европейские страны[173]; так как норманны получали образцы для фибул с Востока, то может обнаружиться, что некоторые группы пряжек, найденных на Русской равнине, сходны со скандинавскими не потому, что привезены с севера, а потому, что в основе и скандинавского, и местного (может быть, приуральского или приднепровского) производства лежат одни и те же восточные образцы[174]. В Швеции (Вендель), в могиле викинга (VIII-IX века) были найдены предметы конского убора, украшенные орнаментом, сочетавшим восточные мотивы и мотивы эмалей IV-V веков. Этот смешанный стиль получил название «скандинавского». Между тем еще в VI веке изделия этого стиля встречаются в Венгрии, а еще раньше, в III-IV веках, конские уборы того же стиля выделывались в Полоцкой земле[175]. Точно так же присутствие в насыпи кургана костей коня или остатков ладьи (железные скрепы) еще не убеждает в том, что эта могила норманская: конь был религиозно чтим и у славян, и у финнов; по древней славянской вере, души, отправляясь в рай, переезжали на коне через огненный поток, отделявший землю от неба[176]. В славянских курганах на Ловати кроме костей человека, покоящихся в урнах, найдены и кости коня; они лежали в слое земли ниже урны, вместе с костями собаки и сокола[177]. Славянские могилы с конем встречаются и в Днепровской области (Черниговские и Киевские курганы). Ладья также была нужна на длинном пути в райские селенья - верование, пережитки которого сохранились, между прочим, в обычае раскольников выдалбливать гробы из цельного дерева (ладьи-однодеревки)[178]. В колодах погребали умерших и древляне[179].
Не забывая о всех этих трудностях, постараемся все же узнать что-либо достоверное об обитателях нашего северного края от археолога, его изучавшего.
Если мы сравним могилы Швеции в эпоху викингов (IX-XI вв.) с могилами Приладожья, то не найдем в них большого сходства. Кроме утвари, характерной для скандинавской культуры того времени, в шведских погребениях есть оружие, драгоценные изделия, монеты и, очень часто, - скорлупообразные фибулы. Скандинавские вещи были найдены и близ Ладожского озера в некоторых могилах, лежащих на Паше, Ояти и других речках этого края. Но могилы эти по устройству и остальному содержанию ничем не выделяются из множества могил, их окружающих; поэтому нет достаточных оснований для того, чтобы признать их шведскими[180]. К тому же число фибул, открытых в могилах Приладожья IX века и признаваемых скандинавскими, очень невелико: их всего две; остальные восемнадцать относятся к более поздним временам[181]. Большая часть вещей, сбереженная в могильных насыпях Приладожья, взята из бытовой обстановки финского населения области; даже скандинавские мечи были в большом употреблении и почете у финнов[182]. Этой народности принадлежит подавляющее число погребений.
Кроме финских невысоких могил в том же краю есть большие курганы, имеющие некоторое сходство со шведскими по устройству своему, приспособленному к обряду сожжения, по участию камней в обрамлении насыпи. Однако частичное сходство можно найти в погребениях у разных народов, и оно ничего не дает для обнаружения предполагаемой на севере колонии норманнов. К тому же каменное обрамление могильных насыпей в Швеции эпохи викингов очень своеобразно и несходно с расположением камней в могилах южного Приладожья. В Швеции камни - большие и малые - укладываются нередко на некотором расстоянии от могил таким образом, что могильный холм оказывается в центре круга, или квадрата, или треугольника с прямыми, а иногда вогнутыми краями, или овала с заостренными концами, напоминающего лодку. Лодкообразные могилы признаны могилами морских пиратов. Нередко вблизи таких погребений встречаются высокие узкие камни, иногда с руническими надписями[183]. Эти подробности могли бы указать народность погребенного точнее, чем общие способы устройства насыпей и укрепления их камнями, принятые в разных странах и не всегда одинаковые в одной и той же стране. Различие между приладожскими сопками и шведскими могилами состоит еще в том, что сопки очень высоки; иногда высота их доходит до 10 метров; между тем на Скандинавском полуострове высокие могильные холмы насыпали в Норвегии, тогда как в Швеции обычными были более плоские могилы[184]. В одной из насыпей Приладожья нашли следы какого-то деревянного сооружения, может быть, лодки, а именно сто железных скреп, кости коня, меч, секиру, рог в серебряной оправе[185]. Можно ли считать эту могилу погребением норманского пирата? Для уверенного ответа на этот вопрос оснований нет.
Еще менее признаков норманского пребывания открыто в земных недрах Старой Ладоги. Город этот в древние времена лежал близ устья Волхова, у самого озера, и не раз переживал шведские вторжения, но достоверны лишь те из них, которые случились после IX века. Быть может, норманны и раньше бывали в этом городе, но мы не знаем, долго ли, коротко ли они хозяйничали в нем. Древняя история Швеции вообще очень темна, летописей, которые могли бы осветить языческую эпоху ее жизни и начало христианских времен, не существует; первая рукопись на пергаменте появилась лишь в XII веке[186]; исландские саги записаны лишь в XIII веке и достоверных исторических сведений дать не могут[187]. Раскопки в Старой Ладоге, в той ее части, которая называется земляным городом, еще не окончены; пока они обнаружили лишь небольшое количество вещей, признанных скандинавскими: фибулу, железные заклепки, костяной гребень[188]. Этого недостаточно для каких-либо определенных выводов. Во всяком случае, шведских могил близ Ладоги не нашли. В невысоких могильных насыпях вокруг древнего города были обнаружены камни, плиты, бедный инвентарь, ничего общего не имеющий со шведской культурой: эти могилы принадлежат местным финнам. Большие курганы в окрестностях Ладоги подобны сопкам Приладожья: они очень высоки, инвентарь в них - скромный, как это бывает в большинстве славянских погребений. Напротив, в могилах норманских пиратов всегда есть оружие и драгоценные украшения, ввиду битв и пиров, ожидающих их в Валгале. Сопки на Волхове хранят сожженные кости в урнах. Мы знаем, что урнами пользовались и в Швеции при погребениях в IX веке; но урны встречаются и в славянских могилах. Чрезвычайное сходство волховских сопок с курганами Ловати, Меты и Великой, насыпанными на путях расселения славян у конца речных дорог от Немана, Западной Двины и Днепра к Ильмень-озеру, дает достаточное основание для того, чтобы признать волховские сопки могилами славян, подвигавшихся с юга к северному морю.
Сопки Приладожья мало отличаются и от высоких курганов, рассыпанных в южных областях древней Руси. Такого рода погребений вообще немного, потому что они принадлежат представителям высшего богатого слоя русского общества: князьям, дружинникам, знатным воинам; обычно они окружены множеством невысоких, скромных могил. Высокие курганы имеют везде круглую форму в основании; насыпь укреплена камнями или окружена деревянной оградой; кроме обряда сожжения - иногда с применением урн - был в обычае и обряд погребения в срубе или в грунтовой яме.
Устройство погребальных холмов и могильный инвентарь не были всегда одинаковы вследствие того, что страну населяло не одно, а несколько славянских племен, и, кроме того, в пределах каждого племени уже намечалось сословное расслоение. Тем не менее сходные предметы встречаются и в удаленных друг от друга областях на юге, севере и востоке нашей страны. Оружие почти одинаково: русские и французские мечи, стрелы, кольчуги, шлемы; нередко в могиле находят очаг, т. е. сосуд с углями - следы древнего поклонения огню, основа культа домового, и большое число ведер - культ воды. В больших, вероятно, княжеских курганах (Черная могила в Чернигове) ставили сосуд с костями, черепом и шерстью барана - жертва солнцу; тут же находили и жертвенный нож. Религиозное значение имели и турьи рога в богатой серебряной оправе, найденные в Киевской, в Черниговской областях и в Приладожье; такие рога указывают на жреческие обязанности русских князей. Восточные, издавна нам известные орнаменты на рогах и других предметах, - узоры из лилий, разного рода плетения со зверями и без них - встречаются и на юге, и на севере. Религиозные символы глубокой древности и там, и здесь украшают керамику и поделки из золота и серебра. Везде встречаются иноземные изделия, на юге - главным образом восточные и западные, на севере - западные, восточные и скандинавские. Изучая север и юг нашей страны, археологи везде обнаруживают следы единой славянской культуры.
Что же мы узнаем о северном крае нашей страны, изучая археологические древности Приладожья?
Восточные монеты и восточные изделия, найденные в могилах этого края, указывают на то, что здесь пролегали торговые пути. Но эти пути уже существовали гораздо ранее IX века, о чем говорит нам клад сасанидских монет VI и VII столетий, найденный на Волхове, недалеко от Старой Ладоги[189]. В это древнее время восточную торговлю по этому пути могли вести только славяне, тогда как норманны появились на Ладожском озере позднее и Волжского пути на Восток не открывали по той простой причине, что он уже давно был открыт. ВIX веке торговля с арабами была в полном расцвете, и норманны своей энергией и неутолимой жаждой наживы содействовали ее развитию. Неясно, однако, какие именно скандинавы вели торговлю через нашу страну: шведы из области Мелара? Жители острова Готланда? Торговые сделки чаще всего заключались на берегах Ладожского озера: товар, привезенный из Швеции, обменивался здесь на восточный и местный, т. е. торговля шла «по передаче». Возможно, что уже в IX веке норманские купцы и сами ездили на Восток, но они присоединялись для этой цели к славянским караванам. Разнообразие изделий, найденных в могилах Приладожья, предметы шведского, восточного и западного производства - указывают не только на процветание торговли; очень вероятно, что здесь живали шведы, но их пребывание в этих местах было непрочным; оно зависело от сроков торговых сделок, от оживления или замирания торгового обмена. Здесь жили норманны-гости, а не норманны-хозяева. Археологические находки, во всяком случае, ничего не говорят ни о норманских колониях, ни об укрепленных военных поселениях.
Норманисты, пытаясь обосновать существование норманской оседлости у Ладожского озера, присоединяют к данным археологии исторические известия. Но известия, относящееся к IX веку, очень скудны, и, кроме того, они способны поддержать мысль о шведских колониях лишь в том случае, если уже истолкованы с точки зрения норманской гипотезы. Так, например, в наших летописях есть известие: «Сице бо звахуся тыи варяги русь, иже приидоша в сию землю княжити. И седоша, во-первых, в словенех и срубиша, во-первых, город Ладогу и седе ту старейший брат Рюрик»[190]. Это известие может указывать на «особенное значение Ладоги для норманнов»[191] лишь в том случае, если Рюрик - норманн, т. е. именно норманство Рюрика и других варягов, с ним прибывших, может поддерживать мысль о норманском укрепленном пункте на Волхове. Между тем норманисты ищут в археологии опоры для своей теории; они должны были бы доказать на основании археологических данных существование норманской крепости в Ладоге и поддержать этим открытием мысль о норманстве варягов, которые будто бы двинулись отсюда в завоевательный поход на юг. Доказуемое не может быть доказательством.
Но представим себе, вопреки противопоказаниям археологии, что норманны присвоили себе южный берег Ладожского озера, устроили там свою колонию или даже небольшое государство и, опираясь на него, завоевали нашу страну. На все это потребовалось бы довольно много времени. Путь от Ладоги до Киева длинен и был опасен для чужеземцев. В десяти верстах от своего былого устья Волхов прегражден порогами, за которыми пловцы уже теряли свободный доступ к морю, надежному тылу морских пиратов. За Новгородом водная дорога шла по малым рекам, разъединенным волоками; на берегах - леса, болота и враждебное население. Нет никаких оснований предполагать что славянские племена, отстоявшие свою землю в борьбе со многими врагами, предоставят ее без боя народу, дикий и жестокий нрав которого давал себя чувствовать даже до XVIII столетия в лесных захолустьях южной Швеции[192]
Норманны должны были сломить это сопротивление и устроить по-своему жизнь в покоренной стране.
Между тем, согласно данным археологии, шведы появились у Ладожского озера только в начале IX века, и дружины их не могли быть многочисленными потому, что Швеция была малонаселенной страной. Тем не менее, по учению норманистов, к 839 году они уже основали где-то на севере военный центр и хакан, его возглавивший, завязал дипломатические сношения с Византией" здесь разумеется посольство к императору Феофилу, о котором сообщают Вертинские летописи. В половине IX века норманны уже на юге; они основывают первые русские города[193] (несмотря на то, что эти города уже существовали) в их власти не только Новгородская земля со словенами, кривичами и финнами но и Киев с полянами и соседние с ним славянские племена. В 860 году шведы набирают большое разноплеменное войско и отправляются в победоносный поход на Константинополь, тот самый поход, о котором говорит патриарх Фотии... Легко видеть, что в этом удивительном, фантастическом построении исторические дела русских князей и русского народа изображаются как быстролетные набеги отважных норманских пиратов.
Однако археология, на которую норманисты хотели бы опереться для того чтобы доказать несомненность нашествия северных норманских дружин вовсе не поддерживает мысль о норманском завоевании.
На пути от Старой Ладоги по Волхову к Великому Новгороду и в самом Новгороде найдены лишь ничтожные следы скандинавской культуры; причем находки эти относятся не к IX веку, но к более поздним временам. Между тем в Новгороде княжил Рюрик и, по летописным известиям, было так много варягов, что их нравы сказывались в нравах и в быту новгородцев. У Белого озера, где сидел Синеус, не нашли никаких следов древней шведской культуры. В Изборске, городе Трувора, доныне слышен плеск «Славянских ключей», на «Славянском поле» спит древнее городище, а близ него, на погосте, чья-то древняя могила, с каменным крестом, слывет в народе Труворовой могилой, но древних шведских могил там нет нигде, и нет о них и помину. Дальше, к югу от Новгорода следы скандинавской культуры найдены лишь в Гнёздове у Смоленска, но древность ее определяется X веком. В Киевской области встречаются лишь единичные предметы шведского происхождения; здесь, как мы уже знаем, норманнов в большом числе до X века не было. Норманисты не только это признают, но вместе с Арне утверждают, что скандинавы открыли Днепровский путь веком позднее Волжского[194], т. е. не раньше X века. Если это так, то каким же образом шведы Приладожья могли к шестидесятому году IX-го века овладеть и Новгородом, и Киевом, основать новое государство, устроить его, подчинить себе соседние племена и осуществить победный поход на греков? Как могли они совершить все это таким образом, что ни они сами, ни их доблестные деяния не оставили никакого следа в земле, ими захваченной, так же, как ничего не изменили они в языке, нравах, вообще во всей культуре покоренной ими страны?
На родине норманнов и в других краях, от них недалеких, не заметили их подвигов. Западные летописцы молчат об их «завоеваниях» в нашей стране, молчат о них даже исландские саги. «Но общее молчание современных и к ним близких писателей, - говорит Эверс в заключении своей книги, направленной против норманской теории, - о замечательном, всенародном, историческом факте уже само по себе дает сильный повод к подозрению и даже совершенному отрицанию позднейших свидетельств. Всего менее, при подобном молчании, может устоять (норманская) гипотеза, построенная на недоразумениях и неправильных выводах, и не имеющая за собой ничего, кроме вполне заслуженной на ином поприще известности своих составителей»[195].
Ни перемещение «острова русов» с его хаканом в Новгородскую область, ни мнимые шведские колонии в северной полосе России не могут позволить шведам быть в IX веке там, где их не было до X века. Русь IX века остается ненорманской Русью, и, после неудачных попыток найти шведскую русь на севере, эта ранняя славянская Русь еще непреложнее закрепляется за югом России.
Если русы уже в IX веке или даже в конце VIII века были известны своим соседям, как большой народ, если уже тогда этот народ был деятельным и воинственным, то надо думать, что он существовал и раньше. Проблема Руси, очевидно, не может найти решение в пределах IX века. Наше имя настойчиво зовет нас в более удаленное прошлое, в сумрак давних, забытых времен.
Примечания:
165. Вестберг. К анализу восточных источников о Восточной Европе // Журн. мин. нар. проев. 1908. Февраль-март.
166. Ибн Даста. Из книги драгоценных сокровищ. У Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по Р.Х.). 267 (1870).
167. На Черноморскую Русь указывает арабский писатель Масуди: «в верховьях хазарской реки есть устье, соединяющееся с рукавом моря Найтас (Черным морем), которое есть Русское море; никто, кроме них (русов) не плавает по нем и они живут на одном из его берегов». Ал-Масуди. «Золотые луга и рудники драгоценных камней» (I полов. X века). У Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). 130 (1870).
168. Вестберг. К анализу восточных источников о Восточной Европе // Журнал мин. народн. проев. 1908. Февраль, март.
169. Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени (1919).
170. Готье. Железный век в Восточной Европе. 257 (1930).
171. Arne. La Suede et 1'Orient. 25 (1914).
172. Бранденбург. К вопросу о типах фибул, встреченных в древних могилах Европейской России. Труды VI Археологического съезда в Одессе, в 1885 г., ч. I 212 (1886).
173. Strzygowski. Altslavische Kunst. 260. .. (1929).
174. Ср. Strzygowski. Altslavische Kunst. 261 и др.
175. Толстой и Кондаков. Русские древности в памятниках искусства. «Les Antiquites de la Russie Meridionale». 511-512 (1892).
176. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 283 (1869).
177. Готье. Железный век в Восточной Европе. 207.
178. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I. 578; Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. I. 427.
179. Готье. Железный век в Восточной Европе. 102.
180. Бранденбург. Курганы южного Приладожья. 91. Материалы по археологии России, издаваемые имп. Археол. ком № 18. 1895.
181. Arm. La Suede et 1'Orient. 25.
182. Бранденбург. Курганы южного Приладожья. 87.
183. Worsaae. Zum Alterthumskunde des Nordens. 14.... и таблица VIII (1847)
184. Ibid. 42.
185. Бранденбург. Курганы южного Приладожья. 92.
186. Montelius. Les temps prehistoriques en Suede. 189 и примеч. (1895).
187. Ibid. 227.
188. Раскопки Репникова у Готье. Железный век в Восточной Европе. 253.
189. Бранденбург. Курганы южного Приладожья. 5.
190. Полное собрание русских летописей. I. 8. II. 235; У Готье. Железный век в Восточной Европе. 252.
191. Готье. Железный век в Восточной Европе. 252.
192. Worsaae. Zur Alterthumskunde des Nordens. 45.
193. Niederle. Manuel de lAntiquite Slave. I. L'Histoire. XIX (1923).
194. Arne. La Suede et 1'Orient. 90. 225; Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени.
195. Ewers. Vorarbeit... Предварительные критические исследования для российской истории. 1826. Заключение 166-170.
Глава десятая. Ложное воззрение на древних славян
Изучая доказательства норманской гипотезы, читатель убеждается в том что ее утверждения отнюдь не исходят из существа исторических событий из всестороннего рассмотрения явлений прошлого[196]. Те факты и свидетельства на которые ссылаются норманисты, извлечены из неисчерпаемого жизненного многообразия протекших времен как необходимая защита учения, созданного помимо исторических фактов и утвердившегося на другом основании Замечательно то, что живучесть норманской теории не страдала от самой сокрушительной критики ее доказательств; так же мало пошатнула ее научная критика летописного текста, послужившего исходной точкой для ее положений Этот удивительный факт объясняется не достоинствами теории, но тем, что она черпала свою силу не столько в изучаемом реальном предмете, сколько в общем воззрении на восточных славян, предваряющем самоё изучение Согласно этому воззрению, у наших предков до IX века не было никакой культуры они пребывали в состоянии «дикости» или «младенчества». С таким убеждением естественно и легко связывалась мысль о пробуждающей и творческой роли германцев в культурном развитии восточного славянства. «Немцам по сию сторону Рейна, особенно франкам, с V века и еще более со времени Карла Великого, т. е. как раз до 1000 года, судьбою дана была миссия посеять в огромном северо-западном мире первые семена культуры»[197]; норманны восприняли эту культуру и понесли ее на восток. Эти заявления Шлёцера поддерживает и другой сторонник норманской теории - Куник: вопрос о происхождении призванных варягов с самого начала стал вопросом о происхождении той культуры, которую они должны были принести в «дикие страны» нашего Северного края и нашей Днепровской стороны[198]. «Люди жили там, - пишет в другом месте Шлёцер, - но в малом числе и были подобны диким зверям своих лесов»[199]. У них не было ни государства, ни общения с иноземными народами, ни прекрасного искусства... не было веры или только «глупая вера»[200]. До варягов они не имели истории.
Представление о «дикости» славян не было вызвано углубленным изучением древности; его поддерживало упрямое желание, чтобы так было, питаемое в ученых немцах чувством превосходства западного человека над восточным, чувством презрения германца к славянину. Уже двести лет тому назад известно было о стародавней поре многое, что могло бы разрушить такие представления; уже знали о торговых путях, пролегавших по России VIII века из внутренней Азии к Балтийскому морю и через Пермский край - к морю Северному... Но Шлёцер признал это известие ненаучным и «чудовищным»[201]. Он сомневался даже в подлинности договоров Руси с греками, потому что они опровергали его утверждение о позднем начале русской исторической жизни. Он сомневался и в подлинности «Слова о полку Игореве», потому что такая поэзия могла расцвести лишь после долгого периода культурной жизни[202]. Некоторые русские ученые, современники Шлёцера, в том числе Ломоносов, указывали не раз, что веские основания заставляют признать стародавность русского племени и русской культуры. Но иноземные исследователи нашей жизни получили нежданную опору в самой летописи. Их взгляды удивительным образом совпали с наивным рассказом древнего летописца о быте славян в какие-то очень отдаленные времена. «А древляне ядаху вся нечисто и брака у них не бываше, но умыкиваху у воды девиця. И радимичи, и витячи, и север один обычай имяху: живяху в лесе якоже всякий зверь»[203]. Начало русской христианской культуры было для «Повести временных лет» началом русской жизни; составитель летописи, в простоте своей, был уверен, что до этого на нашей земле ничего или почти ничего не было; он начинал свою хронику, по выражению Забелина, с пустого места[204].
Мысль о «дикости» или «младенчестве» восточных славян была принята без спора из немецких рук и некоторыми русскими историками, принята вопреки бурному несогласию с нею Ломоносова. Погодин создал на том же воззрении свою фантазию о «норманской культуре» первого периода русской истории, и оно превратилось с тех пор надолго в застывшее, банальное лжезнание и повторялось и русским обывателем, и многими учеными, туземными и иноземными, как общеизвестная непреложная правда. Эту «правду» поддерживают и современные воззрения на славян, как на низшую породу людей, неспособную к высокой культуре («Untermensch»).
Такова предпосылка учения об основании Русского государства норманнами, предпосылка, ограждавшая и эту гипотезу, и ее доказательства от всех нападений. Если критика разоблачала несостоятельность того или другого соображения, доказывающего факт норманского владычества на Руси, - та же сила, сила предвзятого убеждения в дикости доваряжской Скифии, заставляла искать новые данные, утверждающие германское начало в «зарождающейся» культуре наших славян.
Неудивительно поэтому, что сокрушить норманскую теорию не удавалось одной критикой ее доказательств; необходимо было устранить ее предпосылку, т. е. фундамент, поддерживающий ее построение. Но эта задача требовала и требует доныне многих исследований старины, и новые знания, накопляясь, делают очевидным, что Русская равнина до IX века вовсе не была пустым местом.
Возражая на предпосылку норманской теории о некультурности древних славян, Гедеонов характеризует жизнь наших предков перед призванием князей в таких кратких словах: в IX веке «нам известны не отдельные роды, живущие на своих местах без общения и связи, а славяно-русский народ, отличный от прочих славянских народов по наречию, распадающийся на шесть известных племен, имеющий свои города, свое право, свое особое язычество, свою торговлю, свои общие и племенные интересы»[205].
Теперь, когда наука находит все новые пути к темному прошлому народов, мы обладаем уже более или менее достоверными сведениями о судьбах нашего племени задолго до IX века и можем даже «увидеть» воображающим оком жизнь нашей страны в языческие времена.
Множество новых сведений и вновь открываемых памятников убеждают нас в том, что уже в глубокой древности наши предки создавали самобытные нормы общественного устроения и направляли свою жизнь самобытными идеями и поэтическими образами. Духовное пламя уже тогда брезжило в их душах, согревало их повседневность, просветляло ее, и власть этого древнего света не иссякла до наших дней в глубинных, не всегда уловимых, пластах русской души.
Примечания:
196. Учение о норманстве варягов и руси не исчерпывается рассмотренной уже системой доказательств, но те второстепенные соображения, которыми норманисты пытаются ее укрепить, не имеют большого значения: они только дополняют главные доводы и без них лишены даже кажущейся убедительности; они так же случайны, их так же не поддерживают факты, типичные для изучаемой эпохи, их не поддерживают и общие закономерности русской исторической жизни. Так, например, норманисты указывают на древнюю литературу, где норманны иногда назывались русью (у греческих и арабских писателей), а русь - называлась норманнами (у Лиудпранда, западного хроникера X века, которому в качестве посланника приходилось жить в Константинополе). Для объяснения этого явления надо иметь в виду историческую обстановку того времени. Норманны принимали участие в торговых походах руси: вместе с русью они приезжали и на арабский Восток и в Византию, жили на русском подворье, упоминались в договорах, поэтому, нередко, арабы и греки, недостаточно хорошо различавшие северные варварские народности, переносили на норманнов самоё имя Русь. С другой стороны, у некоторых южных писателей слово норманн имело значение не племенное, а географическое - северные люди, что и делало возможным применить его к руси, как народу северному. Срв.: Гедеонов. Варяги и Русь. 506.... 517. «Народные и племенные имена весьма часто перемешиваются даже у лучших и более осведомленных писателей» (Успенский История Византийской империи. Том первый. Часть I. 393).
197. Schlotzer. Нестор. II. 26.
198. Куник. Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen. Пред. XVII-XIX.
199. Schlotzer. Нестор. I. 298.
200. Там же. 34-35.
201. Там же. II. 281.
202. Полное собрание русских летописей. Лавр. I. 4-5.
203. Schlotzer. Нестор. II. 277-278.
204. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I.VIII. 58.
205. Гедеонов. Варяги и Русь. 107.
Глава одиннадцатая. Славяне на русской равнине
Трудно в кратких словах рассказать о многовековой жизни русского народа, но и немногие существенные явления этой жизни способны обнаружить ма- лоценность тех общих суждений о нашей древности, на которых утверждалось неблаголепное здание норманского учения. К таким явлениям, рожденным в глубине веков, можно отнести земледельческий труд, процветавший в славянской земле, и неудержимое развитие городства. Древний город был опорой для славянской колонизации, он же воспитывал государственное сознание у наших предков и создавал бродило для их культурного роста.
Уже за несколько тысяч лет до P. X. на берегах среднего Днепра жили оседлые племена земледельцев. Раскопки в Киеве (на Подоле) и в его окрестностях[206] обнаружили остатки селений, построенных древними обитателями
Киевского края: группы землянок, круглых и четырехугольных; их стенки из кольев и прутьев, несколько возвышавшиеся над уровнем земли, промазывались выжженной глиной с примесью щебня, камней и мякины, а для покрытия землянки ее хозяева брали хворост и дерн. В яме, вырытой посреди жилища, у ее стенки сооружался или круглый очаг, или сводчатая печь, напоминающая нашу «русскую печку», и над нею - выходное отверстие для дыма. В каждой землянке сохранились щитки черепахи, покровителя домашнего очага; по разумению первобытного человека, речная черепаха, одаренная долголетием, была носителем особой сверхземной силы и оберегала ту семью, которая ее кормила; люди религиозно чтили ее и поклонялись в ней воде как таинственной силе жизни[207].
Обитатели этих полуподземных глинобитных мазанок занимались охотой на лосей, оленей, кабанов; кроме того, они, обработав землю орудиями, выделанными из камня или - гораздо чаще - из костей и рогов животных, засевали ее пшеницей, просом и ячменем; обугленные зерна всех этих злаков пережили людей в покинутых жилищах. Когда хлеб вызревал, его жали кремневыми серпами, зерна размалывали в каменных зернотерках и пекли из муки что- то вроде лепешек. Свою еду древние люди разнообразили молоком, медом, раковинами и мясом диких и домашних животных, изредка рыбой и птицеи. Кроме коров и овец, у них водились лошади. Из овечьей шерсти, а, возможно, из какого-нибудь волокнистого растения (лен, конопля) они при помощи прялки и ткацкого станка, от которых сохранились глиняные пряслица, грузила и костяной шлифованный челнок, делали себе одежду. Глиняная посуда разнообразных форм и разного качества служила им в их домашнем хозяйстве.
Дальнейшие раскопки открыли в том же краю еще более интересную культуру глиняных площадок. К югу от Киева, между ним и притоком Днепра - Росью, на солнечных холмах, поросших вековыми деревьями и омываемых то озером, то речкой или ручьем с гремучей ключевой водою, залегали площадки разной величины, крепко сложенные и гладко выровненные. Их стенки, ныне обрушившиеся, были сделаны из прутьев и кольев, промазанных глиною белого, желтого и красного цвета. Строения располагались по кругу, иногда в два ряда, середину же занимали сооружения большого размера, может быть, святилища, назначенные для совершения обрядов и приношения жертв. На площадках были найдены предметы обихода из камня и кости, медные топорики и сооружения, относящиеся, вероятно, к религиозному культу: каменный столб с чашей красного цвета, пирамидка из камней; обрядовое значение могли иметь и каменные шарики, и статуэтки, вылепленные из глины. На площадке у стенки стояли глиняные сосуды, нередко очень тонкой работы и очень изящно раскрашенные.
Археолог, открывший эту замечательную культуру в Приднепровье, признал площадки местом, где покоились кости умерших людей после обряда сожжения[208]. Но независимо от назначения древних построек, в их общем облике видна не только первобытная обыденность; в нем заметно мерцание религиозных чувств и верований. Самая местность, где лежат площадки, как будто нарочно избрана для созерцания природы. Круговой план построек дает схематический образ солнца или круга солнечного пути; столб с чашей на самой площадке, вероятно, служил жертвенником и напоминает алтарь огню - так, как его изображали в персидском искусстве.
^Керамика, украшавшая площадки, разнообразна по способу выделки (разный состав глины), по своим формам и по характеру орнамента (тиснение или раскраска) и проявляет нередко художественный вкус создавших ее мастеров. Некоторые сосуды украшены вылепленными головками домашних животных, другие - ленточными узорами, причем их окраска (белый, желтый, красный, коричневый цвета) созвучит цветовой игре огня и солнца. В некоторых особенностях орнамента и в символических знаках на стенках ваз можно найти указание на те силы природы, которые творят жизнь и необходимы как для живых людей, так и для людей, ушедших из жизни. Одной из этих священных сил природы почиталась вода, живая влага земли; часть сосудов, вероятно, наполнялась водой или медом, но волнистые линии орнамента (рис. 1) уже сами по себе служили действенным образом влаги. Знаки на стенках сосудов, чаще всего независимые от орнамента, могут быть поняты при помощи символики позднейших времен. Так, схема человека с опущенными руками (рис. 2) и елочка с повисшими ветками (рис. 3) были знаками угасающей жизни. Значение жизни воскресающей имели елочка с поднятыми ветками (рис. 4), а также и другие начертания, сходные с якорем (рис. 5) или цветком (рис. 6); кружок или кружок с точкой посередине (рис. 7) обозначал солнце; звездочка (рис. 8) указывала на солнечный год. Бороздчатые ленты, спирально вьющиеся вокруг сосуда, относятся, возможно, и к течению воды, и к солнечному пути; из них образовался много позднее плетеный орнамент (вязь), символ непрерывающейся жизни. Трудно определить значение глиняных статуэток, найденных на площадках, - были ли то почитаемые предки? или божества природы? Особенно часто встречается статуэтка, изображающая, по-видимому, женское божество, богиню земли; ее голова в стилизованном виде треугольника или сердца с тремя круглыми углублениями (рис. 9 и 10) служит часто лепным украшением ваз; эти знаки известны и в других странах как символы матери-земли, благоговейно чтимой земледельческими племенами[209].
Круговое расположение площадок, священные сосуды с символическими знаками на стенках, статуэтки и жертвенники - все это показывает, что древние обитатели Киевской области уже имели религиозные верования и совершали соответствующие им обряды культа; по легким признакам можно предположить, что они поклонялись огню (солнцу) и влаге, почитали предков и верили в загробную жизнь.
1. Волнообразный орнамент. 2. Человек с опущенными руками. 3. Елочка с опущенными ветками. 4. Елочка с поднятыми ветками. 5. Якорь. 6. Цветок. 7. Кружочки без точки и кружочки с точками. 8. Звездочка. 9. и 10. Символы "матери-земли".
Днепровская культура землянок и площадок по времени своего цветения относится к позднему каменному веку (неолиту); она известна в археологии под названием трипольской культуры полихромной (многоцветной) керамики. Для нас она существенна, между прочим, потому, что на ее основании возросла культура городищ и «полей погребальных урн», следы которой встречаются до половины первого тысячелетия новой эры. Творцами этой более поздней культуры признаны днепровские славяне, уже известные Геродоту в 450 году до P. X. под именем невров. Носители трипольской неолитической культуры были, как полагают, арийскими предками невров, людьми той же крови; трипольцы - праславяне, старожилы нашей земли[210].
Так археология нашла глубочайшие корни русской жизни в нашей же исконной славянской земле.
Землянка неолита представляет собою одно из начальных звеньев в материальной культуре поднепровского славянства; священная площадка с узорными вазами может дать указания на истоки его духовного пути.
Невры Геродота занимали область среднего Днепра в те времена, когда в степях между нижним Днепром и Доном кочевали иранцы - скифы или сколоты, как они сами себя называли[211]. Еще раньше, до скифского нашествия, за 2500 лет до Р. Хр., всею южной частью нашей равнины овладели кочевые киммерийцы, племена очень древней «протокавказской» расы; они потеснили праславян трипольской культуры из южной части Киевской области к северу и господствовали в нашей стране четырнадцать веков[212]. Но так как в эпоху Геродота и в южной части Киевского края жили не кочевники, а невры, строившие города и «поля погребальных урн», а еще дальше на юг к неврской земле примыкала земля оседлых «скифов-пахарей», то надо думать, что часть земледельческого праславянского населения все же оставалась на своих исконных местах и при кочевниках или же что потомки праславян вновь заняли дедовские пепелища и, сливаясь с оставшимися здесь киммерийцами и скифами, научили их земледелию.
Таким образом, среднеднепровский край с незапамятных времен и доныне принадлежит славянскому народу, который с удивительным постоянством берег раз принятые основы своей жизни, лишь медленно и постепенно их изменяя и обогащая новым содержанием.
Культуру городищ и погребальных урн можно признать продолжением трипольской культуры. Славяне скифской эпохи жили в таких же землянках, какие устраивали себе их предки. Как показали раскопки в Пастерском городище (Черкасский уезд Киевской губернии)[213], землянки располагались по кругу, огороженному рвом и высоким валом из земли, бревен, кольев и глины. В каждой землянке был круглый очаг или «русская печь»; в одной из землянок большего размера, чем другие, найден глиняный столб с чашей. Площадки на полях погребальных урн также имеют много сходства с площадками неолита.
Утварь, найденная у славян Геродотова времени, разнообразнее трипольской[214]. Кремневых предметов немного, они указывают лишь на верность обычаю старины. Костяные орудия также исчезают; но часто встречаются костяные гребешки, украшенные орнаментом, состоящим из кружочков (солнце) и волнистых линий (вода). Земледельческие орудия и оружие невров уже сделаны из железа, наконечники стрел - из железа или бронзы. Среди мелких украшений встречаются «фибулы», т. е. пряжки с головками зверей и птиц, стеклянные, коралловые, янтарные, бронзовые и серебряные вещицы. Глиняных изделий очень много; наряду со славянской керамикой найдены сосуды скифские и греческие.
Невры были таким же земледельческим народом, как и праславяне, их предки. Они сеяли пшеницу - ее колосья и зерна были найдены в их городищах, - растирали хлебные зерна в каменных зернотерках, разводили домашний скот и птицу, в том числе свиней и кур. Плугом - драгоценным наследием трипольской культуры - распахивали они свою землю. Согласно легенде, записанной Геродотом в 450 году до P. X., когда-то давно, за тысячу лет до похода персидского царя Дария против бродячих племен нашей равнины, на Скифскую землю упали с неба плуг, ярмо, секира и чаша - все из чистого золота215. Золотой плуг, как замечает Забелин, не мог иметь цены для кочевников черноморской степи, почему и возможно отнести это предание к тем пахарям Днепра и Роси, которые засевали свои поля пшеницей и, по словам Геродота, продавали ее греческим купцам. До сих пор миф о небесном солнечном золоте живет в памяти народной. «Ой, в поле, в чистом поле, там орет золотой плужок, а за тем плужком ходит сам Господь» - поет колядка Галицкой Руси[216]. В былине Микула Селянинович пашет сошкой, присошечек которой сделан из красного золота[217]. Плуг был всегда главной силой славянских племен. Он создавал нерушимую связь между пахарем и вспаханной им землею, он добывал для него земные просторы, отнимая их у девственных лесов и у бродячих народов, он покорял кочевников примером спокойного, полного достоинства и плодотворности труда. Особенно хорошими земледельцами были славяне балтийские, и «вендская борозда» служила образцом для оседлого населения Германии[218].
В V веке новой эры культура погребальных полей исчезает в нашей стране и на старой основе мало-помалу расцветает уже знакомая нам культура курганов. Ее создатели, восточные славяне - известные в VI веке под именем ан- тов - отделяются от массы славянства, расселяются по Русской равнине и распадаются на многие племена. Продолжая древнюю культурную традицию, эти племена создают местные культуры - богатые, не чуждые роскоши в больших торговых центрах, более скромные - в захолустьях.
Свободные земледельцы славянских племен еще в глубокой древности дали прочную опору для своей сельской жизни созданием общины[219]; в течение многих веков общинный строй оберегал мелких собственников; обычное право, возникшее в его пределах, долго не утрачивало своего жизненного значения. Но самой деятельной культурной силой в жизни славянской был город.
Города с постоянным населением возникали там, где был торг и промыслы, где собирались продавцы и покупатели, где скапливались товары, где, кроме того, являлась потребность защищать мирный труд от врагов. Военная опасность заставляла строить и небольшие городки-крепостцы; они укрывали людей только на время вражеских нашествий. Особенно много городов было в области Днепра. Построенные на холмах правого днепровского берега они царили над левобережными равнинами, где, впрочем, возникали и свои городки, и берегли славянскую землю, ее торговые пути и ее добро. Те холмы, на которых теперь раскинулся Киев, с незапамятных времен избраны человеком для поселения: там жили и люди раннего каменного века, и праславяне трипольской культуры, и славяне Геродотовых и последующих времен. К древним городам принадлежит и городище «Княжа Гора» у впадения реки Роси в Днепр. Четыреста городищ, больших и малых, открыты теперь в одной Киевской области, и мы можем наглядно представить себе, какое значение имел город в славянской жизни и как благодатен был Днепровский край для его процветания.
Развитие славянских городских общин уже само по себе принуждает исследователя признать, что на земле наших отдаленнейших предков возникали все новые и новые явления культурной жизни. В самом деле, город, ограждающий население от внешней опасности, становится местом религиозного культа и суда. Привлекая в свою ограду разноплеменных людей, он создает и новые формы общежития: в городском обществе родовые связи ослабевают и мало-помалу появляются иные различия, иные связи, намечаются зачатки сословий; правящий класс и высший его слой - княжеская дружина, т. е. бояре, гридь, отделяется от земледельцев, от неслужилых торговцев и промышленников. Князья должны были появиться у славян в древнейшие времена. Как возглавитель дружины, как ее вождь, как защитник мирного населения, князь был созданием города; многим городам Русской земли соответствовало и большое число князей, древность городов указывала и на древность княжеской власти. Геродот записал предание о том, как государь (paoiteng), или князь невров, вместе с государями четырех других народов отказал скифам в военной помощи против персидского царя Дария: это было в 508 году до P. X.[220] В VI веке новой эры, согласно несколько смутным известиям, на Карпатах главой военного союза славян был князь Маджак. С незапамятных времен, «изначала» - по слову летописца - управление городом получило форму вечевого строя, отражавшего древнюю мысль о народодержавии: вече было народной думой, в которой принимали участие все свободные и независимые горожане; эта дума могла призывать и изгонять князя, заключать с ним ряд, т. е. договор решать вопросы войны и мира; в иных случаях вече разбирало и судебные дела, находившиеся обычно в ведении князя, и высказывалось о задачах государственного устроения. Так, задолго до призвания рюриковой дружины поляне, т.е. вече Киева, утверждают дань хазарам; призывая варягов, народ, т. е. собравшееся вече, требует от князя суда и управления по установленному ранее обычному праву. Нормы, выработанные в вечевом строе, отражаются и в договорах с греками: русские посольства заключают мир не только от имени великого князя и других князей или бояр, но и от людей Русской земли[221].
Из древнейших летописных записей мы уже узнаем о существовании восточнославянских городских областей. Город был в то старое время религиозным, судебным и торгово-промысловым средоточием для селений, расположенных и вне его стен, для сельской волости, которая получала от него военную защиту. Чем больше процветала и богатела городская община, тем больше становилась ее военная сила, значение дружины росло, увеличивалось в глазах народа и достоинство князя. Угрозы со стороны внешних врагов поддерживали и укрепляли власть города над волостью, и власть эта захватывала нередко и другие более слабые города с подчиненными им волостями. Так как содержать военную силу должны были те, кого она оберегала, то власть ее выражалась, между прочим, в сборе дани, в «уставах и уроках»[222]. Походы князя и дружины за данью - полюдье - продолжали дело объединения городов и земель, и большой город мало-помалу становился средоточием многих волостей, главой целой области, включавшей даже разные племена.
То руководящее значение, которым обладали в IX веке Новгород и Киев, было делом многих предшествующих веков, плодом стародавней культуры. Ее ростки изначала прозябали в славянском народе как оседлом земледельце; город обеспечивал их развитие, медленное, согласное с ритмом живых движений в окружающей природе, с плавным течением широких полноводных рек и с долгим сном земли под снежным покровом.
Примечания:
206. Хвойко. Каменный век среднего Приднепровья (1901).
207. Срв. религиозное значение черепахи у африканских негров. Henri Nicod. La vie mysterieuse de l'Afrique noire. 85.... (1943). Черепаха почиталась «владыкою вод» и в верованиях индусов. Oldenburg. Die Religion des Veda. 68. 82 (1923).
208. Хвойко. Каменный век среднего Приднепровья. 68.
209. Срв.: Wirth Н. Aufgang der Menschheit. 202 (1928).
210. Башмаков. Cinquante siecles devolution ethnique autour de la mer Noire. 114 (1937).
211. Геродот. IV. 17.18.19.
212. Башмаков. Cinquante siecles devolution ethnique autour de la mer Noire. 114. Некоторые ученые предполагают, что киммерийцы - иранцы; так думает и Minns в большом труде «Scyphians and Greeks». 42. ... 115 (1913), не учитывая, однако, новейших исследований о древнем доарийском населении Черноморья.
213. Хвойко. Городища Среднего Поднепровья и их значение, древности и народность // Труды XII Археологического съезда. Т. I. - М., 1905.
214. Хвойко. Поля погребений в Среднем Приднепровьи (1901).
215. Геродот. IV. 5. 6. 7.
216. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. II. 295-296.
217. Рыбников. Песни. II. 317.
218. «Во многих местах средней и южной Германии славяне в свое время были учителями земледелия; там и поныне глубокие и узкие борозды называются «вендскими». Касторский М. Начертания славянской мифологии. 163 (1841), у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. II. 17 и примечание 12.
219. Ср.: Успенский. История Византийской империи. I. 28-36.
220. Геродот. IV. 102. 119.
221. По договору Олега в 907 году греки обязывались давать уклады (т. е. оклады, денежные выдачи) на те города, которые принимали участие в походе, а в составе посольства входят, кроме дружинников и гости, т. е. городское купечество.
222. «И иде Олга по древской земле с сыном своим и дружиной своею, уставляющие уставы и уроки». Летопись под 946 г.
Глава двенадцатая. Пути к иноземцам
Где бы ни прозябали молодые побеги культурной жизни, они нуждаются для своего роста в помощи более зрелых, более развитых культур.
Труд пахаря-зверолова и развитие городства сделали возможной и для наших славян иноземную торговлю. Местные торговые пути уже в глубокой древности вошли в систему больших караванных дорог, пролегавших по нашей равнине, и этими наезженными путями продвигалась к русско-славянскому народу культура Греции и азиатских стран, подготовившая его к усвоению культурных богатств Византии.
Главными путями торговли были реки - Днепр и Волга.
Из болот Смоленской области Днепр течет к далекому югу, орошая малорусский край, - колыбель нашей жизни. Притоки великой реки искони собирали к ней товары окрестных славянских земель; водным Днепровским путем торговые караваны шли к Черному, «Русскому» морю и дальше в Грецию или к ее колониям. Кроме того, у порогов начинался так называемый Соляной путь в Крым к соляным варницам и к греческому городу Херсонесу, а севернее Киева, Березина, приток Днепра, и Вилия, приток Немана, приближали Поднепровье к южным берегам Варяжского моря, где жили балтийские славяне[223].
Не очень далеко от истоков Днепра, у Валдайских гор, на болотистом плоскогорье, поросшем ольхой, березой и елью, есть колодезь с ключевой водой; из него струится ручеек и бежит дальше по глубокому оврагу. Ручеек этот - Волга. Наполняясь водой притоков и озер, он скоро становится большою рекою; она течет сначала к востоку, потом к югу, омывая срединную часть Русской равнины и соединяя ее западные и северные земли с восточной и южной окраиной[224].
Со времен каменного века Волга служила жителям ее берегов торговой дорогой. Богатства Приволжья получали таким образом доступ к Каспийскому морю и через него - к странам Востока: Кавказу, Ирану, Месопотамии (Багдад). Из Волжского края шли на Восток и сухопутные дороги. Одна из них очень древняя, начиналась в верховьях Камы, переваливала через Урал и по Сибири уходила к Алтаю, откуда можно было найти путь в Индию Существуют указания и на другие пути в Азию. Так, Страбон в I веке по Р Хр сообщает, что аорсы, живущие вдоль Танаида (Дона), владеют почти всем каспийским берегом и ведут караванную торговлю через Армению и Мидию с Индией и Багдадом[225]. Из Болгарского царства, то есть от устья Камы, уже в VII ведет идет путь через башкирские степи к Аральскому морю в Хорезм (Хива)[226], предполагаемую родину иранского пророка Заратустры.
Обе системы путей, Днепровская и Волжская, не были отделены одна от другой. Издревле Запад тяготел к Востоку, а Восток к Западу. За 450 лет до P. X. Геродот уже мог сообщить о караванном пути из Ольвии, т. е. от Днепра к Волге (близ устья Камы) и дальше по Каме к Уралу[227]; продолжением этого пути была сибирская дорога. Из Киевской области торговое движение шло вдоль притоков Днепра к Донцу и Дону, откуда уже недалеко было до Волги На севере, также ранее IX века, к сибирскому пути примыкал путь от Балтийского моря, подходивший с запада к верхней Волге и оттуда к Уралу через Пермский край[228].
Как видно из направлений всех этих торговых дорог, наша равнина в древние времена была звеном, соединявшим Европу с азиатскими странами Несмотря на суровую природу, бескрайность степей, на болота и лесные трущобы, несмотря на преграды, которые ставили друг другу или иноземцам враждующие племена, наш край издревле был местом встречи разных культурных миров и разноплеменных людей. И товары, и люди вели за собою из чужеземных стран и новые понятия, и новые художественные образы, обогащая туземные народы и новой мыслью, и новой красотой.
В течение шести-семи столетий до P. X. и в первые века новой эры средоточием торговли на юге нашей страны были греческие колонии-города черноморского побережья. Часть этих городов объединилась в Босфорском царстве основанном у Керченского пролива и впоследствии присоединившем Феодосию в Крыму и земли синдов (индусов) на Кубани[229]. В Босфоре черноморская торговля достигла большого процветания. Греки получали от варваров хлеб, скот, рыбу, строевой лес, меха, мед, воск, уральское и алтайское золото, драгоценные камни. Северным племенам были нужны вино, оливковое масло, южные фрукты и овощи, дорогие ткани и создания искусства.
Художественные изделия из металлов, сбереженные землею до нашего времени, могут осветить те культурные движения, которые происходили в глубокой древности на юге нашей страны.
Из Греции, из Персии, из предгорий северного Кавказа, из степей западной Сибири, из долин и оазисов Средней Азии, из Индии, даже из Китая стекались в южную Россию предметы роскоши и обихода, созданные взаимодействием цивилизованных и полуцивилизованных народов. Торговые караваны и бродячие племена (готы, гунны) передавали восточную культуру в Западную Европу. Племена нашей равнины, усваивая иноземное мастерство, содействовали его развитию: изделия Востока служили образцом для местных мастерских[230].
Земля в южной и восточной части европейской России полна художественными древностями того времени. Их находят у Черного моря, в Екатеринославской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областях, в Приволжском краю[231]. Среди этих древностей встречаются золотые изделия, подобные дорогим украшениям Урало-Алтайской страны: пластинки для поясов и конских уборов, фибулы с изображениями зверей и птиц, существующих и фантастических (грифоны, сфинксы), украшенные драгоценными камнями; часто в орнаменты золотых изделий вплетаются образы хищников: льва, пантеры, орла, терзающих кроткого оленя, коня или лебедя. Правдивые впечатления от звериного царства получили в этих работах оригинальное художественное оформление, известное под именем «звериного стиля». Верным хранилищем древнего художества оказалась земля Прикамья: она сберегла серебряные блюда и другие сокровища сасанидской Персии; а в курганах южной России были открыты металлические изделия с инкрустацией из гранат или цветных стекол, филигранные украшения, афинские вазы с черным или красным рисунком; там же найдены и местные изделия, характерные для Скифии; в них греческие и азиатские мотивы соединены в одно художественное целое.
Орнаменты всей этой утвари, извлеченной из земли, не были только игрой фантазии их создателей, в них запечатлелись идеи и образы древней языческой веры. Звери и птицы всегда занимали видное место в религиозных воззрениях прошлого или как носители света, или как враждебные ему темные силы, а растительный орнамент: виноградная лоза, вырастающая из колодца, украшая утварь, - служила символом божественной жизни, образом рая, цветущего у мирового дерева над живоносной водой; эта вода дарует бессмертие священным птицам или зверям, пришедшим к колодцу. Изображения алтарей огню на художественных изделиях указывает на огнепоклонение, одну из основ религиозного культа на Востоке.
Идеи и образы восточного художества были близки славянским племенам нашей равнины: подобные же по своему значению символы встречаются в Киевской земле даже в неолитическую эпоху. Тогда же возникли, вероятно, сношения Поднепровья с Востоком, на что указывают как будто кости верблюда, отрытые недалеко от Трнполья, и медные топорики, встретившиеся среди обиходной утвари, принадлежавшей насельникам днепровских берегов. Невры уже отправляли дары своей земли в Ольвию, греческий город на Днепро-Бугском лимане, и получали оттуда иноземные товары, между прочим, афинские расписные вазы - украшение бедной обстановки их жилищ[232]. Среди утвари, найденной в долине Роси, есть художественные изделия античной эпохи - амфоры, кувшинчики с красным рисунком на черном фоне, есть и золотая бляшка с изображением птицы, поймавшей рыбу, указывающая также на сношения Киевского края с греческой колонией близ устьев Днепра[233].
Продвигаясь в края, орошаемые верхним Днепром и Западной Двиной, славяне перенесли на Север образцы восточного искусства. В III—IV веках по Р. Хр. в Полоцкой земле уже существуют славянские мастерские, где изготовляются по восточным образцам конские уборы (удила, конские оглавли и пр.); золото в этих изделиях заменено бронзой, для инкрустации вместо камней и стекол приспособлена цветная (гл. обр. красная и синяя) эмаль, изображений зверей нет, на их месте - геометрический орнамент. Большое количество предметов этого стиля обнаружено в Виленской области (курган в Межанах, находки у города Вильно) и в Калужской (Мощинский клад); встречаются они и в других местностях России[234] и говорят о том, что у древних ее обитателей уже было понимание линеальной красоты и любовь к простому, тонкому, изящному рисунку.
Бытовое искусство широко разлилось по нашей земле; звериные образы сибирского и скифского художества сплетались с геометрическим орнаментом и в резьбе по дереву и в рисунках тканей. Те же узоры перешли со временем и в другие изделия художественного ремесла. Старинное кружево воспроизводит древо жизни с двумя драконами или павлинами, или петухами перед ним, символы огня и воды: волнообразные и зигзагообразные линии, вязь, «колеса» (солнце) и т. д. входят в состав геометрических узоров[235]. Доныне наши кустари не расстаются с этими видениями прошлого; чувствуя поддонной глубиной души их священность, они воспроизводят их в своих изделиях, которые служат нередко для украшения храма или красного угла в деревенской избе.
Археологи обратили внимание на развитой и тонкий художественный вкус у славян той эпохи, когда складывалось Русское государство. Русские славянки носили филигранные, воздушно-легкие украшения из серебра; изящество этих предметов роскоши должно было особенно оттеняться грубоватыми и тяжелыми драгоценностями из бронзы и золота, излюбленными у племен, обитавших к востоку и западу от Русской земли[236]. Такое утонченное понимание художественной красоты может быть объяснено врожденным вкусом, свойственным славянам от древности, и обилием впечатлений от греко-восточного искусства, явившегося к нам издалека по древним торговым дорогам.
Предки наши с радостью встречали чужеземных гостей; от историка Прокопия мы знаем о заботливом отношении к ним со стороны славян. Местный торг оживлялся прибытием иноземцев с их диковинными товарами, а рассказы заморских купцов о далеких волшебных краях будили в туземном населении охоту странствовать, всегда дремлющую в душе русского славянина, охоту познавать неведомое и чужое.
И любовь к странничеству, и мечтательная тяга к незнаемой земле должны были проявиться с особенной силой в передвижениях наших предков, приведших к колонизации и полному освоению Русской равнины.
Чем многочисленнее становятся славянские племена, тем отчетливее обнаруживается это движение. Земля, обильная всяким сырьем, искала сбыта для своих товаров за морем. Ее жизненной задачей, по словам Забелина, всегда было открывать или освобождать торговые пути к морю и приближать к нему места своих промыслов. «Идти в пути на нашем севере и означало идти на промыслы, путем назывался и военный поход»[237]. Понятно поэтому, что та сеть сухих и речных путей, которые издревле были проложены по Русской равнине, стала опорой не только для торговой и промышленной деятельности наших предков, но и для их колонизаторской энергии. Вооруженный торговец первый изведывал незнаемый путь; промышленник шел туда, где уже не раз бывал торговец, и откуда он мог отправлять свой товар еще дальше, к еще более широким путям. Пахарь шел туда, где он надеялся получить защиту в укрепленном городе, основанном торговцем и промышленником. Колонизация направлялась главным образом от одной великой реки - Днепра - к другой, величайшей - Волге. Когда в IX веке большие массы наших славян, продвигаясь от пути, ведущего в Черное море, к пути в море Каспийское, достигли берегов Волги в верхнем ее течении или подошли к ним близко в области Дона, ладьи русских торговцев, конечно, уже давно плавали по ее водам, направляясь к соблазнам южных стран[238].
Ход колонизации до VI века новой эры мало известен, но началом ее, возможно, было передвижение невров на север к будинам[239]. Следы славянских поселений I-V веков, найденные за пределами Киевской области в восточной части Полтавской губернии (могильник Браварка)[240], намечают дальнейшее движение славян на восток. В VI веке восточные славяне, анты, живут уже гораздо южнее Киева и селения их доходят до Дуная. Кроме того, они занимают земли над Меотидой (Азовским морем) в области Донца и Дона и свои исконные владения: Поднепровье, Волынь, Подолию. «Бесчисленные народы антов» делают набеги на Византийское царство. С VII века движение восточных славян развивается главным образом на северо-восток. В IX веке они сидят у Ильмень-озера и в Ростовском краю, в Суздальской и Рязанской земле, в Донецко-Донской области.
Не безлюдны были те равнины, по которым продвигались славянские племена. На севере они встретили финнов, на юге жили киммерийцы, скифы и другие народы. Финны слабо сопротивлялись новым пришельцам, славяне не подчиняли их себе так, как подчиняют завоеватели население покоренных ими земель; они селились среди них в своих городках и в более или менее мирном взаимодействии с чужеродцами получали руководящее положение. Так бывало и в недавние времена, например, при колонизации Сибири: «...с чужеродцами предписывалось обращаться с большою ласкою, велено было примолвливать и обнадеживать их всячески, что будут с ними жить дружно»[241]. «Больше всего промышленник и меньше всего завоеватель, - пишет Забелин, - русский человек... употреблял все меры, чтобы жить с покоренными в ладу, в покое и тишине»[242]. Страстная энергия в осуществлении далекой цели соединялась у древних славян с практическим смыслом и терпимостью при устроении чужеродных племен. Подобно тому, как в рассказе о споре между солнцем и ветром, солнце согрело путника и тем заставило его бросить свой плащ, тогда как холодный вихрь не мог вырвать его из его окоченевших рук, подобно этому ласковое, родственное обращение русского славянства с соседними народами было особенностью и силой его колонизаторского движения. Превосходство культуры и дарований поддерживало силу добра в этом мирном создавании русской империи. Ее военная сила выступала во имя ее интересов большею частью лишь тогда, когда недобрые соседи оспаривали у нее ее мирные завоевания.
Юг нашей страны был долго во власти «кавказских» племен - киммерийцев, черкесов, а также племен иранских, родственных славянам по расовым признакам (арийство) и близких по культуре. После скифов в степях между Днепром и Доном жили народы, объединяемые названием сарматов, между прочим, россаланы и аланы. Значение иранского соседства для славян было оценено лишь в последнее время. Даже в том случае, если скифы и сарматы в главной массе вели жизнь кочевую, это вовсе не исключало взаимодействия между Поднепровьем и степью, не говоря уже о том, что все полубродячие народы служили как бы мостом, соединявшим наших славян с Сибирью и с Ираном, источниками богатой культуры.
Греки называли скифами не только кочевников черноморских степей, но и оседлые племена правого Поднепровья, которые мало-помалу сливались с племенами славянскими. Лев Диакон, историк X века, предполагает преемственность между скифами и русью: рассказывая о погребальных обычаях у воинов Святослава, он допускает, что русы могли научиться греческим таинствам у своих философов Анахарсиса и Замолксиса. Оба эти мудреца были скифского происхождения. Об Анахарсисе Геродот говорит, что он много странствовал и приобрел много знаний; вернувшись на родину, он был убит скифским царем за то, что совершал обряды в честь матери богов - чуждой скифской вере[243]. Замолксис, родом фракиец, учил у гетов бессмертию души[244].
Иранские племена алан жили оседло в северной области степной полосы, на Донце, в Харьковской и Курской областях, на что указывает могильник у Верхнего Салтова, относимый к VI-IX векам нашей эры. Связь славян с иранским миром поддерживалась сначала торговлей и соседством; путь от Днепра по его притокам к Дону и Волге проходит как раз мимо Верхнего Салтова. По мере развития колонизации часть славян оказалась в самом центре аланских поселений, следовательно, аланской культуры[245]. Само собой разумеется, что овладение землями в непосредственной близости к Салтову давало славянам возможность широко пользоваться аланскими торговыми связями с Северным Кавказом, где жили одноплеменники алан - осетины, и через него с Грузией, Персией и арабским Востоком...
Ни вражеские набеги, ни встречи с чуждыми народами на новых путях не могли остановить роста и движения молодых и сильных славянских племен. При Геродоте они занимали сравнительно небольшую часть нашей равнины и были мало известны культурному югу, потому что жизнь их как бы таилась за шумной жизнью других народов. Но через 1000 лет восточная ветвь славянского племени уже владела огромными земельными просторами, а другие народы, соседи нашего славянства, или тихо отступали перед ним, или так же тихо вливались в него, подчиняя свои судьбы его единой судьбе. «Русь - это словно «иной мир», - сказал про наш народ в XII веке непосредственный наблюдатель его, Матвей Краковский, - народ русский бесчисленным множеством своим равняется одним лишь звездам»[246].
Создание этого «иного мира» не было произволением наших предков. Осваивая великую равнину, они выполняли задание жизни, веление своей земли. Населенная разными народностями наша равнина едина по своему природному устройству, по взаимной связанности и взаимной зависимости отдельных областей своих. Поэтому и требует она, чтобы один народ владел ею. Обилие даров земли, ищущих сбыта, скованность торгового движения удаленностью морских просторов - все это заставило наших предков искать выходов к морю. Море стало мечтою народа, а эта мечта стала царственной властью его судьбы. «Ильменский славянин постоянно думает о морях, знает дорогу и в Черное море, думает и о Царьграде, и о Хозарской стране»[247]. Реки наши, растекаясь из срединных высот по всем направлениям к раздолью морей, указывали народу способы осуществления его мечты. Если та или другая преграда заграждала эти пути жизни, народ устранял ее: платил дань обладателям морских берегов (хазарам), прогонял кочевников, одолевал чужие племена. Если иноземные народы враждебно принимали славянских гостей, равнинные князья мстили обидчикам и добивались лучших условий общения.
Так было в долгие времена до IX века, так было в долгие времена, следовавшие за ним.
Торговые пути, по которым ходила русь нашей начальной летописи, - это те же древние дороги, часть той сети дорог, которая была проложена в доисторическую пору жизни страны. Смешно говорить, что их открыли норманны; с незапамятных времен они были известны племенам, населявшим страну, по которой они проходили; их знали и днепровские, и новгородские славяне и венды Варяжского моря. Ездить по этим дорогам, плавать по этим рекам научило их богатство земли, искавшее сбыта, и далекая красота, пробуждавшая в них страсть и удаль, нужные для преодоления опасностей пути. Русам, «племени из славян», нет необходимости превращаться в шведов для того, чтобы получить от историка право возить свои товары по Днепру в Византию, по Волге в Итиль и на верблюдах в сказочный Багдад. Походы руси исходили из органического ее роста, их целью была свобода плаванья по морям. Влекомые морем русы нападают на Византию, на каспийские берега; они ведут борьбу со шведами, с Ливонским орденом, овладевают устьем Невы и возвращают себе отнятые у них немцами берега Варяжского моря; позднее Крым и Кавказ становятся частью русского царства.
Силы земли не теряют свою власть над русской душой. И теперь, когда даны человеку новые, небывалые пути по земле и над землею, по-прежнему речные волны, бегущие к морям, увлекают за собою достояние и мечту народа. Еще не так давно на большом днепровском пороге простой плот с десятком людей на руле бился среди камней, будто гонимый той же древней силой. Русская душа ныне, как и встарь, летит, обгоняя волны, к синеве своего южного моря, роднится с великим градом на Босфоре и, властью древних снов, видит сияние креста над куполом Святой Софии.
Пути жизни не определяются произволом. Историк, собирающий воспоминания народа и осмысливающий его прошлую жизнь, не поймет ее одной рассудочной обработкой случайных известий и бледных отображений ее былого цветения; и он должен внять голосу земли, познать те могучие, всегда живые силы, которые направляют деяния народа и неустранимы в деле устроения его судьбы.
Так силы Русской земли задолго до IX века указали русским славянам на блага культуры. Вызвав к жизни земледелие, ремесла, торговлю и множество городов с их своеобразным устройством, они помогли нашему народу открыть сокровища Греции и азиатских стран - близких и далеких - и повели его по путям мирного освоения Русской равнины.
Эти факты делают очевидным, что жизнь славянских племен еще до IX века была подготовлена для органического создания государства. IX век сделал это государство необходимым, потому что только крепкая политическая организация могла разрешить жизненные задачи славяно-русского народа, усложнившиеся от того, что широка стала его земля и умножилось ее население. К тому же многие опасности ставили преграду народному самостоянию. На севере из-за моря славянам угрожали норманны, на юге хазары стесняли их торговое движение к южным морям. Соперничество и раздоры племен мешали успешной борьбе с давними врагами и с нашествием степняков. Все эти трудности привели к тому, что организованное единство киевских и новгородских славян стало неотложным и настойчивым зовом времени.
Нередко бывает, что племена, еще разрозненные, объединяются в одном государстве властью завоевателя. Но бывает и так, что в пределах самой страны, не оформленной политически, созревают новые творческие двигатели, ускоряющие развитие государственных начал. Таким внутренним двигателем политического развития было у наших славян сознание своей силы, способной овладеть задачами новой эпохи, способной побеждать врагов и добывать блага высокой культуры. Вновь осознанная народная сила получила внешнее выражение в воинственных подвигах племени русь и в доблести князей, достойных вождей славяно-русского народа. Светом этой древней славы предание озарило образ Олега, вещего мудреца, объединителя разнородных племен, доходившего во главе отважных дружин до ворот Царырада. Торговые договоры Русской земли с греками были уже несомненным историческим памятником Олегова времени.
Летопись начинает историю Русской земли не днями трусливой покорности и унижения, как это полагает норманская теория, но днями деятельной мощи и славных побед.
Примечания:
223. Спицын. Археология в темах начальной русской истории. Сборник статей, посвященный Платонову (1922); Готье. Железный век в Восточной Европе. 234-235.
224. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, государственном, племенном и бытовом значении. Под редакцией П.П.Семенова. VI, ч. II. 1.... (1898).
225. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 511.
226. Готье. Железный век в Восточной Европе. 173.
227. Геродот. IV. 21.108. 121.
228. Strzygowski. Altslavische Kunst. 261 и др.
229. Башмаков. La Syntese des Periples Pontiques. 48-50 (1948).
230. Толстой И.И. и Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства.
231. В Чертомлыке, Екатеринославской губернии, была найдена серебряная амфора с изображением сцен из жизни скифов: ловля и обуздание коня; в Смеле, Киевской губернии, нашли большие бляшки с изображением северного оленя; в Ромнах, Полтавской губернии, открыт золотой олень с грифонами на рогах; в Черниговской губернии найдена цепь с гранатами и т.д. Толстой и Кондаков. Antlquites de la Russie Meridionale (Русские древности) (1891)
232. Хвойко. Городища Среднего Поднепровья // Труды XII Археологического съезда. I.
233. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 266.
234. Толстой и Кондаков. Antlquites de la Russie Meridionale (Русские древности) 543; Готье. Железный век в Восточной Европе. 118. 188....
235. См.: Давыдова С. La dentelle russe. Табл.1, II, III, XIX, XX, XXI, XXV, XXXIII, XLV, LXV, LIX, LVI и др. (1895).
236. Niederle. Manuel de l'Antiquite Slave. II. La civilization (1926).
237vЗабелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 620....
238. Торговля Руси с Востоком велась уже в V веке; VII век был временем ее процветания. Савельев. Мухаммеданская нумизматика. XLV у Гедеонова. Варяги и Русь. 507.
239. Геродот. IV. 105.
240. Готье. Железный век в Восточной Европе. 103....
241. У Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 626.
242. Там же. 630.
243. Геродот. IV. 46. 76.
244. Там же. 94. Геты - племя, в составе которого были и славяне - жили у нижнего Дуная; Успенский Ф. История Византийской империи. Т. I. Ч. II. 464.
245. Готье. Железный век в Восточной Европе, с. 69. 208.
246. У Ламанского. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. 128.
247. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. II. 68-69.
Глава тринадцатая. Духовные силы русской древности
Высота культурного уровня того или другого народа измеряется не столько его численностью и количеством освоенной им земли, не столько его промыслами и торговой предприимчивостью и даже не столько его политическим и гражданским строем, сколько духовным содержанием его жизни. Духовные силы дают крепкую основу для народного делания, указывают ему высшие цели и укрепляют сознание народной мощи, твердой в преодолении всех мраков и бед, обременяющих пути жизни, и необходимой в деле ее разумного устроения. Поэтому, для того чтобы увидеть и оценить в полной мере неправду предпосылки норманского учения, утверждающей «дикость» доваряжских славян, надо познать их духовный мир как первоисточник их культурного развития.
Духовная жизнь славян Русской равнины - как и всякая духовная жизнь - питалась опытом веры.
Назначение народа не состоит только в том, чтобы хорошо и плодотворно совершать свое земное дело. В самом устроении этого дела, в самом способе, каким великий народ решает свои жизненные задачи, он исполняет (или же разрушает) иные заветы, из иного мира упадающие в его сознание. Культура страны слагается взаимодействием в душе народной голосов земли и откровений неба.
Попробуем же узнать, как воспринимали наши славяне доваряжской эпохи неземные глаголы, как отражалась в их сознании великая тайна жизни, ее направляющая, тайна Бога.
С трудом добывается такое знание. Религиозный опыт, рожденный в глубоких колодцах души, нелегко познается в ее проявлениях, но легко прячется за завесой бегущих времен. Как узнаем мы чувства далеких от нас предков, когда плохо понимаем свои собственные? Как постигнем мы религиозный опыт давно минувшей эпохи, когда о нем лишь невнятно говорят показания чуждых ему людей, намеки языка и бледные отражения древнего культа в быту народа, в его речениях и сказаниях?
Не надо забывать и того, что не чувства и мысли людей толпы, но лишь чувства и мысли избранных могли бы открыть истинный смысл современных им религиозных воззрений. Народной верой руководят немногие водители; за ними, по мере сил, следуют более слабые души, подражая им и умудряясь, но не достигая ни ясности их видения, ни очевидности их разумения. Не те, которые идут по проторенной дороге, дают духовное мерило народной веры, но те, которые пролагают пути. О древней религии индусов мы вправе судить по религиозной поэзии Вед, об иранской вере - по гимнам Авесты. Где же те пророки, те поэты, которые могли бы раскрыть перед нами подлинную суть нашей языческой веры? Мы не знаем их... И не потому ли верования наших предков так долго казались нам лишь наивным заблуждением дикарей? Имена языческих богов ничего не говорили нашему сердцу, наша мысль равнодушно блуждала среди обрывков народных суеверий, мимоходом рассказанных летописцем, и осуждала их, как ненужный сор, замутивший когда-то чистоту христианского вероучения. Между тем если исследовать древнерусские верования с сочувствующим вниманием, если воспользоваться новыми способами их научного познания и сопоставить их с воззрениями других народов, то в них откроется и глубокое чувство и работа пытливого ума.
Первое знание о живых силах языческой веры дают нам те свойства религиозного опыта, которые не зависят от своеобразия переживающего его народа. Так, в самом существе каждого акта веры дана очевидность Божия бытия, очевидность высшей и совершенной жизни, таинственно воздействующей на нашу земную жизнь. Это откровение, делающее человека человеком, может быть первоначально растворено в чувстве безотчетном, не постигаемом мыслью; лишь долгим созерцанием и размышлением выращивали народы из этого глубокого опыта души более или менее отчетливые представления о сущности божественного начала и об отношении его к созданным им мирам.
В общении с Божеством душа человека необходимо должна была узреть его единство: так единственно, необычайно, так отлично от многих, бесконечно разнообразных земных чувств, так всеобъемлюще победно и так неисчерпаемо переживалось откровение Тайны. Много в жизни таинственного, но Божественная Тайна одна. И так чудесно, так благостно чувство этой Тайны, что душа не может не увидеть в ней благую силу, благого Бога.
Самые первобытные народы молятся единому доброму Богу - факт, часто изумлявший христианских миссионеров и исследователей жизни дикарей[248].
Правда, восприятие божьего единства не мешало язычникам поклоняться многим богам. Но это умножение числа богов было как бы раздроблением единой божественной силы. Исконное чувство единой Тайны помогало узнавать божественное начало в отдельных явлениях природы и тут же объединяло многих природных богов верою в единого высокого Бога, их отца-создателя и владыку над всеми ними.
В незапамятные времена славяне могли получить такие верования от своих предков - праарийцев. Явились ли племена этого древнего народа из Азии, как думали раньше, или они искони сидели в Европе, как думают многие теперь[249], или же то были люди арктических стран, гонимые оледенением своей родины и вливавшиеся в туземные племена Европы[250], - важно то, что у них уже был религиозный опыт, который они и передавали своим потомкам: славянским и другим племенам.
На основании сравнительного изучения арийских языков можно уже сделать вывод, что мысль этих древних людей вырастила из первоначального религиозного чувства идею божьего единства и божьей благости и дала своему богу имя «Дьеус» (Djeus). Это был бог света, сияющий за пределами видимых небес, отец богов и людей, податель жизни, чистый святой источник благих даров - огня и влаги, блюститель права и порядка на земле[251].
Идея высшего благого божества перешла из арийского прошлого и к славянам. «Они признают одного бога, создателя молнии, единым господом всего», - пишет в VI веке нашей эры византийский писатель Прокопий[252]. Он не говорит об имени этого высшего божества, но мы знаем, что славяне не называли верховного бога, как их предки, Дьеус (Djeus). В нашей древней летописи можно встретить два имени для повелителя вселенной - Бог и Перун[253]. Это второе божество замещает иногда - в тексте летописи - творца мира; и слово «бог», прилагаясь к его имени, получает смысл «божественного вообще». Так, летописец в рассказе о первом договоре Олега с греками (907 г.) говорит: «и кляшася оружием своим и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьим богом и утвердиша мир». Но договор Игоря (945 г.) сначала упоминает имя Бога и только потом имя Перуна: «а елико их некрещены суть, да не имуть помощи от Бога, ни от Перуна»; бог грозы является здесь как особое божество, занимающее второе место после главного бога. В договоре Святослава (971 г.) клятва утверждается и на имени Бога, и на имени Перуна.
Имя «Бог» заменило у наших славян имя Дьеус[254]. Никто не знает, как и когда произошла эта замена. В религиозных памятниках Востока встречается слово Bhaga, как имя одного из братьев высшего бога индусов - Варуны; Bhaga означает «благостно одаряющий», это - божество, в котором особенно ярко проявилась одна из духовных сторон божественной природы - доброта, в ее неисчерпаемой щедрости излучающаяся на природу и людей и благословляющая их несчетными дарами[255]. Но в религи юм опыте славян эта безграничная благость, это неисчерпаемое богатство доброты, изливаемое на убогих, - а кто же не убог перед сиянием божественного света? - было испытано как сущность высшего божества, единого повелителя жизни.
Идея благости как высшего начала жизни стала для нашего славянства первоосновой его духовной самобытности и его культуры. В этом простом слове «Бог» и в этом простом чувстве добра, сосредоточившем в себе высшее духовное содержание жизни, следует искать начало основных идей, властно направляющих историю русского народа.
Верховный бог наших предков, постигаемый в благости своей внутренним опытом души, не имеет видимого образа: вокруг его имени воображение славянина не создавало никаких мифов. В его идее сосредоточивалась та несказанность и неисчерпаемость религиозного переживания, то духовное его богатство, которое мы испытываем, как жизнь, отличную от обычной видимой жизни, являющуюся как бы вне ее земного русла. В его идее было заложено начало того одухотворения земного опыта души, без которого невозможна высшая культура. Народная вера славян до конца язычества берегла чистоту и величие этой древней идеи. Не совсем так было у других арийцев. В Индии великого Варуну вытеснил войнолюбивый, героический Индра[256]. В Персии материализацию богов остановил лишь религиозный гений Заратустры. Величественный образ греческого Зевса исказили мало-помалу слишком человеческие черты и слишком человеческие похождения. Старые боги германцев - ваны были забыты, и новые божества - асы с Воданом-Одином во главе, более похожие на вождей и воинов, чем на богов, - замутили религиозную жизнь народа дымным вихрем своих приключений. Между тем о вере западных славян, поселившихся на южных берегах Варяжского моря, германский летописец XII века Гельмольд сообщает: «Между многообразными божествами, которым присвоены поля, леса, печали и радости, они признают одного бога, в небесах, повелевающего прочими богами, и верят, что он, всемогущий, заботится только о небесном, другие же божества, которым розданы разные должности, подчинены ему, произошли от его крови и тем знатнее, чем ближе родством к этому боту богов»[257].
Верховный бог пребывал на небе, вдали от земли, и эта особенность славянской веры поддерживала грань между небом и землей, между духовным светом и земными огнями. Эта вера должна была дать опору для развития в душе славянина того опыта отрешенности, который охранял образы богов от свойств слишком человеческих, от чувств и дел земного дня. Способность русского народа к восприятию отрешенной святости получила полное развитие в позднейшие, христианские времена. Русская душа созерцала своих святых, освобожденными от чувств и страстей человека, и лики наших икон полны тишиной и покоем, навеянными близостью невидимого мира. Так было и у рядовых иконописцев, и у гениальных мастеров. В нежной одухотворенности ангелов Рублева[258], в детской радостности Дионисиевой Марии[259], в строгих ликах архангелов, наблюдающих за входящими в храм и выходящими из него[260], сияют лучи того света, который пребывает на небе и далек от земли.
Созерцание благостной природы божества вырастило и укрепило в душе славянства совестное различие между добром и злом, и нравственное сознание никогда не тускнело в его истории. Но, сознавая темное, злое начало жизни, наши предки не склонны были наделять его большой силой. Они не знали злого божества, как это было у персов, у которых бог зла Ангромайнью или Ариман был почти так же могуч, как благой Агура-Мазда. Для наших предков зло являлось или как ущербленность той или другой силы жизни[261], - народ называет преступников несчастными, т. е. лишенными «части», доли божественного добра - или же как ложное ее применение. Поэтому оно не имело внутренне единой сущности и пребывало рассеянным во множестве жизненных зол, воплощалось во множестве демонов или чудовищ, затмевавших иногда сияние богов. В «Слове о полку Игореве» «черный Див кличет верху древа», враждуя со светлыми князьями, Дажьбожьими внуками; в сказках светлый царевич победно борется со страшным змием; в былине Илья Муромец одолевает Соловья-Разбойника... У западных славян злые демоны, дэвы, живут на диких утесах; властью доброго бога, обитавшего на священной горе, отделенной от утеса бурным потоком или морским заливом, злой демон низвергался в бездну, почему и скалистое жилище его называется «Дэвин скок»[262].
Признавая эти отдельные столкновения добра со злом и победы добра над злою силой, душа древнего славянина, в глубине своей, не хотела обострять борьбу между противостоящими друг другу началами жизни. В германской летописи можно найти указание на идейную постановку проблемы зла у славян Варяжского моря. «В Щетине идол Триглава имел на глазах и на ушах золотые повязки и, по толкованию жрецов, эти повязки именно означали, что их верховный бог не хочет видеть грехов людских, что он молчит о них и как бы о них не ведает»[263]. На основную проблему зла, на вопрос, как примирить всемогущество доброго божества с существованием зла в мире, жрецы щетинского Триглава отвечали: бог знает, что зло есть, но пренебрегает его существованием, божье дело деется так, как будто бы зла не было вовсе.
Нетрудно видеть в основе такого решения проблемы зла идею божьей благости и божьей отрешенности от земной греховной жизни; свойства эти были перенесены с верховного божества и на других богов, подчиненных главному богу, и в том числе на Триглава Щетинского. Насколько глубоко заложен был в душе наших предков этот религиозно-нравственный опыт, показывает отношение русского народа к явлениям зла в мире. Свидетельство германского летописца относится к XII веку, а в XIX веке русский писатель замечает: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. Не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие того ясного здравого смысла, которое прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его устранения»[264].
Благость верховного бога, невидимо сущего в высоте занебесной, давала опору мирной и доброй жизни на Русской земле. Бог есть благо, и в силу этого наши предки видели в нем живой источник права и правопорядка; его именем они освящали клятвенные обязательства, обеспечивая тем их нерушимость. На таком понимании божества основаны договоры руси с греками. В договоре 945 года клятва дается в следующих выражениях: «Великий князь Игорь и князья и бояре его и людие вси русьтии послаша к Роману, Константину и Стефану, к великим царем греческим сотворити мир и любовь с самыми царями и со всем боярством, со всеми людьми греческими на вся лета, дондеже сияет солнце и весь мир стоит. Иже помышляют от страны Русьския разрушити такую лобовь, елико их крещение прияли суть, да приимут месть от Бога Вседержителя, осуждение на погибель в сий век и в будущий и елико их некрещены суть да не имут помощи от Бога, ни от Перуна»[265].
Как источник права, как начало, его освещающее, божественная доброта, очевидно, выше этого права. Поэтому, если человеку не подобает нарушить клятву, Богом освященную, или закон, им установленный, то погасить их возможно самому Богу. Нарушить закон может только сила неисчерпаемой благости, загорающаяся в сердце человека от искры божьей, падающей в нее. «Надо иметь мертвое, почившее на законе, сердце, - читаем мы у Лескова, - чтобы не оценить благодати, движущей сердцами живыми, которые ласково усыпляют закон вместо того, чтобы самим азартно уснуть на нем»[266]. Отсюда «тот дух простоты и практического добролюбия, который присущ русскому человеку на всех ступенях его развития и деятельности»[267]. Отсюда образ русского богатыря: Илья Муромец, свыше вдохновенный, разрушает «заветы великие» (не применять насилия) из сострадания к людям, насилуемым врагом[268]. Так идея Божьей доброты стала основой русского правосознания.
Бог есть добрая жизнь... и если существо Бога есть благость и благостное одарение, то да будут благословенны сердца одаряющие. Так думал наш народ, так благое божество воспитывало в нем миролюбие, щедрость и гостеприимство. Мирный труд на земле издавна был любимым делом славянина. Маврикий, писатель VI века, говорит о хозяйственности славян: в их стране множество всякого скота и земных произрастаний, особливо пшеницы и проса. Он же отмечает ласковость славян к чужестранцам, о безопасности которых они заботятся больше всего[269]. О поморянах на Балтийском море немецкий летописец (XII века) сообщает: «У каждого хозяина есть отдельная изба, чистая и нарядная, которая служит только для стола и угощения: в ней стоит стол со всякого рода едою и питьем, всегда накрытый, и когда одно блюдо опорожнится, несут другое; от мышей блюда покрывают скатертью самою чистою и, так как кушанье всегда готово и ждет гостей, и во всякий час, захотят поесть, гости ли придут или одни домашние, то вошедши в столовую избу, найдут все готовым»[270]. «С такой общительностью и с таким гостеприимством соединялась у балтийских славян большая сострадательность к ближнему. Они не допускали, чтобы у них кто-нибудь впал в нищету и просил милостыни»[271]. На Руси нищелюбие стало выражением братской любви к человеку. «Нищий был необходимейшим и очень почтенным членом древнерусского общества», - пишет Забелин. «Без него невозможно было выполнить Христову заповедь о подаянии просящему»[272]. Нищие жили и во дворце, где царь вел с ними благочестивые беседы, жили при храмах и подворьях; им раздавали милостыню и кормили за праздничным столом. Деньгами оделяли и тюремных сидельцев[273].
В византийской литературе VI века есть указание на доброе отношение славян к рабам. «Пленники у славян не так, как у прочих народов, не навсегда остаются в рабстве, но определяется им известное время, после которого, внеся выкуп, вольны или возвратиться в отечество, или остаться у них друзьями и свободными»[274]. Для раба был открыт доступ в славянскую общину без унижения и без ограничения в правах[275].
Такие черты славянского характера давали иногда повод утверждать, что народ наш «тихий и смирный», вследствие невоинственности своей не способен отстаивать свою независимость, создавать и поддерживать государственные начала жизни.
Да, благостный Бог славянский не имеет в своей сущности воинственных черт. В этом отношении мы гораздо ближе к нашим восточным братьям - индусам и иранцам, чем к братьям западным. Мало этого. Верховный Бог у славян еще более чужд борьбе, насилию, захвату и завоеванию, чем мирные боги Индии и Ирана, и совершенно противоположен в этом отношении германским богам, в природе которых воинственность была главным свойством. Но все это лишь означает, что в мировоззрении восточных славян достоинство и подвиги воина не почитались сами по себе заслугой, религиозно освященной и награждаемой богами, как это было у германцев и скандинавов. Война и у славян не исключается из жизни, но она житейское дело, которое иногда необходимо для того, чтобы разрешить то или иное жизненное задание; религиозный смысл она получает лишь тогда, когда самое задание имеет религиозное значение; так получила отблеск святости защита родины и веры.
Наши предки не были лишены ни воинской силы, ни воинских доблестей, но мирный характер их языческой веры определил до известной степени особенности их ратных предприятий. Они способны были и на смелые набеги ради захвата удобной для них земли, о чем говорят нам известия об антах, нападающих на Византийскую империю, о Черноморской Руси, разоряющей морские берега. Но большее число войн, ведомых русско-славянским народом, было не нападением, но обороной.
Политическая жизнь страны не страдала от оборонительного характера ратного дела. Не только военный захват создает основу государства; если военные походы и могут вызвать к жизни великие империи, то всегда ли прочно единство этих империй и не разлетается ли оно, как дым? Вспомним Александра Македонского, Карла Великого, Наполеона, не говоря уже о государствах готов, гуннов и кочевников из азиатских степей (Чингиз-хан). Завоевание не есть необходимое условие для государственного устроения. Иное дело - оборона своей земли. Беззащитный народ теряет самого себя перед лицом врага, земля его становится частью чужой земли, он сам растворяется в чужом народе.
Мы знаем, что наши предки доваряжской эпохи землю свою сберегли и сумели ее оборонить от всяких напастей и среди всяких невзгод. Опорой их самозащиты была вера в благого Бога, Бога мирной жизни на земле. В самом деле, они крепко верили, что мирное устроение земли было божьим делом, и на самом существе этого дела отображалась сущность благой и одаряющей божьей природы. Земля для них была землей святой[276], и благо ее почиталось выше отдельной человеческой жизни и преходящих человеческих благ. В христианское время эта земля стала «Домом Божьей Матери». «У нас белый царь, над царями царь. Он и верует веру крещеную... Он стоит за Дом Богородицы»[277]. Эта земля, в силу своей святости, была не только основой материального благосостояния, но и вещественным проявлением божественной силы, а свобода, т. е. независимость этой земли от чужаков, понималась всегда как свобода самобытной веры, свобода по-своему, по обычаям своих отцов созерцать Бога и поклоняться ему. Русские славяне без рассуждений отдавали жизнь за свою святую землю и за свою святую свободу и с отчаянным мужеством обороняли их от врагов. «Начиная сражение, - говорит греческий писатель VI века Прокопий, - они в пешем строю бросаются на врага, держа в руках небольшие щиты и дротики. Они не надевают рубашки, иные не имеют и плаща, но бросаются в состязание с врагом, одетые в одни шаровары. Они проворны и очень сильны»[278]. Подобный же отзыв дает писатель Маврикий (VI в.). «Племена славян и антов (т. е. восточных славян) любят свободу и не выносят ига рабства и повиновения. Они особенно храбры и мужественны в своей стране и способны ко всяким трудам и лишениям»[279]. «Кто в подсолнечной может разбить и подчинить нашу силу, - говорили славянские вожди аварам в VI веке, - наша земля останется при нас, пока будут войны и мечи»[280]. Славяне понимали войну как защиту своей веры, т. е. своего духовного богатства; без него и не могло процветать богатство земное, без него не могло быть и никакой жизни. 400 лет жестокой борьбой добивались немцы и скандинавы покорности балтийского славянства; напрасно! Венды всем народом отчаянно обороняли свою землю и свою языческую веру... Большая часть вендских племен была истреблена беспощадным победителем[281]. Наша Русь и в языческое, и в христианское время вела войны со всевозможными врагами, приходившими и с востока, и с запада. В походы водили ее князья; их поддерживала сила народного достоинства, не допускавшая унижения от врага. Вспомним приведенную выше беседу патриарха Фотия о русах, не стерпевших несправедливости к своим соплеменникам. Вспомним русскую сказку, записанную на нашем севере. «Не след мыть ноги и целовать (татарских) бахил (сапог) русскому послу Захарью Тютрину. Пусть поганый татарин Мамай безбожный, буде есть вера, целует ноги русского посла Захарья Тютрина»[282].
Если же народу казалось, что князь недостаточно стойко и достойно оборонял землю от врага, начиналась борьба народа с князем. Когда в 1480 году великий князь Иван III Васильевич не решался вести войско против татарского хана Ахмата, старец Вассиан Ростовский, поддержанный шумом народного ропота и гнева, укорял его, называл его бегуном за то, что он не обороняет христианскую веру и выдает русский народ в руки татар без битвы. Тот же Вассиан писал князю: «Теперь слышим, что волк приблизился, похваляется на твое отечество, а ты смиряешься, уничижаешься перед ним... Умоляю тебя... Внимай себе и всему стаду - народу, в котором Дух Святый поставил тебя соблюдать его оборону и спасение»[283]. О религиозной любви к свободе звонят колокола древнего Китежа, нашедшего защиту от неверных в прозрачной глуби вод; то же исконное чувство русского народа засветилось пламенем московского пожара, ограждавшего Русь от ига чужеземцев.
Если борьба за родную землю была и для наших предков-язычников делом веры, то у кого же просили они помощи в этих усилиях отстоять свою независимую жизнь? Какое божество слышало их моления?
Идею благостно одаряющей божественной силы, опоры справедливости на земле, подсказывал человеку везде и всегда голос совести, которая помогала ему осмысливать жизнь. Только совесть могла открыть ему новый нравственный мир, мир добра и правды, и он отнес этот мир в занебесную высоту, сияющую для земли, но не слиянную с нею. Обращаясь в молитве к этому источнику совершенства, душа человека, забывая о земных делах, просила укрепить ее в добре и простить ее вины: «Если, по слабости моего разумения, я заблуждался, о, святой и чистый, будь милостив ко мне, владыка, и помилуй!»[284] - так взывает индусский певец к Варуне. Но человеку была нужна божественная помощь и в земных заботах и делах. Устраивая свою добрую и независимую, Богом благословляемую жизнь, наши предки искали опоры в природе, им близкой, и молились божеству, которое ею управляло и могло бы исполнить их молитву.
Этим божеством, почитаемым больше, чем другие боги природы, был Перун; память о нем сохранилась до сих пор в названиях рек, урочищ и весей[285]. На Перуна, бога грозы, наши древние язычники перенесли достоинство верховного владыки мира, а именно нравственную силу, устанавливающую право и порядок на земле. Значение Перуна в древнем язычестве очень велико. Бог грома и молнии был и небесным богом, и богом природы; наши предки почитали его как божество, более близкое к земле и человеку, чем верховный владыка неба. Перун властвовал над огнями и водами, оживлявшими земной мир, и давал ему защиту; огненным оружием поражал он врагов земли, ему покорной, карал нарушителя закона, и его «громовые стрелки» несли гибель клятвопреступнику.
Само собой понятно, что некоторые черты в образе Перуна роднили его с теми богами небесной грозы, которым поклонялись и не славянские народы. Перун «высокий богови, великий, страшный... повелевающий облакам одождить дождь на лице земли, да изведет нам хлеб в снедь и траву скотам»[286], этот Перун близок индусскому Парьяньи, который, «преследуя громом злодеев, вселяет страх и в невинного, дождем напояет землю, готовит пойло скотам и растит травы в снедь человеку»[287]. Гораздо меньше сходства у Перуна со скандинавским божеством грома и молнии: величавое могущество славянского бога было чуждо очеловеченному Тору, прожорливому пьянице, которого так любил и чтил норманский народ. Человеческий облик был дан и Перуну: серебряная голова с золотыми усами увенчивала идол бога, сооруженный в Киеве князем Владимиром Святославичем; но по существу своей природы, славянский громовержец далек от человека, а серебро и золото в его изображении указывали на вла1у и огонь, которые были и его даром земле, и карой виновным.
Перуну было посвящено самое крепкое и долговечное дерево - дуб. Символом бога был кремень - застывшая молния, - таивший в себе искру небесного огня; такой кремень называется Перун-камень[288]. Из дубовых бревен, камней и земли наши предки сооружали валы-крепости вокруг своих городков, служивших им для защиты отеческой земли и новых колоний. Название «кремль», присвоенное срединной части русского города, где, оберегаемые каменной оградой, помещаются его святыни, коренится в священном для язычника образе кремня. У корней священных дубов древние воины вымаливали победу и приносили Перуну жертву благодаренья. Мы уже знаем о жертвоприношениях русских купцов под огромным дубом острова Хортицы, среди вод Днепра[289].
Как блюститель правды, Перун пребывал в постоянной близости к верховному богу; как обладатель защитного меча, он был посредником между небом и землею; как жизнетворное начало, он принадлежал к миру богов природы. Эта всеобъемлющая власть Перуна делала его особенно почитаемым, главным богом среди других богов нашей равнины, и его имя сосредоточивало на себе и религиозную фантазию, и молитвы наших предков.
Есть прелестный цветок из семейства лилейных, зовется он ирис. Три его лепестка отогнуты наружу, три остальные, соединяясь, образуют острие на свободном конце. Своим строением этот цветок напоминает форму меча, своей золотисто-желтой окраской - огонь и солнце; и растет он на луговинах напоенных водой. Сербы называют его перуникой. Он был посвящен великому богу древности, который небесным мечом оборонял свою землю, который одарял ее огнем и напоял целительной влагой. Перунова лилия с незапамятных времен стала символом неисчерпаемой полноты жизни. Стилизованный образ цветка - в узорочьях, на печатях, в гербах - вошел в культуру нашего народа, как знак жизненного самоутверждения, обновления и расцвета, как чистая сияющая радость после бури и гроз...
Так тени древней веры восстают против предпосылки норманского учения о «первобытной некультурности» ильменских и днепровских славян до прибытия варягов. Язычество наших предков дает возможность утверждать и древность религиозных образов, созданных нашим народом, и самобытность их, и долговечность их творческой силы.
В идеях Бога и Перуна кристаллизовались помыслы, рожденные из подлинного религиозного опыта, возможного лишь у народа, уже причастного к культурному деланию, помыслы устойчивые и действенные, направляющие народную жизнь в течение веков. Эта вера седой старины была выношена душой народной задолго до той эпохи, когда норманские торговцы стали плавать по Днепру, и мнение о первобытной дикости наших предков падает само собой перед лицом верховных божеств их веры. Без сомнения, религиозные созерцания могли обрастать упрощенными мыслями и образами, приближаясь к пониманию народных масс, наивность и грубость могли проникнуть и в обряды религиозного культа; но первобытные формы идолов, кровавые жертвы, иногда им приносимые, не должны затемнять для нашего разумения внутреннюю сущность этих богов и этих жертв. Идея добра и доброты в существе верховного Бога, значение ее для правосознания, совестное восприятия добра и зла, вера в совершенный, ничем не замутненный небесный мир, требующий отрешенности от земных вожделений для участия в нем, - все эти воззрения отражали самобытную душу народа, вели его нравственное развитие и подготовляли его культурный расцвет.
Уже 200 лет тому назад русские ученые, достаточно зоркие для того, чтобы увидеть прошлое сквозь застилающие его туманы, назвали «неправдой» мысль о дикости древних славян. Теперь, когда туманная завеса разорвалась успехами знания, предпосылка норманской гипотезы стала смешной и вредной нелепостью; но она, тем не менее, появляется там и здесь в исторических сочинениях и засоряет душу русского человека, обращенную к прошлому родной земли. Под давлением науки о древностях многие норманисты соглашаются признавать культурные начала в доисторической жизни славянства нашей равнины, но они не замечают, что устранение предпосылки об отсутствии культуры у наших предков из обихода русской истории разрушает фундамент, на котором утверждалась доказательная система норманского учения, и превращает его в бессвязную груду плохо обоснованных и логически слабых суждений. Лишенные твердой почвы, неспособные вызвать отзвук в живых явлениях истории, эти суждения лишь пробуждают недоверие к тому историку, который их высказывает, и к тому пути, по которому он идет, исследуя события протекших дней.
Примечания:
248. Ср.: Schroder. Arische Religion. 81 (1914); Tylor. Anfange der Cultur. II. 333.
249. Ср.: Niederle. Manuel de l'Antiquite Slave. I; Schroder. Arische Religion. I. 215....
250. Wirth H. Der Aufgang der Menschheit.
251. Schroder. Arische Religion. I. 567....
252. Прокопий. О готской войне. III.
253. Достоинство верховного бога принадлежало, по-видимому, и Сварогу; но об этом божестве и его культе мы имеем мало сведений.
254. Ср.: Schroder. Arische Religion. I. 286.
255. Ibid. 287.... 288....
256. Риг-Веда. X. 124.
257. Helmold. I. 84, у Гильфердиша. История балтийских славян. I. 160.
258. Икона Святой Троицы из Троице-Сергиевой Лавры. XV век.
259. Фреска в Ферапонтовой монастыре. 1500 г.
260. Ярославский храм Иоанна Предтечи, что в Толчкове. XVII век.
261. В былинах слово «вор» заменяется словом «глупый» (40 калик со каликою), убийство объясняется нехваткой ума-разума (смерть Чурилы). У Ор. Миллера. Илья Муромец и богатырство киевское.
262. Strzygowski. Le Temple du Feu. Revue des arts Asiatiques. IV (1927). Жилищем одного из добрых богов - была приморская скала острова Рюгена, на вершине которой стоял храм Святовита; фундамент этого храма уцелел до наших времен.
263. Евво. 64. У Гильфердиша. История балтийских славян. I. 178.
264. Лермонтов. Герой нашего времени. Бэла.
265. Договор Игоря с греками 945 года у Фарфоровского. Источники русской истории. I. 9-10.
266. Лесков. Мелочи архиерейской жизни. Т. 36. 34-35. Издан. Маркса. 1903.
267. Там же. Т. 36. 34.
268. Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» в сборнике «Песни, собранные П.Н.Рыбниковым». II. 17.
269. Маврикий у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 478. 480. Эта черта славянского характера сохранялась и в позднейшие времена. Князь Владимир Святославич с войском два дня провожал христианского проповедника Бруна на его пути к печенегам; прощаясь с ним на границе своей земли, князь сказал ему: «Ради Бога, прошу тебя, не бесчествуй меня, не погуби свою жизнь напрасно». Забелин. История русской жизни с древнейших времен. II. 349. Владимир Мономах так наставлял своих детей: «...и боле же чтите гость; откуда же к вам придет или прост» (т. е. простолюдин), «или добр» (т.е. знатный), «или сол» (т. е. посол) «аще же не можете дарами - бращном и питьем: ти бо мимоходящи прославят человека по всем землям любо добрым, любо злым». Лавр, под 1096 г.
270. Сефрид. 119, у Гильфердиша. История балтийских славян. I. 40.
271. Гельмольд. И. 12, у Гильфердиша. История балтийских славян. I. 40.
272. Забелин. История города Москвы. I. 578. (1905).
273. Там же. 216, 292,431, 570, 582, 592, 600.
274. Маврикий, у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 477.
275. Гильфердинг. История балтийских славян. I. 71.
276. «Бувай богата, як земля святая» - здравица. В Малороссии целование земли скрепляло клятву; ношение земной глыбы по границам земного участка делало их неприкосновенными». Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. 1.142.147 (1869).
277. Бессонов. Калики перехожие. Книга Голубиная. 19.
278. Прокопий. О готской войне. III.
279. Маврикий, у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 477.
280. У Ламанского. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. 137.
281. Гильфердинг. История балтийских славян. 1.147.... О борьбе с германцами, см. там же. Часть II.
282. Афанасьев. Народные русские сказки и легенды.
283. Забелин. Кунцово и древний Сетунский стан. Исторические воспоминания (1873).
284. Rig-Weda. VII. 89. 3
285. Проня - река и город Пронск в Рязанской губ., Перуника - пустынь в Весьегонском у., Перуново - в Ржевском у., Тверской губернии, Пиоруново в Полоцком повете и т. д.
286. Молитва о бездождии, сохранившаяся в Сборнике Кириллова монастыря (XV в.), у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. II. 290 и примеч. 150.
287. Риг-Веда. V. 83.
288. Забелин. История русской жизни с древнейших времен, 297 и примечание 163.
289. Константин Багрянородный. Книга об управлении государством. У Гедеонова. Варяги и Русь. Поклонение дубам еще долго процветало на Руси; Духовный регламент Петра Великого, изданный в 1722 году, осуждает его, как «явное и стыдное идолослужение». У Буслаева. Лекции е. и. в. наследнику Николаю Александровичу. Лекция 85.
Глава четырнадцатая. Мистерия жизни и культ природы
По мере того как развивался, все более и более усложняясь, исторически спор, вызванный двести лет тому назад появлением норманской гипотезы, становилось все очевиднее, что центральное значение принадлежит в нем русскому имени. Название Руси было исследовано норманистами и противниками их в его связи с различными явлениями нашей начальной истории; многое мы слышали о «варягах-руси» нашей летописи, о народе русь, о Русской земле, о Киевской Руси и о других фактах русской жизни. Норманисты хотели объяснить все эти факты с помощью предположения, что русь - скандинавы, но эта предвзятая мысль не преодолела противоборства целой вереницы вновь и вновь открываемых явлений нашей жизни, несовместимых с выводами норманского учения; оно не сделало более понятным и самоё слово «Русь». Ключевский был того мнения, что «не объяснено удовлетворительно ни историческое происхождение, ни этимологическое значение этого загадочного слова»[290]; для исторических выводов Шахматова много значило созвучие Руотси - Русь, но и он должен был признать, что «происхождение имени Русь... остается темным»[291].
Приведенные суждения принадлежат ученым-норманистам. Между тем загадочность русского имени создавала преграды на пути изучения нашего прошлого и перед противниками норманской школы: и для них оставалось неясным, откуда взяли славяне свое русское прозвание. Удовлетворительное объяснение имени русского народа, не прибегающее к норманской гипотезе, могло бы осветить стародавнюю жизнь, сделать ее более понятной и содействовать устранению из исторической науки предположения, которое лишь сгущает мрак над русскою древностью.
Первую помощь при решении этой задачи дает исследователю самоё имя России: оно не приемлет объяснения, принятого у норманистов, и указует путь - правда, длинный и обходный - к своим истокам, скрытым в почти недосягаемой глубине времен.
Русское имя не просто имя: и наш народ, и единичная русская душа видит его в луче священного. Русь в самом имени своем мыслится, как «Русь Святая».
Священное значение народного имени есть духовный факт русской истории, и тот, кто хочет ее понять и объяснить, необходимо должен с ним считаться. Одного этого факта довольно для того, чтобы сделать невероятным происхождение названия Руси из финского слова или же внешнее усвоение его от чуждого племени. Святость русского имени повелевает искать его родину в религиозной жизни осененного им народа.
Основой веры в нашей языческой древности была идея верховного божества, но она не имеет прямого отношения к религиозному смыслу имени «Русь». Не разъясняет его и помысел о святости земли, освоенной славянскими племенами. Однако этот помысел уже указывает на то, что в древнем мировоззрении не только небо или занебесные обители были источником священного. Как бы на помощь человеку, далекому и от создателя вселенной, и от великого Перуна, религиозная мысль язычника усмотрела святые силы в земном мире. Многообразное действие этих сил воплощалось в богах природы; они освящали домашний и общественный быт народа и благословляли своими именами урочища, веси и воды родного ему края.
Для понимания сущности такого восприятия природы надо иметь в виду основную особенность древнего религиозного переживания. Его предметом мог быть чувственный образ внешнего мира, видимая, даже осязаемая вещь, но этот образ нераздельно сращивался с тем или другим душевно-духовным содержанием. Наши предки чтили не видимую природу, как думают некоторые историки, но видимую природу, исполненную святою силой, обитель незримых деятелей, направлявших жизнь видимых явлений. Точно так же для древнего язычника было невозможно воспринять душевно-духовный предмет, не облачая его в ризу зримой плоти; боги древности обладали видимыми свойствами природы и человека, что у них не отнимало ни высшей сущности, ни надземной власти, господствующей над всем, что живо на земле.
Чуя в природе таинственную, нездешнюю жизнь, древние люди поклонялись ей как неисчерпаемому источнику святости. В образах и помыслах своих верований они влеклись к узренной ими тайне, испытывали ее, стремились ее разгадать, склонялись перед нею. Культ природы был культом тайны. По разумению древних славян, в глубинах мира осуществлялась божественная мистерия жизни, и свет, ею изливаемый, озарял земные юдоли.
Современному человеку трудно уловить подлинный смысл древнего вероучения: мистерия природы ныне лишь смутно видится в тех потухающих отблесках, которые ею брошены в нашу жизнь. Для того чтобы рассмотреть первоначальные очертания древнего восприятия тайны, надо долго бродить среди пестрых явлений народного быта, испытывая сумеречные пути суеверий, надо найти древнюю установку души, увидеть прошлое древним оком и попытаться понять и собрать воедино значения отзвучавших «сокровенных слов».
Только тогда в мглистой дали минувших времен, на окраинах ведомой жизни, восстанет мир видений, прежде живой, полный чувств, красок и песен. Теперь он разрушен и замолк. Но и в тишине пройденных дней не иссякли силы, образующие лик народа и направляющие его историю.
В этом далеком мире, святом для наших предков-язычников, в помыслах и обрядах древнего культа природы и должно таиться начало русского имени. Для того чтобы найти его истоки, необходимо представить себе и по возможности понять древнее почитание природы в его целом: лишь общая, господствующая в нем идея может осветить те его обряды и те образы, которые имеют более близкое отношение к Руси как имени нашего народа.
Радуясь жизни, преклоняясь перед тем или другим ее проявлением, древний человек спрашивал, в чем же ее сущность, как объяснить ее зарождение и ее уход, ее многообразие в земном мире. Жизнь, создание верховного бога, должна была полниться его божественными силами, образующими самое ее естество. Такими силами почитались огонь и вода: царь-Огонь и царица-Вода создали вселенную - в это долго верили русины на Карпатах[292]. Совместное действие небесного огня со священной влагой порождает все живое и взращивает древо жизни... так думали наши предки, и доныне былой символ этого древа - береза весеннего Троицына дня - тревожит в русской душе и дремлющие воспоминания, и непривычную забытую радость.
С незапамятных времен миф о древе жизни был религиозным верованием арийских народов. У индусов есть целый круг сказаний, согласно которым и огонь, и божественный напиток Сома принесены на землю птицей с фигового дерева, корнями прикрепленного к небу, а ветвями, источающими золотистый мед, наклоненного к земле[293]. Иранцы верили, что древо жизни, хранящее в себе напиток бессмертия Хаому, растет на дне великого моря[294]. Мы знаем уже, что в Днепровском краю знаки мирового древа встречаются на глиняных сосудах неолитической культуры; в историческую эпоху русские князья вводили их в свои гербы и печати, а крестьяне Карпатской Руси и теперь в Сочельник освящают знаком жизни (Ψ) двери своих хат. О мифическом древе поют и русские песни; в них береза или верба воплощают помысел древней веры; говорит о нем и великорусское заклинание: «На море, на окияне, на острове, на Буяне, стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями»[295]. Остров Буян - чудный остров, на нем лежит белый, огненный камень Алатырь, а вокруг этого камня, не увядая, цветет весна.
Будто какое-то бесконечно далекое воспоминание скрыто в этом видении рая, в этом образе огня среди водных просторов, будто это видение указывает на то, что свято и в жизни земных творений, в помыслах и делах человека...
Так оно и было в миросозерцании наших предков: огонь и вода направляли и освящали их жизнь.
Конечно, нелегко представить теперь, как понимали существо огня и воды наши славяне. Во всяком случае, жизнетворная сила была присуща священному «живому огню» и священной «живой воде». За пределами неба огонь и вода претворялись в мед, напиток бессмертия; их чудные свойства могли передаваться земным огням и водам. «Мертвая вода» целила раны, «живая вода» возвращала жизнь. Так как огонь и влага получали свою силу от взаимодействия в своей встрече, то святой и целебной почиталась на земле такая вода, которой коснулся огонь: Перунов ключ или колодезь, вода с опущенной в нее громовой стрелкой, вода, заигравшая от положенных в нее горячих угольков, кипучее молоко кобылицы, на заре упавшая роса, дождь из молниеносной тучи.
Как носители не только материальной жизни природы, но и жизни душевно-духовной, священный огонь и священная вода - проводники божественных сил в земной мир - давали ему, вместе со светом, теплом и влагой основы мудрого, благого, прекрасного и бессмертного бытия. В них жила правда этого мира; язычник постигал в них подлинную, неискаженную жизнь, которая направляла душу человека и других тварей земли. Правда на земле, т. е. правое дело, имеет естество огня, огненным, искренним должно быть ее выражение: русский язык называет искренностью правдивое проявление душевного движения, искренним - человека, чья речь и чьи поступки дают образ подлинной сущности и подлинной жизни его души. «Правда не втонет у воде и не сгорит у вогне», - говорит русская пословица[296]: правда сама есть огонь палящий и неиссякаемый родник подлинной жизни. Как образы правды, огонь и вода чисты, святы и целительны для души и тела. «Святой огонешек, дайся нам», - так обращались к огню на Руси, зажигая лучину. Символ чистоты душевной, огонь не терпит ничего нечистого, при нем нельзя вести нескромные речи. «Рассказав бы, да печь у хати», - говорят в Малой России[297]. Среди заклинаний, живых доныне у русского народа, находим такое обращение к воде: «Матушка, святая водица, родная сестрица! Бежишь ты по пенькам, по колодам, по лузям, по болотам и бежишь чисто, непорочно; сними с раба божьего всякие болезни и скорби»[298]. Вода и огонь делают человека достойным предстоять богам и говорить с ними: «Иду я, раб божий, в чистое поле, становлюсь на восток красного солнца, умываюсь росою или ключевою водою»[299] - это обычное начало древнего заклятия.
Как носители правды, огонь и влага поддерживали и на земле право и порядок. Перун, бог молнии и податель дождя, был блюстителем клятв и правовых решений; за справедливым порядком наблюдал и Волос[300], солнечное божество, в более глубокой древности, вероятно, еще теснее связанное со стихией огня. Некоторые судебные обычаи славян, как и других арийцев, исходят из убеждения, что огонь и влага - мудрые судьи дел человека: на «Божьем суде» раскаленное железо или кипящая вода устанавливали правоту или виновность подсудимых[301].
Правое дело есть мудрое дело: оно предполагает ведение самого подлинного в мире; а таким ведением дается дар предвидения. Поэтому, по разумению наших предков, огонь и влага полны вещею силой. Человек может узнавать будущее, гадая на огне и воде, может и сам получить от них дар вещего знания. Такою же мудростью могут быть одарены звери и птицы: олень, лебедь - носители света, а также цветы, т. е. светы - воплощение огня[302]. Везде в природе разлита божественная сила, она живет и в плеске вод, и в шелесте листьев, и в птичьем грае, и в предвесенних вздохах земли. Древний славянин всегда чувствует близость носителей этой святой силы, и трепетное общение с ними дает ему уверенность в том, что они участвуют в земных заботах и делах человека.
Как бы в ответ на неустанное попечение богов, люди считали себя призванными принимать и на себя их дела, вступать в единение с ними. Эта мысль одушевляла культ и обряды священного года.
Природа, по разумению язычника, живет в согласии с жизнью божества: она угасает в осенние дни вместе с меркнущим огнем неба, застывает зимой вместе с оледенением влаги, жар весны, растопляющий снега, возвращает земле утраченную силу, а в летние дни все живое, наполняясь огнем солнечных лучей и дождевою водою, достигает полного расцвета. Жизнь земли, как бы на время покидаемой богами, потом вновь принимающей их благодатные дары, определяет праздники годового круга. Воспроизводя таинственные действа природы, эти праздники образуют ступени, по которым и человек восходит к божеству, ведомый солнцем[303], царственным властителем священного года, т. е. огнем, обновленным в день зимнего солнцеворота оживляющей силой воды. Отзвук этой зимней тайны сохранился в словах малорусской колядки: «Божья Мать сына родила, в море скупала» - и в подблюдных песнях, сопровождающих святочные игры, где речь идет о золоте или золотом кольце, символе солнца, скрытом в воде или снеге[304].
Восхождение человека к мистерии природы требовало прежде всего знания о божественных силах, в ней действующих, и это знание давали обрядовые загадки и гадания. Для древних людей загадки были «сокровенными словами», понимание которых было знаком мудрости, постигающей правду; в них шла речь об явлениях природы, творимых огнем и водою; «заря, заряница, ключи потеряла, месяц пошел, не нашел, солнце пошло, ключи нашло» - отгадка: роса. Гадания также должны были научить правде о жизни; это была беседа с первоисточниками мудрости. Доныне на Руси гадают или у огня - у печи, или у воды - у реки, зимой - у проруби, на снегу, на мосту или там, где есть и огонь, и вода - в бане; вещая сила живет в угольке, в связке дров, в кочерге, в лучине, сначала намоченной, потом подожженной[305].
Дальнейшее сближение человека с таинственными силами жизни осуществлялось в магических обрядах, т. е. в содействии делу богов. Таких обрядов очень много, и древность их подтверждается их сходством с обрядами других славянских или даже арийских племен. В Малороссии известен новогодний обряд, содействующий урожаю хлебов - отзвук древнего языческого культа Святовита Арконского: высокий пирог стоит на столе так, что скрывает собою сидящего за столом хозяина; «Видите ли вы меня?» - спрашивает хозяин детей. «Не видим, батько». «Дай Бог, - говорит отец, - чтобы и в будущем году не видели» (т. е. будет урожай). В Арконе жрец прятался за огромным круглым пирогом из медового теста; когда народ подтверждал, что он невидим, жрец высказывал надежду, что так будет и в будущем году[306]. Еще живы до сих пор магические обряды, связанные с культом солнца и огня: хороводы водятся «посолонь» или принимают форму креста - древнего символа солнечного пути, весну закликают у проруби и ускоряют ее приход, бросая к небу жаворонков или аистов, выпеченных из теста[307].
Но в загадках, гаданиях и в магии обрядов древний человек еще не мог достигнуть целостного ведения богов природы и полного приближения к ее тайнам. Оно осуществлялось в обрядовых «играх», т. е. в религиозно-символических представлениях, происходивших на празднике зимнего солнцеворота и на последующих праздниках священного года.
Эти игры назывались русалиями, т. е. именем, созвучным имени Руси.
Примечания:
290. Ключевский. Курс русской истории. I. 200-201.
291. Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени. Гл. IV.
292. Срезневский, 19, 23, 24, у Афанасьева. Поэтические воззрения славян на природу. II. 468.
293. Kuhn. Mythologische Studien. I. Die Herabkunft des Feuers und des Gottestranks. 114 (1886). Упанишады. VI. 1.
294. Spiegel. Avesta. II. Einleitung. LXXIII.
295. Записки Географического общества по отделу Этнографии. II. 479 (1869). У Майкова «Слово о полку Игореве». Примечание 2.
296. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. И. 199.
297. Там же. 8, 30.
298. Там же. 190.
299. Там же.
300. Договор Олега с греками в 907 г. Договор Святослава с Цимисхием в 971 г.
301. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. II. 194. Ср.: 140-191.
302. Знахарство христианских времен сохранило следы такого отношения к травам и цветам: «Иная трава растет лицом на восток и к тому же не имеет сердца (сердцевины). Это папороть бессердешная... Носи ее с собою, где поедешь или пойдешь, на того человека никто сердит не бывает, хоть и великий недруг, и тот зла не мыслит». У Забелина. История русской жизни с древнейших времен. II 266-267.
303. Божество солнца почитается в культе священного года не только как индивидуальное божество, Солнце-Царь, но и как носитель огненной силы, призванной согреть и оживить природу. Сообразно изменениям солнечного пути на небесном своде и различиям в качестве солнечного света, бог солнца принимает разные образы, получает разные названия. Так, например, солнце ранней весны, «загорающееся» солнце называется Авсенем, жгучее летнее солнце - Ярилом и т. д. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 748; Schroder. Arische Religion. I. 541-548; Tylor. Anfange der Cultur. II. 248
304. Костомаров. Об историческом значении русской народной поэзии. 15; Фаминцын. Божества древних славян. 283.
305. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. II. 46 у Фаминцына. Божества древних славян. 300; Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. II. 194.
306. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. Ч. II. 309; Гильфердинг. История балтийских славян. 163-164.
307. Снегирев. III. 13, у Зеленина. Russische Volkskunde. 355. 364.
Глава пятнадцатая. Русалии и русалка
Созвучие между именем Руси и названием религиозных обрядов языческой эпохи - русалий - само по себе не дает права делать заключения о действительных отношениях между этими явлениями русской жизни; оно может послужить лишь путеводной нитью для дальнейших исследований. Но если за сходством словесных обозначений скрывается идейное, образное или иное сродство, то упомянутое созвучие может получить и значение познавательное. Поэтому проблема «Русалий» и «Руси» требует прежде всего возможно более полного освоения самого существа религиозных игр древности, т. е. тех помыслов, образов и чувств, которые воплотились в русальных обрядах и определили их религиозный смысл.
Символические игры входили в состав обрядовых действ культа природы уже в очень давние времена; они известны не только у славян, но и у других народов. В славянских русалиях есть черты, напоминающие и культ Диониса во Фракии, и элевзинские мистерии в Афинах, и «готскую» игру при дворе византийского императора, и «танец мечей» у германцев, и танец марутов, богов грозовой бури, в свите индусского громовника Индры. Все это дает основание предположить глубокую древность и самобытное развитие русальных обрядов.
Письменные свидетельства о наших русалиях относятся уже к христианскому времени; мы узнаем из них, что языческие игры сопровождались нередко шумной музыкой, песнями, танцами, переодеванием, скаканьем, купанием в реке. Все это казалось «беснованием», было признано делом дьявола, неуместным в христианском обществе, и русалии не раз подвергались запрету[308]. Строгое отношение к выродившемуся обряду было понятно и справедливо, но оно мешало уразумению его первоначального смысла.
Несколько лучше могли бы осветить русальную мистерию ее пережитки, сохраненные в народном быту до наших дней. Во всяком случае, эти бледные следы древних верований заставляют расширить понятие русалии и применить их название не только к экстатическим действам, упоминаемым в древней письменности. К русалиям можно отнести игры с переодеванием на Рождество, обряды русальной недели перед праздником Святой Троицы, обряды Купальского дня и некоторые другие игры солнечного года. Все это - тающие тени прошлого; понимание их усложняется еще тем, что в их смутной игре можно различить там и здесь загадочный образ полубогини с именем «русалки», созвучным названию «русалии», с естеством, не имеющим общепризнанного истолкования. Между тем объяснить это видение древней веры значило бы помочь более отчетливому видению затуманенных очертаний древнего культа и тех помыслов, которые обозначались словами, созвучащими имени Руси.
По мнению одних исследователей, русалки - души умерших людей, и название их есть отблеск языческих поминальных дней, известных в Греции под именем розалии (А.Веселовский). По другому мнению, русалки - божества водные, имя их происходит от предполагаемого общеславянского слова rusa, обозначающего реку и звучащего теперь в слове русло (Шафарик). Согласно еще иному толкованию, русалки живут в воде, но их начальною стихией был свет; название этих полубогинь происходит от слова «русый» через речное имя «Руса» и через форму «русло» (Буслаев). Наконец, есть и такие исследователи, которые просто отрицают существование русалки, как женского божества: русалка - так же, как и русалии, - название праздника Святой Троицы, слившегося позднее с языческими обрядами; оно будто бы заимствовано в христианские времена от латинских Pasqua Rosata или Rosarum, или от Rosalia и перешло через Грецию, где говорится о ρονσάλἰαχ-х, на Русь (Миклошич).
Посмотрим, что расскажут нам о русалке древние предания, поверья и мифы, сбереженные памятью народа.
Образ древней русалки не сразу уловим в обрывках ее былого культа прежде всего потому, что современные «водяные жены», полные коварства и соблазнов, дают лишь искаженное отражение забытой богини. Но и те свойства нашей русалки, которые сохранились в ней от древности и могут быть отнесены к ее первообразу, недостаточны для его понимания; их дополняют тени других образов языческой веры, родственных русалке и часто даже от нее неотъемлемых. Таковы «вилы», упоминаемые иногда в нашей древней письменности[309], и «лебединые девы» наших сказок и былин. Все эти мифические существа указывают на общую для них единую идею, которая распылилась игрою фантазии на множество самостоятельных видений.
В поверьях славян вила родится от дождя, озаренного солнцем, или от капли росы, упавшей на осенний цветок[310]; этот цветок или светок, как говорит народ, сближается здесь со светом.
Из влаги и огня создан образ и нашей русалки.
Как олицетворение влаги, русалка живет в хрустальном чертоге на дне реки или в глубоком омуте; ее жилищем может быть также море, озеро и колодезь[311]. «Русалки-берегини» строят себе замки в облаках, а «русалки-полудницы» бегают в поле, наполняют его водой, волнуют рожь и порой насылают на нее бури и ливни312. Ночью речная полубогиня выплывает на поверхность воды, подвижная и прозрачная, как создавшая ее влага; она играет с волной, путает и рвет рыбацкие сети, разрушает плотины, затопляет поля. Усаживаясь на мельничном колесе, она вертится вместе с ним или расчесывает гребнем свои длинные, спадающие до колен, волосы, и вода льется из них неиссякающей струей. Гребень русалки сделан из рыбьей кости, а рыба в древности была символом влаги; запасшись таким гребнем, русалка может жить и в лесу, далеко от воды[313], но чаще всего, выходя на берег, она взбирается на плакучую иву или березу и качается на ветвях, омываемых речною струей[314].
Как воплощение огня, русалка пронизана светом. Ее волосы золотятся, ее глаза горят и сверкают, дневным солнцем озарено ее волшебное жилище[315]. Она может обернуться огненно-рыжей белкой, зверьком Перуна, олицетворяющим молнию[316]. До сих пор народные празднества, возникшие из культа русалки, сохраняют связь с культом Перуна: весенние русалии справляются в четверг (Семик у великороссов, Русальчин Велик День или «Русалка» в Малороссии), т. е. в тот день недели, который был посвящен богу-громовнику, и у балтийских славян носил название «Перундан», т. е. «день Перуна».
Огонь и влага в естестве русалки роднят ее с главными религиозно чтимыми деятелями земного и небесного мира. Объединяясь в ней, эти силы делают ее образом живой воды, играющего меда, т. е. напитка бессмертия. Медовая сущность русалки отразилась и в психических особенностях ее облика; она живет в неустанном движении, плещется в волнах, носится в рощах и полях, катается по росистым склонам гор, играет, поет, танцует и громким хохотом пугает путника в темноте ночи[317]. «Игрищами» называются прибрежные луговинки, где русалки водят свои хороводы.
Все, что делает русалка, связано с ее основным призванием носительницы живой воды, укрепляющей силы жизни: в раю полубогиня пестует юное солнце, на земле она поддерживает здоровье людей целительной водой своего колодца и чудодейственной силой целебных трав; самоё общение с русалкой дает красоту, поэтому девушки кумятся с нею на русальной неделе. Русалке дана сила оживления: она плачет над мертвым, но ее слезы - живая вода, дарующая жизнь; ее же заботой загораются синие огни над могилами, т. е. оживают души людей, спящих в земле[318]. Есть у наших славян и такое поверье, что предки живут у колодцев, где «русалка-царица» хранит влагу бессмертия. Это поверье делает понятным превращение души человека в русалку: приобщаясь к источнику жизни, душа отождествляется с божеством, которое его олицетворяет, т. е. становится русалкой. Таким образом, культ жизнедательной богини может соединяться с культом предков[319].
Назначение русалки - хранить напиток бессмертия в раю и приносить его на землю. В иных случаях она исполняет эту волю богов посредством превращений, как будто необъяснимых и не раз смущавших исследователей. Так, полубогиня появляется иногда в образе коня или кобылки, иногда в образе птицы. Между тем мифологический смысл этих превращений тесно связан с существом древней русалки.
В некоторых верованиях древности конь обозначает встречу огня и влаги и совместное действе их в природе. Конь - молния, но такая молния, которая выбивает ключи из недр земных;, эти ключи - гремучие, они кипят и белеют пеной[320]. Конь - облако, но облако, рожденное росою, согретою огненным лучом, упавшим с неба[321]. Соединение огня и влаги в образе коня делает понятным, почему молоко кобылицы получает силу живой воды и возвращает жизнь убитому герою[322].
Как носитель напитка бессмертия, конь близок образу русалки, и это делает возможным превращение полубогини в кобылку. Древний миф еще живет в обряде, приуроченном и к летнему, и к зимнему празднику. Перед Петровками два или три парня покрываются парусом, причем тот из них, который идет впереди, держит конский череп; четвертый парень идет сзади и подгоняет коня - русалку[323]. Эти игры называются проводами русалки или проводами весны[324]. О сходном колядском обряде древний памятник упоминает с укоризной: «и меж себя, нарядя, бесовскую кобылку водили»[325].
Еще теснее объединяется русалка с лебедем или кукушкой.
Вера в небесный напиток создала в мифологии арийских народов образы птиц, которые или охраняют его у древа жизни или одаряют им природу[326]; за ними скрываются иногда боги или богини[327]. Птицей могла обернуться и русалка, причем превращалась в крылья ткань ее белых льняных покрывал. Прядение льна - любимое занятие русалок, что и подобает им, как божествам небесной влаги; готовые полотна они расстилают возле колодцев или у источников, моют их в ключевой воде, а иногда выпрашивают белье у поселянок[328]. Самая способность водяных нимф превращать свои одежды в крылья нашла отзвук в сказке о Морском Царе и Василисе Прекрасной: двенадцать колпиц прилетают на берег моря и, ударившись о сырую землю, обертываются юными девами, снимают с себя одежды и купаются; царевич прячет платье одной из них, и она уже не может улететь[329]. Тот же образ водяной девы-птицы создал поверье, что русалки живут на речном берегу в гнездах, свитых из соломы и перьев[330], и пальцы их ног соединены перепонкой, как у гуся[331] или лебедя[332]. Если южнославянские предания помнят о вилах, являющихся в образе белых лебедей[333], то наши сказки сказывают о лебедь-птице, красной девице, выплывающей из морской глубины: она прозрачна, - это свойство русалки - сквозь перья у нее тело виднеется, сквозь кости видно, как из косточки в косточку мозг переливается, словно жемчуг пересыпается[334].
Есть у народа и такие поверья, которые сберегли былое представление о русалке-кукушке: «Ку-ку!» - кричит водяная полубогиня, бросаясь с мельничного колеса в глубь речную[335]; в обряде русальной недели, устанавливающем между девушками посестримство, русалку замещает чучело кукушки или кукушкина трава[336].
Птицы, обличье которых принимает русалка, появляются в древних мифах как носители света и живой воды или как стражи у источника огня и влаги. Лебедь приносит весною лучи солнца или золотые яблоки, полные чудесным соком, возвращающим молодость[337]; кукушка, вестница весны, зимою живет в раю у древа жизни и хранит ключи от входа в эту обетованную страну[338]. Представления о небесном рае, где мировое древо раскидывает свои медоточивые ветви, где ночует и зимует солнечный бог, соединяют образ русалки, хранительницы напитка бессмертия, с образом лебедя: по народному поверью, молодому солнцу прислуживает солнечная дева, умывает, убирает его и поет ему песни[339], тогда как в одной из русских сказок рассказывается, что в дивьем, т. е. в небесном царстве, зреют моложавые яблоки и живет царь-девица Лебедь, охраняющая влагу бессмертия[340]. Из этой райской страны русалка приносит напиток богов на землю, еще недавно скованную зимнею стужей. Мед новой жизни разливается в белом стволе березы, светится в пушистом убранстве вербных ветвей. Весна зацветает и в земном мире.
Огненно-водное естество русалки, ее участие в мистерии природы наделяет ее мудростью и вещим знанием: для нее нет неразгаданных загадок, ей ведома судьба девушки, доверившей свой русальный венок речной волне[341]. Как мудрая жрица в культе богов, русалка испытывает веру человека и карает его за безбожие. Согласно народному поверью, русалки похищают полотна у девушек, уснувших без молитвы[342]; и песня поет о том, как русалочка защекатывает, т. е. заговаривает, зачаровывает дивчинку, ничего не знающую о религиозных тайнах: о «неведомом камне Алатыре», о живой воде и о живом огне-молнии, затаенном в папоротнике[343]. В малорусской сказке русалка ослепляет деда и бабу за то, что они пасут овец на ее заповедном лугу[344], другими словами: за попрание законов веры она карает виновных тем, что лишает их видения мира, на «силе божьей» созданного и крепкого этою силой.
Благодетелен приход русалки на землю, но встреча с нею самой, богиней райских садов, гибельна для обычного дневного сознания, не постигающего в ее явлении знаков нездешнего мира. Встретив русалку, человек неумудренный невольно повторяет ее вихревые движения... и заболевает Виттовой пляской[345]. Увидев над волною прекрасную богиню, поддавшись чарам ее песни, пловец спешит к ней навстречу... и тонет в бурливой реке. Лишь вещий человек, на земле прозревающий неземное, безнаказанно любуется воздушно-легкими играми русалок и понимает их нездешнюю песнь[346].
Так, обрывки былого культа русалки, еще не исчезнувшие в народном быту, воскрешают древний образ богини - посредницы между богами и земною природой, мудрой и вещей жрицы в мистерии весны.
Уповая разгадать загадку жизни «неразгадливую», создал древний человек эту поэтическую грезу. В ней сказалась и сила души, дерзнувшей коснуться тайны жизни, и бессилие понять эту тайну, уразуметь первосущность мира и нас самих, живущих в нем. Так и воспринят прекрасный образ русалки в одном из созданий русского художества: царевна-лебедь Врубеля с ее очами, вопрошающе светящимися из незнаемой глубины, с покорно страдающей нежностью в стане и в белом оперении, восставшая из колодца души, как память тысячелетне-далекого прошлого, соединяет в себе и религиозный помысел наших отцов, и тоску неумудренного сердца.
Следы угасших верований в быту народном делают очевидным, что древняя идея русалки не укладывается в единичный законченный образ, строго отграниченный от других священных образов языческого мира. Указывая на тайну жизни, неисчерпаемую по самому существу, эта идея призывает к себе иные помыслы, иные созерцания, связывает их тонкими нитями подобий и объединяет в едином жизненном действе. Сеть сходств и родственных связей между русалкой и другими божествами затуманивает образ полубогини, подобно тому, как сетчатая пелена паутинок - пряжа русалок - туманит осеннюю зелень лугов. Уже известные нам однозначные определения существа русалки бессильны исчерпать ее сложное естество. Она, вне сомнения, божество водное, но эта влага - источник жизни, она проникнута светом и огнем, она - медовый напиток, исполненный вдохновенною мудростью и оживляющей силой. В облике русалки вновь оживает душа человека, похищенная темнотою ночи; но русалки лунного царства - лишь вторичные образы, созданные огненно-водной, светлой силой богини, приносящей на землю новую весну. Имя русалки может обозначать и весенний праздник, но праздник этот - отблеск славянских языческих русалий, где появлялась богиня-птица, прилетавшая из рая в блеске дождевых капель или в кружении молнией озаряемых крылатых облаков.
Так как миф о русалке и мысль, в нем заключенная, возникли в круге тех верований, которые облегчали язычнику восприятие мистерии природы, то образ весенней полубогини естественно соединялся с праздниками священного года, учрежденными во славу этой мистерии, и внешним выражением идейного сродства между обрядами годового круга и божеством, олицетворяющим рождение жизни, было созвучие: русалии - русалка.
Обернувшись кобылкой, русалка появляется в ритуале годового языческого культа тогда, когда солнце поворачивает на лето и в душе человека зарождается предчувствие весенних дней. В том же образе кобылки русалка покидает землю после летнего солнцеворота. Первое явление русалки связано теперь со святочными играми. Так как зимою огонь и вода еще во власти тьмы и мороза, то шумы святочных русалий получают оттенок победоносной борьбы добрых божеств со злою силой, враждебной новой жизни и весеннему пробуждению. Участники игры изображают медведя, волка, козу, журавля и других тварей - следы глубокой древности, когда боги и демоны являлись людям в образе животных или птиц[347].
С приходом весны расцветает и культ русалки.
В Семик, т. е. в седьмой четверг после великого четверга или в последний четверг перед днем Святой Троицы, девушки в лесу заплетают венки из несрезанных веток березы.
Близ тебя, бериозонька, Красны девушки В Семик поют, Под тобой, бериозонька, Красны девушки венки плетут[348]. Эти венки - качели для русалок.Символический смысл начального обряда будет понятным, если осветить его древней идеей русалки - жрицы в мистерии природы. В самом деле, именно водной стихией, волной, дается первообраз качания, и с незапамятных времен знаком воды были волнистые линии, украшающие, как мы знаем, и праславянскую керамику. Стихия огня принимает в обряде образ венка - символа солнца; так как живой огонь добывался в древности трением живых древесных веток, то и семицкий венок сплетается из несрезанных веток березы. Качание венка указывает на солнце или огонь, погруженный в воды, символ обновляемой, возрождающейся жизни. В этом действе русалка являлась как богиня весны, разгоняющая холодный сон земного мира. Совершая мистерию природы, она призывала и людей к участию в ней: качались не только русалки, но и люди. В христианской Руси качальные игры были приурочены к первым трем дням пасхальной недели.
Душа человека переживает качание как ускоренное движение жизни, как чувство победной силы от взлета в высоту и как чувство самозабвенного блаженства от стремительности падения. Быстрая смена этих ощущений и чувств, соединяясь с чувством бога в природе и с порывом к единению с ним, может вызвать переживание экстаза. Так как экстатические действа древних язычников подсказывались им жизнью природы, то их экстаз и должен был быть сопереживанием ее весны, весеннего безумства, сменяющего долгий зимний сон.
Религиозный смысл мифа о русалке делает несомненным символическое значение всех русалий как отражений в душе и действах человека мистерии весны, т. е. мистерии жизни. Чем ярче светит солнце, чем пышнее цветет природа, чем больше ее творческие силы наполняют душу человека, тем больше душа приобщается к таинственной жизни богов. Гомон, танцы и пение сопровождают обряды русалий, как отзвуки шумов и шорохов от тающего снега, от неудержимого бега вновь рожденных ручьев, от ливней и гроз, от весенней бури. Когда на празднике Купалы мистерия огня и влаги получала торжествующее завершение и тайна природы должна была вполне открыться человеку, тогда религиозный подъем в русальной игре достигал наивысшей силы, и участникам ее казалось, что они сближаются с богами на одном жизненном пире. В этом религиозном единении с обожествленной природой люди получали дары сокровенной мудрости и находили опору для взаимного понимания и для осознания своего единства.
Само название «купальского» праздника, приуроченного теперь ко дню Иоанна Крестителя (24 июня), происходит от глагола «кипеть» и указывает на силу и богатство природы, на ее кипение и расцвет[349]. В день Купалы Перун отверзает небесные хляби, воды заливают землю, а солнечные лучи, обновленные грозою, несут ей жар и свет. На цветущих, благоухающих лугах чудодейственной силой наполняются целебные травы, медовая роса, на них упавшая, укрепляет здоровье и дарует счастливое материнство. Души людей очищаются в эту ночь от злых побуждений серебряным блеском речной волны[350].
По разумению древнего славянина, в день кипения природы происходит «раскрытие небес», т. е. обнаружение божественных сущностей мира, объединяющих и земных тварей. Людям открываются потайные, сокровенные силы земли, ее сокровища; обладание разрыв-травой дает власть разрывать все замки и запоры. Выходя из замкнутости единичного бытия, звери и птицы, деревья и травы ведут тихую беседу и понимают друг друга. Утром, на заре, можно видеть, как солнце, «играя», т. е. радуясь и танцуя, встречает луну, древнейшее божество влаги: это - свадьба небесных светил, она освящает и земной брак человека[351]. В вечер Купалы молодые люди встречают своих подруг; венчаясь венками, опоясываясь травами, юные пары «играют» песни и прыгают через очистительный живой огонь костра, выбитый из древесных ветвей, питаемый живой силой купальской березки[352].
Но главное диво Купалы творится в полуночный час, когда из гущи перистых листьев папоротника, подобных крыльям русалки[353], вырастает огненный цветок. Он развертывает свои лепестки на одно мгновенье, и в это мгновенье начинают волноваться воды, и ночь становится светлее дня. Тот, кто находит волшебный цветок Перуна, наполненный огненной влагой, напитком богов, тот постигает тайны, недоступные другим людям: он видит недра земли, знает прошлое и грядущее земного мира; беседы зверей, птичий щебет, шумы леса, шопоты прозябающих трав исполняются для него вещим смыслом; без слов познает он чужого человека, угадывает его думу, и в каждом человеческом сердце он властен зажечь любовь[354].
Папоротник, расцветая, лишает людей здравого смысла, сбивает их с привычного земного пути, пьянит их чувства[355]. Упоенная русальной игрой, звуками музыки и песни, душа язычника самозабвенно предается блаженной близости к природе, к ее божествам и к тварям объединенного купальского мира.
Так помыслы языческих верований, излучаясь в обряды, создавали внутреннее единство культа священного года и сближали русальную игру с мифологическим видением водно-огненной богини. Музыкальная стихия, одушевлявшая символические игры древности, еще более укрепляла те цепи сходств, которые соединяли образ русалки, украшенный чарою неземной песни, с русалиями, искавшими забвения зримых явлений в пении души, религиозно одержимой.
Обрядовая музыка была постоянным спутником всех праздников священного года. Рожденная в полуосознанных омутах народной души, вобравшая в себя ропоты чувств, неуловимые для слов и видимого действа, эта музыка пела о глубинном источнике язьгческих верований и отражала в своих звонах игру его кипучих вспененных волн.
308В начале «Повести временных лет» летописец сообщает о древних славянах: «и браци (браки) не бываху в них, но игрища межю селы, схожахуся на игрища, и на плясанье и вся бесовьская песни и ту умыкаху жены себе с нею же кто совещащеся». Под 1068 г. летописец жалуется, что дьявол отвлекает «нас от Бога трубами и скомрахы, гусльми и русалья». Кирилл Туровский упоминает о русалиях наряду с разбоем, чародейством, бесовскими песнями, играньями неподобными. У Буслаева. Историческая хрестоматия. Вопросы Ивана Грозного, предложенные Стоглавому собору 1551 г., дают описание обрядовых игр: «Русалии о Иоаннове дьни и навечерии Рождества Христова и Богоявления садяться моужне и жены и девицы на ночное плещование и на безчинный говор и на скакание и на богомерзкие дела и, егда нощь мимоходит, тогда отходят к реце с великим кричанием ажи бесни и оумываются водою». Дополнительные вопросы 24-й и 32-й. Список XVII века.
Примечания:
309. «Молятсь огневи под овином и Вилам и Мокоши... и Роду и Рожанице». Слово Христолюбца у Фаминцына. Божества древних славян. I. 36.
310. Leger. La Mythologie Slave. 170.
311. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 122-123.
312. Там же. 124,127, 138, 148.
313. Там же. 127, 128
314. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила.
315. Буслаев. О сродстве славянских вил, русалок и полудниц с немецкими эльфами и валькириями; Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I. 123; Фамищын. Божества древних славян. I. 291.
316. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I. 644; Зеленин. Russische Volkskunde. 393.
317. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 33, 34, 711-72.
318. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 197. Ср. валашскую сказку о Флориани, которому водяные девы возвращают жизнь. У Буслаева. Русская народная поэзия. 324 (1861).
319. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 240.
320. Ср. свадебную песню, записанную Афанасьевым в Москве: Ты кипи, кипи колодезь Ты кипи, кипи студеный Ключевою водою Со серебряною пеной. У Афанасьева. Поэтические воззрение славян на природу. II. 289.
321. Там же. I. 604-605.
322. Там же. I. 621,623.
323. Там же. III. 164.
324. Терещенко. Быт русского народа. VI. 191-193; у Фаминцына. Божества древних славян. 210.
325. Дополнительные статьи к Судебнику 1627 года и царской грамоты 1648 года у Афанасьева. Поэтические воззрение славян на природу. I. 60. У Фаминцына. Божества древних славян. 210.
326. Yasna. X. 26-30. В Ведах Сому приносит орел - IV. 26, 4, IV, 27, 1, 2, X, 48, 3, или дочь солнца - IX, 113. А. 3.
327. Kuhn Adalbert. Mythologische Studien. I; Die Herabkunft des Feuers und des Gottestranks. 105.... 130.... (1886).
328. В южнорусской песне поется:
«Сыдила русалка на крывий березе, Просыла русалка у жиночек намиток, (т. е. белых льняных покрывал) У дивочек - сорочек, Жиночки, подружки, Дайте мне намитку, Хоть вона худенька, да абы-б беленька».У Миклошича. Die Rusalien. 393. В Малороссии был обычай навешивать на священные дубы льняные тряпочки, ленты и нитки - в жертву русалке. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 140. В Беловежской пуще украшали лоскутками ветки деревьев вокруг «святой кринушки». Rich. Andree. Ethnologische Parallelen und Vergleiche. 58, у Schroder. Arische Religion. II. 283. Примечание.
329. Сказка «Морской Царь и Василиса Премудрая» у Афанасьева. Народные русские сказки и легенды. I. 553.
330. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 123.
331. Там же. III. 188.
332. Гусь и лебедь отождествляются в народной поэзии. «Гуся, гуся, лебедятко. Возьми меня на крылятко», в сказке об Иване и ведьме, у Буслаева. Русская народная поэзия. I. 314.
333. Leger. La Mythologie Slave. 175
334. Сказка о Даниле Бессчастном, у Афанасьева. Народные русские сказки и легенды. II. 190.
335. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 123.
336. Русальный обряд, устанавливающий кумовство, состоит в следующем: из несрезанных веток двух плакучих берез заплетают венок и сажают на него чучело кукушки, заменяемое иногда кукушкиной травой, по сторонам привешивают кресты; две девушки обходят эти русалочные качели, одна на встречу другой, трижды целуются через венок и через венок же передают друг другу желтое яйцо, после чего обмениваются крестами и кольцами. Хор поет: «ты кукушка ряба, ты кому же кума? Покумимся, кумушки, покумимся голубуш-ки». Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 227.
337. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 309. Ср. Лебедь в песне о Потоке и в малороссийской песне и Буслаева. Русская народная поэзия. I. 239
338. Kuhn. Mythologische Studien. I. Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks. 105. В поверьях арийских племен кукушка - сотрудница дятла, который и по русским поверьям вьет гнездо на небесном дереве, со всех сторон замыкает это гнездо, а весной размыкает веткой- молнией и приносит молнию на землю в образе разрыв или скакун-травы. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I. 496.
339. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I. 82.
340. Там же. 1.82. 85. II. 314.
341. Там же. III. 707-708.
342. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила.
343.
«Ой бижиф, бижиф красна дивчинка, А за нею да русалочка: Ти послушай мене, красна панночка! Загадаю тоби три загадочки. Коли ти вгадаешь, я до батка пущу; А як не вгадаешь, я до себе возьму. Ой шчо росте, да без коренья? Ой шчо бижиф, да без повода? Ой шчо свите, да без всякого свиту? Камень росте, да без коренья, Вода бижиф, да без повода, Папороф свите, без всякого свиту. Дивчинка загадочки не вгадала, Русалочка ею залоскотала».У Миклошича. Die Rusalien. 393
344. Максимов у Афанасьева. Поэтические воззрения славян на природу. III. 167.
345. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 147.
346. Там же. III. 148.
347. С.Т. Аксаков, вспоминая свои отроческие годы, рассказывает, какое глубокое впечатление произвели на него деревенские игры и песни на Святках, в столярной избе, где собралась дворовая молодежь «переряженная в медведей, индеек, журавлей, стариков и старух». «Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все» (Аксаков С. Воспоминания. 420-421).
348. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. III. 105, 118, у Фаминцына. Божества древних славян. I. 301.
349. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. III. 713-714.
350. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. II. 309; Зеленин. Russische Volkskunde. 370-371.
351. Ср.: Труды этно-ст. экспедиции. III. 279. У Фаминцына. Божества древних славян. I. 187; Терещенко. 4. 75. У Потебни. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. 167; Афанасьев. Поэтические воззрение славян на природу. III. 717; Schroder. Arische Religion. II. 398.
352. Зеленин. Russische Volkskunde. 371-372. Schroder. Arische Religion. II. 237.
353. Папороть, папороток - крыльце у птицы, перепонка между перстов у водяных птиц (Даль. Толковый словарь. II. 13).
354. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. II. 382; Потебня. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. 178-180; Зеленин. Russische Volksrunde. 370.
355. Kuhn. Mythologische Studien. Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks. I. 197.
Глава шестнадцатая. Обрядовая песня
Для того чтобы ясно представить себе древние обряды, для того чтобы понять древнюю мысль во всей ее жизненной свежести, мало изучить полузабытые мифы по хладным, засоренным следам прошлого, рассеянным на нашем пути. Эти отрывочные воспоминания не вольют нам в душу тех чувств, которые оживляли помыслы языческой веры и поддерживали их обаяние в ходе многих веков. Только в старой обрядовой песне, звучавшей на праздниках священного года и дозвучавшей до нашего времени, мы воспримем чувства наших предков как жизнь, еще живую, как глубокий вздох древности, долетевший к нам из умолкнувшего далека.
Если бы в кратких сведениях о былой вере мы не сумели найти ничего ценного, то поэзия, созданная нашим народом, должна была бы нам показать, в какой глубине сердца, раскрывающегося навстречу весне, вынашивались сказочные созерцания славян, населявших нашу равнину.
Если бы от языческой эпохи нашей истории не осталось никаких воспоминании, кроме старинной обрядовой песни, мы должны были бы искать в образах древнейших верований отблеск чистой красоты и не успокаиваться, пока она не раскроется нам во всем своем неувядаемом очаровании.
Русская песня родилась в доисторическом прошлом восточнославянских племен и стала самобытным выражением народной души, исполненной музыки и поэзии. Склад стиха в старых песнях определяется напевом, что дает возможность сопоставить их с древнейшей поэзией Вед, с гимнами одной из книг Авесты (Ясна), пропетыми будто бы иранским пророком Заратустрой и с песнями древних германцев. По своему складу песни всех этих народов представляют видоизменения первоначального, не дошедшего до нас, праарийского размера, причем сравнительное изучение их показало, что русский размер стариннее и первоначальнее германского и что он должен был появиться лишь несколько позднее размера песнопений, приписываемых великиму иранскому боговидцу [356]
Эти соображения заставляют отнести рождение нашей поэзии в глубокую дохристианскую древность, и мы имеем основание предположить, что первые песни нашего склада звучали у тех древнейших славян Поднепровья, которые приняли наследие трипольской культуры. Среди невзгод и опасностей долгих тысячелетии, в шуме военных и торговых походов, в превратностях переселении, в ужасах мятежей и вражеских набегов, вопреки влияниям других культур, пренес наш народ невредимой красоту своих первых вдохновений.
Духовным лоном, где родилось и расцвело древнее песнопение, была мистерия природы. Религиозное восприятие тайн, владеющих миром, творило самое существо песни и одухотворяло ее напевы, тогда как ее художественные формы определялись обрядами, объединенными в культ священного года
Когда, по разумению язычников, солнце получает новые силы от влаги и начинает светить обновленным светом, тогда загорается огонь в онемевшей душе человека, еще объятой дремой зимы, и пробужденная душа, встрепенувшись отзывается на зовы, звучащие ей из мира богов. В Ведах поэт, воспевающий бога Агни, так изображает этот переход от сна души к ее вдохновенному волнению, творящему песню: «Отверзаются мои уши, отверзаются мои очи перед огнем, вложенным в мое сердце. Вперед спешит мой дух, уносясь помыслом в дали, - о чем теперь я буду говорить, о чем я должен думать?»[357]
Огонь, Агни, источник духовного ясновидения, учил человека вдохновенному пению. Индусы слышали песню в шумах огня: пастух, греясь у костра среди стада своего, в ночную пору, прислушивался к полыханию пламени, и ему чудились в нем переливно-трепетные, будто издалека звенящие напевы; от них согревалась и пела его душа. У огня учились своему искусству и певцы наших равнин. Волос, огненно-солнечный бог, который, подобно Агни и Аполлону, почитался покровителем стад, скотьим богом, был и божеством песни
автор «Слова о полку Игореве» называет неведомого певца стародавней Руси, Бонна, «Велесов внуче», т. е. производит его песнь от небесного огня. И теперь народ знает эту старую правду об огненном источнике пения: «Затепливай песню, - говорят в Новгородском краю, - что ты, затух, забыл песню-то?»[358]. Помнит о вдохновляющей силе огня и новая поэзия; огнем не только созидается, но и постигается прекрасное творение: «И твой восторг уразумел восторгом пламенным и ясным», - поет певец о песнях другого певца[359].
По верованию славян-язычников, пению учили и светлые воды: когда играет море, - так рассказывают в Малороссии, - из глубины его выплывают морские люди, «щи половина человека, щи половина рыбы» - русалки - «и поют песни; и приходят к морю чумаки и научаются тем славным песням и распевают их по городам и селам»[360]. Народное выражение: «песня, как река, льется» - дает отзвук на родство между пением и течением воды.
Рожденная огнем и водою, песня, по убеждению наших предков, есть одно из проявлений божественного начала в природе. Поют прежде всего боги: ветер в грозе, русалки в небесном и земном океане и на дне родников; «играет», т. е. пляшет, само солнце в Иванов день, и эта игра близка пению; «Сонейко, Сонейко, рано усходить да играючи. Сонейко, Сонейко, играючи Яна звеличаючи», т. е. прославляя песнею Ивана Купала[361]. Слово «играть» связано у нас со звуком, с музыкой: играть на гуслях, играть песни[362]. Игрой было и древнейшее обрядовое пение; музыка и слова соединялись в нем с танцем, жестами, действом[363]. Некоторые обрядовые песни и теперь называются «игровыми».
Поют прежде всего боги... Мало этого, только они и могут сложить песню. Когда поет душа человека, то ее пение исходит из божественного начала в ней, из влаги, озаренной огнем, т. е. из пенистого меда, «играющего» и в душах тварей. Поэтому народ называет пение «сладостным». Обрядовые песни вводили участников религиозного действа в круг священного года и поддерживали в них чувство близости к силам, творящим жизнь. Согласность (гармония) хоровой песни давала выражение согласию между богами и живыми тварями мира.
Как одно из явлений религиозного опыта, обрядовая песня, по разумению наших предков, исполнена сверх-обычным смыслом и сверх-обычной силой. В ней живет мудрость, т. е. вещее знание, которое проникает в естество предметов более глубоко, чем повседневные суждения людей; и о чем бы ни пела она, хотя бы о том, что живет один миг, ее напев улавливает неизменную суть этой улетевшей были. «Песня каждая - правда, как подумаешь умом», - говорит народ[364], выражая в этих словах свое стародавнее воззрение на поэзию. Как образ правды, песня задумчива, целомудренна и проста. Время бессильно перед нею, и устойчивость ее напева, с его таинственной и прекрасной гармонией, с вольным, но твердым и отчетливым ритмом, не страдает ни от свободного исполнения, ни от колебаний художественного вкуса: в хоровом пении напев допускает бесчисленные варианты, тут же создаваемые подголосками, сопровождающими голос запевалы, и, несмотря на это, сохраняет свой основной образ. Мелодия песни переживает многие века даже тогда, когда древние слова песенного сказа утрачены и заменены новыми, не имеющими прямого отношения к языческому обряду[365].
Сила древних верований сказывалась не только в складе народной песни, не только в способе ее исполнения и общем облике ее мелодий. Образы, связанные с мифами и появляющиеся в обрядах языческого культа, определяли нередко и содержание песенных строф и самый напев. Доныне в сохранившихся колядках прославляется юное солнце, в подблюдных песнях огонь и вода предвещают судьбу, веснянки закликают огонь на землю. Доныне архаические символы живут в наших старых песнях. Лучина, намоченная в воде и потом зажженная, - образ слияния огня и влаги - служила в культе природы символом жизни; если она горит плохо или потухает, то это «верный знак», что жизнь того, кто ее зажег, обречена на увядание. Тот же образ, с тем же символическим значением определяет содержание песни, известной под названием «Лучинушка», очень любимой народом: она поет о том, как угасает жизнь молодой женщины, о «лучине», затухающей от того, что нелюбовно обошлась с нею грубая свекровь[366]. В песне «Верный наш колодезь» властвует образ чистой ключевой воды, верный источник любви и жизни. Песня рассказывает о случившейся беде: иссякла вода в колодце, померкла любовь... Больше нет древних слов в песенном сказе, они забыты. Однако новые слова, несмотря на всю свою житейскую современность, выражают мысль, сверкнувшую издалека: молодой хозяин устраняет несчастие тем, что привозит из Рязани, Петербурга, Москвы умниц, и ласка их вносит в жизнь новую радость[367].
Если обрядовая песня и в строе своем и в содержании хранит существенные черты древнего религиозного опыта, то мы вправе искать в ней отражение тех чувств, которые загорались в душах язычников и находили себе исход на праздниках священного года. Близость песни к культу природы открывает путь для живого полновесного восприятия религиозных переживаний, скрытых в обрядах русалий.
Обрядовая поэзия русского народа богата песнями, имеющими непосредственное отношение к завершительной мистерии солнечного круга, к русалиям Купалы, озаренным встречей небесных светил. Это - свадебные песни, драгоценные жемчужины мировой поэзии.
Свадебный обряд ныне выделен из круга годовых праздников, сохраняющих следы языческого культа. Но в древности действа этого обряда были теснейшим образом связаны с торжеством летнего солнцестояния, и символика свадебной мистерии та же, что и символика мистерии природы. Огонь и вода участвуют в брачном ритуале, как очистительные силы: через пылающий костер проезжает свадебный поезд, невеста умывается в реке или ключевою водою. В песнях поют о березе, о вербе, и образ древа жизни воплощается в украшенном деревце; на свадебном каравае или над коморой, где этот каравай выпекается, устраивают «рай», полный цветов и птиц, носителей света: кукушка, лебедь живут в этих райских садах; особый почет воздается коню, на голову которого выливают вино, заменяющее медовый напиток древнего времени. К действам свадебного торжества относится и танец «бояр», т. е. дружек «жениха-князя», - символ весенней грозы: жупанами своими «бояре» наводят облако, стрелами проливают дождь, а в блеске их сабель сверкают молнии. Свадьба в понимании язычников есть шествие и завершение весны.
Если большинство обрядов священного года воспроизводит и славит жизнь природы, определенную непреложным законом, и призывает людей к посильному участию в этом деле богов, то свадебные обряды говорят о том, что тайны этой божественной жизни уже приняты в душу человека и ею управляют. Закон солнечного круга испытывается здесь как закон, суд, как судьба человека, и свойства богини-жрицы, творящей весну, переносятся на «княгиню-невесту», главное лицо в свадебной мистерии. Невеста уподобляется воде и солнцу, она кукушка или лебедь в благоуханных садах рая, она белая береза или верба, она прекрасная весна, расцветающая под облачным покрывалом, принесенным от далекого моря, от огненного камня - Алатыря[368]. В свадебной мистерии человек переходит в мир богов природы, и путь к ним укажет ему любовь, зарождающаяся в его сердце.
Свадебные песни очень хорошо сохранились, несмотря на то что древность их не меньше, чем древность гименеев Гомера. Религиозный подъем, который переживали язычники в часы русалий Купалы, сообщал многим песням яркость и силу чувства; поэтому так живы они в народной душе. До сих пор древняя песня звучит на деревенских свадьбах; два хора - хор девушек, подруг невесты, хор парней, дружек жениха, участвуют в этой музыкальной мистерии. Содержание песен и порядок их исполнения отражает давнюю языческую старину, то время, когда брак совершался через увод, т. е. похищение невесты женихом. Песни, которые поются девушками на свадебных вечеринках[369], полны отголосками и древнего обычая умыкания, и сменившей его купли невесты; в них слышны страх, борьба и отчаяние, печаль, утешения и зарождающееся счастье370.
Рассказывая о том, как девичье сердце в тоске отрывается от прошлого и все же влечется к новой незнаемой жизни, свадебные песни музыкой звучащих слов касаются душевной глубины, более существенной, чем личное горе. И скорбь крестьянской девушки, вступающей в чужую семью, «в неволю великую, на чужу-дальну ознобну сторонушку», и сказ о драме умыкания, - претворенная в мелодию, - раскрывают самую сущность любви, страдающей в блаженстве своем, и в страдании полной тайной отрады, любви, которая владеет душою, не спрашивая ее согласия на свою власть. «И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может»[371] - и в этой непреложной власти любви - глубинная основа свадебной песни. Осознанная в душе великого поэта правда жизни нашла слова такие же простые и нежные, как прост и нежен древний напев.
Еще определеннее и ярче звучит любовь в тех свадебных песнях, которые поют о ней и в напеве, и в подчиненных ему словах[372].
Такая песня как бы повторяет тайное действо обоготворенных сил природы - огня и влаги: она поет о том, как огненный луч упал в сердце человека, т. е. в глубинный родник его жизни, как в нем вскипела любовь, золотой мед весны[373]; песенные припевы призывают Ладо[374] - весеннее солнце, бога согласия, любви и дружбы.
Так, в просветленной музыке обрядовых песен слышится неумолчный гул первозданных чувств, питавших древнюю мысль о рождении жизни. Мистерия природы, олицетворенная в русалиях и русалке, т. е. мистерия правды, вещей мудрости и единения есть мистерия любви.
Вот что знает о древних тайнах песня-веснянка, которая и теперь, быть может, поется на Русской земле:
«А сама я молода Скинуся вербою, Скинуся вербою, Над быстрой рекою. Плыли той рекою Купцы-торговцы, Стали тую вербу Они сечь, пилить, Стали сечь, пилить, Звонки гусли мастерить. Вы играйте, гусли, Гусли-самогуды, Вы играйте жалобно, Как я, девица, плакала, За старого идучи, На молодого глядючи»...Эти простые слова, эти наивные горестные жалобы оскорбленного сердца сплетаются в поэтический образ на основе древнего религиозного понимания мистерии жизни.
По разумению наших предков, верховный бог пробуждает жизнь природы, даруя ей светящуюся влагу, небесный играющий мед. Крылатая русалка приносит его на землю, и под действием оживляющей силы зацветает древо жизни - береза или верба - и клонится «над быстрой рекой».
Взращенная чудесным напитком богов, верба хранит в себе неиссякаемый источник лада и вдохновенных песен. Они звучат в ее ветвях, им шлет отзывы, им вторит воскресающая жизнь земной природы. Обертываясь вербой и напояясь скрытой в ней живительной влагой, страждущая душа слышит пение весны, и любовь человеческого сердца роднится с любовью, разлитою в водо-огненном естестве просыпающегося мира. Объятое чарами этой встречи, сердце раскрывается для песни: оно поет вместе с природой, поет о том же, о чем шепчут убегающим волнам к ним склоненные весенние цветы.
Примечания:
356. Вестфаль. О русской народной песни // «Русский Вестник», 1879, сентябрь.
357. Риг-Веда. 6. 9. 6.
358. Линева. Великорусские песни в народной гармонизации. II. Песни новгородские.
359. Пушкин Жуковскому - на издание книжек его «Для немногих».
360. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. II. 245.
361. У Фаминцына. Божества древних славян. 275.
362. Ср. областной говор Тульской губернии.
363Веселовский Александр. Поэтика. Собрание сочинений. Серия. I, т. 1. О методах и задачах истории литературы как науки. 227, 228.
364. Линева. Великорусские песни. II. Песни новгородские.
365. Певец или «баян» назывался вещим и слыл чародеем. В нашем языке слово баитъ - говорить, шептать, знахарить, заговаривать - родственно словам: баюкать, т. е. усыплять песнею; баян - певец, обавник - чародей (Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I. 403-408; Даль. Толковый словарь. I. 39).
366. Сборник Ю.Н. Мельгунова. № 8.
367. Приводим текст этой хороводной, игровой песни:
Верный наш колодезь, верный наш глубокий, а что в тебе воды нет? а что в тебе воды нет? Конь воду выпивал, конь воду выпивал, копытами выбивал, копытами выбивал. Нашего хозяина, нашего молодого дома не случилося, дома не случилося. Уехал наш хозяин, уехал наш богатый в Рязань-город погулять, в Рязань-город погулять. Привезет наш хозяин, привезет молодой какую-нибудь весточку, какую-нибудь весточку, Весточку новую, весточку новую рязанскую умницу, рязанскую умницу.Это колено поется три раза. Во второй раз Рязань-город заменяется словами Питер-город, в третий раз поют - в Москву-город. Затем следует заключение:
Рязанска умница, рязанска умница, стели мне постелюшку, стели мне постелюшку. Питерска умница, питерска умница, клади в изголовьице, клади в изголовьице. Московска умница, московска умница, сбери мне постелюшку, сбери мне постелюшку. Спасибо девушки, спасибо девушки на мягкой постелюшке, на мягкой постелюшке.Сборник Ю.Н.Мельгунова. I. 27. № 12.
368. Описание свадебного обряда у Костомарова. Семейный быт в произведениях южнорусского песенного творчества (1890); Великорусская народная песенная поэзия (1881); У Зеленина. Russische (Ostslavische) Volkskunde.
369. Последняя из вечеринок, происходящих в дни между «поручением» и венчанием, у великороссов называется девишником.
370. Песни, собранные Рыбниковым. III. 347. ... IV. 105.... Костомаров Н. 1. Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества. 2. Великорусская народная песенная поэзия.
371. Пушкин. «На холмах Грузии»...
372. Примером могут послужить такие песни, как «Стояли кони убранные», «Как на зорьке, на зорюшке». Сборник Вильбоа. 49. № 29. 48. № 28.
373. В народной поэзии любовь уподобляется жажде, питью, таянию снега, свету, пожару и т.п. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 10. В одной из песен поется: «горит, кипит ретивое сердце по красной девице». Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. II. 448.
374. На Карпатской Руси в Иванов день, т. е. в день любви, поются ладовые песни. Целый ряд производных от слова «Ладо» по своему значению связаны с идеей свадьбы: ладовать - славить свадьбу (Волынь), ладовать - сватать (Рязанская и Ткльская г.), лады - помолвка (Калужская г.), ладканя - свадебная песня (Галиция) (Фаминцын. Божества древних славян. 255-257).
Глава семнадцатая. Русь
Обыденная жизнь русского народа, его поверья, речения и заговоры, его былины и сказки, его игры и обрядовые песни сберегли крупицы угасшего язычества и помогли нам уразуметь один из главных помыслов древней веры. Изумленный тайнами природы, славянин первобытных времен узрел в них религиозную тайну: божественную мистерию огня и влаги. Раскрываясь в смене годовых времен, эта мистерия жизни была источником и видимых, и душевно-духовных свойств, присущих земным тварям; огнем озаренная влага указывала людям пути к соединению с богами и с созданным миром, одаряла их благами мудрости и любви.
Что же дает нам древнее религиозное тайноведение для понимания имени Русской земли и русского народа?
Два явления в религиозном культе древних славян: символические игры - русалии и полубогиня, посредница между богами и природой - русалка получили созвучные названия: словесное выражение одного и того же помысла о рождении жизни. Их звуковому сродству соответствует сродство обозначаемых ими действ и образов. Поэтому корень «рус», определяющий каждое из этих названий, может быть признан общей для них коренной основой и носителем идеи, в них отображенной.
Не образует ли тот же самый корень «рус» и основу для русского имени?
Связь между словами «русалии», «русалка» и коренными звуками имени Руси не пользуется общим признанием. На нее указывали некоторые исследователи, в том числе Гедеонов[375]; но те ученые, которые полагают, что названия «русалии» и «русалка» произошли от чужеземного слова «rosa», что они появились в русском языке лишь в христианские времена, отрывают их от русского имени.
Пусть же само имя «Русь» и древняя его история определят его отношение к словам, обозначающим помыслы и видения древней веры.
Коренная основа «Руси» звучит на нашей равнине с незапамятных времен. Даже племенное название «Русь», или «Русы», упоминается гораздо раньше IX века, т. е. той эпохи, когда, по убеждению норманистов, какая-то неведомая «шведская русь» основывала наше государство. Мы уже знаем об южной Руси VIII и IX веков; но есть данные, отодвигающие русское имя в еще более далекие от нас времена. Мусульманский писатель Табари (838-912) в книге «История царей» рассказывает, что в 644 году жил в Дербенте царь Шахриар; он сказал Абдурахману: «Я нахожусь между двумя врагами; один - хозары, а другой - русы, которые суть враги целому миру, в особенности же арабам, а воевать с ними, кроме здешних людей, никто не умеет»[376]. К еще более давней эпохе относится другое свидетельство. Шахр-Эд-Дин, историк Табаристана, говорит об одном из кавказских владетелей конца VI века, что «во владениях русов, хозар и славян не было начальника, который бы ему не повиновался»[377].
В более глубокой древности следы русского племени как будто теряются; но племенные названия, образованные на той же коренной основе, существуют и до и после P. X. в применении к разным народностям. Арабские писатели упоминают о государстве Серир к западу от устьев Терека[378]. В первые века христианской поры на юге России жили россаланы, а в I веке места близ устьев Волги были заняты аорсами. Подобные названия встречаются и за пределами русских равнин. Так, на Памире еще до P. X. было царство скифов Roxanake (ныне область Roshan); лет за 150 до Геродота скифы из этого царства приходили воевать с мидянами[379]. Наконец, за много веков до P. X. в Италии процветало государство этрусков, созданное древним народом, пришедшим из Азии; одна ветвь его называла себя рушами, ее путь проходил по Малой Азии в Лидию и дальше морем; другая ветвь называлась рассами или расенами[380]; покинув (в XII веке до P. X.) свое государство - Урарту в области озера Вана - расены жили некоторое время в долине Аракса, потом на Северном Кавказе, причем часть их двинулась дальше по северным берегам Черного моря на Балканский полуостров (пелазги) и в Италию, где соединилась с рушами. Эти предки этрусков принадлежали, как думают, к протокавказской расе (казы, яфетиды), отчасти сохранившейся до сих пор (черкесы, абхазцы, грузины, мингрельцы, чеченцы, лезгины и др.). Уже за несколько тысячелетий до P. X. протокавказские племена занимали обширные области и к югу, и к северу от Черного моря.
Все эти факты делают несомненным участие звуков «рс», «рус», «рос» в названиях племен, так или иначе связанных с нашей равниной. Древнее население южных ее областей, в состав которого входили киммерийцы, черкесы, скифы, аланы и другие племена, частью сливалось с восточным славянством. Вследствие этого смешения народностей славяне могли получить не только от своих прямых предков, но и от своих предшественников и соседей ряд древних названий и слов и воспользоваться ими для новых словообразований.
Коренные звуки «рс» звучали издавна не только в названиях племен. В начале христианской эры, у древних писателей, Волга была известна под названием Ра или Рос[381], а за 450 лет до P. X. Геродот называет ее Оарус[382]. В гимнах Риг-Веды не раз упоминается священная река Rasa, обтекающая мир[383]. Ввиду того, что инды (синды) до своего переселения в Азию жили в южной России, есть некоторые основания предположить, что имя Rasa также относится к Волге[384].
В землях, заселенных славянами, собственных имен, построенных на древней основе «рос», «рус», великое множество. Особенно много таких имен встречается среди названий рек; веси, расположившиеся на их берегах, также нередко принимают русское имя. На одном острове Рюгене более тридцати названий имеют в коренной основе звуки «рс»: Russewase, Rosengard, Russenfeld, Ruse, Ruskewitz, Rostock, Rostow и т.д.[385] В «Житии Оттона Бамбергского» Рюгенская область называется Руссия. Далее на восток, в дельте Немана, его правый рукав именуется Рус; морской залив, в который впадает Неман, известен был в древности под названием Русского моря, а морской берег, прилегающей к этому заливу, еще в XV столетии именовался Русской землей[386]. У самого устья Немана есть остров Рус и Древний Рус[387]. Названия, подобные приведенным, встречаются и близ устья Вислы: в заливе Фришгаф - Росенен, на косе Куриш - Росситен; у города Мемеля находим Руссен, Руслен, в Шаловонии - реку и город Россиены, вверх по Неману - реку Рось. В Чудском краю река Росонь соединяет Нарову с Лугою; вверх по течению Наровы есть селение Распадай и остров Русини; дальше - селения Русянец, Ростали. У впадения Меты в Ильмень-озеро протекает река Русская, у Новгорода - Порусь, далее есть город Старая Русса и село Росасна. Южнее Киева течет река Рось с притоками Роськой и Росавой. В Смоленской губернии есть город Рославль; между Десной и Окой - река Росета и Неруса, между Десной и Сеймом - Руса, между Окой и Доном - Рясское поле и т. д.[388]
Итак, звуки русского имени издревле связаны с равнинами, занятыми славянскими племенами; этот факт указывает путь к истокам «Руси» и делает ненужными поиски нашего имени и нашего племени в чуждой нам Скандинавии.
Частое применение звуков «рус» и «рос» к названиям рек, которые издавна были предметом религиозного поклонения, наводит на мысль, что славяне придавали этим коренным звукам особое, священное значение, что они выделяли их из множества других возможных имен. В некоторых случаях звукосочетание «рус» не входит в собственное имя, но в дополнение к нему, например Неман-Рус, Волга-Рось. Такое применение слова также указывает на то, что оно имеет некий родовой смысл.
Согласно данным филологии, коренные звуки «рс» должны быть связаны с нарицательным словом, общим для арийских языков, означавшим воду или течение воды. Это слово образовало такие слова, как греческое (borj (течение, поток), латинское ruo (теку), rivus (ручей), германское rieseln (струиться), кельтское rus (озеро), русское «река»[389]. К этому можно добавить русское слово руслиться = течь током, стремиться ручьем, и слово русло = поток, ручей, струя[390]. Те же согласные «рс» имеют отношение не только к воде, но и к свету; так, санскритское rue и зендское raos, обозначают сиять = splendere[391].
Двойственное значение коренных звуков «рс» имеет в своей основе помысел о сродстве между огнем и влагой. Та же мысль - живая основа культа природы - отразилась и в языке русской народной поэзии, где огонь и вода (питье) могут указывать символически на одно и то же психическое состояние, на чувство любви[392]. С другой стороны, мы находим в народном языке слово, которое относится и к свету, и к влаге; слово это - «лелеять»; оно имеет двойной смысл: блестеть и разливаться[393]. Применение этого двойного смысла к душевным явлениям дает идею любовности, которая и в литературном языке связана со словом «лелеять».
Очень трудно судить о значении корня «рус» в древнейшем языке, предполагаемом родоначальнике известных нам языков и наречий. Но все же заслуживает внимания мнение одного из современных филологов, устанавливающее исконную связь звуков «р» и «с» с огнем и водою: согласно этому воззрению, знаки-символы древних времен, найденные на скалах и в пещерах, сумерийский и египетский шрифты, древние письмена современных арийских народов и звуки речи, соответствующие этим письменам, - обозначают идеи, связанные с древнейшей религией Света и Солнца как воплощения этого света; в религиозном культе, установленном на почве такой веры, большое значение имел день поворота от зимы к лету; темная гласная «у» (латинское «и») означала самую низкую, глубокую точку солнечного пути в день зимнего солнцестояния; соединение гласной «у» с согласной света «р» (латинское «г»), т.е. «ур» (латинское «иг») обозначало и воды земли, в которые погружалось солнце, и свет (огонь, солнце), погруженный в эти воды, и могло заменяться звуком «су» (латинское «su»); согласная «с» давала отзвук тому шипению, которое слышится при соприкосновении огня с водою[394]. В санскрите звук «су» значит рождение; от этого корня происходит слово «сома» - название жизнетворного напитка, заменявшего мед; им угощали богов во время жертвоприношений, и воспевали его как божество[395].
Имея в виду все эти соображения, возможно установить идейную связь между коренными звуками русского имени и названиями русалии, русалка. Они близки не только по созвучию, но и по своему религиозному смыслу, они указывают на один и тот же помысел веры, на встречу огня и влаги, рождающую жизнь. Происхождение названий, примененных к играм священного года и к весенней полубогине от того же корня «рус», на котором образовано русское имя, получает таким образом идейное обоснование. С другой стороны, звуковая и идейная близость корня «рус» и названий, связанных с мистерией природы, открывает возможность отнести образы и символы этой мистерии - так, как она осуществлялась в годовом круге - к коренным звукам «рс» и к именам, образованных на их основе.
Корень «рус» содержит в себе идею культа природы или языческой мистерии жизни подобно тому, как семя хранит в себе растение, из него вырастающее. Мистерия весны, в образе русалки, расцветает из помысла об огне и влаге в результате работы воображения, отмечающей и творящей цепи уподоблений. Один из гимнов богу Агни в Ведах может послужить указанием на такое развитие мифов: «Подобно лебедю, шипит он (огонь) в воде; сильный умом в прозрении, рано просыпающийся у людей, он властвует, как Сома, возрождаясь в порядке обряда»[396]. В этом смелом уподоблении огня, одаренного разумной силой, лебедю и напитку бессмертия уже таится образ мудрой лебединой девы, хранительницы живой воды.
Древняя святость коренных звуков «рус» и помысел об огне и влаге, в них заключенный, не были забыты нашими далекими предками. Река, этот живой, сверкающий поток воды, испытывалась ими как святыня; поэтому звуки «рус» или «рос» звучат и в названиях славянских вод и в добавлениях, обозначавших их святость. Подобным же именем называются святые источники и колодцы.
Но имя «Рус» или «Рос» возродилось в истории славян не только как имя воды и земли. Оно стало именем народным.
Мы не знаем точно, когда это произошло, несомненно только, что усвоение славянским племенем названия Руси уже было фактом ранее VI века. История славянских племен и существо их веры могут объяснить и смысл, и значение этого события нашей жизни.
Вера и душа древнего славянина были близки природе; от нее многие племена получали и свои названия. В природе жили боги, и то племя, которое называло себя именем великой реки или горного хребта, увенчанного облаками, сознавало свою приобщенность к божеству; имя его получало религиозное освящение. Были и такие племена на Русской равнине, которые находили в природе своего родоначальника: так, приднепровские «скифы» производили себя от небесного огня - Геродот называет это божество Зевсом - и от дочери Днепра[397], т. е. от влаги земли.
Когда мы разумом и сердцем познаем жизнь наших далеких предков, нас поражает власть религиозных идей над человеком древности. При своей простоте и при своих, быть может, грубых формах, его жизнь кипела от творческой энергии, в ней скрытой, и находила опору в видениях веры. Человек того времени, усматривая божественную силу в природе, преклоняясь и трепеща перед ее тайной, хотел этой тайне приобщить свою жизнь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие явления в истории нашей земли возникали на почве религиозного опыта и могут быть и должны быть поняты из него.
Глубоко проникая в быт и культуру, религиозное переживание восточного славянина объединяло в его душе чувство веры с чувством родины. Не один раз эта особенность душевного уклада предуказывала русскому народу его исторический путь. Та же особенность русского мировосприятия делает понятным и сближение тайны, раскрывающейся в культе священного года, с таинственными основами народной судьбы.
Священное имя Русь или Рось было принято славянским племенем или союзом славянских племен от тайны природы. Языческая мистерия огня и влаги, узренная душою народа, овладела его бытием. Мистерия веры стала мистерией его жизни.
В «Слове о полку Игореве» есть намек на религиозную тайну, скрытую в русском имени: певец называет русичей внуками Дажьбога, т. е. зимнего солнца, возрожденного в водах матери-земли. Другое предание, еще не забытое в XVII веке, называет реку Рось прародительницей русского народа[398].
Когда имя Русь стало собственным именем славянских племен, оно не утратило ни своего религиозного смысла, ни душевно-духовного содержания. Помыслы и чувства, закрепленные коренными звуками «рс», создавшие в опыте веры культ природы и обряды священного года, продолжали жить в народном имени, поддерживая его святость.
Священный год вел человека от тьмы незнания к вещей мудрости, от розни к единству, от смерти к пробуждению, от молчания к песням любви, и эти священные пути слились в русском имени. «Русь» стала духовным ядром народной души, потайным смыслом ее бытия и ее назначения. Понятое как сияющая влага, имя Русь есть символ жизни, озаренной небесным светом, символ чувства, которому даруется разум и мудрость огня. Русь - любовь, прозвучавшая в песнях древних обрядов, та ведающая любовь, которая разумеет души тварей и объединяет их в волшебный час расцветания Перунова цветка.
Приняв новое, христианское вероучение, русский народ не отнял святость у своего имени. Опыт языческой веры, накопленный в душах древних славян, их размышления над тайной жизни послужили тем мостом, по которому они перешли в область христианского богопочитания и нашли путь - еще не пройденный - к высшей духовной правде, возвещенной в евангельском слове.
Этот замечательный факт русской духовной жизни получил наивное выражение в заговоре против пожара, записанном на Волыни в половине прошлого века: «Пришов Господь в мир, мир его не познав, а (тогда он) светлый огонь слугою своим назвав: Господь на небо вознесся, за Господом и слуга (его) святой огонь понесся»[399]. Святость языческого бога сделала его достойным служить делу Христа.
Длинен путь от тайны весенней природы к духовной тайне христианского ведения, но на этом пути нет непереходимой преграды. Огонь и вода уже в языческое время получали значение не только сил материальных, но и душевно-духовных. С другой стороны, разве душа человека в самой чистой, праведной любви своей отрекается от дыхания весны и разве не «играет» сияние зарей в чистой радости человеческого сердца? Огонь и вода, как были встарь, так и остались доныне символом духовного горения и неиссякаемого источника жизни, исходящего от глубинной жизни чувств. А соединение их, т. е. озаренность влаги, опаленность сердца божественным лучом, и творит святыню любви. Духовный оратор XII века Кирилл Туровский, осудивший весенний праздник русалий, говорит в одном из своих поучений: «Здесь весна красуется, оживляюща земьное естьство... Весна убо красьная вера есть Христова»[400].
Новая христианская Россия сроднилась с древней языческой Русью, узрев и в ней образы вечного, и приняла древнюю святость русского имени, одухотворив и освятив его учением Христа. На этой почве сложилась новая идея Святой Руси.
Из забытой, почти неисследимой глубины времен, принял в душу свою русский народ благоговейную, молитвенную нежность к святому имени «Россия». Оно звучит в душе и тоскою, и радостью, в нем видится и темная глубина, и сверкание лучей, в нем - колыбельная песнь материнского сердца, ведающая и обреченность, и неисчерпаемость жизни и благословляющая на эту жизнь; в нем - любовь, которая не знает сама, мука она или счастье.
«Любите Россию, лучше нее ничего не может быть на свете...» - так говорил ученицам русской школы, сбереженной на чужбине, русский герой, отдавший свою жизнь служению Родине[401]. В этих словах сказалась народная вера, живая до сих пор. Русь - любовь, излучающая свет нездешний... Знает ли кто что-либо лучшее на нашей земле?
Для карпаторуса «нет выше клятвы и святее присяги, чем клятва своей русскостью». «На мою русску душу правда, - говорит он, - а бых не русин быв, коли неправда»[402]. Русь - это любовь, знает ли кто лучшую опору для правды в земном мире.
В наш век, когда любое духовное благо отдается за благо земное, карпато-русский юноша отдает свою жизнь за имя России, за правду любви[403].
В годины злобы, раздоров и духовных смут «Русь» может исчезнуть, как народное имя. Но когда любовь к родному краю соединяет племена русских гор и равнин для борьбы с врагом или для мудрого и любовного устроения жизни, имя Русь вновь встает над Русской землей как светлое обетование, как призыв к верному жизненному пути.
Перед лицом этих тайн истории, перед лицом трагедий, переживаемых русским народом, очевидно, насколько учение об имени Руси, данное норманской теорией, не согласуется с его духовным смыслом и его священным значением. Чуждое русской душе, это учение, изобретенное пустым рассудком, считается лишь с поверхностью нашей жизни, не замечая помыслов древней веры народной, не внемля старой песне в русских сердцах.
Примечания:
375. Гедеонов. Варяги и Русь. 423....
376. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). 74.
377. Ламанский. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. 144.
378. У Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по Р.Х.). Из «Книги видов земли» аль Балхи (X в.): «В государство Рум входят пограничные земли славян и их соседей, как-то рус, серир, алан, арман и др., которые исповедуют христианскую веру». 273.
379. Фрагмент греческого врача IV века до Р. Хр. Ктезиана Книдского у Багимакова. Cinquante siecles devolution ethnique autour de la Mer Noire. 104. 107 (1937).
380. Marr. Le Caucase Japhetique et le tiers element ethnique dans la culture Mediterraneenne (1920) у Багимакова. La Syntese des Periples Pontiques. 36.
381. У Птолемея и Агафемера. Ср.: Гедеонов. Варяга и Русь. 420.
382. Геродот. IV. 123. 124.
383. Rig-Veda ou Livre des Hymnes, traduit du Sanscrit par A.Langlois. 473, 558, 584 и примеч. на ст. 291 (1872).
384. Башмаков. La Syntese des Periples Pontiques. 48-50.
385. Карта Померании XVII века у Забелина. История русской жизни с древнейших времен. I. 167....
386. В описании путешествия митрополита Исидора на Флорентийский собор сказано, что Исидор отправился из Риги в Любек морем, коней же его гнали берегом от Риги к Любеку на Русскую землю, потом на Прусскую, далее на Поморскую. Сын Отечества. 1836. № 1. 33. у Леонова. Варяги и Русь. Примечание 119.
387. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 172.
388. Ср.: Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 176.
389. Ср.: Гедеонов. Варяги и Русь. 418
390. Даль. Толковый словарь. IV. 116.
391. Гедеонов. Варяги и Русь. 425.
392. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 7. 10-11.
393. Вода лелеет, разделялась вода (Даль. Толковый словарь. I. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 71).
394. Wirth Н. Der Aufgang der Menschheit. 79, 80, 129, 145, 161, 191, 200, 201, 218 и др. (1928).
395. Rig-Veda. Немецкий перевод Grassmann'a 183 (1877).
396. Rig-Veda. I. 65. 9. 10.
397. Геродот. IV. 5.
398. Гедеонов. Варяги и Русь. 463.
399. Волынские губ. ведом. 1859. 17. У Афанасьева. Поэтические воззрения славян на природу. II. 10-11.
400. Кирилл Туровский. Слово в новую неделю на Пасхе.
401. Речь генерала Врангеля в Белой Церкви (Югославия).
402. Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении русского народа. Записки Этнографического общества. Кн. I и II. Изд. II. 185. С.П.Б. 1849.
403. Иван Олас был замучен украинскими террористами в 1938 году за то, что не захотел отказаться от русского имени («Русский Вестник». Орган русского православного братства в Америке. 12 января 1939 г. Возрождение № 4171).
Заключение
Норманская теория не дает удовлетворяющего объяснения тем событиям, которые волновали нашу страну в IX-м веке и были отмечены в первых известиях русской летописи. Беспочвенность и случайность доказательств, собранных для укрепления этой теории, неправда ее предпосылки, безнадежный для нее вывод из ряда исторических и лингвистических исследований, устанавливающий давнее применение русского имени на Русской равнине, и, наконец, укорененность имени Русь в верованиях восточных славян-язычников - все это обрекает гипотезу о властвовании норманнов в наших краях на неизбежное крушение.
Между тем норманское учение не только живет в исторической науке, но и утверждает свою мнимую победу. Как и встарь, русского и нерусского человека приглашают дать согласие на доводы и выводы норманистов; его научают «узнавать» норманнов в главных деятелях нашей «начальной» истории, ему объясняют, что хозяйство и торговля, право, вера и художество, в утреннюю пору нашей жизни, полно отнюдь не случайных, не поверхностных, а творческих и организующих влияний скандинавского племени; иногда даже решаются повторять несчастную мысль, рожденную еще в половине XVIII века, что русские былины не что иное, как песни шведских бардов, переведенные на русский язык[404].
Так как в самом норманском учении невозможно найти ничего, что могло бы обосновать и оправдать такую непреоборимую его устойчивость, то, очевидно, причина ее лежит вне его пределов. Ее надо искать в психологии того общества, которое приняло это учение и поддерживает его до сих пор.
Забелин в конце прошлого века высказал свое мнение о причине «неувядаемости» норманской теории: «Учение о норманстве Руси просуществует еще долго, до тех пор, пока русское общество не изживет в себе всех начал своего отрицания и своего сомнения в достоинствах своей» душевной «природы»[405]. Другими словами, историк полагает, что психологической основой норманского учения, то есть учения, которое отводит германскому племени руководящую роль в древний период русской истории, служит недоверие русского общества к самому себе, сомнение в своих способностях устраивать жизнь своей страны.
Такого рода сомнение, присущее доныне многим русским людям, связано в русской душе с подорванным чувством национального духовного достоинства.
В этом и скрывается первопричина норманского учения.
Достоинство народа имеет своим источником духовные начала как первооснову его природных свойств. Чувство национального достоинства возникает в душе отдельного человека - этого малого цветка на древе народной жизни - из сознания причастности его народа к вечному духу. Достоинство всегда есть духовное достоинство, полученное от жизни невидимой, лучшей, чем земное существование, от Бога на земле и над землей.
Человек, лишенный национального достоинства, утверждает этим непричастность своего народа к духовным началам жизни или слабость этих начал в его культуре. Но мы знаем, как сильна и ярка была духовная жизнь в нашей древности, мы знаем, что без нашей древней веры, без нравственного сознания, без художественных достижений нельзя объяснить ни расцвет культуры в Киевский период нашей истории, ни богатый, выразительный язык письменности тех времен, ни нашу историю последующих столетий. Сломленность национального духовного достоинства у части русского общества была, очевидно, проявлением его большей или меньшей слепоты к самобытным духовным силам в древней народной жизни и к действенности этих самобытных сил в собственной душевной глубине.
От каких бы причин ни произошло такое помутнение духовного ока в русском обществе, от последствий ли татарской беды, отдалившей от нас наше прошлое, от ошеломленности ли блеском западноевропейской культуры, от утраты ли живого чувства Бога, оно в большей или меньшей степени отравило науку о русских древностях. Воспоминания о прошлом, вследствие неведения его духовных начал, оторвались от той глубины русской души, которой она живет доныне и которая продолжает одухотворять русские исторические пути. Поэтому прошлое наше стало восприниматься не как оплодотворяющее начало нашей жизни, но как мертвое место, как «пустота», которая должна быть заполнена чем-нибудь, из чего можно было бы объяснить последующие жизненные явления. Теория, утверждающая скандинавство руси, заполнила эту «пустоту» своей гипотезой о вторжении в русскую жизнь чуждого племени, раздвоила этим нашу историю на донорманское и посленорманское время и поставила преграду нашей исторической памяти. Древность до IX века была забыта, и это забвение укрепляло мысль, будто следующие века уже не совсем принадлежат нам: часть прошлого нашей земли оказалась достоянием людей германского племени.
«Вторжение иностранцев» не оживило мертвого места в нашей жизни. Искусственная и шаткая теория не сумела объяснить ни событий, происходивших в нашей стране до «призвания варягов», ни цветения Руси после появления новой династии князей. Она не нашла в своем обиходе тех сил, которые превращают неосмысленную суматоху жизни в цельный и стройный организм, простую смену явлений - в историю народа. Порождение чужого и враждебного нам рассудка, дерзающего исследовать русскую историю без любви к ней, рассматривать ее со стороны, не вникая в органические законы ее хода, она могла создать лишь жалкий суррогат ее понимания. Чуждая духовным реальностям древности - вере народа, помыслам его о сущности мира, видениям его, этой верой и этой мыслью проникнутым, она ничего и не могла сказать о нашей жизни, потому что первоисточник живого явления таится именно в том, что дано видеть лишь любви и разуму. Только дух Божий творит жизнь.
Родники русской истории и русской славы бьют из самобытных недр русского духа. Это чувствует неосознанно наш народ, это исповедуют наши гении. Ломоносов не мог примириться с покушением на духовное убийство прошлого своей страны и на германизацию Русской земли, с покушением которое давало и доныне дает идейную опору замыслам немцев захватить и подчинить себе Россию.
Знамя Ломоносова есть знамя русского духа, познавшего себя и восставшего против бездуховных притязаний врагов своей родины и против духовной болезни, обессиливающей самопознание русского народа.
Открыть верный путь к минувшим дням русской жизни можно лишь под покровом этого знамени.
Вот почему изгнание норманской гипотезы из науки о нашей древности есть очередная задача русских историков.
Найдутся ли когда-нибудь все утраченные страницы нашего далекого прошлого? Кто знает?..
Если недостает фактов для понимания исторического явления, поиски направляются догадкой и предположением. Но пусть же будут эти предположения достойны духовного уровня русского племени. И в свои ясные дни, и в дни бед и падений русский народ сохраняет живую связь с духовным миром и в нем обретает новые силы для того, чтобы утвердить и свое достоинство, и свое самостояние. Пути к познанию правды о Русской земле исходят из этого основного факта русской истории; пути эти ведут и к давно минувшим летам. Духовное ведение в древности было действенной силой бытия русского человека; вера была его водителем и в стародавнюю эпоху его земного странствия. Родник русской жизни таится в поблекшем теперь мире древних обетований, там, где вечное являлось в тайнах весны, где поникшие над водою ветки березы, сплетаясь в венок, качали вещую русалку, где пела любовь - дар благостного Бога пробужденной земле.
«Верный наш колодезь, верный наш глубокий».
Примечания:
404. Arne. La Suede et l'Orient. 231. Насколько норманская гипотеза укоренилась в исторической науке, показывает книга П.Б.Струве «Социальная и экономическая история России», вышедшая посмертным изданием в 1952 году. В ней автор ее не допускает и сомнения в том, что норманны определяли содержание и характер первых веков русской истории (27, 62), что они обладали на Руси политической властью (5, 36), были проводниками христианства (29) и т.д., - и не считает нужным поддержать все эти суждения какими бы то ни было доказательствами; имя Руси автор объясняет - также без приводимых оснований - как имя тех норманнов, которые уже в IX веке образовали верхушку славянских и финских племен (37).
405. Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 128.
Кузьмин А.Г. Тайны рождения русского народа
Часть первая. Этническая природа варягов
Основой норманизма является гипотеза или просто априорное допущение, что этноним «варяги» относится к скандинавам, а «варяги-русь» - непосредственно к шведам. И мнение это изначально опиралось вроде бы на летопись - «Повесть временных лет» (далее ПВЛ. - Ред.). Но практически все норманисты воспринимали (и воспринимают до сих пор) эту летопись как сочинение одного автора, а все летописание - как некую эстафету сменявших друг друга летописцев. И хотя еще в начале XIX в. было указано на несостоятельность такого представления о жанре летописания, наиболее полно отражавшего идеологическую и политическую борьбу земель, городов, разных верований и княжеских родов, мнение о летописании как «едином дереве» до сих пор держится не только на школьном уровне. Эти представления лежат в основе научного багажа заметно активизировавшихся в последнее время наших неонорманис- тов[2]. О «двух концепциях» начала Руси в летописи речь пойдет ниже. Здесь заметим, что и этноним «варяги» в летописи понимается неодинаково. И тоже заметны два слоя: в одном случае это весь Волго-Балтийский путь от «англов» (юг Ютландского полуострова) до «предела Симова», каковым представлялась Волжская Болгария, в другом - в число «варяжских» этносов включаются и скандинавы. Поскольку при обилии неоднозначных источников о варягах и руси в основе остается летопись, напомним о сути разноречий в ней самой[3].
Примечания:
2. См.: Древняя Русь в свете зарубежных источников: Учебное пособие для студентов вузов / Под. ред. Е.А. Мельниковой. - М., 2001; Назаренко. А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. - М., 2001; Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. - Смоленск - М., 1995; Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков(IX-XII вв.) Курс лекций. - М., 1998
3. Этому вопросу посвящены книги автора: Русские летописи как источник по истории Древней Руси. - Рязань, 1969; Начальные этапы древнерусского летописания. - М., 1977; перевод и комментарий к Лаврентьевской летописи (Арзамас, 1993); Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции, рожденные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении. - М., 1998-2002 (четыре издания); статьи: О происхождении варяжской легенды // Новое о прошлом нашей страны. - М., 1967; «Варяги» и «Русь» на Балтийском море // ВИ, 1970, № 10; Об этнической природе варягов (к постановке проблемы) // ВИ, 1974, № 11 (список их можно найти в книге: Великие духовные пастыри России - М., 1999. С. 487-494)
Глава первая. Разные версии летописей о начале руси
Как было сказано, летописи являются основой всех схем ранней истории Руси. Но они содержат такие противоречия, которые практически исключают возможность однозначного решения вопросов. В заголовке «Повести временных лет» (или, как ее еще по традиции называют, Начальной летописи) стоит вопрос: «Откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть»[4]. Очевидно, один из древних историков стремился решить тот же круг проблем, которые занимают специалистов и на протяжении последних двух с лишним столетий. Поскольку вопрос сформулирован одним автором, то и ответ ожидается однозначный. Но самая нацеленность летописца на однозначное решение вопроса предполагает его знакомство и с иными версиями, которые он собирался дезавуировать. Однако, видимо, в позднейших редакциях эти версии в той или иной мере выплыли на страницы летописи, поставив и позднейших летописцев, и историков перед весьма непростым выбором. Если в рассказе о призвании Рюрика с братьями утверждается, что «от тех варяг прозвася Руская земля», то в тексте, восходящем к «Сказанию о славянской грамоте», «Русь» отождествляется с племенем полян («поляне, яже ныне зовомая Русь») и представляется племенем, так же, как и славяне, вышедшим из Иллирии и говорившим на том же языке, что и славяне.
Со времен Татищева признается, что дошедшая до нас редакция летописи сложилась в начале XII в. О времени же происхождения и характере более ранних исторических сочинений мнения специалистов существенно расходятся. Особенно важна при этом проблема зарождения летописной традиции, поскольку от решения именно этого вопроса во многом зависит оценка тех или иных сведений. Один из крупнейших специалистов по истории летописания А. А. Шахматов первые летописные сочинения связывал с утверждением в конце 30-х гг. XI столетия митрополии византийского подчинения. (В качестве своеобразной справки для Константинополя.) Но «Сказание о славянской грамоте», внесенное в летопись и датированное по болгарской эре (эра ориентировалась на лунный календарь, и обозначенный в летописи 6406 г. от «сотворения мира» означал 893-894 гг., когда на соборе в Болгарии было принято решение о «преложении» книг на славянский язык, тогда как по константинопольской эре это был бы 898, а по старой византийской 902 г.). И неслучайно, что Н. К. Никольский, а вслед за ним М. Н. Тихомиров, Б. А. Рыбаков, Л.В. Черепнин первые летописные труды датировали концом X в. (Личность летописца, закончившего свой труд в 996 г., весьма колоритна и по языку, и по свободному образу мыслей). Какие-то записи должны были появиться и в христианской общине, упоминаемой под 944 г. при христианской церкви Ильи. (Обряд христианских погребений этого времени указывает на Подунавье и церковь, независимую ни от Рима, ни от Константинополя. Более обстоятельно об этом будет сказано в следующей главе.)
Отправляясь от факта множественности истоков раннего летописания, можно ставить вопрос и о выделении разных источников и самостоятельных историографических традиций, вошедших в позднейшие своды. Естественно, что между различными центрами и идеями шла борьба, в ходе которой памятники письменности могли уничтожаться или переделываться. Так, летописец, внесший в свод корсунскую версию крещения Владимира, отвергал киевскую и василевскую, а также какие-то иные, им не названные. (А согласно внелетописным источникам, поход князя на Корсунь состоялся спустя два года после крещения). Как правило, разные версии соединялись в одной летописи уже в такое время или в таком месте, когда и где острота противоречий не особенно ощущалась. В летописи противоположные версии часто сохраняются в урезанном виде, как бы освобожденными от публицистической заостренности. Поэтому и сам факт противоречий не всегда легко обнаружить.
На противоречия летописи по поводу происхождения Руси обратил внимание Д. И. Иловайский, наблюдения которого были развиты Шахматовым. При этом Иловайский принял поляно-славянскую версию, а Шахматов - варяжскую, хотя он и обратил внимание на то, что у летописца «слишком явно просвечивает тенденция, упорное желание доказать тождество руси и варягов»[5]. Шахматов считал, что вопрос в начале труда поставил тот летописец, который отождествлял «русь» с «варягами». Но, как заметил позднее Н. К. Никольский, если варяжская концепция тенденциозна, если она носит на себе грубые следы ее создания, то резонно поставить вопрос, чем была вызвана такая тенденциозность и против кого она была направлена[6]. Шахматов не придал значения тому обстоятельству, что тенденциозность в проведении какой-то идеи предполагает существование иных, ей противоречащих воззрении. Никольский стремился доказать, что отвергалась именно теория поляно-славянского происхождения Руси. Правда, автор отказался от исторического объяснения этой концепции, что ослабило его аргументацию и даже ставило под сомнение правильность прочтения им летописного текста.
«Повесть временных лет» открывается недатированным введением, в котором дается предыстория Руси: происхождение и расселение славянских племен и их соседей. Шахматов в оценке этого материала следовал своему общему представлению об истории всего летописного текста, что повело его к неоправданным заключениям. Предшественником «Повести» автор считал Новгородскую 1-ю летопись, в которой этнографического введения нет (по Шахматову, «Начальный свод конца XI в.»). Исходя из этого, весь «лишний» материал «Повести» он связывал с работой летописца XII в.
Между тем предисловие к Новгородской 1-й летописи, которым датировался «Начальный свод», написано явно уже в XIII в.[7] С другой стороны, введение к «Повести временных лет» явно неоднородно. Это было отмечено еще Никольским, а позднее Б. А. Рыбаковым[8]. Необходимо лишь добавить, что элементы введения не только внутренне противоречивы, но и разновременны по происхождению и по времени включения их в летопись.
Недатированное введение предшествует первому упоминанию Руси, обнаруженному летописцем в «летописании греческом» под 6360 г. «от сотворения мира». Но эта дата, записанная по старой византийской эре (856 г.), ориентирована на другую, Причерноморскую Русь. И на вопрос о том, «откуду есть пошла Руская земля», эта статья не отвечает. Ответ, очевидно, надо искать в самом введении, как это наблюдается, например, в Чешской хронике Козьмы Пражского. Но в дошедшем до нас виде введение лишено какой-либо цельности.
Введение начинается с сообщения о разделе земли между тремя сыновьями Ноя после «потопа». Сюда же вставлен обзор современных летописцу северных и западноевропейских народов. С прямой ссылкой на «Сказание о славянской грамоте» говорится о расселении славян. От общего разбора летописец приходит к полянам. Но текст перебивается легендой об апостоле Андрее. Снова рассказывается о полянах, и теперь сообщается о создании Киева. Вводится полемический выпад в адрес тех, кто отказывает в княжеском достоинстве Кию, а затем снова говорится о славянских княжениях и соседних народах, перечень которых уже приводился.
Далее летописец вновь напоминает о расселении славян по Дунаю, говорит о нашествии обров (авар) и вновь возвращается к полянам. Рядом с полянами и древлянами на сей раз названы ранее не упоминавшиеся радимичи и вятичи, сообщается о местах обитания дулебов, уличей, тиверцев. Следует описание обычаев племен, причем сначала сопоставляются только поляне и древляне, а затем полянам же противопоставляются некоторые другие племена. Как бы комментарием является ссылка на текст Хроники Георгия Амартола. Завершается введение пересказом легенды о хазарской дани.
Библейским сюжетом о Сотворении мира и Потопе открываются многие средневековые хроники. В летописи имеются прямые извлечения из Хроники Георгия Амартола. Но использована она в разной форме: непосредственно и в переделках. Шахматов допускал вероятность использования летописцем XII в. двух греческих хроник. В. М. Истрин, специально занимавшийся греческими хрониками, считал, что привлекались они в разное время: вскоре после смерти Ярослава (1054 г.) и в начале XII в.[9] Источники эти соединялись «чересполосно», причем относительно краткая космографическая канва насыщалась материалами Хроники Амартола. Задаче летописца, рассказывавшего о начале Руси, отвечал текст, сообщавший о расселении народов после Потопа. На этом фоне в мировую историю вводились славяне и русь. Извлечения же из полной Хроники затушевывали эту идею, поскольку для византийских хронистов важно было показать «преемственность царств» «от Адама» до византийских императоров.
Переход к основной теме был сопряжен для летописца с определенными трудностями, поскольку, как заметил А.Н. Насонов, «ни у Амартола, ни в Хронографе он не находил, конечно, названий славянских стран, расположенных на Восточно-Европейской равнине»[10]. Летописец включил «словен» в «Афетову часть», поместив следом за «Илюриком», взамен «Норика». Именно отсюда выводило славян «Сказание о славянской грамоте», и летописец специально подчеркивал, что «словене» - это «норики».
Весьма вероятно, что текст греческого Хронографа был препарирован еще автором «Сказания о славянской грамоте», положенного в основу русским летописцем. Но, как отметил Б. А. Рыбаков, и в этой части имеется целый ряд «нарушений логики изложения»[11]. Еще до упоминания о «смешении языков», вслед за перечнем рек, в летописи дается перечень угро-финских и балтских племен, а затем также западноевропейских народов. Перечень угро-финских и балтских племен, платящих дань Руси, дается и ниже, сразу вслед за перечислением славянских племен. Там ему и надлежало быть. В результате вставки нарушена не только литературная логика, но и самый замысел. Первый автор намеревался через схему Ной - Афет - Словене - Поляне подойти к началу Руси. Кто-то из его преемников либо не понял этого замысла, либо не посчитался с ним.
Вставки, очевидно, делались не одним летописцем и не в одно время. Отражается в них разная история и разная современность. Об этом ниже еще будет речь. Здесь же заметим, что и основной рассказ о начале Руси внутренне противоречив: от истории Руси как объединения восточнославянских племен, летописец постоянно сбивается на панегирик полянам. В тексте, связанном со «Сказанием о славянской грамоте», упоминается 6 племен, входивших в состав Руси: поляне, древляне, дреговичи, полочане, новгородцы, северяне. Примерно тот же перечень дважды повторен в другом месте введения, примыкающем к основной сюжетной линии[12], и трижды летописец возвращается к полянам. По-видимому, летописец, создававший основную конструкцию введения, имел дело с разными записанными вариантами предания о полянах. В особом сказании говорилось о Кие, Щеке и Хориве и их сестре Лыбедь, с которыми связывалось возникновение Киева. «И бяше около града лес и бор велик, - заключается текст предания, - и бяху ловяще зверь, бяху же мужи мудри и смыслени, и нарицахуся поляне, от них суть поляне в Киеве и до сего дне». Легенда об апостоле Андрее, «брате Петра», отодвигает появление полян в Приднепровье в доапостольские времена или даже предполагает изначальное пребывание их на этой территории.
Предание о Киеве почти буквально воспроизведено в Новгородской 1-й летописи, но здесь акцент сделан не на «мудрости», а на язычестве полян («бяху же погане»). Сам Кий назван здесь «перевозником»[13]. Позднейший киевский летописец полемизирует с таким представлением, настаивая на княжеском достоинстве Кия. «Аще бо бы перевозник Кий, - возражает он, - то не бы ходил к Царюгороду; но се Кий княжаше в роде своемь; и приходившю ему ко царю якоже сказають, яко велику честь приял от царя, при котором приходив цари»[14]. В рассказе о полянах нет указания на княжеское достоинство Кия и незаметно, чтобы этому обстоятельству придавалось какое-либо значение. Но ниже говорится, что «и по сих братьи почаша род их княженье в полях...». Аналогичные «княжения» отмечаются также у древлян, дреговичей, словен и полочан. О «княжениях», следовательно, говорил тот же летописец, что выделял всего шесть славянских племен в Руси, т. е. составитель основной канвы введения.
Рассказ о полянах возник еще тогда, когда от родоначальника не требовалось доказательств на право старшинства. Упрек же «несведущим» мог появиться как протест против попытки принизить киевских князей перед какой-то иной династией. Теперь уже имела значение принадлежность правителя именно к княжескому роду, и внешнее признание («царь с великой честью»). Между древнейшими преданиями о Кие и позднейшей защитой его княжеского достоинства лежит, очевидно, длительная эпоха, в течение которой осуществляется переход от родоплеменного строя к развитой государственности.
Таким образом, в этнографическом введении отражены весьма древние сказания о полянах, которые вряд ли можно вынести за пределы первой половины X в. Основная конструкция введения увязывала их со «Сказанием о славянской грамоте». Шесть племен, входивших в состав Руси, согласно данным этого летописца, указывают на время от конца X до середины XI в. Примечательно, что в названных перечнях нет не только вятичей, вошедших в состав Руси лишь в конце XI века, но и кривичей, хотя летописец и знал о их городе Смоленске. Смоленск вошел в состав Руси, видимо, в конце княжения Владимира. Какое-то время при Ярославе в нем оставался самостоятельным князем сын Владимира Станислав. В 1060 г. город был поделен между тремя братьями Ярославичами. В летопись попали и иные варианты этногенетических преданий, включение которых в свод могло быть связано с работой летописцев конца XI-XII столетия.
Стержнем поляно-славянской концепции начала Руси является «Сказание о славянской грамоте», которое, помимо введения, отражено в статье 6406 г. Никольский сложение «Сказания» относил к концу IX в., когда в Моравии обострилась борьба между Мефодием и его славянскими последователями с одной стороны, и немецким духовенством - с другой[15]. Болгарский ученый В Н. Златарский связывал «Сказание» с творчеством Константина Преславского и «вторым преложением книг» в 893-894 гг.[16] Возможно, что «Сказание» прошло двойную обработку: и Моравии и затем в Болгарии. Как отмечено выше, именно на этом соборе в Преславе было принято решение перевести богослужебные книги в Болгарии на славянский язык[17]. В Моравии это было сделано на 30 лет раньше.
«Сказание о славянской грамоте» подчеркивало славянское единство, что создавало ему популярность во многих славянских странах. Русский летописец, включив «Сказание» в летопись, прокомментировал особенно важные, с его точки зрения, места. Ему, в частности, принадлежат слова: «Бе един язык словенеск: словени, иже седяху по Дунаеви, ихже прияша угри, и морава, и чеси, и ляхове, и поляне, яже ныне зовомая Русь». Та же мысль проводится и в заключение пересказа «Сказания». Отметив, что апостол Павел просвещал «Илюрик», где «беша словене первое», летописец добавляет: «Темже и словеньску языку учитель есть Павел, от негоже языка и мы есмо, Русь, темъже и нам Руси учитель есть Павел, понеже учил есть язык словенеск и поставил есть епископа и намесника по собе Андроника словеньску языку. А словеньскый язык и рускый одно есть, от варяг бо прозвашася Русью, а первое беше словене; аще и поляне звахуся, но словеньскаа речь бе. Полями же прозвани быша, зане в поли седяху, а язык словенски им един»[18].
Русские источники употребляют этноним «Русь» в разных смыслах: в широком - как государство и народ всей территории, подвластной киевским князьям, и в узком - как Приднепровье в районе Киева. В ряде же текстов «Русь» отождествляется с варягами. Для выяснения истоков неваряжскои концепции происхождения Руси особое значение имеют тексты, указывающие на территорию и население Приднепровья. Большинство исследователей фразу «поляне, яже ныне зовомая Русь» понимают как их отождествление[19]. Но имеются и иные мнения[20]. Поэтому важно заключение, что ареал Полянских погребений практически совпадает с границами «Руси» в узком смысле этнонима, и, следовательно, «Русью» именовали именно полян[21].
Русский летописец привлекал западный источник для выяснения вопроса, «откуду есть пошла Руская земля». Ответом на него является основная канва этнографического введения. Летописец считал, что Русь - это поляне, а последние - одно из славянских племен, пришедшее в отдаленные времена с Верхнего Дуная. Обращает на себя внимание настойчивость, с какой летописец проводит тезис о тождестве славянского и русского языков. Эта настойчивость может указывать на желание опровергнуть какие-то иные взгляды на природу Руси.
Пояснение «от варяг бо прозвашася Русью» может являться отражением той своеобразной формы полемики, которую вели между собой летописцы: предшествующий текст в целом сохраняется, но сопровождается «уточнениями» и комментариями, подчас меняющими его первоначальный смысл. Излагая «Сказание», летописец настаивал на единстве славянского и «русского» языка, а «русов» (об этом ниже будет специальный разговор) Подунавья (и Иллирии, и Моравии, и той же болгарской Преславы) в Киеве в X в. (да и раньше) так или иначе знали. Но реплика-вставка предполагала знакомство более позднего летописца с какой-то балтийской «Русью». Предполагала она и определенный круг читателей и хранителей генеалогических предании и легенд, уводящих на побережье Балтики. И таковых со временем становилось все больше и больше.
В «Повести временных лет» варяжская концепция происхождения Руси наслаивается на поляно-славянскую - дунайскую. Основной текст «Сказания о варягах», занимающий в летописи статьи 6367,6370,6387 и 6390 гг., легко из нее извлекается. В первоначальном виде эти статьи, видимо, составляли особое сказание, не разделенное годами. Если летописец, представивший основную часть этнографического введения, был убежден, что «Руская земля» «пошла», как и все славяне, из Иллирии, если он отождествлял Русь с полянами, а первое упоминание о ней находил в «летописании греческом» в эпоху Михаила (856-867), то какой-то позднейший автор стремился доказать, что «Русь» - это варяги, народ, пришедший из-за моря, и не в Киев, а в северозападные земли. С этими «находниками» связывал автор и происхождение династии русских князей, на чем он особенно настаивал.
Варяжское сказание имеет, очевидно, северное происхождение. Оно отразилось и в новгородских летописях, и в ряде других новгородских произведений. Тем не менее связанные с ним тексты наиболее полно представлены в «Повести временных лет». Этнографическое введение «Повести» фиксирует положение, существовавшее на Руси в разные периоды с конца IX по середину XI в. В «Сказании» о варягах описывается особая ситуация: сосуществование на Руси двух союзов - северного и южного. В состав северного союза входят племена словен и кривичей, а также чудь, меря, весь. Все они платят дань варягам. В составе южного союза оказываются поляне, северяне и вятичи, и эти племена платили дань хазарам. В этнографическом введении упоминается легенда о дани мечами - меч «от дыма». Эта дань напугала хазар: обоюдоострый меч как бы символизировал превосходство над хазарской односторонне заостренной саблей и предвещал изменение в соотношении сил. Во времена Олега дань хазарам платили лишь северяне, радимичи и вятичи. Поляне были освобождены от этой дани еще Диром и Аскольдом в середине IX в., а Олег перевел на себя дань с радимичей и северян, облегчив ее по сравнению с хазарской. Поход же на Хазарию в 968 г. Святослава сокрушил и саму Хазарскую державу.
Летописец, включивший варяжское сказание в «Повесть временных лет», имел дело с уже записанным текстом. В упомянутых статьях этноним весь осмысливается как местоимение «все»: «Имяху дань варязи из заморья на чюди и на словенех, на мери, и на всех кривичех» (6367); «Реша руси чюдь, и словени, и кривичи вси» (6370); «Поиде Олег, поим воя многи, варяги, чюдь, словени, мерю и все кривичи» (6390)[22]. Племя весь обитало около Белого озера. К концу XI в. оно, видимо, уже было ассимилировано славянами, и летописец не понимал, о чем идет речь. Новгородские же летописи «весь» вообще не упоминают[23].
«Сказание о призвании Рюрика с братьями», датированное в летописи 6370 г. (862-м по константинопольской эре), является краеугольным камнем варяжской концепции, а также норманизма. Статья продолжает рассказ о двух племенных объединениях, плативших дань варягам на северо-западе и хазарам на юге. «Изъгнаша варяги за море, - повествуется в летописи, - и не даша им дани, и почаша сами в собе володети, и не бе в них правды, и въста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся. И реша сами в себе: «поищем собе князя, иже бы володел нами и судил по праву». И идоша за море к варягом».
В литературе обычно разделяют собственно сказание и комментарии позднейших летописцев. «Сказание о призвании» примерно одинаково дается в Новгородской 1-й летописи и «Повести временных лет», а комментарии как будто содержатся только в последней. По схеме Шахматова, первая отразила древнейший вариант сказания, во второй - развита идея «норманского» происхождения Руси. Б. А. Рыбаков полагал, что в XI в. сказание о призвании было местным новгородским преданием, не связанным с происхождением Руси. Таковой оно оставалось и в составе киевских сводов, пока близкий Мстиславу Владимировичу редактор Начальной летописи (ок. 1118 г.) не использовал предание для создания «норманской» версии, приписывающей варягам создание Русского государства и отождествлявшей варягов и «русь»[24].
О содержании понятия «варяги» и его эволюции речь будет ниже. Пока ограничимся констатацией факта различного его осмысления. После цитированного выше отрывка ПВЛ следует разъяснение, о каких варягах идет разговор: посольство было отправлено не просто к варягам, а к «руси; сице бо тии звахуся варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии гьте, тако и си». Еще А. А. Потебня предположил, что в летопись попала заметка, сделанная на полях[25]. Может быть вероятнее, что комментарий сознательно включался одним из редакторов в текст с целью придания ему определенной направленности или как отражение понимания существа дела этим летописцем. И самое существенное в этом комментарии то, что варяги-русь - это не варяги-свеи.
Новгородская 1-я летопись приведенного комментария не знает. Но для суждения о первоначальном виде сказания она также служить не может. Помимо пропуска в числе приглашающих племен веси (хотя Синеус прибыл именно на Белоозеро), летопись содержит и еще одну существенную неточность. В ней утверждается, будто Рюрик с братьями пришли в Новгород. Согласно же ПВЛ, Рюрик сначала пришел в Ладогу и лишь несколько лет спустя срубил Новгород: «пришед ко Илмерю и сруби городок над Волховом, и прозва и Новъгород, и седе ту княжа»[26]. Как будет показано ниже, Рюрик явился в Ладогу, когда Новгорода еще не было.
Определенные противоречия имеются и внутри текстов обеих летописей. По Новгородской 1-й летописи, союзные племена, изгнав варягов, начали «города ставити», а затем «въсташе град на град». По логике же текста «Повести временных лет», строительная деятельность связывалась с варягами: Ладогу и Новгород «сруби» Рюрик, «Полотеск», Ростов, Белоозеро он дал «рубить» своим мужам. Поскольку с варягами связывалось создание государственности, логично было приписать им и строительство городов, хотя исторически это, видимо, не соответствовало действительности. Нарушением логики является и в ПВЛ, очевидно, позднейшее добавление: «И по тем городом суть находници варязи, а перьвии насельници в Новегороде словене, в Полотьсте кривичи, в Ростове меря, в Беле-озере весь, в Муроме мурома, и теми всеми обладаше Рюрик». Здесь появляется еще «мурома», которой не было в числе приглашающих племен, и упомянута «весь», о существовании которой, видимо, не знал один из предшествовавших летописцев.
Рассказ о призвании в Новгородской 1-й летописи завершается фразой: «И от тех варяг, находник тех, прозвашася Русь, и от тех словет Руская земля; и суть новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска». В «Повести временных лет» к этому добавлено: «преже бо беша словени», - возможно, для примирения с версией «Сказания о славянской грамоте», где Новгород связывается именно со словенами. По сказанию получается, что «русь» приходит на северо-запад, а название закрепляется за Приднепровьем. Новгородцы выводятся «от рода варяжска» также как будто вопреки тому, что они являются словенами. Разъяснение ПВЛ мало что спасает: если новгородцы «от рода варяжьска», то как они могли быть прежде «словенами»? Тем не менее летописцы и в Киеве, и в Новгороде переписывали сказание. Очевидно, какие-то его элементы казались современникам вполне истинными.
После сообщения об утверждении Рюрика на северо-западе в «Повести временных лет» перекидывается мост в Приднепровье: «И бяста у него два мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родом своим. И поидоста по Днепру, и идуче мимо и узреста на горе градок, и упрошаста и реста: «чий се градок?». Они же реша: «была суть 3 братья, Кий, Щек, Хорив, иже сделаша градокось, и изгибоша, и мы седим, платяче дань родом их козаром». Аскольд же и Дир остаста в граде семь, и многи варяги съвокуписта, и начаста владети Польскою землею».
Как можно видеть, варяжская легенда приспосабливалась к преданию о Кие, но лишала его княжеского достоинства. В версии польского хрониста Яна Длугоша, Дир и Аскольд были продолжателями рода Кия[27]. Здесь они - бояре Рюрика. Под 6387 г. летопись сообщает, что «умершю Рюрикови предасть кяженье свое Олгови, от рода ему суща, въдав ему сын свой на руце, Игоря, бе бо детеск вельми». Этот текст продолжает предшествующий, хотя и отделен от него хронологически и включениями из иных источников. Финал всего повествования дается под 6390 г., когда Олег захватывает Киев и убивает его «незаконных» обладателей Дира и Аскольда.
Сюжет «законности» династии особенно настойчиво проводится в Новгородской 1-й летописи, где и Олег лишается княжеского достоинства. В центре внимания здесь преемственность от Рюрика к Игорю: «И роди (Рюрик - А К) сын, и нарече имя ему Игорь. И бысть у него воевода, именем Олег. Муж мудр и храбор». Даты овладения Киевом здесь нет. Но предполагается, что Игорь был уже вполне взрослым князем. Олег сопровождает Игоря всего лишь как воевода, что, конечно, не соответствует действительности. Имеется в Новгородской 1-й летописи и еще одно свидетельство вторичности ее варианта по сравнению с чтением «Повести временных лет»: фразу «приплу под Угорьское» (урочище под Киевом) новгородский летописец понял так, что Игорь и Олег выдают себя за «подугорских гостей».
Согласно «Повести временных лет», «седе Олег княжа в Киеве, и рече Олег: «се буди мати градом Русьским». И беша у него варязи и словени и прочи прозвашася Русью. Се же Олег нача городы ставити, и устави дани словеном, кривичем и мери, и устави варягом дань даяти от Новаграда гривен 300 на лето, мира деля, еже до смерти Ярославле даяше варягом». Фраза «...беша у него варязи и словени...» нередко толкуется в том смысле, что имя «Русь» перешло на всех, пришедших с Олегом, только в Киеве[28]. Взятая изолированно, фраза может быть так понята. Но она является частью сказания о варягах. В Новгородской 1-й летописи это особенно заметно: «И седе Игорь, княжа в Киеве; и беша у него варязи мужи словене, и оттоле прочии прозвашася Русью». Логика здесь та, что варяги принесли название «Русь» сначала в Новгородскую землю, а затем в Киев, где это название распространилось и на «прочих». Позднейшее редактирование в новгородской версии сказывается в выдвижении на первый план Игоря. Он устанавливает дани и строит города причем «дани устави словеном и варягам даяти», т. е. словене наряду с варягами оказываются в числе получающих дань, а не дающих ее.
Таким образом, известные летописные версии начала Руси сводятся к противопоставлению прежде всего поляно-славянской и варяжской концепции. И та, и другая в свою очередь подразделяются на варианты, более или менее отличающиеся от основных версий. В новгородском варианте варяжская концепция как бы превращается в варяго-словенскую, о чем ниже еще будет речь. В этой же версии особенно подчеркивается право «законной» династии Рюрика на обладание всеми русскими землями.
Многообразие версий, связанных с возникновением той или иной народности или государства, - явление вполне закономерное. Каждая область и племя располагают своими традициями и вносят реальный вклад в процесс создания целостного организма. И каждая область, при возможности, стремится подчеркнуть этот вклад, хотя бы и за счет явных передержек. Две основные летописные концепции отражают, очевидно, не все многообразие таких идей в домонгольской Руси. В сущности, здесь представлены только киевская и новгородская интерпретация событий. О других мы почти ничего не знаем Мы не знаем, как этот процесс воспринимался в Смоленске и Полоцке, поскольку летописи этих центров не сохранились. Лишь кое-какие реликты уцелели от традиций Юго-Западной и Чернигово-Тмутараканской Руси
Некоторые остатки галицко-волынского летописания сохранились и в «Повести временных лет». Заметно больше их в «Истории Российской» Татищева. Преимущественно эти летописи были использованы в XV в польским хронистом Яном Длугошем. Об основном отличии этих летописей выше говорилось: по Длугошу Дир и Аскольд являлись местными киевскими князьями, потомками Кия. «Партнерами» полян у него являются радимичи, вятичи и дулебы. Первые два племени в ПВЛ выводились «от ляхов» (под которыми понимались и «поморяне» и «мазовшане»), а третье лишь частично входило в состав Руси, локализуясь в Центральной Европе.
Версии, бытовавшие в Чернигово-Тмутараканской Руси, нашли косвенное отражение в «Слове о полку Игореве». Вопреки настояниям некоторых летописцев, князья вовсе не стремились выстроить свою генеалогию, отправляясь от приглашенного северными племенами Рюрика. Киевские памятники XI в («Слово о законе и благодати» Илариона, «Память и похвала Владимиру Иакова мниха») не шли глубже Игоря в княжеских родословных. «Слово о полку Игореве» показывает, что даже и в XII в. на периферии сохранялись местные традиционные представления о ходе сложения древнерусского государства.
В центре своеобразной княжеской генеалогии «Слова о полку Игореве» стоит образ Трояна, сведения о котором доносит знаменитый песнотворец XI столетия Боян. Загадочный образ породил значительную литературу. Часть авторов (Н.С.Державин, А.С.Орлов, М.Н.Тихомиров, Б.А.Рыбаков) полагали, что имеется в виду римский император Траян. Другая группа ученых (Д. С. Лихачев, А. Болдур, Ф. М. Головенченко и др.) видела в Трояне языческого бога. К этой точке зрения присоединился затем Ю. М. Золотов[29] В поле его зрения, видимо, не попала третья группа исследователей (Н.И Костомаров, АВ.Лонгинов и др.), которые полагали, что за образом стоит кто-то из реальных князей русской истории.
Троян упоминается в «Слове» четыре раза. Первое упоминание связано с обращением к Бояну: «О Бояне, соловию стараго времени! А бы ты сиа плъки ущекотал, скача, славию, по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чрес поля на горы, нети было песне Игореви, того внуку: «Не буря соколы занесе чрес поля широкая - галици стады бежать к Дону Великому...»[30]. Разногласия в этом тексте вызывают фразы «рища в тропу Трояню» и «пети было песне Игореве того внуку». А. Болдур усматривал в первой фразе попытку Бояна «угадать пути верховного распорядка, начертанного Трояном, иначе говоря, прочитать будущее в книге судеб русского народа»[31]. «Мифический образ, подчеркивающий беспредельность мечты Бояна», видел в этом выражении Ф.М Головенченко[32]. Но вырванная из контекста фраза вряд ли может быть понята Оба автора искали в ней лишь подтверждение мысли о том, что Троян - это славянское божество. Однако качествами провидцев и волшебников, по «Слову», обладали и несомненно реальные лица: Боян и Всеслав Полоцкий. Сопоставление же Трояна и Игоря Северского в таком понимании лишается смысла.
Между тем внутренняя связь всей строфы основывается именно на этом сопоставлении. Автор пытается представить, как бы Боян, прославлявший Трояна, воспел Игоря. Выбор же именно Трояна для сопоставления объясняет другая загадочная фриза: «Игореви, того внуку». Первые издатели, не поняв, о чем идет речь, добавили в скобках уточнение: «Олга» (т. е. Игорь - внук Олега Святославича). Иногда полагают, что поэт считает себя «внуком» Бояна. Но по смыслу строфы «того внуку» относится именно к Трояну. Слово «внук» в поэме постоянно упоминается в значении «потомок». Автор «Слова», следовательно, считал северского князя потомком Трояна. Отсюда и сожаление, что сам Боян не может соединить немеркнущую славу походов Трояна со славой его отважного потомка.
Сходный смысл содержит и второе упоминание Трояна: «Были вечи (или «сечи») Трояни, минула лета Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святъславлича»[33]. Автор дает три эпохи русской истории, причем сопоставление Трояна с Ярославом и Олегом Святославичем предполагает преемственность, одну линию исторического развития. Поэтому-то и делались попытки обнаружить под именем Трояна известного по источникам русского князя[34].
Три эпохи русской истории не выходят за пределы XI в., причем Олег здесь еще тмутараканский, а не черниговский князь, каковым он стал в 1094 г. Боян, как явствует из «Слова», был любимцем («хоти») Олега, т. е. в некотором роде «домашним» певцом чернигово-тмутараканских князей.
В третий раз говорится о Трояней земле: «Въстала обида в силах Даждьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплекскала лебедиными крылы на синем море у Дону, плещучи упуди жирня времена». Многие авторы отождествляли «землю Трояню» с Русской землей[35]. Имеются и иные мнения[36]. Б.А.Рыбаков отождествил ее с римскими владениями в Причерноморье[37], а М.Н.Тихомиров - в районе Дуная[38]. М.Н.Тихомиров предложил разбить образ на три параллельных: 1. Обида встала «в силах Даждьбожа внука». 2. Вступила на землю Трояна и 3. плещет лебедиными крыльями у Дону на синем море. Однако представление о «Трояновой земле» как о Руси при этом вовсе не исчезает. Параллель заключается в том, что если «русичи» - это «внуки» Даждьбога, то их земля - это земля Трояна. Донское же Лукоморье было как раз объектом честолюбивых устремлений северских князей, и мыслилось оно, видимо, тоже как часть Руси (Азовской или Тмутараканской).
Представление о земле Трояна как о Руси усиливается дальнейшим текстом, в котором есть аналогичная параллель. Сокол - Игорь, «птиц бья», залетел к морю. Но храбрый полк погиб, в результате чего Карна и Жля помчались по Русской земле, «смагу людем мычючи в пламяне розе» (неся пожарища в пылающем роге). По следам Обиды на Русскую землю устремился поток огня и разрушений. Отождествление «земли Трояня» с Русской землей логично вытекает и из факта выделения эпохи Трояна, как раннего периода русской истории. Другое дело, какая Русь считалась его землей и мыслилась как колыбель древнерусского государства и народности. В этом плане может представить интерес и упоминание в Северном Причерноморье автором XII в. Идриси некой Трои[39].
Последнее упоминание Трояна в «Слове» - это «седьмой век». По «Слову», «на седьмом веце Трояни връже Всеслав жребий о девице себе любу... и скочи к граду Киеву». Предложено много объяснений фразы «на седьмом веце». Но все они не устраняют тех или иных недоразумений. Попытка понять фразу, исходя из простого расчета «века» - сто лет, не может быть принята, так как отождествление древнего «века» со столетием произошло не ранее XVI в. Д. С.Лихачев расшифровывал «седьмой век» как «последний» век язычества, указывая на мистическое значение числа «семь» в древности[40]. С ним согласились А. Болдур и некоторые другие авторы[41]. Однако и такое толкование не может удовлетворить. Всеслав овладел Киевом уже после «лет» Ярослава, и, следовательно, «седьмой век» непосредственно с язычеством не связан. В «Слове» вообще христианство и язычество не сопоставляются и не противопоставляются.
Остроумное решение предложил Ю.М. Золотев. Он представил «седьмой век» как седьмой месяц лунного года, исходя из убеждения, что Троян - это бог луны[42]. Действительно, Всеслав захватил Киев на седьмом месяце мартовского года. Но автор «Слова» рассматривает «века» Трояна как прошлое, а «седьмой» его век - как современный Всеславу. Сам Ю.М.Золотов «вечи» Трояна рассматривает как века язычества, явно противореча собственным допущениям.
В свое время Н.М. Гальковский справедливо заметил, что «всякий поэт, желая быть понятым, должен употреблять такие образы, которые понятны и доступны современникам. А потому необходимо допустить, что автор «Слова», упоминая о Трояне, говорил о том, что всем было известно и понятно»[43]. Это соображение в полной мере относится и к «седьмому веку». Поэтому следует попытаться понять, что это выражение могло буквально означать в XI-XII вв.
Отличительная черта всех народных измерений - их естественность и неопределенность. Подобно тому, как меры длины ориентировались на части человеческого тела (стопа, пядь, локоть и др.) и меры времени устанавливались в связи с природными явлениями (день, ночь, месяц, цикл луны, лето), а также относительно жизни самого человека. Напомним, что счет времени в догосударственный период велся практически только поколениями. И эта система определения времени сохранялась не только в быту, но кое-где и в письменности много веков спустя. (В легенде о происхождении Рюрика от
брата Августа Пруса устанавливалось в качестве связующего звена 14 поколений.) Пока же отметим, что буквальное значение слова «век» в древности - это срок жизни предмета, явления, человека. Это хорошо известно и подтверждается большим количеством источников[44]. Различные значения этого слова в древней литературе являются лишь разновидностями его основного содержания. Это слово было наиболее употребительно для обозначения жизни одного поколения. Основное значение латинского соответствия славянскому «веку» - seculum - как раз «поколение», «век человеческий»[45]. Имеется оно и в других языках, что вполне закономерно в свете практической необходимости в таком понятии.
Следовательно, буквально фраза «на седьмом веце» означает «седьмое поколение», идущее от Трояна. Числительное «седьмой» в данном случае могло привлечь внимание автора и потому, что у многих народов непосредственное родство фиксировалось до седьмого колена[46]. Для событий второй половины XI в. на Руси такое приурочение могло иметь и определенный назидательный смысл: начались усобицы между «внуками» Трояна. Не исключено также, что именно «седьмым» поколением рода Трояна заканчивался цикл песен Бояна.
Таким образом, Всеслав и один из зачинателей усобиц Олег Гориславич отнесены в «Слове» к седьмому поколению, идущему от Трояна. Отступая к истокам родословной, получим следующий ряд: 7. Всеслав, 6. Брячислав, 5. Изяслав, 4. Владимир, 3. Святослав, 2. Игорь, 1. Троян. Троян здесь, следовательно, мыслится в качестве непосредственного предшественника бесспорного родоначальника династии - Игоря. В генеалогических преданиях очень часто ранние их ступени «уплотнялись», иногда древнейшая эпоха вообще представлялась только реальным или мифическим родоначальником. Поэтому необязательно считать Трояна отцом Игоря. Но и такая вероятность, по крайней мере, в понимании автора «Слова», не исключалась. Поэт, очевидно, имел аудиторию, которой также были известны сообщаемые им факты. Эта аудитория из древних песен что-то знала о «времени Бусове», о борьбе с готами и других подобных сюжетах, развивавшихся много лет назад где-то в Причерноморье. Исторически сложившиеся тесные связи Тмутаракани и Приазовья с Черниговом указывают на тот район, где прежде всего должны были сохраниться традиции, зафиксированные в «Слове о полку Игореве». Периферийное положение Чернигова предопределило в конечном счете и неудачу этой версии в соревновании с поляно-иллирийской и варяжской. Между тем хотя эта версия и не охватывала многих важнейших фактов из истории зарождения древнерусского государства, она не была совершенно беспочвенной. Исторические песни от первых веков н. э. могли дожить до XI-XII вв. только при условии, что в рамках Руси за все это время преемственно сохранялись какие-то группы населения, считавшие себя «Русью». (Речь об этом будет в следующей главе.)
Примечания:
4. ЛЛ. С. 1. «Повестью временных лет» условно именуют текст до 1110 г. Лаврентьевской, Радзивиловской и Ипатьевской летописей. Здесь ссылки даются на издание Лаврентьевской летописи 1897 года, более удобное, нежели ее неоднократные переиздания в составе Полного собрания русских летописей, где воспроизводится рукопись с нераскрытыми титлами, и т. п.
5. Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - СПб., 1908. С. 325.
6. Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. 1. - Л., 1930 С 28- 29.
7. Кузьмин А.Г. Начальные этапы. С 93-106.
8. Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. - М., 1963 С 219-247.
9. Шахматов АЛ. Повесть временных лет. Вводная часть. Текст. Примечания Т. 1. - Пг., 1916. С. XXIII, 1-5; Истрин В.М. Замечания о начале русского летописания // ИОРЯС. Т. XXVI Пг 1923. С. 68-70.
10. Насонов А.Н. История русского летописания XI - начала XVIII века. Очерки и исследования. - М., 1969. С. 72.
11. Рыбаков Б А. Древняя Русь. С. 220
12. ЛЛ. С. 3-4.
13. НПЛ. С. 104-105.
14. ЛЛ. С. 9.
15. Никольский Н.К. Повесть временных лет... С. 61.
16. Златарский В.Н. Болгарский историко-литературный элемент в русской истории // Труды 5-го съезда русских академических организаций за границей - София, 1932. С. 348-352.
17. О датировании событий 894 г. 6406 годом см. также: Срезневский И.И. Древние изображения св. князей Бориса и Глеба // Христианские древности и археология. Кн. 9. - СПб., 1863. С. 50-52
18. ЛЛ. С. 24-28.
19. Тихомиров М.Н. Происхождение названий «Русь» и «Русская земля» // СЭ Т. VI-VII. М., 1947. С. 62; Рыбаков Б.А. Древние русы // СА. Т. XVII. М., 1953 С. 43.
20. ПВЛ. Ч. 2. С. 239-243; Насонов АЛ. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. - М., 1951. С. 16.
21. Русанова И.П. Курганы полян X-XII вв. - М., 1966 (табл. 18). Несовпадение касается района р. Горыни и Верхнего Побужья. Эта территория и на самом деле была спорной.
22. ЛЛ. С. 18, 19, 22 (Издатели обычно поправляют текст).
23. НПЛ. С. 106-107.
24. Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 289-299.
25. Потебня АЛ. Этимологические заметки // РФВ. Т. I. - Варшава, 1879. С. 90.
26. ЛЛ. С. 19, варианты. Текст Лаврентьевского списка испорчен (имеется пропуск). Обычно он исправляется по Радзивиловской и Ипатьевской летописям, где названа Ладога. Но в данном случае издатели правили текст якобы по сгоревшей Троицкой летописи. Однако в ней текст также был испорчен. Лишь над строкой позднейшим почерком было приписано название города: «новг.». КарамзинН.М. История государства Российского. Т. VII. - СПб., 1852. С. 120.
27. Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. - М., 1969. С. 227.
28. Насонов АЛ. «Русская земля»... С. 37- 38; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 296; Ловмяньский X. Руссы и руги // ВИ, 1971, №9. С. 51.
29. Державин Н.С. Сборник статей и исследований в области славянской филологии. - М.-Л., 1941. С. 5-50; Болдур А. Троян «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. XV. М.-Л., 1958; Золотое Ю.М. О Трояне «Слова о полку Игореве» // СА, 1970, № 1.
30. Текст цитируется по изданию: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1. - М.-Л., 1965. Пунктуация несколько изменена.
31. Болдур А. Указ. соч. С. 35.
32. Головенченко Ф.М. «Слово о полку Игореве». - М., 1963. С. 273.
33. Н. М. Карамзин читал «сечи».
34. Лонгинов А.В. Историческое исследование сказания о походе северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 г.- Одесса, 1892. С. 107; его же. «Слово о полку Игореве» // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. XXIX. - Одесса, 1911. С. 77-78.
35. Лихачев Д.С. Исторический и политический кругозор автора «Слова» // «Слово о полку Игореве». - М -Л 1950. С. 23.
36. М. Шефтель полагал, что речь идет о земле торков, Ю.М. Золотов - о языческой земле и т. д.
37. Рыбаков Б А. «Слово о полку Игореве» и его современники. - М., 1971. С. 72.
38. Тихомиров М.Н. Русская культура X-XVIII веков. - М. 1968. С. 54.
39. Lewicki Т. Polska i kraje sasiednie w 'swietle «Ksienge Rorega» geografa arabskiego z XII w. al-Idrsiego. - Warszawa, 1954. S. 24, 203-204. В XVI в. было мнение, будто «Илион, или Троя, находилась на Киевской земле» и там показывали ее развалины. См.: Михаил Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, - Киев, 1890. С. 51. А. Болдур (указ. соч. С. 12) отметил скопление на Украине «троянской» топонимики. «Трояновыми», как отмечалось, назывались и приднепровские валы. За всем этим стоит по крайней мере устойчивая традиция.
40. Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 23.
41. Болдур А. Указ. соч. С. 34; Головенченко Ф.М. Указ. соч. С. 321
42. Золотов Ю.М. Указ. соч. С. 262.
43. Галъковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. I. - Харьков, 1916. С. 12
44. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. - М., 1958. С. 484-485; Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». С. 95-96.
45. Полный латинский словарь, составленныи по современным латинским словарям Ананьевым, Яснецким и Лебединским (М., 1862. С. 761).
46. Жрецы усматривали тайну в факте существования семи планет (другие еще не были известны), и астрология позднее опиралась на это положение (Перевощиков Д.М. О летосчислении // Месяцеслов за 1855 год. С. 243-244). На Руси, однако, астрология не прижилась. О родстве «до седьмого колена» см.: Срезневский ИЛ. О договорах князя Олега с греками // Исторические чтения о языке и словесности. - СПб., 1854. С. 90-91, примеч. (ссылка на законы Ротария, Баварские законы)
Глава вторая. «Варяги» русских источников
Как можно было видеть, варяжская версия начала Руси (как и поляно-иллирийская и чернигово-тмутараканская) является выражением интересов определенной части населения северо-западных земель и некоторых ветвей княжеских родов. При этом связанные с ней летописные тексты носят следы разновременной и разнохарактерной обработки. Неодинаковое звучание проваряжских чтений, очевидно, связано не только с намеренным подчеркиванием позитивной роли «находников» - варягов, но и с разным пониманием их природы.
Текст «Повести временных лет» обычно читается исходя из представления о скандинавском происхождении варягов. Нынешние норманисты, как правило, руководствуются мифами, рожденными в Германии еще в XIX столетии (северная прародина германцев, зачисление в число «германцев» иллиро-венетов и кельто-венетов без каких-либо исследований и т. п.). Как правило, в их работах не встретишь даже общих оценок источников и фактов и тем более обсуждения теоретических проблем этногенеза. И основная посылка - позднейший комментарий летописи, включавший «свеев» и «урманов» в число «варягов», и полное игнорирование кельтов и алан, оставивших заметные следы в Скандинавии.
Между тем уже факт как бы дополнительного включения в летописный текст «варягов-скандинавов» ставит перед необходимостью основательного разбора всего летописного текста, чего никто из норманистов ни прошлого, ни настоящего не пытался сделать. Между тем и в том тексте, что служит основой норманистских представлений, особо выделяются варяги-русь, с которыми, собственно, и связывается возникновение Руси. Многие же упоминания варягов с русью вообще никак не связываются. Необходимо поэтому проследить, как изменяется содержание этнонима «варяги» в зависимости от времени и места, где осуществлялись записи.
В этнографическом введении «Повести временных лет» вслед за перечнем рек идет следующий текст: «В Афетове же части седять русь, чюдь и вси языци: меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимегола, корсь, летьгола, любь. Ляхъве же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому; по сему же морю седять варязи семо ко въстоку до предела Симова, по тому же морю седять к западу до земле Агнянски и до Волошьски. Афетово бо и то колено: варязи, свей, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии, ти же приседять от запада к полуденью и съседяться с племянем Хамовым»[47].
Компилятивный характер цитированного текста очевиден: в нем дважды и в разных смыслах упоминается «русь», дважды говорится о «чюди» и о «варягах». На это обстоятельство обращалось внимание[48]. Здесь важно подчеркнуть, что отрывок, вводимый словами «Афетово бо и то колено», предполагает наслоение на уже имеющуюся вставку о руси и других народах, поскольку никаких иных «Афетовых колен» в предшествующей части нет. Но и исключив последнюю вставку, мы не получим однородного текста, что видно из противоречивого понимания этнонима «чудь».
В ткань первой вставки (в текст «Сказания о славянской грамоте») входит указание на место обитания варягов. Значение его трудно переоценить: это единственное прямое свидетельство о территории, занимаемой варягами. Поэтому важно по возможности точно очертить эту территорию, а также установить время появления записи.
Одна особенность отличает запись от смежных текстов: упоминание народов дается без членения на отдельные племена: поляки, литовцы-пруссы, чудь (угро-финны). Чудь, прилегающая к Варяжскому (Балтийскому) морю, - это, очевидно, эсты. Локализация варягов к востоку от чуди «до предела Симова» обычно воспринимается как недоумение, как свидетельство нечетких представлений летописца. Между тем эти сведения вполне конкретны. В летописи имеется два представления о «пределе Симове». Одно из них, соответствующее Библии, отразилось в извлечении из греческих хроник, другое, видимо, было навеяно иудейской литературой, распространенной у хазар. Один из поздних русских летописцев, комментируя половецкий набег 1096 г., изложил мнения о происхождении ряда народов. Болгары Волжские у него оказались «сынами Амоновыми», а жившие в низовьях Волги хвалисы - «сынами Моавлими»[49]. Из-за перенесения ближневосточной этнонимии на территорию Восточной Европы «предел Симов» сместился на Среднюю Волгу, к самым границам владений Рюрика (Муромская земля). В представлении некоторых летописцев, следовательно, варяги, локализуемые между чудью и «Симовым пределом», - это города и земли, занятые в свое время мужами Рюрика.
Выше обращалось внимание на странную трактовку варяжского сказания в Новгородской 1-й летописи, где словене и варяги выступают как бы на паритетных началах, а новгородцы прямо выводятся «от рода варяжска», причем, по уверению летописца, так считали и современные ему новгородцы. Шахматов не без оснований полагал, что в «древнейшем своде» (в данном случае не имеет значения разное его датирование) имело место смешение варягов со словенами[50]. Очевидно, для автора-комментатора, вводившего указание на область обитания варягов, они также не отделялись от словен или же он исходил из того, что весь север Руси контролируется варягами.
На территории от Ладоги до Мурома варяги были, конечно, пришельцами. Их исконное место обитания должно искать «по тому же морю... к западу до земле Агнянски и до Волошьски». Море, известное русским средневековым источникам (вплоть до XVIII в.) как «Варяжское», называлось также в разных местах и в разное время «Ругским», «Немецкими, «Прусским», «Венетским» и «Галатским». И если современное его название происходит от обозначения цвета (baits - «белый» в балтийских языках; Гельмольд ошибочно трактовал название из латинского balteus - пояс, имея в виду путь «из варяг в греки»), то все другие связаны с прибрежными этносами. При этом название «Немецкое» относительно позднее. Оно стало распространяться лишь после того, как во второй половине XII в. Германская (Священная Римская) империя пробилась наконец к морю и установила господство над рядом славянских племен и территорий. Зато другие названия, напротив, уходят в глубь веков.
«Венедский залив» - одно из самых древних названий Балтийского моря, отразившееся в античной географической традиции. Очевидно, венеды какое-то время были в представлении греков и римлян преобладающим или господствующим этносом Прибалтики. С этим этносом издревле связывалась и почти легендарная река Еридан, откуда в Средиземноморье уже со II тыс. до н. э. поступал янтарь. Река эта у отдельных авторов передвигалась то к адриатическим венетам, то к галльским рутенам, ведшим промежуточную торговлю янтарем[51]. Как отмечалось выше, связь трех групп венетов - малоазиатских, адриатических и прибалтийских подтверждается языковыми данными и некоторыми историческими преданиями. Со времен Иордана с «венетами» стали отождествлять «склавен и антов». Во многих источниках VIII—IX вв. проявляется отождествление славян, венедов и вандалов[52]. Гельмольд (XII в.) именует славян вендами, вандалами, винитами и винулами[53]. То же смешение характерно для средневековых авторов и хронистов (Ян Длугош, С. Герберштейн и др.). Заэльбские славяне называли себя вендами еще и в XVIII в., пока они не были ассимилированы германцами. С другой стороны, в угро-финских языках (финском, эстонском, вепсском) этноним «вене» сохранился за русскими, а не славянами вообще.
В историографической традиции славяне и венеды довольно устойчиво отождествляются. Между тем каждый современный археолог скажет, что на рубеже н. э. славян на балтийском побережье еще не было: они приходят туда едва ли ранее VI в., причем к юго-западной его части (область специфических «германских», а на самом деле кельтических племен ингевонов). Но на восточном побережье Балтики венеды сохранялись и в XIII в., о чем сообщал в XIII в. Генрих Латвийский в выше цитированной записи. «Венетским» эта часть моря называлась еще и во времена С. Герберштейна[54]. О венедах здесь знает автор XVI в. Лука Давид[55]. А известный географ XVI в. Герард Меркатор, как сказано выше, отметил факт двуязычия некоторых местных племен, в частности, рутенов, которые говорили по-словенски и по-«виндальски». Иными словами, большая часть венедов в конечном счете ославянилась, передав отдельным славянским племенам и свое имя. Но вплоть до XVI в. сохранялись остатки и собственно венедского, неславянского этноса, поглощенного в конечном счете в рамках немецкой Ливонии. Собственно же славянам остается территория южного побережья Балтики, как раз «до земле Агнянски и до Волошьски», где летописец помещал варягов. Иными словами, согласно древнейшей летописной записи, исконные «варяги» - это территория южного берега Балтики, западнее пруссов и ляхов, на которой в то время жили славянские или ославяненные племена. Самая локализация «ляхов» по морскому побережью может иметь датирующее значение. Дело в том, что польские князья вели постоянную борьбу за обладание Поморьем. Но владели они им лишь в отдельные, довольно кратковременные периоды.
Балтийское Поморье в X в. было одним из наиболее развитых районов славянского мира. В 962 г. возникает Священная Римская империя, которая начинает наступление на балтийских славян. В 966 г. польский князь Мешко I принимает крещение по латинскому обряду и вскоре с помощью Империи овладевает Поморьем. Империи также удалось поставить большинство балто- славянских племен в зависимость от себя. Но в 983 г. произошло широкое восстание, закончившееся изгнанием немецких феодалов и священников со значительной части земель балтийских славян. Мешко удалось с помощью датских и шведских союзников удержать под своей властью Поморье. Здесь после его смерти в 992 г. остался один из сыновей Мешко - Святополк, номинально признававший зависимость от Болеслава Великого, сидевшего в Гнезно В 997 г. было создано епископство в Колобжеге и началось распространение христианства в Восточном Поморье. Однако вскоре после восстания поморян это епископство было ликвидировано. Фактически Поморье снова отпало. К середине XI в. Казимиру I удалось подчинить Восточное Поморье, но Западное Поморье вошло в состав ободритского государства. Вскоре вновь отпало и Восточное Поморье, и лишь полвека спустя Болеславу III удалось в 20-е гг XII столетия взять главные поморские города - Щецин, Колобжег, Волин Но и после этого Западное Поморье оставалось фактически независимым.
Летописец, назвавший «ляхов» на побережье Варяжского моря, писал очевидно, тогда, когда польские князья реально владели Поморьем Практически речь должна идти либо о конце X - начале XI вв., либо о времени после 20-х гг. XII столетия. Вторая эпоха отпадает и потому, что основные редакции «Повести временных лет» сложились раньше, и потому что ситуация в Поморье оставалась далеко не ясной, и потому, что летописцев этого времени этнография уже мало интересовала. Поэтому наиболее вероятна принадлежность рассматриваемого пояснения летописцу, трудившемуся в конце X в. Именно в это время в Киеве были особенно сильны и антиваряжские, и антиновгородские настроения, проявившиеся в целом ряде летописных текстов[56].
Как было сказано, летопись указывает в качестве западных пределов обитания варягов земли «Агнянскую» и «Волошскую», то есть границы расселения в это время балтийских славян. Но славяноязычные племена сохраняли, по летописи, и некоторые свои исконные названия. В «наслоении» на первичную запись, определяющую местожительство «варягов» от земли англов до «предела Симова», то есть по всему Волга-Балтийскому пути, перечислены живущие по «Варяжскому» морю племена: «Афетово бо и то колено: варязи, свей, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии, ти же приседять от запада к полуденью и съседяться с племянем Хамовым». Здесь упомянуты «варяги» и «русь» как племена, отличные от «свеев», «урманов», норманнов, «немцев». При этом этноним «варяги» покрывает и приморские славянские племена, не вошедшие в состав Польши.
Этноним «агняне» постоянно присутствует в летописи в соседстве со свеями, готами, «урманами», «варягами» и «русью». В то же время «даны», один из самых активных «норманских» народов X-XI вв., в летописи даже не упоминаются. Это обстоятельство постоянно вызывает недоумения[57]. М. Н. Тихомиров предположил, что перечень народов составлялся в то время, когда Дания и Англия были объединены под властью короля Кнута Великого (1018-1035)[58]. Как наименование, относящееся к обеим этим странам, понял этот этноним и Г. Ловмяньский[59]. Только этому факту, видимо, не следует придавать датирующего значения. Ютландия являлась родиной англов и долгое время сохраняла положение метрополии. «Англией» называл англосаксонский король Альфред (871-901) пограничную с нынешней Германией часть Ютландии, и это название удерживалось за ней вплоть до недавнего времени[60]. С другой стороны, «данами» в средневековой Европе, в частности в Британии, называли обычно норманнов, включая Скандинавию. «Агняне», следовательно, традиционное население юга Ютландии, непосредственно соседствующее с землями балтийских славян. Этот факт нашел своеобразное отражение в «Правде англов и вэринов», относящейся к концу IX - началу X вв.[61]
Несколько сложнее обстоит дело с землей «Волошской». Исторически этноним «волохи», как это признается большинством исследователей, связан с кельтами (одно из больших кельтских племен - volci). Но вопрос о том, кого им обозначали в Средневековье, остается спорным. Шахматов, анализируя тексты летописи, восходящие к «Сказанию о славянской грамоте», пришел к выводу, что у славян это название перешло на франков[62]. В. Д. Королюк полагал, что летопись имеет в виду древних римлян[63]. Действительно, у западных славян этноним «волохи» закрепился за Италией. Позднее же «волохами» («влахами») называли население различных территорий также Балканского полуострова и Прикарпатья[64]. Разные мнения соединяет и тот факт, что с 962 г. от Рима до Ютландии простиралась Священная Римская империя. Какой-то след оставили, видимо, и готы, заселявшие некоторое время Северную Италию, а затем рассеявшиеся по разным территориям. Так или иначе, у западных и балтийских славян этноним связывался с Северной Италией и Римом.
Напомним, что локализация варягов дается в том отрывке, где летописец основные государственные образования называет без подразделения на племена. В туманных на первый взгляд сведениях заложено достаточно четкое представление, характерное для его времени. «Варягам» отводится территория между Польшей и Пруссией с одной стороны, Данией и Священной Римской империей - с другой. Речь, следовательно, идет о территории, принадлежавшей весьма специфической группе славян. Примечательно и то, что эта группа не попала в перечни племен, восходящих к «Сказанию о славянской грамоте». В «Сказании», в частности, не названы вагры, ободриты, а также руги (раны), наиболее организованные из балтийских славян и славянизированного предшествовавшего населения, хотя их союзы не сходят со страниц франкских хроник уже с VIII в. В XI в., как отмечалось, существовало особое ободритское государство. На Руси его не могли не знать. Супруга Ярослава Мудрого шведская принцесса Ингигерда была дочерью ободритской княжны Эстреди. Упомянутый выше датский король Кнут тоже по одной линии был выходцем из рода ободритских князей (при нем балтийские славяне какое-то время входили в состав англо-датского государства). Позднее дочь Мстислава Владимировича (ум. 1132) была замужем за ободритским королем Кнутом Лавардом. Но нигде в летописях для этой территории не находится иного обозначения, помимо неопределенного «варяги».
Другая вставка дает несколько иное представление о варягах. Это только одно племя, отличающееся от балтийской «руси», а также от норманских племен: агнян (датчан), свеев (шведов), готов и урман (собственно норманнов-норвежцев). Вставка явно относится к более позднему времени, и интересна она именно тем, что имелось и узкое значение этнонима «варяги». Размещаться племя могло только на южном берегу Балтики, поскольку все другие ее берега были заселены иными известными летописцам племенами.
Следующим текстом, в котором упоминаются «варяги», является рассказ о путях из Руси и легенда об апостоле Андрее. И то, и другое связано с основной тканью поляно-славянской концепции и, следовательно, отражает представление киевского летописца, не знавшего или не принимавшего варяжской версии начала Руси. Летописец описывает «путь из варяг в греки и из грек» через «Илмерь озеро» и «озеро великое Нево» (Ладожское озеро). Он знает о том, что Варяжским морем можно дойти до Рима, а затем из Рима морем прийти в Царьград. Другой путь, ведущий в «варяги», - Западная Двина, и опять- таки можно дойти «из варяг до Рима». В этих текстах «Русь» - это Среднее Поднепровье, и она четко противопоставлена «варягам». Противопоставляются и названия морей: «Русского» (Чермного-Красного, позднее Черного) и «Варяжского» - Балтийского.
Легенда об апостоле Андрее непосредственно примыкает к рассказу о путях. Она любопытна тем, что апостол Андрей в ней совершает путешествие из Корсуня в Рим через «варяги». Будучи в Корсуне, он «уведе, яко ис Корсуня близь устье Днепрьское, и въсхоте поити в Рим»[65]. Он идет путем «из варяг в греки» через землю словен, затем «иде в варяги, и приде в Рим». Летописец, видимо, не осознавал, насколько нецелесообразен путь, проделанный апостолом, насколько короче путь из Корсуня через Царьград. Но он, очевидно, знал, что в Рим из Киева ездили именно таким путем. И не только в XI в. На Флорентийский собор 1439 г. русская делегация ехала точно таким путем: из Новгорода она сухим путем добралась до Риги, а от Риги часть ее поехала морем до Любека, расположенного в «Руссии», другая часть - «по суху» «коньми». Путь от Любека пролегал по территории Германии и Италии[66]. Это были давние, наезженные пути. Еще со времен Франкской империи южнобалтийские города были как бы торговыми воротами континентальных территорий, причем население приморских городов практически монополизировало торговлю с отдаленными странами (в числе которых были Византия и Волжская Болгария).
«Варяги» вызывают неприязненное отношение у многих киевских летописцев, особенно если учесть, что при Ярославе вплоть до его смерти им выплачивалась дань. В данном случае речь могла идти и о своеобразном «вено» Ярослава за Ингигерду и помощь в его борьбе с Мстиславом чернигово-тмутараканским. Но в летописях нет никаких намеков на различия языков славян и варягов. По крайней мере пришедшие с Рюриком варяги строят города с ясными славянскими названиями: Новгород, Изборск, Белоозеро.
Следующее упоминание «варягов» связано с походом Олега на греков «в лето 6415». (Дата, видимо, записана по старовизантийской эре, и о тех же событиях сказано под 6420 г. по константинопольской эре). Статья соединяет разные версии об одном и том же событии, и в частности в ней как бы собраны все предшествующие названия племен, ранее упомянутых в летописи[67] (за исключением ряда племен из «Сказания о славянской грамоте»), «Варяги» здесь стоят на первом месте перед «словенами» в перечне племен, якобы принявших участие в походе Олега. Но в дальнейшем тексте говорится только о «руси», причем снова летописец в сказочной форме допускает иронический выпад против новгородцев: Олег распорядился после получения «дани» с греков сшить «парусы паволочиты руси, а словеном кропиньныя» (разные виды шелка), но ветер разорвал паруса словен, и те сами должны были признать: «не даны суть словеном пре паволочиты» и придется удовлетвориться «своими толстинами». Ясно, что здесь противопоставлены не варяги и словене, а киевляне и новгородцы. Но текст статьи является, конечно, позднейшей компиляцией разновременных устных и письменных источников. В последовавшем затем договоре (911/6420) партнерами выступают Греческая и Русская земля причем в числе представителей «рода рускаго», если судить по именам, нет ни одного славянина, но заключается он на греческом и славяно-русском языках Перун и Волос - главные боги этой Руси. Бог Перун (Проне, Прове, лит Перкунас) известен у балтийских славян и, может быть, пруссов, если только он не занесен на эту территорию обитателями известной позднее «Неманской Руси» (об этом речь будет в следующей главе). Обозначение дня недели «Перундан» - «день Перуна» - четверг, известно у балтийских славян и их потомков еще в XVIII в. (по аналогии с немецким «Доннерстаг» - день Доннера или французского «жёди» - день Юпитера). «Волос» (Белее, Влас - «скотий бог» от «скот» - деньги, богатство) - покровитель купечества, путешественников и поэтов-сказителей («Боян - Велесов внуче») - аналог римского Меркурия (В христианстве сохранился и как личное имя «Влас», «Власий»).
Рассказ о походе на греков Игоря тоже компилятивен. При том если греческие источники говорят об одном неудачном походе Руси, то в летописи после неудачного последовал якобы удачный. Одна версия заимствована из византийских источников, другая, видимо, из русской устной традиции[68]. В первой версии фигурирует только «русь», во второй в числе наемников называются «варяги, русь и поляны, словени, и кривичи, и теверьце, и печенеги» Здесь сразу названы и варяги, и русь, и поляне, что едва ли говорит о чем-нибудь ином, кроме механического соединения разных представлений. Договор Игоря также заключается от имени «рода рускаго», а клянется русь именем Перуна. Но есть и одно любопытное пояснение в связи с наличием в дружине Игоря русов-христиан: «А хрестеяную русь водиша роте в церкви святаго Ильи, яже есть над Ручаем, конец Пасынъче беседы и Козаре: се бо бе сборная церки, мнози бо беша варязи хрестеяни»[69]. Варяги в данном случае являются частью руси, и среди них немало христиан. С 30-х гг. X в. по 983 г. (до широкого восстания против насаждения германо-римской церковной иерархии) значительная часть славянских племен признавала христианство, хотя и в специфической форме. При Гаральде Синезубом (936-985) христианство утверждается и в Дании. Около того же времени делаются попытки распространения христианства и в Швеции, но утверждается оно там лишь в конце XI - начале XI1 вв.[70] Восстание 983 г. на Поморье привело к ликвидации там христианских храмов и изгнанию одной части христиан, и возвращению в язычество другой Большой интерес представляет наличие самой церкви св. Ильи (как бы принявшего на себя функции Перуна-громовержца) в Киеве. Интерес она представляет прежде всего потому, что ни Риму, ни Константинополю она не подчинялась и явно увязывалась с аналогичными славянскими христианскими общинами Подунавья, последователями славянских просветителей Кирилла и Мефодия, причем последнего Рим в течение почти четырех столетии обвинял в «арианстве» - общинной церкви, не признававшей внешней иерархии и повлиявшей на принятое Русью в конце X в. христианство. Обряд погребения этих христиан однозначно указывает на Подунавье, о чем писал в небольшой, но ёмкой статье С. С. Шнринскнй[71]. Здесь может находиться и исток поляно-иллирийской версии происхождения славянской Руси.
На протяжении ряда десятилетий летописи ничего не говорят о варягах. В войске Святослава они непосредственно не упоминаются. Имя же приближенного Ярополка Святославича - Варяжко - косвенно свидетельствует о малочисленности варягов в Киеве в это время, поскольку в имени отражается просто племенная принадлежность, и оно теряло бы смысл, если бы варягов в окружении князя было много. Новое «нашествие» варягов в Киев связано с вокняжением Владимира. По разделу земель Святославом, он получил Новгород, традиционно связанный с варягами, а после убийства Ярополком брата Олега бежал «за море», откуда и вернулся через два года с наемным войском. Варяги помогли Владимиру овладеть Киевом и потребовали, чтобы князь взыскал с киевлян «окуп» «по 2 гривне от человека». Владимир, по летописи, решил, однако, обмануть варягов. Сначала он заставил их месяц ждать, пока якобы киевляне «куны сберут», а затем и вообще отказал в таком сборе. Раздосадованные варяги потребовали, чтобы князь показал им «путь в Греки». Владимир отобрал из варяжского отряда «мужи добры, смыслены и храбры, и раздал им грады», остальных же отправил к грекам, направив ранее послов с предупреждением царя: «Се идуть к тебе варязи, не мози их держати в граде, оли то створять ти зло, яко и еде, но расточи я разно, а семо не пущай ни единого»[72].
Где был Владимир «за морем» в течение двух лет? Судить об этом, разумеется, трудно. Но языкового барьера между варягами и славянами, судя по летописи, не было. Варяги Владимира были язычниками. Язычниками в это время оставалось подавляющее большинство скандинавов. Даны были христианами. На славянском берегу Балтики оставались языческими племена руян на острове Рюген и каких-то прибрежных территориях, а также волиняне, в легендарном городе которых (Волин, Юлии, Винета и др.) в это время находилась своеобразная община воинов, готовых на подвиг и на разбой. Помимо славян, здесь было много выходцев из Дании, отказавшихся принять христианство. В пользу мысли о том, что Владимир был именно у балтийских славян-язычников, свидетельствуют существенные детали его религиозной реформы.
Возвращение Владимира явно сопровождалось усилением языческих культов. Причем Владимир стремился укрепить его своеобразным узаконением главных богов отдельных племен, в том числе неславянских (Хоре, Даждьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь). Скандинавским богам в этом пантеоне места не нашлось. Зато изображение главного бога - Перуна, у которого голова была серебряная, «а ус злат», находит аналогии у балтийских славян. В городе Кореница на острове Рюген бог побед Черноглав изображался с серебряными усами. Из золота было сделано изображение бога Триглава в Волине[73].
Во второй половине X в. выходцами из «заморья» были и правители некоторых западнорусских городов. Так, в Полоцке сидел Рогволод, к дочери которого Рогнеде сватались Ярополк и Владимир. Отказом Владимиру Рогнеда доносит до нас указание на любопытный обычай, связанный, может быть, как раз с варягами: «Не хочю розути робичича (намек на происхождение Владимира от рабыни Малуши. - А.К), но Ярополка хочю». Пришел Рогволод в Полоцк, очевидно, Западной Двиной. Так же из «заморья» пришел в Туров Тур. Здесь также не видно никаких языковых проблем.
Весьма любопытно, что восстание 983 г. на Поморье нашло своеобразный отклик в Киеве. В этом году были убиты отец и сын варяги-христиане. Явление это для Киева второй половины X в. необычное. Со времен Игоря и Ольги язычество и христианство как будто спокойно уживались. Но восстание на Поморье носило прежде всего антихристианский характер, и импульс его дошел до Киевской земли. Позднее варягов-мучеников церковь прославляла. «На крови» их была построена знаменитая Десятинная церковь. Правда, общая антиваряжская тенденция киевской письменности в конце концов сказалась и на этом сюжете. На Руси прописываются иные святые, а в традиции Десятинной церкви в XI в. как бы забывают и о самом факте связи ее сооружения с памятью о событиях 983 г.
Принятие Русью христианства в 986-988 гг. осложнило отношения с языческим славянским миром. Это не могло не сказаться на составе варяжских дружин, которые теперь приходят на Русь по приглашению ее князей.
Впервые Ярослав нанимает варягов незадолго до смерти Владимира (1015 г.), подняв оружие на отца. Наемники повели себя в Новгороде весьма несдержанно, чем вызвали восстание горожан (тоже ведших себя «от рода варягов»), Насильники были перебиты. В свою очередь Ярослав, заманив «нарочитых мужей» из новгородцев, учинил над ними расправу. Тем не менее новгородцы согласились идти с Ярославом после того, как дошла весть о гибели Бориса и Глеба и вокняжении в Киеве сына Ярополка Святополка. (Убив брата, Владимир забрал его «непраздную» жену в свой гарем.) Согласно Новгородской 1 летописи, в походе приняли участие тысяча варягов и три тысячи новгородцев. («Повесть временных лет» называет невероятную цифру в 40 тысяч воинов.) С этим войском Ярослав разбил под Любечем Святополка и занял Киев. Святополк бежал к тестю - польскому королю Болеславу и подбил его на выступление против Ярослава. Ярослав собрал войско из руси, варягов и словен, но потерпел поражение и едва бежал в сопровождении четырех мужей в Новгород. Он намеревался бежать и далее за море, но посадник Константин Добрынич - племянник матери Владимира - Малуши, вместе с новгородцами «расекоша лодье Ярославле», изъявив желание продолжить борьбу за Киев, объявив сбор «скота». Новгородцы пошли на тяжелые жертвы. С каждого мужа взимали по 4 куны, со старост по 30 и с бояр по 18 гривен (стоимость коня в это время - 2-3 гривны). На собранные деньги были наняты новые отряды варягов, с помощью которых Ярослав и утвердился в Киеве.
Впрочем, и позднее Ярослав долгое время предпочитал находиться в Новгороде. Тем более что на Киев претендовали Брячислав, сын Изяслава, старшего брата Ярослава, и тмутараканский князь (тоже сын Рогнеды) Мстислав. Стремясь как-то упорядочить отношения новгородцев с наемниками, он дал новгородцам «Правду», получившую название «Правда Ярослава». Этот документ имел сравнительно ограниченное значение, предусматривая разного рода наказания за покушение на честь или собственность свободных мужей. Помимо словен-новгородцев, здесь упоминаются варяги и колбяги, которые получают некоторое преимущество по сравнению с местным населением: им достаточно вместо предъявления свидетеля принести клятву. Но в статьях, предусматривающих ситуации, когда варяги и колбяги сманивают у новгородцев челядь или крадут коней, «Правда» решительно защищает новгородцев.
Колбяги появляются только во времена Ярослава и скоро исчезают. Думается, что Татищев правильно решил, о ком идет речь: это, по всей вероятности, население Колобжега и прилегающей округи. Восстание, приведшее там к ликвидации епископства в начале XI в., неизбежно должно было выплескивать из округи те или иные неспокойные слои, в ходе противоборства утратившие связь с привычными «мирными» видами деятельности. Правда, на Руси эти неспокойные элементы могли найти только временное применение, особенно если речь шла о колбягах-язычниках. Что касается варягов, то их состав в это время был, очевидно, более пестрым, чем когда-либо. Именно в это время понятие «варяги» на Руси начинает распространяться и на выходцев из Скандинавии. Об участии скандинавов в смуте на Руси говорит, в частности, «Сага об Эймунде». Но такое смешение ограничивалось, видимо, только югом. В Новгороде этническую ситуацию на Балтийском море всегда представляли более дифференцированно.
В 1024 г. наемная варяжская дружина выступала на стороне Ярослава в его битве с Мстиславом под Лиственом. Дружину возглавлял воевода по имени Якун. Об именах ниже будет речь. Пока отметим, что это имя было широко распространено в Новгородской земле. Известно оно и по договору Игоря. Ни к Германии, ни к Скандинавии оно отношения не имеет. Но вполне вероятно, что в дружине были и «волонтеры» из Швеции, с которой породнился Ярослав. Именно в эти годы (около 1027 г.) в дружине варангов в Византии появился первый «норманн» - Болле Боллисон.
Мстислав поставил против варягов северян, а «русь» - собственную дружину оставил в резерве. Варяги были разбиты. «Видев же Ярослав, яко побежаем есть, побеже с Якуном, князем варяжьскым, и Якун ту отбеже луды златое. Ярослав же приде Новугороду, а Якун иде за море. Мстислав же, о свет заутра, видев лежачие сечены от своих север, варягы Ярославле, и рече: «Кто сему не рад? Се лежнть северянин, а се варяг, а дружина своя цела»[74]. Эта неприличная радость подчеркивает принципиальную разницу между «русыо» и заезжими «варягами». «Русь» Мстислава состояла, вероятно, из русов тмутараканских или чернигово-тмутараканских, поскольку из собственно славянских племен в битве были задействованы лишь северяне, входившие в состав Черниговской земли. Но «русью» назывались и поляне, в частности в тексте 1018 г., где они выступают вместе с «варягами» и «словенами» против Болеслава Польского. Мстислав же шел в 1023 г. на Ярослава «с козари и касогы». Касоги - черкесы Северного Кавказа. «Козарами» после разгрома Хазарского каганата Святославом могли называться рассеявшиеся остатки ранее входивших в каганат племен. Не исключено, что среди них были и салтовцы - аланы-русы, названные «козарами», дабы не смешивать их со «своими» тмутараканскими «русами».
Хотя в 1024 г. победивший Мстислав, обосновавшийся в Чернигове соглашался оставить брату Киев и Правобережье Днепра, Ярослав до кончины Мстислава в 1036 г. в Киев не возвращался, оставаясь в Новгороде. В 1036 г Ярослав вместе с варягами и словенами пришел в Киев для отражения нападения печенегов. Варяги были поставлены «по среде, а на правей стороне кыяне, а на левемь криле новгородци»[75]. «Кыяне» здесь заменяют обычную «русь». Несколько лет спустя, в 1043 г., состоялся последний большой поход руси на греков во главе с Владимиром Ярославичем. (Ярослав, опиравшийся в Оорьое за Киев на поддержку Константинополя и согласившийся принять оттуда митрополита, видимо, был раздражен заметной активностью посланца Империи Феопемпта.) В рассказе об этом событии, помещенном в новгородских летописях, неудача объясняется неразумностью и неустойчивостью варягов. Войско прошло пороги и приблизилось к Дунаю. «Рекоша русь Владимиру: «Станем зде на поле»; а варязи ркоша: «Пойдем под город» И послуша Владимир варяг». Христианские святые помогали грекам, возможно, потому, что варяги были язычниками. Буря разбила корабли «и побегоша варязи въспять»[76]. По сообщению византийского автора Михаила Атталиота в числе нападавших на греков был отряд с северных островов океана, в числе которых числилась и Скандинавия[77].
После 1043 г. этноним «варяги» надолго исчезает со страниц летописей Со смертью Ярослава, многим обязанного варягам, кончились и выплаты-откупы в пользу каких-то варягов со стороны Новгорода. Где жили те варяги, которым уплачивалась дань «мира деля»? Очевидно, за пределами уже существовавших государственных образований, с которыми Ярослав и его преемники поддерживали регулярные отношения. Таковыми к середине XI в. оставались острова, Западное Поморье, восточное побережье Балтики. Эти области оставались языческими, что само по себе усиливало их отчуждение от Руси.
Антиваряжские настроения, усилившиеся во второй половине XI в способствовали тому, что задним числом переосмысливалась и прошлая роль варягов на Руси. В Киево-Печерском патерике сохранились сведения об участии варягов в основании Печерского монастыря. ПВЛ же в этой связи им места не оставляет. Согласно Патерику, «бысть в земли Варяжской князь Африкан, брат Якуна слепаго, иже отбеже от златы луды, биася плъком по Ярославле с лютымь Мстиславомь. И сему Африкану бяху два сына: Фриад и Шимон. По смерти же отцю ею изъгна Якун обою брату от области ею. Приде же Шимон к благоверному князю нашему Ярославу».
Патерик в данном случае опирался, видимо, как и во многих других случаях, на «Летописец старый Ростовский», составленный, по всей вероятности, пострижеником Печерского монастыря епископом ростовским Нестором в середине XII в. Как было записано в летописи - судить трудно, но «ослеп» Якун явно из-за ошибочного прочтения сочетания «сь леп», то есть «красив». (Слепому трудно руководить рукопашным боем).
Об именах опять-таки речь пойдет ниже. Здесь отметим, что племянникам Якуна ничего не оставалось, как бежать из пределов земли, где княжил их дядя. Очевидно, имеется в виду какая-то небольшая, но не зависимая ни от кого область.
Шимон, по-видимому, был уже у себя на родине христианином. По преданию, он захватил с собой «золотой пояс» с изображением Христа, а «голос с неба» побуждал его доставить пояс на то место, где со временем будет заложена монастырская церковь Богородицы. После смерти Ярослава Шимон остался воеводой при Всеволоде, участвовал в битве с половцами при Альте в 1068 г., где он был изранен и спасся опять-таки с помощью провидения, отводившего ему важную роль в создании Печерской церкви. Основатель монастыря Антоний переименовал Шимона в Симона, видимо, как и его преемники, не понимая, что это лишь разные произнесения одного и того же имени. (Замена «с» на «ш» характерна для какой-то ветви балтийских славян). Шимон делал богатые вклады монастырю и первым был похоронен в построенном с его помощью храме. Сын Шимона - Георгий Шимонович (известный и летописям) был отправлен Владимиром Мономахом в Ростовскую землю вместе с малолетним Юрием. Здесь Георгий оставался тысяцким и после того, как Юрий Долгорукий перешел в 1155 г. на княжение в Киев[78].
В XII в. север и юг страны все более обособляются друг от друга. С «варягами» теперь практически связаны только северо-западные города. В 1148 г. киевский князь Изяслав Мстиславич, прибыв в Смоленск к брату Ростиславу, привез ему дары «от Роускыи земле и от всих царьских земль», а Ростислав одаривал брата тем, «что от верьхних земль и от варяг»[79]. «Варяги» здесь уже не этническое, а неопределенное географическое понятие. Но мере того, как в Прибалтике утверждается христианство по латинскому обряду, «варяжская вера» становится синонимом католичества.
Однако в землях, поддерживавших постоянные отношения с Прибалтикой, и позднее сохранялось определенное представление о варягах как конкретном этносе, отличном от других народов региона. Любопытны глухие известия о варягах в относительно поздних текстах Новгородской 1 летописи. В 1188 г., по летописи, «рубоша новгородьце варязи на гътех, немьце в Хоружьку и в Новотържьце; а на весну не пустиша из Новагорода своих ни одного мужа за море, ни съла въдаше варягом, нъ пустиша я без мира». И затем под 1201 г.: «А варягы пустиша без мира за море.... А на осень придоша варязи горою на мир, и даша им мир на всей воли своей»[80].
Цитированные известия интересны тем, что они отражают положение, существовавшее в Прибалтике на протяжении длительного времени. В 1188 г. варяги пограбили («рубоша») новгородцев на Готланде и немцев «в Хоружьку и в Новотържьце». В итоге традиционные отношения были нарушены и не восстанавливались 13 лет, пока варяги не повинились. Речь идет, очевидно, о каком-то организованном сообществе, с которым новгородцы обменивались посольствами. Однако известия эти слишком лаконичны, чтобы на их основе представить ситуацию на Балтике. Естественно, что существуют значительные разногласия и в прочтении текста, и в раскрытии содержащихся в нем этнических и географических определений.
В свое время названные статьи явились объектом специального анализа И. П. Шаскольского. Он связывал их с заметным событием в жизни северного региона Европы: в августе 1187 г. шведская столица Сигтуна была разрушена язычниками. Автор пришел к выводу, что упоминаемые хрониками язычники - это карелы (входившие в это время в состав Новгородской земли) и, возможно, отдельные новгородские отряды. Именно в отместку за это нападение, полагал автор, новгородцы подверглись ответной акции на Готланде и в материковой Швеции[81]. По мнению И. П. Шаскольского, варяги - это готы. Он учитывает, что шведов новгородцы знали под именем «свеев», «немцами» же он считал в данном случае как раз шведов - «свейских немцев». Автор поправил летописный текст таким образом («немци» вместо «немце»), что новгородцы стали жертвами нападения со стороны немцев (по автору - шведов). Славянские названия городов представлены автором осмыслением шведских наименований: Нючепинг - Новоторжец, Торсхелл - Хоружек.
Несмотря на вроде бы основательность исследования, интерпретация источников автором не может быть принята. «Свеев», конечно, на Руси и в особенности в Новгороде знали хорошо. О борьбе с ними новгородский летописец сообщал под 1142 и 1164 гг.[82] Но Готланд новгородцы знали еще лучше. Через него шли более дальние маршруты (хотя, конечно, не только через Готланд). Под 1130 г. летописец сообщает, что «идуце из-замория с Гот потопи лодии 7, и сами истопоша и товар, а друзии вылезоша, нъ нази; а из Дони (первое упоминание Дании. - А.К.) придоша сторови»[83]. «Готский берег» и «готы» постоянно фигурируют в договорах Новгорода с заморскими странами. Весьма существенно, что первый известный договор, почему-то обойденный Шаскольским, относится как раз к рассматриваемому времени: по упоминаемым в тексте именам князя (Ярослав Владимирович) и посадника (Мирошка) договор может быть датирован периодом с 1189 по 1199 г. Это соглашение подтверждало «мир старый» «с всеми немецькыми сыны, и с гты, и с всемь латиньскымь языком»[84]. Готы, немцы и «латины» названы также в договоре 1229 г. Смоленска с Ригой и Готским берегом[85].
Договоры конца XII-XIII вв. фиксируют изменившуюся обстановку в Прибалтике. Во второй половине XII в. старые славянские поморские города становятся центром немецкой торговли, а местом общения немецких и русских купцов долгое время оставался Готланд. Один и тот же формуляр договора предназначался для представителей широкого круга стран. В источниках и под «немцами» часто скрывались разные народы. В узком же смысле «немцами» именовали выходцев из северогерманских, в том числе славянских, приморских областей. «Весь латинский язык» же предполагал подчиненное Риму католическое население.
Таким образом, «варяги», с которыми новгородцы разорвали в 1188 г. отношения, это не готы, не немцы и вообще не народ «латинского языка». Правда, в самом тексте договора однажды упомянуты «варяги». Основное его содержание - противопоставление: новгородцы и немцы. Одна статья сопоставляет «русь» и немцев. Далее следует статья, как будто выпадающая из контекста: «Оже емати скот варягу на русине или русину на варязе, а ся его заприть, то 12 мужь послухы, идеть роте, възметь свое»[86]. Не исключено, что это как раз осколок «мира старого», относящегося совсем к недавнему времени, когда варяги господствовали на южном берегу Балтики.
Весьма существенно, что вторично в 1201 г. варяги пришли искать мира у новгородцев «горою», т. е. сухим путем. И для готов, и для шведов такой путь был нецелесообразен и практически невозможен. Зато от Новгорода на восточное побережье Балтики и далее вплоть до Любека сухим путем постоянно ездили. (Вспомним хотя бы путь русской делегации на Флорентийский собор). Очевидно, ни власти Готланда, ни немцы не несли непосредственной ответственности за нападение варягов, и новгородцы договаривались с последними особо. «Варяги» этого периода (в тех случаях, когда этим названием не покрываются вообще пришельцы из Западной Европы) воспринимались еще как самостоятельная и довольно значительная сила, своего рода морское казачество. Не исключено, что и в страшном разгроме шведской столицы они сыграли не последнюю роль, поскольку именно у них язычество сохранялось до тех пор, пока сохранялись базы, с которых они могли совершать свои набеги. И если некоторые источники называют в числе язычников «русь» (Rutheni), то, как это будет показано ниже, необязательно отождествлять их с новгородцами.
С упрочением позиций немецких феодалов и церкви на балтийском побережье исчезает и само название «варяги», покрываясь более широким «немци». Это осознавалось на Руси. Летописец XV в. выводит легендарного Рюрика «из немець». «Немцами» называет варягов Иван Грозный, полемизируя со шведским королем Юханом III о природе варягов.
В XV в. бежавший из Литвы в Москву неудачливый митрополит (литовский) Спиридон-Савва выступил со своеобразным переосмыслением варяжской легенды в том смысле, что Рюрик происходил от брата Августа Пруса. Эта идея получила развитие в «Сказании о князьях владимирских». На западе она встречалась не без иронии, хотя европейские генеалогии были под стать московской. Однако нигде, в том числе в Польше и Литве, не оспаривалось утверждение, что Рюрик с варягами вышли с южного берега Балтики (в данном случае с территории между Вислой и Неманом). Именно этими данными оперировал, видимо, и Иван Грозный в споре со шведским королем. Шведские короли, как бы признавая ущербность своей генеалогии, усиленно искали «королевских» предков[87]. Юхан, в частности, был задет тем, что Иван Грозный именовал его «мужичьим родом». Из недошедшего его послания видно, что Юхан отсылал к какой-то генеалогии и упоминал варягов, которые служили Ярославу Мудрому. Грозный не соглашался с тем, что «за несколько сот лет в Свее короли бывали». «И мы того не слыхали, - замечает он, - опричь Магнуша, который под Орешком был, и то был князь, а не король». Возражал он и против того, что наемные варяги Ярослава - это шведы. «В прежних хрониках и летописцах писано, - уверял царь, - что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги - немцы, и коли его слушали, ино то его были»[88]. В свите Ингигерды, как говорилось выше, безусловно, должны были находиться и шведы. Были они, очевидно, и в составе варяжских дружин. Однако о присутствии их в варяжских дружинах до Ярослава и Юхану не было ничего известно. Это служит важным аргументом в пользу того, что и в летопись «варяги-свеи» попали после Ярослава.
Если в отрезанной от Балтики Московии в XVI в. уже довольно смутно представляли себе очертания этого моря, то на Западе Руси не могли его не знать, поскольку к морю выходило польско-литовское государство, куда входили эти земли. Так, западнорусский летописец, говоря об убийстве польского короля «Премышлява» (Пшемысл II был убит в 1296 г.), отмечает, что король таким образом был наказан за смерть своей первой жены Лукерии, которая «бе рода князей сербских, с кашуб, от помория Варязскаго, от Стараго града за Кгданском»[89]. Знакомая с западнорусскими источниками Никоновская летопись под 1380 г. сообщает, что литовский князь Ягайло «совокупил литвы много, и варяг, и жемоти»[90]. Согласно Хронографу Сергея Кубасова, мнимому предку Рюрика Прусу «дасть кесарь Август грады ляцкие по Висле реке... и варяжские грады Поморские, и преславный Гданеск, и ины многая грады по реке Немонь впадшую в море»[91]. Здесь воспроизводится довольно точная география: по Висле - польские города, города на запад от Гданьска - варяжские, устье Немана - прусские (автор само название Пруссии, согласно легенде, производит от Пруса). Аналогичное представление сохраняется практически во всех польских и западнорусских хрониках XVI-XVII вв., включая знаменитый «Синопсис». И нет никаких оснований считать все эти суждения досужим вымыслом поздних авторов. Скорее можно говорить о сохранении преемственности от представлений, характерных еще для X-XI вв., поскольку на протяжении всех этих столетий Поморье оставалось в поле зрения как польских, так и западнорусских хронистов.
Должно заметить, что при всем разнообразии понимания обозначения «варяги» на Руси всегда сохранялось представление о них как об особом этносе. В одной редакции жития Ольги (список XVI в.) говорится, что будущая княгиня родилась «в веси, зовомыя Выбуто, отца имеаша неверна сущи, тако и матерь некрещену от языка варяжска и от рода не от княжеска, ни от вельмож, но от простых бяше человек»[92]. «Варягами», следовательно, именовали не только наемных воинов, но и мирных поселян Новгородской земли, что в известной мере объясняет смешение варягов и словен и отождествление новгородцев с варягами.
Резюмируя изложенное, можно с уверенностью заключить, что русские источники не только не дают оснований для отождествления «варягов» со шведами, но и прямо противоречат такому предположению. Если летописцы выделяют «варягов» из общей массы европейских народов, то они имеют в виду обычно население южного берега Балтики, и иногда Новгородской земли. Распространение понятия «варяги» на все прибалтийские племена или даже западноевропейские народы относится ко времени, когда связи с варягами прерываются.
Примечания:
47. ЛЛ. С. 3-4.
48. Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 221; Насонов АЛ. История русского летописания... С. 65-66
49. ЛЛ. С. 226.
50. Шахматов А.А. Разыскания... С. 541-542. Мысль не была развита и просто объяснена автором.
51. Кларк Дж.Г.Д. Доисторическая Европа. - М., 1953. С. 261-263.
52. Шафарик ПЛ. Славянские древности и Т. I. Кн. 3. - М., 1838. С. 78-80.
53. Гельмольд. Славянская хроника - М., 1963. С. 36-38, 70.
54. Герберштейн С. Записки о московитских делах. - СПб., 1908. С. 180.
55. David L. Preussische Chronik. В 1 - Кonigsberg, 1812. S. 9-12.
56. Ср.: легендарный рассказ об апостоле Андрее, ст. 6415 и 6478 гг. См. также- Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи// Летописи и хроники. 1973. М., 1974
57. Свердлов М.Б. Латинские источники по истории Древней Руси IX - первой четверти XII в. Автореф... дисс... канд. наук. - Л, 1968. С. 14.
58. Тихомиров МЛ. Происхождение названии «Русь»... с. 69.
59. Ловмяньский Г. Рорик Фрисландский и Рюрик Новгородский // СС. Вып VII. Таллин, 1963. С. 248-249; его же. Руссы И руги. С. 45.
60. Крузе Фр. О пределах Нормании и названии норманнов и руссов // ЖМНП Ч. XXI. № 1. СПб., 1839. С. 21; МРН Т. I. - Lwow, 1864. S. 13.
61. Откуда есть пошла Русская земля. Века VI-X / Сост., предисл., введ. к документ., коммент. А.Г. Кузьмина. Кн 2 - М., 1986. С. 591-595.
62. Шахматов А.А. Волохи древнерусской летописи // Известия Таврической ученой архивной комиссии. № 54. Симферополь, 1918.
63. Королюк В.Д. Волохи и славяне в «Повести временных лет» // «Советское славяноведение», 1971, № 4; его статьи.
64. Наумов Е.П. Волошская проблема в современной югославской историографии. (Проблемы этнической и социальной истории средневековых влахов) // Славяно-волошские связи. - Кишинев 1978; Иванов В.В., Топоров В.Н. К вопросу о происхождении этнонима «Влахи» // Этническая история древних романцев. Древность и средние века. - М., 1979
65. ЛЛ. С. 7.
66. Прокофьев Н.И. Русские хождения XII- XV вв. // Литература Древней Руси и XVIII в. - М., 1970. С. 196 и далее; Мощинская Н.В. Об авторе «Хождения на Флорентийский собор» в 1439-1441 гг // Там же. С. 294; Казакова Н.А. «Хождение на Флорентийский собор» (текст перевод, комментарии) // ПЛДР. Автор, произвольно «поправила» упоминание «Русской земли» на «курскую». См. извлечение из «Хождения» но древнейшему списку и комментарий к тексту в кн.: Великие духовные пастыри России С. 237-238, 242-246.
67. Кузьмин А.Г. Начальные этапы С 331.
68. Там же. С. 265-268, 332-333.
69. Д.С.Лихачев (издание ПВЛ, 1950) произвольно поменял строки, в результате у него христианами стали и «хазары». Эта «перестановка» породила целую концепцию хазарской версии христианизации Руси. См. об этом: Кузьмин А.Г. Хазарские страдания // МГ, 1993, № 5-6.
70. Грот Л. Мифические и реальные шведы на севере России: взгляд из шведской4 истории // Русский Север: историко-культурные связи (К 210-летию Александра Лаврентьевича Витберга). Материалы Международного научного симпозиума. - Киров, 1997. С. 154.
71. Ширинский С. Археологические параллели к истории христианства на Руси и в Великой Моравии // Древняя Русь и славяне. - М., 1978. С. 203-206.
72. ЛЛ. С. 77.
73. Гедеонов С. Варяги и Русь. Ч. 1. - СПб., 1876. С. 350-355; Фамищын А.С. Божества древних славян. - СПб., 1884. С. 25, 202-203.
74. ЛЛ. С. 45.
75. Там же. С. 147.
76. ПСРЛ. Т. V. Вып. 1. СПб., 1851. С. 128-129; Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 364-368.
77. Васильевский В.Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI-XII веков // Его же. Труды. Т. I. - СПб., 1908. С. 308.
78. Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 120-121, 167-168, 175; Патерик Киевского Печерского монастыря, - СПб., 1911. С. 3-9.
79. ПСРЛ. Т. II. СПб., 1843. С. 369.
80. НПЛ.С.39,45.
81. Шаскольский ИЛ. Сигтунский поход в 1187 году // ИЗ. Ч. 29. М., 1949; его же. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII вв. - Л., 1978. С. 79-105. В.Т.Пашуто читал не «немцев», а «у немцев». Т. е. в Любеке (см.: Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. - М., 1968. С. 149). Но такое чтение требует обоснования.
82. НПЛ. С. 26,31.
83. Там же. С. 22.
84. ГВНП. С. 55.
85. Смоленские грамоты XIII-XIV веков. - М., 1963. С. 20 и далее.
86. ГВНП. С. 56.
87. Форстен Г.В. Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях. - СПб., 1884. С. 256, примеч. 2.
88Послания Ивана Грозного / Подгот. текста Д.С.Лихачева и Я.С.Лурье. Перевод и комм. Я.С.Лурье. - М.-Л., 1951. С. 153, 157-158 (послание Юхана непосредственно не дошло). [См.: Фомин В.В. Варяги в переписке Ивана Грозного с шведским королем Юханом III // ОИ, 2004, № 5. с. 121-133; его же. Иван Грозный о варягах Ярослава Мудрого // Сб. РИО. Т. 10 (158). Россия и Крым. - М., 2006. С. 399-418. - Ред.].
89. ПСРЛ. Т. II. С. 227 (Ермолаевский список Ипатьевской летописи). Известие вставлено в рассказ о событиях начала XIV в. как экскурс в недавнее прошлое. На Поморье было несколько Старградов. Старград «за Гданьском» - это Западное Поморье.
90. ПСРЛ. Т. IX. М., 1965. С. 55.
91. Попов А. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. - М., 1869. С. 234-235.
92. Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты). - М., 1915. С. 8-9.
Глава третья. «Варяги» иностранных источников
Сведения о варягах имеются в греческих и восточных источниках. Они были довольно обстоятельно рассмотрены в работах С.Гедеонова и В.Г. Васильевского. В этих работах сформулированы и вопросы, представляющие интерес в данном случае: кем были варяги и как они соотносятся с норманнами?
Сведения о варягах восточных авторов были впервые собраны в 1823 г. Х.Д.Френом, который прокомментировал и кое-где поправил их, исходя из норманистских представлений. Позднее к ним обратились Ю. Венелин и С. Гедеонов[93]. Наиболее ранним (ок. 1030) является текст о варягах ал-Бируни.
Описывая океан, идущий «параллельно с землей саклабов», он отмечает, что «от него отделяется большой залив на севере у саклабов и простирается близко к земле булгар, страны мусульман; они знают его как море варанков, а это народ на его берегу»[94].
По-видимому, большинство позднейших авторов просто повторяло текст Бируни. Но у отдельных из них сказывается влияние и каких-то иных источников.
С. Гедеонов резонно акцентировал внимание на том, что во всех арабских известиях Балтийское море называется «Варяжским», т. е. так, как его называли славяне. Норманны называли Балтийское море Ostersalt. «Варягами» (варенгами) же во всех этих источниках именуют народ, живущий по берегам моря. Решительно возразил С. Гедеонов и против необоснованной попытки «исправить» арабский текст автора XIV в. Димашки: «Здесь есть большой залив, который называется морем варенгов. А варенги суть непонятно говорящий народ, который не понимает почти ни одного слова (из того, что им говорят). Они славяне славян»[95]. Френ в этом случае внес конъектуру, «они живут против славян», по существу (как и все норманисты), попросту фальсифицируя источник. Но смысл, конечно, в том, что это высшее или знаменитейшее племя у славян.
Разумеется, Димашки необязательно верить. Но он не мог от себя добавить такое утверждение, поскольку в XIV в. на Варяжском море была иная ситуация, да и сталкивались арабы с варягами лишь в IX-XI вв. Следовательно, он воспроизвел какое-то традиционное представление. У Димашки имеются и еще два упоминания варягов. В одном случае он напоминает: «Иные утверждают, что... Русское море имеет сообщение с морем варенгов- славян», - в другом: Балтийское море - это «море варенгов и славян, и келябиев». С. Гедеонов резонно сопоставил первую фразу с известным путем «из варяг в греки», а во второй видел перечень народов, живущих по берегу моря, и указание помимо варягов и славян еще на колбягов[96]. Варяги, колбяги и славяне, как известно, основные адресаты «Правды», данной Ярославом около 1016 г. новгородцам.
В числе 14 приведенных Френом известий о варягах лишь одно указывает действительно на шведов: это комментарий турецкого географа XVII в. Хаджи-Хальфа к тексту Ширази (XIII-XIV вв.). «Аламанское море, - пишет автор XVII в., - называется в наших астрономических и географических книгах морем варенгов. Высокоученый Ширази говорит в своем сочинении... «на берегах оного живет племя рослых, воинственных людей» и под этими варенгами разумеет шведский народ». С. Гедеонов опять-таки вполне резонно заметил, что автору XVII в. после Тридцатилетней войны, конечно, не с кем было отождествить варягов, кроме рослых и прославленных воинов Густава Адольфа[97].
Ю. Венелин остановил внимание еще на путаном как будто сообщении персидского географа XIV в. Касвини, который Варяжское морс называет еще «Галатским». «На восток» от этого моря Касвини поместил «земли Блид, Бдрия, Буде и часть варягов (варанг), на юг равнины Хард, на западе земли франков»[98]. В данном случае нет необходимости идентифицировать все указанные наименования, явно весьма архаичные. Достаточно отметить факт еще одного названия Балтийского моря: «Галатское». В западных источниках такое название как будто не встречается. Но некоторый след его все-таки обнаруживается у Бартоломея Английского, о чем будет речь ниже.
Таким образом, при всей неопределенности сведений восточных авторов о варягах, они в целом дают ту же картину, что и русские летописи ранней поры. Складывается впечатление, что с норманнами непосредственно арабы вообще не соприкасались и, во всяком случае, их «варанки» - это не норманны или в основном не норманны.
Более всего сведений о варягах содержат византийские источники. И Гедеонов, и Васильевский обратили внимание на тот факт, что название это появляется лишь с XI в., когда варяги выступают в качестве особых наемных отрядов, в частности несут дворцовую охрану. Гедеонов склонен был связывать появление в Византии «варангов» с событиями, описанными в летописи под 980 г., когда Владимир отправил часть наемных варягов в Византию. По мнению Гедеонова, славяноязычных варягов Владимир оставил в Киеве, а германоязычных выслал за пределы страны. Из них-то и составлялся варяжский корпус в Византии, и был он, по мнению Гедеонова, всегда норманским в отличие от имевшегося там же славяноязычного «русского» корпуса[99]. Васильевский доказывал, что в действительности почти до конца XI в. «варанги» и «росы» в Византии не различались. Он полагал, что в Византии имелась единая варяго-русская дружина, в этот период славяноязычная, не связанная со Скандинавией. Возникновение этой дружины автор связывал с посылкой Владимиром около 988 г. шеститысячного отряда в помощь Константинополю[100], допуская, впрочем, возможность и более раннего поступления на византийскую службу отдельных варангов.
Васильевский «русь» в конечном счете связывал с готами. Но это уже другой вопрос, к «варягам» непосредственно не относящийся (он будет затронут ниже). В данном случае важен его вывод, что «варяжская» дружина появились в Византии независимо от норманнов и была поначалу варяго-русской, лишь с конца XI столетия превратившись в варяго-английскую.
Нет нужды повторять основательный анализ Васильевским всех известий о варягах и руси в византийских источниках. Он в основных чертах не потерял значения до наших дней, а уточнения могут касаться только деталей его общей схемы. Здесь важно установить три момента: 1. Когда проникают в Византию варяги; 2. Когда в варяжскую дружину попадают норманны и 3. Кем считали варягов в Византии, по крайней мере, откуда их выводили.
Судя по русской летописи, путь «из варяг в греки» функционировал, по крайней мере, на протяжении всего X столетия. В начале века Олег совершил поход на Константинополь. И в заключенном договоре предусматривалось поддержание нормальных торговых отношений с Русью, причем выражалась забота и о ранее проживавших в Константинополе русов[101]. (Об этом также речь будет ниже). То же было подтверждено договором Игоря 945 г., причем в летописных текстах, говорящих о руси-христианах, уточняется, что речь идет о крещеных варягах. Константин Багрянородный в середине X в. дал описание пути, которым русы приходят в Константинополь, и в его рассказе упоминается Русь «ближняя» и «дальняя», или «внешняя»[102]. (Этот сюжет также будет рассмотрен ниже.) В Киеве, видимо, с давних времен была «Варяжская пещера», где,,по версии Печерского патерика, уже в первой половине XI в. возникает монастырь (будущий Печерский). Ниже порогов находился «Варяжский остров». Топонимы явно носили традиционный характер. Все это свидетельствует о том, что в X в. варяги ходили в Византию. «Из грек», по преданию, вышли варяги отец и сын, убитые в Киеве в 983 г. Другое дело, что в X в. в Византии их как будто называли «росами».
Прямое указание на вступление первого норманна в дружину варангов в Константинополе имеется в Лаксдальской саге (Саге о людях из Лососьей Долины). Сагу датируют временем между 1230-1260 гг., и восходит она как к устной, так и письменной традиции более раннего времени. Вот этот текст: «И после того, как Болли пробыл одну зиму в Дании, отправляется он в дальние страны и не останавливается, пока не прибыл в Миклагард (Византию. - А.К.). Пробыв там недолго, он поступил в отряд варягов (варангов. - А.К); мы не слышали рассказов о том, чтобы кто-нибудь из норманнов поступил на службу к конунгу Гарда (Константинополя. - А.К.) до Болли, сына Болли. Пробыл он в Миклагарде много лет и считался храбрейшим мужем во всякой опасности и всегда шел возле тех, кто был впереди всех. Варяги очень ценили Болли, когда он был в Миклагарде»[103].
Время поступления Болли Боллисона в дружину варангов определяется довольно точно. Он родился в 1007 г., женился в 1025-м, а весной 1027 г. отправляется в Византию, где находился до 1030 г.[104] Правда, сообщение Лаксдальской саги может быть и тенденциозным. В других сагах называются иные имена также посетивших Византию норманнов. Ф. Браун допускает, что кто-то из них попал в Византию ранее Болли[105]. Но вряд ли может быть оспорен главный вывод Васильевского: норманны попадают в Византию позднее варангов, в дружину которых они и вступают. Отсюда следует самое важное: норманны отличаются от варангов (или вэрингов, верингов). Автор Лаксдальской саги мог быть тенденциозным, делая Болли первым норманном, вступившим в дружину варангов. Но он, конечно, исходил из определенных и общеизвестных посылок, разделявших норманнов и варангов. В саге о Вига-Стире аналогичным образом поясняется: «Таков обычай у верингов и норманнов, что день они проводят в играх и борьбе»[106]. Аналогичное разделение норманнов и верингов Васильевский обнаруживает и на Руси: Вига-Барди (из Гейдарвига- саги) около 1020 г. «прибыл в Гардарики; и сделался там наемником, и был там с вэрингами»[107]. Даже Гаральд Гардрад, которому саги предписывают предводительство над варангами и участие в ослеплении императора Михаила V (в сагах ошибочно называется Константин Мономах) в 1042 г., в действительности, как показывает Васильевский, противостоит варангам, а северные поэты с видимым удовольствием сообщают о гибели большого числа варангов[108].
Хотя никто доводов Васильевского, по существу не опроверг, его выводы мало отразились на последующем споре норманистов и антинорманистов. У скандинавистов нередко проскальзывает снисходительный тон в связи с тем, что автор не всегда пользовался лучшими изданиями или не знал о лучших списках. Но все эти «улучшения» ничего не меняют по существу. Видимо, в какой-то мере самая возможность игнорирования столь основательного разбора известий о варягах проистекала из-за его незавершенности: автор не объяснил, откуда берется самое название «варанг» и что оно означало при своем появлении.
«Внешнее» по отношению к Скандинавии положение «вэрингов» отмечалось и многими норманистами[109]. Но обычно считается, что это название получали норманны, побывавшие в Византии. Васильевский, как было отмечено, доказывал, что и на Руси норманны вступали в ранее здесь существовавшую варяжскую дружину. Примечательно, что во всех германских языках зафиксировано собственное имя Вэринг - Веринг (Waring, Wannga, Warenga, Wiering, Wierenga). У саксов это имя известно с IX в. (830, 860, 900 гг.)[110]. Встречается оно там и позднее, причем чаще всего в округе Корвейского монастыря[111]. Примерно в то же время у них получает распространение имя Werin или Warin, а также Werinza[112]. Очевидно, имена эти одпопорядковые, и никакого отношения к Византии они не имели, поскольку в начале IX в. не было ни дружины варангов в Византии, ни даже связей с ней прибалтийских земель. Большое количество аналогичных имен известно у фризов, позднее в Нидерландах, встречается оно и в Англии[113]. Иными словами, это имя получает распространение в тех областях, которые не относятся к собственно норманским. И во всех этих областях и шведы, и другие норманские народы были известны под своими именами.
Превращение родового или племенного (равно и территориального) нарицательного имени в имя собственное - явление широко известное. Такое имя получают обычно выходцы из определенной этно-территориальной единицы в иной этнической среде. Очевидно, имя (а не прозвище норманна, побывавшего в Византии) фиксируется и в датской надписи начала XI в.: «Вэринг установил этот камень по Тьяльви, своему брату воину; он был с Кнутом»[114].
Примерно так же, как имена, разбросаны и топонимы, содержащие обозначение «варанг». Этот топоним встречается в Польше, Литве, Германии (обычно в приморских областях), что побудило М. Рудницкого предполагать существование такого собственного имени в Польше[115]. Выше упоминались отдельные топонимы, связанные с варягами, на Руси. Разумеется, соответствующие топонимы имелись и в Византии. Достигали они и Фризии (Wieringasata). Но, пожалуй, особенно интересны два «варяжских» залива. Один из них находился на берегу Крыма, другой - на крайнем севере Скандинавии, один назывался Варанголимен, другой - Varangerfiord.
Наличие «варяжского залива» в Крыму неудивительно: по пути «из варяг в греки» туда было попасть очень просто. Варяги вообще были нередкими гостями в Крыму: согласно «Житию Владимира», князю помог овладеть в 988 г. Херсонесом варяг Ждьберн, направивший стрелу с советом, как это удобнее сделать. (В летописи эту роль выполняет священник Анастас, будущий настоятель Десятинной церкви, что явно было бы «не по чину».) Любопытно в этой связи и соседство Варанголимена с топонимом Россофар, о чем ниже будет особый разговор. Напротив, «Варяжский залив» на севере любопытен и сам по себе. Кстати, он также имеет любопытное соседство: Мурманский (т. е. Норманский) берег.
Примечательно, что столь яркий топоним, связанный с этнонимом «варяги», остается явно не в чести у норманистов. А. Куник усматривал в этом топониме старонорвежское angr - бухта, залив[116]. Но в таком случае получается, что на норвежское обозначение залива наслаивается еще одно норвежское fiord. Неловкость такого наложения очевидна. Поэтому и в норманистской литературе все-таки допускается связь топонима с варягами[117]. К тому же необходимо считаться с местным названием его у лопарей: Варьягвуода. Лопари, как следует из этого названия, познакомились с ним от славяноязычного населения.
С. Гедеонов воспроизвел интересный спор конца XVI в. между русским послом Ржевским и датским королем Христианом. Христиан ссылками на разные источники доказывал, что Лапландия издревле принадлежала Норвегии. Указал он и на сохранившийся в русских документах топоним «Мурманский берег», свидетельствовавший как бы о признании этой территории норвежской. Русские послы, отстаивая принадлежность территории России, ссылались на факт крещения лопарей новгородским священником при Василии Ивановиче (1505-1533), а также на местные предания о владетеле Валите, или Варенте. Валит-Варент правил в Кореле. Согласно разъяснениям послов, Корела принадлежала Новгороду, а Валит выполнял в ней функции посадника. Валит начал войну с целью подчинения Мурманской земли. Мурмане просили о помощи норвежских немцев. Но «немцы» потерпели поражение у поселения Варенга, «где Варенской летней погост». В честь победы Валит воздвигнул огромный камень и около него «оклад в 12 стен», названный Вавилоном. Аналогичный оклад был сделан в Коле. К концу XVI в. эти сооружения в Коле были разрушены, а в Варенге еще оставались. Легендарный камень здесь продолжал называться Валитовым[118].
Каменные «оклады», очевидно, реликты мегалитической культуры, доходившие до Белого моря. (Приходилось видеть у Терского берега лабиринт, обнажающийся в часы отливов.) На легендарного героя раннего Средневековья перешли, как это обычно бывало, предания более древних эпох. С. Гедеонов акцентировал внимание на том, что Валит назывался также Варентом, а на древанском наречии так произносилось слово Варанг. Но все это могло иметь отношение лишь к имени Валита. Поселение же Варенга или Варанга существовало здесь раньше, чем появилось урочище Волитово городище, как называет его «Книга большому чертежу» (1627)[119]. Здесь же источники упоминают и страну Варегию[120], возможно, как раз современный полуостров Варангер.
Так или иначе, варяги на севере «наследили». И пришли они туда, по всей вероятности, морем, почему и залив зовется их именем. Существенно также то, что лопари знали эти топонимы в славянской, а не скандинавской огласовке.
А. Куник обратил внимание и еще на два любопытных топонима (правда, лишь для того, чтобы показать возможность созвучий из других языков и понятий): город Varingvic, построенный английским королем в 915 г., а также Waringisi villa или Varengeville, известный уже с VIII в. Первое название буквально должно было бы означать «варяжская бухта». По мнению Куника, «это название находит себе непринужденное объяснение в англосаксонском языке. Выражения, относящиеся к кораблестроению: varangue (франц.), Varenga (испан.), происходят либо от скандинавского, либо от языков племен на Немецком море»[121]. Можно с этим пока и согласиться. Но что представляли собой языки племен на Немецком море? Это вопрос и важный, и не простой.
Второй топоним Куник отводит на том основании, что в Нормандии в VIII в. еще не было норвежцев[122]. В Нормандию вообще пришли не норвежцы, а аланы во главе с Роллоном, считавшим себя потомком пришедшего с Дона алана Роллона II в., приведшего соплеменников в северо-западные области нынешней Франции. Вполне вероятно, что с ним шли и племена побережий Северного моря и Балтики, испытывавшие сильнейшее давление со стороны Франкской империи. Это произошло в самом начале X столетия. Вторжения норманнов и фризов отмечаются и в предшествующем столетии. Варяжское же поселение могло возникнуть там и независимо от тех и других.
Таким образом, и эти два топонима могут быть включены в фонд «варяжской» ономастики. И, конечно, если варяжским мореходам не составляло трудностей добраться до северной оконечности Скандинавии, где они как будто имели особую колонию, то Северная Франция или Восточная Англия и вообще не могли казаться далекими землями. А все это обязывает признать, что либо на севере Европы существовало племя, называвшееся варягами, либо кто-то именовал так этнос или определенную социальную группу, известную источникам и под другим названием. Поэтому важно понять, идет ли речь об этносе или же о морских разбойниках без роду и племени.
В. Г Васильевский привел целый ряд свидетельств в пользу того, что в Византии варанги составляли не просто наемное войско, но и определенный этнос. В конце хроники Иоанна Скилицы рассказывается об участии варангов в придворной смуте 1079 г. При этом разные группы варангов (служившие во дворце и т.н. «внешние») были единоплеменны и сами хорошо сознавали это[123]. Правда, византийские авторы сбиваются, когда пытаются определить этническую принадлежность наемников. Не вполне логичен и Васильевский в решении этого вопроса. Он акцентирует внимание на том, что до 1081 г. варанги и русы были одним и тем же народом и говорили по-славянски. С 1081 г. они становятся англичанами. Очевидно, говорят на английском языке, но византийские авторы как будто не замечают происшедшей смены этноса. И Васильевский этой небрежности также не дал удовлетворительного объяснения, что ослабило и силу его доказательств.
Одна из этнических атрибуций варангов содержится в компиляции Кедрина (XII в.), воспроизводившего в этой части Скилицу. Говоря о событиях 1056 г., хронист дает, по выражению Васильевского, «совершенно неожиданное объяснение к слову варанги». В хронике содержится утверждение, что «варанги, по происхождению кельты, служащие по найму у греков»[124]. Естественно, что в схему Васильевского такая атрибуция не укладывалась. И он провел очень тщательное исследование путей, какими комментарий мог попасть к Кедрину. Он отметил, в частности, что аналогичное пояснение содержится и в древних списках Скилицы. Позднее ему удалось установить, что в древнейшем списке Кедрина отмеченной интерпретации не было. Ее появление как будто было связано со специально возникшим в этой связи в начале XIII в. вопросом. В списке Скилицы же, полагал Васильевский, глосса попала позднее из списков хроники Кедрина[125].
Вполне возможно, что Васильевский правильно представил текстовую зависимость двух хроник. Но это само по себе мало что меняет.
Кто-то из авторов не знал о племенной принадлежности варангов. И это неудивительно: о севере Европы у греков все-таки было смутное представление. В этнических тонкостях, в различиях языков и верований могли разбираться лишь очень немногие знатоки. Один из таких знатоков и отвечал на вопрос, поставленный любознательным, но не слишком сведущим переписчиком.
По мнению Васильевского, обозначение «кельты» уже было допустимым по отношению к англичанам, поскольку англо-саксы обитали на традиционной кельтской территории - в Британии. В 1122 г. варанги определили успех в битве с печенегами, и Иоанн Киннам поясняет, что «это британский народ, издревле служащий императорам греческим»[126]. Никита Хониат (XII в.) называет английского короля «властителем секироносных бриттов, которых теперь называют англичанами»[127]. В 1203 г., по сообщению французских авторов, в числе защитников Константинополя от крестоносцев были датчане и англичане. Очевидно, речь идет именно о варангах[128]. Автор XV в. Кодин отмечает, что в его время «варанги восклицают императору многия лета на своем отечественном языке, то есть по-английски»[129]. В XV в., видимо, дело таким образом и обстояло. Но при всей видимой путанице у варягов-варангов разных эпох должно было сохраняться что-то общее, что соединяло их в глазах византийцев единой традицией.
В полемике с Иловайским Васильевский подчеркнул один поистине важный момент: византийские варанги имели в Константинополе свою церковь Богородицы, которая находилась в ведении православного синода[130]. Такое положение сохранялось уже после того, как перестал функционировать путь «из варяг в греки» через Русь, после того, как на Руси (в ее южной части прежде всего) «варяги» стали превращаться в аморфное понятие, а «варяжская вера» отождествлялась с «латинской». Между тем в X-XI вв. и на Руси варяги-христиане никогда не связывались с Римом. Васильевский приводит любопытный аргумент в пользу славяно-русского происхождения и, косвенно, православия варягов-варангов: в 1066 г. группа варангов прибыла в город Бари в Южной Италии, принадлежащий Византии. После завоевания города норманнами, в 1088 г., состоялось перенесение хранящихся в Бари мощей Николы Мирликийского и установление на Руси празднеств в честь этого святого[131]. В Византии культа Николы Мирликийского не было. Но святой этот был все-таки малоазиатский.
К 1088 г. варанги в Византии уже получили значительное пополнение из Англии. Васильевский устанавливает, что это произошло в 1085 г.[132] Но нет никаких оснований говорить о качественной смене дружины. Это те же «секиро-носны», и именно их церковь оказывается в ведении Константинопольской патриархии, а не Рима. Очевидно, варанги, прибывавшие из Англии, не были католиками. И в этом, может быть, и заключается ключ к решению вопроса.
Помимо Константинополя, у Рима был еще один соперник: древняя британская или ирландская т. н. кульдейская церковь. После варварских завоеваний IV-V вв. Британия и Ирландия оставались фактически единственными очагами христианства. В изоляции здесь сложился особый тип христианства, продолжавший традиции ранних христианских общин и в известной мере ближе стоявший к Востоку, нежели к Риму.
Англо-саксы и другие племена с побережий Северного и Балтийского морей (о них речь будет ниже) противостояли бриттам не только как завоеватели, но и как язычники христианам. И хотя отдельные англы и принимали крещение, в целом борющиеся стороны даже были заинтересованы в том, чтобы их не объединяла одна религия. Поэтому англы оказались более податливы для христианизации со стороны римских миссионеров, чем местных бриттских. Правда, это произошло уже в VII-VIII вв., а полную победу Рим одержал в 828 г., когда произошло объединение английских королевств в единое государство с признанием верховной церковной власти Рима. Римские папы стремились искоренить любые основания для существования где-либо самостоятельной церкви, и с этой целью они обычно поддерживали королей в их борьбе с местными церковными общинами. Общий интерес вызывал к жизни такого рода союз светской власти с Римом. Но Рим всегда претендовал и на полное подчинение властителей, принимавших крещение из рук его миссионеров. А это, естественно, не могло нравиться светской знати. В результате традиционно враждебная английским феодалам кульдейская церковь в ряде случаев становится для них прибежищем в неизбежных коллизиях с Римом.
Англо-саксонское завоевание вызвало массовую эмиграцию бриттов на континент или острова. В V в. ими была заселена Бретань («Малая Британия»), куда переходят и многие служители древней британской церкви. В VI-VII вв. британо-ирландские миссионеры наводняют Европу от Бельгии до Далмации. Они обращают в христианство значительную часть фризов, ведут миссионерскую деятельность в Саксонии, у балтийских славян[133], в Центральной Европе. Успех их деятельности объясняется известной простотой разносимой ими догматики («добрые дела» как основа вероучения, за что Рим обвинял британо-ирландскую церковь в пелагианстве), а также проповедованием основ религии на родном языке. Кульдеи считали необходимым перевести Священное Писание на все языки, принимавшие христианство, и реально осуществляли это вплоть до цитадели католичества - Италии. Поскольку переводы неизбежно порождали разночтения, у кульдеев была разработана целая система «текстологии» с целью установления правильного чтения. Обычно привлекались рукописи на латинском, греческом и древнееврейском языках, причем последним отдавалось явное предпочтение как более ранним.
На протяжении шести столетий римские папы обрушивались на «схизматиков» и «еретиков», стремясь сокрушить весьма деятельного и авторитетного конкурента. Константинополь явно не разделял суровых оценок, исходивших из западной половины Мировой империи. Более того. Бритты и позднее ирландцы с гораздо большим почтением относились к Константинополю и вообще Востоку, нежели к Риму, и их самих средневековые источники постоянно именуют «греками»[134].
Васильевский приводит ряд фактов, говорящих об английской эмиграции после норманского завоевания 1066 г. Он отмечает даже, что негативные последствия завоевания сказались не сразу, а некоторое время спустя. Это действительно так. И этому, видимо, можно найти объяснение. Резкое обострение ситуации в Британии было связано не столько с притязаниями норманских феодалов, сколько с деятельностью римской церкви. В 1073 г. папой римским стал Григорий VII Гильдебранд, известный своей религиозной нетерпимостью и стремлением решительно возвысить церковную власть над светской. Он, в частности, постоянно пытался опереться на норманнов в борьбе с германским императором Генрихом IV. И он стремился натравить завоевателей-норманнов (в данном случае реальных или мнимых потомков алан) на последователей кульдейской церкви. В 1074 г. Григорий VII предал анафеме женатых священников. Это было выпадом и против греческой церкви, где целибата не придерживались. Но в гораздо большей степени анафема адресовалась кульдеям: в бритто-ирландской церкви даже монахи могли жить семьями, а наследование епархиальных кафедр от отца к сыну было обычным явлением. В сущности, эта анафема явилась удобным поводом для разгрома и разорения кульдейских монастырей и храмов, конфискации имущества кульдеев там, где это было доступно норманским завоевателям. Незадолго до своего падения и смерти (1085 г.) Григорий VII в ультимативной форме потребовал перевода всех кульдейских монастырей на римский устав и фактической ликвидации кульдейской церкви.
«Грекам» на западе оставался единственный путь: искать защиты, а то и спасения на востоке, в Византии. Правда, потребности в «философах» здесь большой не было: все-таки в Константинополе берегли свои традиции. Но у кульдеев никогда и не было духовенства наподобие римского: не только простые священники, а и монахи отличались исключительным трудолюбием (они обеспечивали себя целиком сами) и готовностью сменить орала на мечи или боевые топоры. Преследования же, конечно, затронули не только духовенство. Отлучение затронуло фактически всех кельтов Британских островов и только отчасти англов, в той мере, в какой и англы, и другие вторгшиеся с материка племена успели приобщиться к кульдейской церкви.
Бритты, отправлявшиеся в Византию, очевидно, были двуязычными: наряду со своим языком они знали и английский, а некоторые, может быть, еще и давний «варяжский». Знание языков вообще было отличительным качеством последователей кульдейской церкви (особенно, конечно, сдвинувшихся с насиженных мест). Наличие в их среде и чистых англов делало английский язык наиболее употребительным. Но если бритты так легко адаптируются в дружине варангов, то необходимо допустить, что в среде предшественников они нашли либо единоверцев, либо единоплеменников (или хотя бы народ, родственный по языку). Ни славянская, ни английская линия не объяснят в данном случае традиции. Традиция могла быть связана только с кельти- ческим или варяго-кельтическим началом.
На Руси, по всей вероятности, последователи кульдейской церкви имелись. По всему северо-западу Руси разбросаны массивные каменные кресты. Такого рода сооружения - один из признаков ирландской церкви в раннем Средневековье[135]. «Греки» постоянно упоминаются в немецко-латинских источниках, говорящих о населении южного берега Балтики, о чем ниже еще будет речь. Эти «греки» в большинстве, видимо, были последователями не византийской, а именно ирландской церкви. В русских источниках сохранились три разные версии основания Печерского монастыря. В одной из них начало монастыря связывается со вселением Антония в Варяжскую пещеру После того как в пещеру пришло 12 человек, Антоний поставил игумена, а сам удалился от дел, уединившись в пещере.
Число «12» дается в летописном варианте[136]. В Несторовом «Житии Феодосия» приводится иная цифра: 15 человек. И за этим небольшим цифровым расхождением кроется принципиальная разница уставов кульдейских и континентальных (в том числе византийских) монастырей. Согласно положениям кульдейской церкви, монастырь мог быть открыт лишь после того как собиралось двенадцать человек (по числу апостолов; сам настоятель мог быть и тринадцатым, как бы преемником самого Христа). В Ирландии были монастыри, насчитывавшие по нескольку тысяч человек. Но число их должно было быть кратным двенадцати. Не исключено здесь и своеобразное наложение: христианское осмысление давней языческой традиции. Ирландские монахи-миссионеры обычно ходили группами из 12 человек с тринадцатым - предводителем. По 12 человек насчитывали и ватаги язычников-норманнов.
Как было дело в действительности с организацией Печерского монастыря, в данном случае не особенно важно. Важно, что существовала версия, отводившая значительное место в организации монастыря варягам. И важно то, что на Руси сохранялось представление о том, что монастырь начинается лишь тогда, когда наберется дюжина пострижеников. Кстати, в Средние века само слово «кульдеи» (правда, за пределами Ирландии и Британии и, видимо, в плане вторичного переосмысления) объяснялось как «пещерные люди»[137].
Кульдейское влияние, видимо, сказалось в «ереси» Никиты Затворника - монаха Печерского монастыря (позднее новгородского епископа). Никита отдавал решительное предпочтение текстам Ветхого Завета на латинском, греческом и древнееврейском языках, пренебрегая славянскими переводами Игумен Никон (ок. 1078-1088) организовал «изгнание беса» из «отступника» в результате чего Никита забыл «жидовьскыа книгы»[138]. В обвинениях в адрес кульдейской церкви было нечто подобное из-за того, что празднование Пасхи в ней сохранялось как в раннем христианстве, т. е. совпадало с иудейской Пасхой. Кроме того, в их филологических занятиях Ветхому Завету (точнее Пятикнижию Моисея) уделялось повышенное внимание.
Доказывая, что варанги не были скандинавами, Васильевский все-таки излишне акцентировал внимание на тождестве их с «русскими». В варяго-русской дружине «варяги» и «русь» и в середине XI в. в узком смысле различались. Это хорошо видно из открытого Васильевским же источника XI в. - «Советов и рассказов» византийского полководца Кекавмена. Кекавмен вспоминает об одном эпизоде из обороны города Идрунта (Отранто) в Южной Италии на побережье Адриатического моря, захваченном впервые норманнами в 1055 г. Нападающие в тексте названы «франками». Обороняющиеся состоят из «русских и варягов, кондоратов и моряков»[139]. Как справедливо замечает Г. Г. Литаврин, «русские» здесь «кондораты», т. е. пешцы, сухопутные воины, «варяги» - моряки[140].
Васильевский привел цитировавшееся выше указание Атталиоты о варягах с «острова Океана», а также сообщение Никифора Вриенния (1062 - ок. 1136) о том, что варанги были «родом из варварской страны, близкой к Океану». Полемизируя с Иловайским, Васильевский замечает: «И об известных славянских гуслярах у византийцев говорится, что они прибыли «из страны, близкой к западному Океану». Что же бы следовало из этого сопоставления?»[141]. Думается, что из этого сопоставления кое-что следует. Ведь в VII в. в Византию пришли послы-гусляры от полабских или балтийских славян[142]. Вриенний локализует варягов там же, причем отмечает, что и в его время они оставались (очевидно, в массе) варварами, т. е. язычниками. Язычниками в конце XI - начале XII вв. оставались именно прибалтийские славяноязычные и балтоязычные племена.
Византийские источники довольно настойчиво и устойчиво называют варангов «секироносным народом». Варанги сохраняют этот вид оружия на протяжении столетий без изменений, в чем сказывалась уже традиция, потребность в сохранении которой на чужбине нередко возрастает. Васильевский скептически отнесся к возможности извлечь из этого факта какую-либо положительную информацию, поскольку, «начиная с армии Ксеркса... топор или секира была более признаком известной степени культурного состояния, чем национальности»[143]. И все-таки в ограниченной мере и им можно воспользоваться. Этот факт, по крайней мере, отделяет варангов от континентальной Европы, поскольку, с точки зрения западных авторов, секира была принадлежностью амазонок, англов и данов. На Руси секира была, конечно, известна и распространена довольно широко. Но один из ранних летописцев с гордостью рассказывает о том, как поляне (русь) дали хазарам дань мечами, чем серьезно напугали хазарских властителей. Меч предпочитали и норманны, хотя собственное производство этого вида оружия у них было не слишком развито, а правители Франкского государства запрещали продажу мечей норманнам и славянам. У варангов, судя по всему, приверженность секире имела значение своеобразного культа. Аналогичный культ был у язычников англов Британии, где секира входила в гербы королевств. Но с окончательным торжеством римской церкви эта символика из гербов исчезает, и не исключено, что римская церковь самому искоренению придавала определенное идейное значение. Теперь секира должна была сохраняться в качестве символа где-то по соседству со старой родиной англов, может быть, у тех же «амазонок», помещавшихся западными авторами в районе Восточной Балтики.
Таким образом, и византийские варанги XI в. упорно привязываются источниками примерно к тому же району, что и варяги русских летописей. В этой связи уместно отметить, что в четырех хрисовулах византийских императоров от 1060,1075, 1079 и 1088 гг. дается как бы «окружение» варангов. При перечислении византийских наемников во всех случаях на первом месте упоминается «русь», на втором - варанги (причем возможно и прочтение Васильевского как «русь-варанги»), а далее идут «кулпинги» (очевидно, «колбяги» русских источников) и «франки». «Франками», как отмечалось, в Византии XI в. называли и норманнов, и, видимо, население собственно Франкской (или Священной Римской) империи. В хрисовуле 1088 г. помимо названных этносов добавлены «англяне» и «немци»[144]. Это и есть ближайшее окружение «варангов», еще не смешиваемых с «англянами». Они - северный народ, соседствующий с англами Ютландии, франками и немцами, а также колбягами.
В связь с приведенными хрисовулами может быть поставлено и сообщение одной из Барийских летописей о крупном военном мероприятии византийцев в Южной Италии в 1024-1025 гг. Здесь также в войске византийцев на первом месте стоят «русские», а на второе поставлены «вандалы». Васильевский называет их «загадочными». Он полагает, что речь идет о грузинах, называвшихся иногда в Византии «аланами». Правда, он оговаривается, что не имеет «ничего против всякого другого объяснения: можно под вандалами разуметь жителей северной части Ютландского полуострова... можно разуметь и славянских вендов, как это понимает г. Гедеонов»[145].
Между тем ничего «загадочного» «вандалы» европейских (в частности германских) источников не содержат. Это обычное и довольно распространенное в Средние века обозначение славян-вендов, т. е. прибалтийских славян. Так называл их уже Адам Бременский. Так их называл Гельмольд. Существенно, что вандалами балтийских славян именует автор средневековой энциклопедии «О свойствах вещей» Бартоломей Английский (пер. пол. XIII в.), знакомый с древними и раннесредневековыми авторами, а также живой традицией Англии, Франции и Германии[146]. Он, конечно, не мог спутать со славянами знакомых ему по языку датчан или какое-либо другое германское племя.
Бартоломей Английский интересен еще и тем, что он упорно переносит Галатию из Малой Азии в Центральную Европу, где действительно и была Галатия (Галиция, Галицкая Русь). Он оговаривается, что эту землю иначе называют Рутенией и что населена она галлами[147]. «Галация» помещается также «с востока» от Норвегии[148]. Именно этот текст сближает Бартоломея с Касвини. Не исключено, что в конечном счете у них есть общий источник: испанская традиция, с которой Бартоломей был знаком.
Таким образом, «вандалы» Барийской летописи - вполне определенное этническое понятие: это славяне-венды. И заменяют они обычно соседей «русских» - «варангов». Бартоломей упорно приближает сюда и Галацию то ли как часть Рутении, то ли в качестве ее второго названия. И это глухое указание перекликается с неясными же намеками некоторых византийских авторов о присутствии кельтического элемента в варангах, причем варангов прибалтийских, а не только британских.
Вандалы - общее название группы приморских племен, которые римскими авторами помещались в «Германии». В числе их были бургунды (винилы), варины и некоторые другие племена. Во II в. вандалы на протяжении одного года продвинулись от моря до границ Римской империи[149]. В начале III в. область истоков Эльбы именуется «Вандальскими горами»[150]. Позднее основная масса вандалов ушла в Испанию и далее в Африку, где вместе с аланами создали Вандало-аланское королевство, просуществовавшее до VI в. Бургунды остановились в Южной Галлии и образовали королевство в бассейне рек Соны и Роны, просуществовавшее в качестве королевства или герцогства более тысячи лет. Варины в большинстве вернулись назад к морю (об этом сообщает Прокопий Кесарийский), но часть их осталась вместе с бургундами, по существу тем самым предоставив ответ на вопрос о непосредственном носителе этнонима «варанг». «Villa Varangus» на реке Роне в Бургундии ставит все точки над i. Вилла продержится здесь также до II тыс. И в значительной мере Н. П. Грацианский именно связанный с ней архив использовал для изучения специфики бургундской деревни[151]. А вернувшиеся на Балтику варины в III—IV вв. вместе с англами, саксами, фризами и ругами примут участие в завоевании Британии. Большой источниковый материал об этом вселении племен на остров Британию был собран и опубликован в 1906 г. в книге «Происхождение англо-саксонского народа» английским ученым Томасом Шором, почему-то не замечаемым нашими норманистами. А у него этноним «варины» всегда сопровождается дуплетом: или «вэринги»[152].
У Прокопия Кесарийского «варины» называются «варнами». В германских источниках это этническое обозначение, рассыпанное также в именах «Варин», «Вэрин», в узком смысле определяется на территории, смежной с племенем англов, занимавшим южную часть Ютландского полуострова. «Правда англов и вэринов или тюрингов» была дана двум племенам Карлом Великим в конце VIII - начале IX вв.[153] Следует отметить, что эта «Правда» существенно отличалась от англо-саксонской «Правды». Отождествление же варинов с тюрингами пока остается нерасшифрованным.
«Правда» содержит уникальную для христианской Европы правовую норму - «поле», судебный поединок. При отсутствии убедительных доводов спорящих сторон назначается поединок, и вопрос решается в пользу победителя. Киевская «Русская правда» такой правовой нормы не знала. Но в Новгородской и Псковской земле она широко применялась, а позднее получила распространение и в Северо-Восточной Руси и была включена в Судебник 1497 г., а затем скорректирована в Судебнике 1550 г. (священнослужителям, старикам и женщинам разрешалось использовать «наймитов», и другая сторона могла противопоставить тоже «наймита»).
Как и всюду в пограничье, с продвижением Империи к Балтийскому морю возникает «Северная марка», которую называют также «Marchio Verinso»[154]. Иными словами, источники последовательно указывают на один и тот же район и на одно и то же племя: варины, варны, варанги, вэринги, вары и т. п. Произнесение менялось в зависимости от языков и диалектов. Иногда название племени распространялось и на другие, территориально или этнически близкие племена южного берега Балтики, ассимилированного в VI-IX вв. славянами, но и в славянской среде старое название племени сохранялось. И значительную информацию о племени обычно содержит само его название.
Во всех вариантах написания сохраняется этнообразующий корень - «вар». И объяснение его ищут в разных языках, в зависимости от принятой общеисторической концепции. У норманистов при объяснении имени из германских языков наиболее популярна этимология М. Фасмера, производившего слово от якобы скандинавского var - «верность», «порука», «обет»[155]. Однако это слово известно и другим индоевропейским языкам, в том числе кельтском, о «чудовищном разливе» которого по всей Европе говорил в свое время Н.Я. Марр[156]. А еще С. Файст убедительно доказывал, что вся группа племен «ингевонов» из Тацитовой «Германии» вовсе не германская, а кельтическая[157].
Значительная часть этнических названий связана с обозначением занимаемой племенем территории. Такого характера названия, в частности, свойственны кельтским и славянским племенам, о чем писал О.Н.Трубачев[158]. Названия эти часто давались со стороны, в результате чего, скажем, германское племя квадов носит типично кельтское имя, аналогичное славянским древлянам (кельтское coad - лес). Кельтское amor будет, естественно, означать Поморье. Племя morini в Бельгике тоже без напряжения объясняется как «поморяне». И имя varini является лишь фонетическим вариантом того же названия, т. е. тоже означает «поморяне». Этим и объясняется, что в Византин варягов «дразнили»: «варанги-маранги». Именно в кельтских языках звуки «в» и «м» взаимозаменяемы.
Любопытно, что если никто не связывает «варягов-верингов» с водой, то в отношении этнонима варины такая этимология признается наиболее вероятной и естественной. Ее безоговорочно принимает, например, такой знаток германской ономастики, как Е. Шварц[159].
Е. Шварц полагал, что исходное vari - «вода» является древне-нордическим. Но еще Ю. Покорный указал на древнюю индоевропейскую традицию такого обозначения «воды», отразившуюся во многих языках[160]. Покорный объяснял, в частности, название иллирийского придунайского племени «варисты» или «наристы». В. Штейнхаузер посвятил этому этнониму специальное исследование, еще более расширив и подтвердив вывод Ю. Покорного. Автор переводит это название как «жители поречья», «живущие у воды». Помимо упоминаемого и Покорным древнеиндийского nara - «вода» (ср. название подмосковной реки Нара), автор приводит тохарскую параллель var - море. Вариант varasci рассматривается им как кельтизированная форма того же названия, восходящая в конечном счете к предположительному кельтскому vor и затем var[161].
И Покорный, и Штейнхаузер указали на чередование, взаимозаменяемость в древнем индоевропейском языковом пласте звуков (или обозначений какого-то специфического звука) п и v. В кельтских языках до сих нор удерживается подобная взаимозаменяемость звуков v, b, m[162]. Поэтому, скажем, этнонимы «морины» и «варины» - всего лишь дериваты, может быть, диалектные формы одного и того же обозначения. Будучи географическим обозначением, ни то, ни другое название непосредственно этническую природу этих племен не раскрывает. В этой связи показательно упоминание Иорданом племени «видивариев». Иордан отмечает, что они живут «на побережье Океана» у устья Вислы и собрались «из различных племен»[163]. «Земля Виду» известна и германским, и финским, и иным источникам[164]. В данном случае речь может идти о части «виду», примыкающей к морю.
Этническое название «вандалы» еще авторы Средневековья объясняли от «ванд» - вода. П. Шафарик оспорил это мнение[165]. Позднее к нему снова вернулся В. П. Кобычев[166]. Если учесть, что в литовском языке сохраняется именно такое обозначение воды (vanduo), в норвежском и датском (но не в шведском и не в немецком) до сих пор удерживается явно не германское vann - vand, объяснение это следует признать весьма вероятным. Во всяком случае, так этот этноним должен был осмысливаться у тех племен, где корень «ванд» означает воду. Для Длугоша и некоторых других средневековых авторов вандалы были ветвью славян, причем никаких трудностей в различиях произношения «ванд» и «вода» («вада») Длугош не усматривал. В Балтийском Поморье, видимо, оба эти произношения сосуществовали. Напомним также, что название «Вада» обозначало реки пеласгов, и в том же значении слово употребляли лигуры.
«Вандалы» h «венеды» в источниках часто смешивались, видимо, именно потому, что и второй этноним связан был с обозначением воды (южное побережье Черного моря в Малой Азии, северо-запад Адриатики, юго-восточное побережье Балтики). И хотя в эпоху Великого переселения венедов, славян и антов воспринимали как ветви одного блока племен, генеалогические предания чаще всего связывали славянских князей с вандальской группой. (Об этом речь будет ниже.)
Можно напомнить и о том, что Днепр у гунно-фризов, возвратившихся в конце V в. из Подунавья к прежним местам обитания, назывался тоже «Вар» (Гунновар). Здесь, на месте будущих полян, могли обозначиться и свои «варины» или «варяги». Но этническое название закрепилось только за южнобалтийскими племенами: в узком смысле за племенем «варины», в широком - за всеми племенами «вандальской» группы. И скандинавы попали в число наемных варяжских дружин лишь во времена Ярослава Мудрого.
Слово «вар» как обозначение «воды» в славянском языке сохранилось в значении «горячей воды», в том числе в производных: «варить», «варево». Европейская топонимика богата соответствующими названиями рек: река Вар и производные от этого названия в обозначении ее притоков на границе Италии и Галлии[167], реки в Британии и Шотландии[168], а также в других районах кельтского расселения[169], река Вар в Прикарпатье, Варта - в Польше и другие.
В ряде диалектов кельтского языка vor или var обозначало море[170]. В донегальском диалекте ирландского языка море и ныне обозначается как farraige[171]. Все это не означает, что этноним имеет кельтское происхождение. Но вполне вероятно, что именно кельтские языки полнее всего сохранили ту этноязыковую традицию, в рамках которой возник этноним «варины» - народ моря.
С одним из основных обозначений «воды» в индоевропейских языках - var связаны и балтские jura, jurin, juris, juras и т. п. - «море», «водная поверхность»[172]. В балтских языках есть оба главных обозначения: jura и marios. Последнее чаще всего означает залив, озеро (в частности, Рижский залив). Можно отметить также, что первый вариант известен всюду на побережье, но исчезает по мере удаления от моря на восток. По мнению В. Н. Топорова, и русское «вырей», «вырий» как обозначение заморской страны, откуда прилетают птицы, может быть связано с балтским обозначением моря[173]. Напомним также, что море Варяжское в некоторых исторических песнях именуется как «Верейское». С другой стороны, название приморской области Пруссии - Вармия тоже может обозначать Поморье. Затруднение в данном случае может вызывать явно финское шаа - земля, область. Но такое смешение двух языковых ветвей, видимо, вообще характерно для ономастики и топонимики, в частности, Восточной Прибалтики. Так, знаменитая Юрмала тоже раскладывается на первый компонент балтскнй, означающий море, и второй - maala (эст.) - «территория». В свою очередь понятие «море» вошло в финские языки, очевидно, из индоевропейских: meri.
Объяснение этнонима «варяги» как живущих на море (или у воды), делает понятной и эволюцию, распространение его на разные прибалтийские племена. И только такое объяснение позволяет без натяжек понять прозвание в Византии «варангов» также «марангами».
Название само по себе этническую принадлежность племени, естественно, не выражает: оно може быть дано и со стороны. Но оно свидетельствует о наличии в Прибалтике очень древнего индоевропейского населения негерманского происхождения. «Чудовищный разлив» кельтской речи по всей Европе, отмеченный Н.Я. Марром, относится ко времени, может быть, более раннему, чем железный век (культуры Галынтат и Латен). В Северной Европе долго проявлялась и кельто-скифская подоснова. Но на побережье Северного и Балтийского морей особенно заметно сказалось выселение ряда кельтских племен после завоевания Галлии Римом. Венеты, покинувшие Бретань на кораблях, могли уйти только на восток. На северо-восток могли уйти с территории будущей Бургундии и рутены, а также какие-то иные кельтские или кельтические племена. Поэтому кельтская окраска ясно проступает по островам и побережью Балтики (в том числе Скандинавии). Позднее эти же племена будут ассимилированы сместившимися сюда из Подунавья славянами. В итоге древнейший индоевропейский этнический слой («венетский», или «виндальский») будет перекрыт кельтским и славянским и сохранит специфику всех этих и некоторых других (в частности, иранского) этнических пластов. Германизация Ютландии, некоторой части побережья Северного моря и Скандинавии будет происходить в основном уже в годы существования Франкского государства, сначала в ходе стихийного переселения неустроенных в районе Эльбы и Рейна германских родов, а затем и в качестве направлявшегося государством «натиска на восток» и северо-восток, где осядут ордена Тевтонский и Ливонский. Но даже и под двойным слоем - кельтским и германским - сохранятся имена, которые из того и другого не объясняются и которые будут в значительной степени усвоены и славянскими племенами, долгое время вообще не имевшими своих имен (племена с территориальной общиной долго не имели личных имен, почему акт крещения означал и «дать имя»).
Таким образом, «варяги» русских источников - это в узком смысле славянизированные варины, в более широком - племена южного берега Балтики. Со времен Ярослава сюда включались и скандинавские «поморяне», а после раскола церквей «варяжская вера» будет означать приверженцев «латинства», которые доказывали преимущества своей веры огнем и мечом в той же Прибалтике.
Примечания:
93. Венелин Ю. Известия о варягах арабских писателей и злоупотребление в истолковании оных // ЧОИДР. Кн. 4.1870 (статья написана в 30-е годы); Гедеонов С. Отрывки из исследований о варяжском вопросе // Приложение к I III тт. ЗАН. - СПб., 1862-1863; его же. Варяги и Русь. Ч. 1.
94. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. IV. - М.-Л., 1957. С. 248.
95. Гедеонов С. Отрывки... С. 146-151.
96. Там же. С. 150.
97. Там же. С. 147-148.
98. Венелин Ю. Известия о варягах... С. 9.
99. Гедеонов С. Отрывки... С. 162-166.
100. Васильевский ВТ. Варяго-русская... дружина..; его же. О варяго-руссах (ответ Д.И. Иловайскому) // Его же. Труды. Т. I; его же. Заметка о пеших и конных// То же. Т. II. Вып. 2. - СПб., 1912
101. ЛЛ. С. 36.
102. Известия византийских писателей о Северном Причерноморье // ИГАИМК. Вып. 91. Л., 1934. С. 8. О прочтении текста см.: Соловьев А.В. Византийское имя России // ВВ. Т. XII. М., 1957. С. 136. См. также: МРН. Т. I. S. 16.
103. Васильевский В.Г. Варяго-русская... дружина... С. 185-186; Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. // ДГ. 1978 г. М., 1978. С. 78.
104. Васильевский В.Г. Варяго-русская... дружина... С. 187, примеч. Ф.Брауна.
105. Там же. С. 193, примеч.
106. Там же. С. 188.
107. Там же. С. 189-190.
108. Там же. С. 267-272.
109. Томсен В. Начало Русского государства. - М., 1891. С. 106; Мошин В.А. Варяго-русский вопрос // Slavia. Casopis pro slovanskou filologii. Rocnik X. Sesit 1 - Praze, 1931. C. 122.
110. Schlaug W. Die altsachsischen Personennamen vor dem Jahre 1000 // Lunder germanistische Forschungen. 34. Lund 1962 S. 173.
111. Idem. Studien zu den altsachsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts // Lunder germanistische Forschungen. 30. Lund, 1955. S. 157 (Weringer, ect.).
112. Idem. Die altsachsischen... S. 173-174 (Ср.: Werinmar); idem. Studien... S. 156 158.
113. WinklerJohan. Friesche Naamlijst. - Amsterdam, 1971. S. 408, 426, 438, 100.
114. Мельникова E.A. Скандинавские рунические надписи (тексты, перевод, комментарий). - М., 1977. С. 200.
115. Rudnicki М. H.Janichen. Die Wikinger im Weichsee und Odergebiet. - Leipzig, 1938 (рец.) // SO. T. 17. Poznan, 1938. S. 229. Ср.: s. 228, 243 (перечень топонимов на территории Польши и Латвии).
116. Куник А.А. Известия ал-Бекри и других авторов о руси и славянах. Ч. 2. - СПб 1903. С. 64.
117. Jacobson G. La form originelle du nom varenges // Scandoslavica. Т. I. - Copenhagen, 1954. P. 40-43.
118. Гедеонов С. Отрывки... С. 152-153.
119. Книга Большому Чертежу - М -Л 1950. С. 148.
120. Гедеонов С. Отрывки... С. 153.
121. Куник А. Замечания к «Отрывкам из исследований о варяжском вопросе С. Гедеонова» // ЗАН. Т. II. Кн. II. Приложение № 3. - СПб., 1862. С. 231.
122. Там же. С. 232.
123. Васильевский В.Г. Варяго-русская... дружина... С. 352.
124. Там же. С. 322.
125. Там же. С. 393-394 (Ответ Д.И. Иловайскому).
126. Там же. С. 367.
127. Там же. С. 368.
128. Там же. С. 369-370.
129. Там же. С. 373.
130. Там же. С. 397.
131. Там же. С. 120 (Ср.: Тверская летопись в ПСРЛ. Т. XV. М., 1965. С. 176-181)
132. Там же. С. 364.
133. Морошкин И. Древняя британская церковь //ЖМНП. Ч. 164. СПб., 1872; Исаченко А.В. К вопросу об ирландской миссии у паннонских и моравских славян// ВСЯ. Вып. 7. М., 1963.
134. Исаченко А.В. Указ. соч. С. 62.
135. Henri F. Irish High Crosses. - Dublin 1964.
136. ЛЛ. С. 153-154.
137. Морошкин И. Указ. соч. С. 71.
138. Патерик Киевского Печерского монастыря. С. 91.
139. Советы и рассказы Кекавмена. - М., 1972. С. 177.
140. Там же. С. 440.
141. Васильевский В.Г. Заметка о пеших и конных. С. 132.
142. Феофилакт Симокатта. - М., 1957. VI. 2. Послы называются выходцами из самых отдаленных славянских племен, проживавших «на краю Западного Океана». До «Фракии» (Греции) они шли 15 месяцев.
143. Васильевский В.Г. Варяго-русская... дружина... С. 361.
144. Там же. С. 348-349.
145. Там же. С. 208.
146. Матузова В.И. Английские средневековые источники. - М., 1979. С. 85, коммент. С. 94-95.
147. Там же. С. 83, 85.
148. Там же. С. 84.
149. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. - М., 1960. С. 88-89.
150. Древние германцы. - М., 1937. С. 155 (Дион Кассий).
151. Грацианский Н.П. Бургундская деревня в X-XII столетиях. - М.-Л., 1935. С. 27, 52-54.
152. Shor T.W. Origin of the Anglo-Saxon rase. - London, 1906; Сугорский И.Н. В туманах седой старины. К варяжскому вопросу. Англо-русская связь в давние века. - СПб., 1907; Кузьмин А.Г. Об этнониме «варяги» // Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994.
153. Извлечение из нее см.: Откуда есть пошла Русская земля. С. 591-595. «Варины» в данном случае называются также «тюрингами», что представляет значительный интерес и для истории возникновения в будущем германской области Тюрингии, в рамках которой графства «Русь» (Reuss) и «Русская земля» (Reussland) сохранялись вплоть до 1920 года. Отождествление названий «варины» и «тюринги» заставляет предполагать переселение части варинов и русов-ругов в область, позднее получившую название «Тюрингия».
154. MGH SS. Т. XXIII. Hannoverae, 1875. Р. 227.
155. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. - М., 1964. С. 276; Этимологический словарь русского языка. Т. 1. Вып. 3. - М., 1968. С. 21-22. А.А. Шахматов связывал этноним с франками (Древнейшие судьбы русского племени. - Пг., 1919. С. 47). П.Я.Черных выводил от славянского глагола «варяти» - беречь, защищать (К вопросу о происхождении имени «варяг» // Ученые записки Ярославского пединститута. Русское языкознание. Вып. IV. Ярославль, 1944). С.Гедеонов указал, что у заэльбских славян слово «варанг» означало меч (Варяги и Русь. Ч. 1. С. 170). Видукинд в X в. аналогичным образом объяснял самоназвание саксов от «сакс» - нож (Видукинд Корвейский. Деяния саксов. - М., 1975. С. 67, 128). Последние три версии не нашли последователей.
156. Марр Н.Я. Избранные работы. Т. V. - М., 1935. С. 430. Ср.: Wagner Н. Studies in the Origins of Early Celtic Civilization // ZCPH. B. 31. Tubing, 1970. P. 3-6.
157. Feist S. Germannen und Kelten in der antiken Ueberlieferung. - Baden-Baden, 1948. Впервые работа была опубликована еще в 1927 году.
158. Трубачев ОН. Ранние славянские этнонимы - свидетели миграции славян // ВЯ, 1974, № 6. С. 54-58.
159. Schwarz Е. Germanische Stammeskunde. - Heidelberg, 1956. S. 116.
160. Pokomy J. Urgeschicht der Kelten und Illyrien. - Halle, 1938. S. 11.
161. Steinhauser W. Das Illiretum der Naristen // Schwarz E. Zur germanischen Stammeskunde. - Darmstadt, 1972. S. 5, 55-58, 65-66.
162. Льюис Г., Педерсен X. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. - М, 1954. С. 83-84, 106 (в основе здесь назализованное «в»),
163. Иордан Указ. соч. С. 72.
164. Там же. С. 221 (примеч. Е.Ч.Скржинской).
165. Шафарик П. Указ. соч. Т. I. Кн. 1. - М., 1837. С. 287-290. Ср.: Державин Н.С. Славяне в древности. Культурно-исторический очерк. - М., 1945. С 8-9.
166. КобычевВЛ. В поисках прародины славян. - М., 1973. С. 22-23, 124-125, примеч. 18.
167. Albenque A. Les Rutenes. - Rodez, 1948. P. 117-118.
168. Schwarz Е. Deutsche Namenforschung II. - Gottingen, 1950. S. 66; HothaJ. Antiquitate Celto-Normannicae. - Copenhagen, 1786. P. 109.
169. Bahlow H. Namenforschung als Wissenschaft. Deutschland Orstnamen als denkmaler keltischer Vorzeit. - Neumiinster, 1955. S. 11.
170. Gregoir de Rosterenen P.F. Dictionaire Francois-Breton. - Rennes, 1732. P. 616.
171. Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 79.
172. Ильинский Г.А. Проблема славянской прародины в научном освещении А.А. Шахматова // ИОРЯС. Т. 25. Пг., С. 431; Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. - М., 1980. С. 93-97.
173. Топоров В.Н. Указ. соч. С. 93.
Часть вторая. Этноним "Русь" от Балтики до Меотиды
Обилие концепций начала Руси в значительной мере порождается источниковым материалом, в частности, упоминаниями Руси в письменных источниках. Противоречивый характер они носят и в древнерусской, и в византийской, и в западноевропейской, и в арабской традиции. По существу, для всех основных концепций начала Руси - балтийской, приднепровской, причерноморской, салтовской - имеются подтверждающие их источники. (Без источников до сих пор держится только норманизм.) И задача заключается не столько в том, чтобы отобрать «качественные» данные, отбросив «некачественные», сколько в том, чтобы осмыслить природу известных противоречий, понять приурочение имени «Русь» к разным районам. В данном случае важно указание восточных источников на «два вида» или «три группы» (области расселения) русов. Сам корень «рус» в индоевропейских языках широко распространен, причем в разных группах с ним связывается совсем неодинаковый смысл.
Литература о названии «Русь» также весьма обильна. Тем не менее сводок, в которых были бы собраны все известные упоминания, до сих пор нет. Подборки, как правило, ориентируются на ту или иную концепцию, причем основное размежевание идет опять-таки по линии противоборства норманизма и антинорманизма. Но, разумеется, для позитивного решения проблемы должен быть рассмотрен весь комплекс упоминаний «Руси», обозначающих племя или территорию.
Глава первая. Сведения о Причерноморской и Салтовской Руси
Летописи являются основой всех схем ранней истории Киевской Руси, но содержат такие противоречия, которые практически исключают возможность однозначного решения вопросов. В заголовке «Повести временных лет» (Начальной летописи) стоит вопрос: «Откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду Руская земля стала есть». Очевидно, один из древнейших летописцев стремился ответить на тот же вопрос, что занимает несколько поколений историков. Поскольку вопрос сформулирован одним автором, то и ответ ожидается однозначный. Однако однозначного ответа летопись не дает. В рассказе о призвании Рюрика с братьями утверждается, что «от тех варяг прозвася Руская земля», в тексте же, восходящем к «Сказанию о славянской грамоте», «Русь» отождествляется с «полянами» («поляне, яже ныне зовомая Русь»), которые как и вообще славяне, выводятся из Иллирии и Норика, некогда составлявшего раннегосударственное образование «Ругиланд».
Как отмечалось выше, дошедшие до нас рукописи летописей являются своеобразными компиляциями, сводами, которые составлялись из разных источников или пополнялись позднейшими сводчиками и переписчиками. Те же чаще всего делали добавления, не устраняя противоречащего им прежнего текста. Это не являлось недосмотром: как правило, летописцы бережно относились к предшествующим текстам, даже если сами придерживались иного мнения, хотя и полемика с иными взглядами тоже нередка на страницах сводов. В целом Киевская летопись исходит из представления о тождестве полян и руси, а «Руская земля» в ней мыслится как область Среднего Поднепровья, действительно отличающаяся от соседних славянских территорий, причем, что особенно важно, и антропологически, уходя своими истоками в скифские времена. Это обстоятельство породило, с одной стороны, своеобразную чернигово-тмутараканскую версию, упомянутую выше в связи с представлением о прошлом Руси в «Слове о полку Игореве», с другой - салтово-донецкую, вокруг которой идет борьба между своеобразными «хазароманами» и приверженцами ее аланской принадлежности. Но чернигово-тмутараканская и салтовская версии часто смешиваются, и их этническая природа обычно определяется на одном и том же круге источников.
На «два вида» русов обратил внимание уже А. Шлецер. Одних он считал скандинавами, пришедшими в Киев, а других - бесчисленным причерноморским народом. Но это была своеобразная оговорка: Киевскую Русь автор однозначно связывал со скандинавами. Значительно основательней проблему ставил Г. Эверс, опубликовавший свои изыскания о начале Руси вскоре после публикации русского перевода «Нестора» А. Шлецера[174]. Он считал именно Причерноморскую Русь единственным истоком Киевской Руси. Но «двух видов» он здесь не видел.
Со времен Эверса вопрос о Причерноморской или Тмутараканской Руси неизменно стоит как одна из загадок, ключи к которой никак не удавалось подобрать исследователям, хотя в числе их были такие крупные специалисты, как Д. И. Иловайский, Е.Е. Голубинский, А. А. Шахматов и целый ряд других. В недавнее время эта проблема стала темой специальных исследований АВ.Гадло, Д.Т.Березовца, Д.Л.Талиса, О.Н.Трубачева. Но можно обратить внимание на то, что все названные исследователи искали одну-единственную «Русь», не объясняя прямого указания восточных авторов на «два вида» русов и «три группы» их, чаще всего отыскивая «три центра» одной-единственной Руси на территории Восточной Европы или в Прибалтике. Между тем без осмысления указания источников на «два вида» и «три группы» вопрос об этническом содержании обозначения «Русь» не может быть даже и перспективно поставлен[175]. По существу, большинство авторов правы, определяя изучаемый ими материал как «древности русов», но каждый изучаемый им «вид» полагает единственным.
Именно поэтому многим специалистам Тмутараканская или Причерноморская Русь представлялась неким миражом, продуктом неосведомленности или небрежности византийских и восточных авторов. Проблему неоднократно «закрывали». Но она неизбежно открывалась снова. Имеется, по крайней мере, один огромной важности факт, который не позволяет пренебречь хотя и темными, но многочисленными данными: наличие связанного с Киевом русского княжества в Тмутаракани. К какому бы времени ни относили его появление - к IX, X или XI вв., неизменно возникает вопрос: как это княжество могло появиться и как оно могло в течение длительного времени существовать и поддерживать связь с Приднепровьем? Не меньше проблем возникает и в связи с установлением факта, что аланская-салтовская культура в Подонье также именовалась «Русью».
А. Шлецер, конечно, не случайно вынужден был сделать серьезную уступку антинорманистам, разделив «норманскую» и причерноморскую Русь. На это его наталкивали источники. И позднее многие специалисты останавливались перед необходимостью выделить, по крайней мере, две «Руси». С наибольшей полнотой эта мысль обосновывалась В. А. Бримом[176]. И многим норманистам пришлось делать допущение, что в Причерноморье обосновалась группа «норманнов», проникшая туда ранее т.н. «варяжского призвания». Таким образом, делалось допущение, что «Русь» во всех случаях - один и тот же этнос. Но реального обоснования оно ни у кого из норманистов не получило и не могло получить в силу априорности самой мысли о некой миграции скандинавов к Черному морю.
Богатейшие сведения о Руси IX-X вв. содержат арабские источники. Но сведения восточных авторов настолько противоречивы, что, как заметил В. Томсен, «любая теория происхождения Руси может находить себе кажущуюся опору в сочинениях восточных писателей»[177]. С другой стороны, очевидно, именно на основании этих источников Н.Я. Марр высказал соображение, что «норманны и русы одно и то же, одинаково не имеющие ничего связывающего исключительно с севером Европы, когда речь идет о русах, ничего исключительно германского, когда речь идет о норманнах»[178]. Весьма глубокая и, к сожалению, совершенно не развитая мысль.
Природа внутренних противоречий арабских текстов в общем понятна. Арабские купцы встречались с русами или так себя называвшими местными жителями и в Германии, и в Хазарии, и на Северном Кавказе и в Причерноморье, и на Днепре, и в Волжской Болгарии. Отзвуки о походах русов слышались и в Испании, и по южному побережью Каспия. О русах рассказывали многое и разное. Позднейшие же компиляторы и переписчики должны были сводить все эти весьма разнохарактерные и разновременные данные.
Арабские сведения о Руси и русах представлены в специальных исследованиях А. П. Новосельцева, Б. Н. Заходера, Д. Т. Березовца, Г. С. Лебедева и в самое недавнее время Е. С. Галкиной. Первые два автора дали новые публикации сведений восточных авторов[179]. Д.Т. Березовец доказывал, что под «Русью» на Востоке подразумевалось Подонье и Приазовье - население салтовской культуры[180]. Г. С. Лебедев, подчеркивая этнографические различия славян и руси в представлении восточных писателей, отождествил русов с норманнами[181].
Должно заметить, что сведения о Руси восточных источников действительно дают гораздо больше материала в пользу норманизма, чем аналогичные сведения о варягах. По наблюдению Д. Т. Березовца, лишь Ибн Хордадбех рассматривает славян и русов как части одного народа. Все остальные авторы их разделяют[182]. Но и у Томсена были основания для приведенного выше иронического замечания: с норманнами русы восточных источников увязываются плохо. По существу, Г. С. Лебедев пошел по давно намеченному пути: выбирать лишь между славянами и германцами, не считаясь с возможностью существования в Прибалтике каких-то иных этнических групп. Возможности же отражения в этих сведениях данных о Подонье и Причерноморье он вообще не учитывал.
Как отметил А. П. Новосельцев, самое раннее упоминание названия «рус» в арабской литературе принадлежит среднеазиатскому ученому ал-Хорезми, написавшему труд «Книга картины земли» между 836-847 гг. В этом произведении упоминается «Русская гора», откуда берет начало река Д.рус[183]. Локализовать эту «гору» весьма трудно. Привлекая параллель - анонимный географический трактат второй половины X в., где также упоминается «Русская гора», А. П. Новосельцев склонен локализовать ее «где-то на северо-востоке Европы»[184]. Но если читать название реки как «Днепр» (Данапрос), то необходимо помещать гору где-то на пути «из варяг в греки». К сожалению, и вопрос о том, какая река имеется в виду, остается неясным. Путь «из варяг в греки» шел и по Днепру, и по Дону. Уверенно можно говорить только о том, что гора располагалась в Восточной Европе.
Следующий по времени восточный трактат о русах, уникальность которого была отмечена Березовцем, принадлежит Ибн Хордадбеху. Труд дошел лишь в позднейших извлечениях. Это своеобразный путеводитель, первая редакция которого возникла в 846 г., а вторая - в конце IX столетия. Сюжет о русских купцах явился предметом спора. Есть мнение, что это позднейшая вставка. Однако если это и вставка, она все-таки сделана не позднее IX в.[185] Согласно Ибн Хордадбеху, русские купцы - «вид славян» (или «род славян»), «Они вывозят бобровый мех и мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных (частей) страны славян к Румскому морю», а «по... реке славян» «проезжают проливом столицы хазар». Далее, преодолев Каспийское море, русы иногда попадают в Багдад, «где переводчиками для них служат славянские рабы». «И выдают себя они за христиан»[186].
В тексте Ибн Хордадбеха явно отражаются и север, и юг. Мечи могли вывозиться через Прибалтику (Волго-Балтийским путем с переходом на Дон) из Франкской империи и смежных с ней территорий, где это производство было поставлено. (Мечи варинов ценились в Италии еще в эпоху Великого переселения.) Там же локализовались и «самые отдаленные» области земли славян. Христианство начинало в это время распространяться на Балтийском Поморье и у причерноморских русов (крещение около 867 г.). Важно и указание на то, что русы знали славянский язык и на Восток шли через Приазовье.
КIX в. относятся и еще два сюжета арабо-иранской географической традиции: об острове русов и о трех группах Руси. Первый сюжет представлен у Ибн Русте (нач. X в.), Мукаддаси (середина X в.) и у ряда более поздних авторов. В нем идет речь о лесистом и болотистом острове, окруженном озером или морем. Размеры острова - три дня пути, население - 100 тысяч человек. Основное занятие населения - военные походы и торговля рабами и мехами, которые вывозятся в «Хазаран и Булкар». На славян они совершают нападения на кораблях. Титул правителя островных русов - «хакан-рус». Знахари-жрецы стоят выше «царей». По их указанию приносятся в жертву люди и лошади. У этих русов существует обряд трупоположения. Для знатных русов выкапывают могилу наподобие дома, в которую помещают пищу, одежду, драгоценности и монеты. В могилу помещают и живую любимую жену покойника, после чего отверстие могилы закладывают «и жена умирает в заключении»[187].
Практически все авторы, доказывавшие существование Причерноморской Руси, помещали «остров русов» на юге. Одни из них полагали, что речь идет о «Тмутараканском острове», как называли в Киеве Таманский полуостров[188], другие полагали, что речь идет о Крыме[189]. Березовец увидел в тексте Ибн Русте иллюстрацию к обычному похоронному обряду салтовцев[190]. Это наблюдение весьма существенно и, по существу, предопределяет решение вопроса.
Можно допустить, что восточные авторы снова смешивают русов севера и юга. Но основной текст явно относится к Прибалтике. И дело не только в том, что именно в Прибалтике легко найти острова с лесистой и болотистой поверхностью (район Сиваша болотистый, но не лесистый), но и в некоторых других элементах рассказа. Так, нападение на славян морем предполагает приморское расположение объекта нападений. У моря жили именно балтийские славяне. Основное оружие русов - меч - также ведет в Прибалтику, и если это оружие осваивалось и южными русами, то, видимо, под влиянием северных. (Летописец специально отметил превосходство русского «меча» над хазарской «саблей».) Обряд погребения, сходный с салтовскими, ищут и в Прибалтике. Г. С. Лебедев, в частности, аналогию находит только в камерных погребениях Руси и Скандинавии, которые признает по происхождению скандинавскими[191]. Но, разумеется, плотно населенный остров русов - это не Скандинавия и не Готланд. Ряд подходящих по размерам островов имеется у южного и восточного берегов Балтики.
В литературе неоднократно привлекал внимание остров Рюген, население которого средневековые источники называют руянами, ранами, русами, рутенами, ругами. (Об этом речь будет ниже). В настоящее время остров занимает лишь около 1000 кв. км. Но он был частично разрушен землетрясением в начале XIV в.[192] К тому же береговая линия его так изрезана, что внутренние расстояния на острове превышают окружность его по морю. Главная же параллель просматривается в сообщении Гельмольда, что руяне жреца «почитают больше, чем короля», и что в течение длительного времени здесь сохранялось принесение в жертву людей-христиан[193]. Обилие городов и отсутствие деревень, отмеченное восточными авторами, также указывает на некое территориально небольшое разбойно-паразитарное и торгово-полугосударственное образование. Но по юго-восточному побережью Балтики у острова Рюген находятся и достойные конкуренты: Саксон Грамматик (его известия будут рассмотрены ниже) локализует Русь в Восточной Прибалтике, и здесь есть остров, вполне соответствующий по размерам описаниям восточных авторов. Это Сааремаа, буквально «Островная земля», как он и обозначается в Новгородской 1 летописи. То же значение в топониме северных саг - Хольмгард (вопреки логике, перенесенное на Новгород название), в исландском Ейсюсле (испорченное в германском - Эзель).
В пользу «юга» говорит титул русского правителя: «хакан-рус». В том же IX в. титул «кагана» привязывается к какой-то группе русов «норманнов». В 839 г. они возвращаются на родину из Константинополя через Франкскую империю, поскольку обычный путь (видимо, по Дону) был перерезан очередной волной кочевников с востока[194]. И стремилось посольство, по всей вероятности, именно в Юго-Восточную Прибалтику. Комментатор Адама Бременского заметил по поводу живших здесь русов, что это «Русия-тюрк», а Идриси в XII в. находил «русов-тюрк» на Дону[195]. Источником такого уточнения является, очевидно, проживавший в Италии в X в. Иосиппон (Бен Горион). Он включил алан в число тюркских народов, видимо, как раз потому, что они в противостоянии тюркам-хазарам позаимствовали у них титул «кагана».
«Роксалан» где-то в Прибалтике упоминал еще Географ Равеннский (VIII—IX вв.), «алан» или «албан» - Адам Бременский. Скифо-сарматский след просматривается здесь с глубокой древности. И только норманистским ослеплением можно объяснить попытки представить эти области «скандинавской колонией». Ф.Д. Гуревич обнаружила в Пруссии могильник, в котором «треть погребенных женщин были наездницами»[196]. В шведской Бирке автор обнаружила только одну «наездницу» из 238 женских погребений. Город вообще являлся «проходным двором» для разных племен, уходивших с побережий Северного и Балтийского морей от усилившегося в VIII в. наступления Франкской империи. Достаточно сказать, что славянская керамика составляла там 13 %. И отмечаемые Г.С.Лебедевым камерные погребения шли с континента в Бирку, а не наоборот[197]. Камерные погребения были известны в Центральной Европе у кельтов еще с эпохи Гальштата (VII-VI вв. до н. э.), но восходят они к скифо-киммерийским временам и в Восточной Прибалтике известны с конца II тыс. до н. э.
А женщины-наездницы объясняют настойчивые утверждения средневековых авторов (Адама Бременского, Ибрагима ибн Якуба) об амазонках на восточном побережье Балтики. Здесь же Саксон Грамматик отмечает культ коня, явно степной по происхождению. Культ коня был и на острове Рюген (священная конюшня из трехсот коней), что также может уводить еще к киммерийским временам. (Кимвры на севере Ютландии с культом котла также могут быть связаны с потоком киммерийцев в Западную Европу.)
Другой сюжет восточных авторов, рассказывающий о трех группах Руси, восходит к ал-Балхи (ок. 850-930-е), а дошел в сочинении ал-Истахри (сер. X в.), Ибн Хаукаля (60-70 X в.) и целого ряда позднейших авторов. В числе трех групп называются Куйаба, ас-Славийа и Арсанийа[198]. Обычно считается, что Куйаба, который больше Булгара, - это Киев. Славия определяется как Новгород. Относительно Арсании или Артании с городом Арса или Арта идут споры[199]. В. Б. Вилинбахов перенес все три центра на балтийское побережье[200]. И.Хрбек «третье племя» отнес к острову Рюген[201]. Видимо, как племена или роды, а не города и следует понимать текст восточных авторов. И объяснение Хрбека выглядит логичным: первая группа - Куявия в Восточной Прибалтике. Следует за ней Славия - обозначение балтийских славян. Арсания явно созвучна столице Рюгена Арконе. Но Арсания представляется как группа, ближе всего находившаяся к Булгару А таковым является «Островная земля» - «Остров русов» с каганами во главе. «Неприветливость» русов того и другого острова сопоставимы. В Аркону даны вторгнутся лишь в 1168 г. и удивятся и сундукам с красными одеждами, и стойкости языческих культов. Сааремаа в этом плане менее известна. Археологических раскопок там не было. А в качестве памяти об эпохе - находки семи мечей (в континентальной части Эстонии - лишь один). А одно отличие все-таки можно заметить. Руги-русы с острова постоянно переселялись на континент и сами перешли на славянскую речь. Русы данного источника - паразитарное образование, живущее за счет ограбления славян. И закрыт остров был не только для восточных купцов и путешественников, но и для составителей хроник.
Естественно, что «третий центр» пытались связать и с Тмутараканью и вообще причерноморской Русью Здесь искали его В. А. Пархоменко и А. И. Соболевский[202] Эту версию в той или иной степени поддерживали А.Н. Насонов, С. В. Юшков, одно время В. В. Мавродин, из авторов русского зарубежья Г. В. Вернадский. Д. Т. Березовец все три центра связал с салтовской культурой, указав на параллель из Идриси[203].
Сведения о трех группах Руси арабские географы получили, очевидно в Булгаре, и рассматривать следует районы, реально связанные с Булгаром Но Киев в IX-X вв. еще не выходил на тот путь, которым в XII в. пройдет Идриси. И если считать «Славней» Новгород, то он, конечно, ближе к Булгару чем Киев. Но «Славия» - Западное Поморье известна разным источникам dro, видимо, и есть та самая «отдаленная часть страны славян», из которой согласно Ибн Хордадбеху и другим авторам, русские купцы вывозили меха и мечи. И остров Рюген, возвышающийся над славянскими племенами, видимо с IX в. мог значиться в составе той же «Славии». Определенные разноречия в характеристиках «третьей группы» и «острова русов» проявляются в отношениях к иноземцам (благожелательное на «острове русов» и нетерпимое в Арсании). Но в Арсании информаторы авторов-географов не бывали, а слухи могли распространяться и в связи с какими-то конкретными событиями На «острове русов» было трупоположение. Таковое было на Рюгене а также в областях салтовской культуры. У язычников славян и у русов устья Немана сохранялось трупосожжение, но в Роталии были погребения салтовского типа - трупоположения с конем. В одеянии островных русов восточных писателей поражали широкие шаровары, на которые шло сто локтей материи В рассказе о трех группах говорится о коротких куртках. Из Арсании вывозилось олово. А это значит, что она либо располагалась в гористой местности, либо торговала с производителями олова (добычей олова славились Британские острова).
Топонимы Арса-Арта и Арсания-Артания довольно широко распространены в Европе, встречаясь в Этрурии, Фракии и Вифинии, а также в Испании ини, очевидно, принадлежат к одному из древнеиндоевропейских топонимических пластов, о котором ниже будет особый разговор. Пока отметим во-первых, связь Руси с этим древним этносом, а во-вторых, - его географическую неопределенность. Как правило, широкое распространение топонима свидетельствует лишь о том, что в рамках родственных племен он может возникать независимо друг от друга (как, скажем, славянские «Быстрица» или «Серебрянка»), Больше данных для суждения о местоположении Арсании дает указание, что, не пуская никого в свою страну, сами ее жители «спускаются по воде и тор^ют, но не сообщают ничего о делах своих и своих товарах»[204]. Торгуют они с болгарами, греками и хазарами и ко всем ним, очевидно, приходят с верховьев рек: Волги, Дона, Днепра. Искать их, следовательно, необходимо либо в Прибалтике, либо в верховьях этих рек. В IX-X вв., в частности, существовало солидное раннегосударственное образование в районе Смоленска (знаменитое Гнездовское поселение и курганы), как-то особняком стоявшее на Руси.
Сюжет о трех группах Руси в позднейших переделках осложняется воздействием каких-то иных представлений. В «Худуд ал-Алам» добавлено разъяснение, что именно из Арты (Уртаба) вывозят «очень ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое»[205]. Отразился этот сюжет и у ал-Идриси, путешественника середины XII в. Идриси дает расстояния, разделяя Куйабу, Арсу и Славу всего четырьмя днями пути, причем Арса помещается на укрепленной горе как раз посредине между двумя другими центрами[206]. Но столь малое расстояние явно не подходит для выделения существенно отличающихся друг от друга групп. Идриси, видимо, смешивал их с какими-то современными ему топонимами. Позднее Димашки, со ссылкой на Идриси, говорит о четырех группах славян, причем группу «барассийа» можно отождествить с «боруссией» - Пруссией, а «к.рак.рийа», возможно, производится от столицы Польши Кракова. «Арсанийю» же он как будто помещает в «чащах и зарослях» побережья «Обнимающего океана»[207]. «Куябы» в этом перечне нет вообще, и, таким образом, получается, что все группы относятся к западным и балтийским славянам и, может быть, пруссам.
Оба рассмотренных сюжета относятся к IX в. (хотя сюжет о трех группах все-таки, видимо, моложе рассказов об островных русах). Но в восточной литературе имеются и другие сведения о Руси, которые относятся как к Западу, так и к Востоку, и отражают представления как более позднего, так отчасти и более раннего периода. Оставляя пока в стороне данные, относящиеся явно к Прибалтике, рассмотрим сведения, в которых могут разуметься причерноморские или салтовские росы.
Традиция этнонима «рос» в Причерноморье начинается с IV в.: именно применительно к IV в. упоминает по соседству с готами росомонов автор VI столетия Иордан[208]. Вслед за Иордановыми росомонами здесь появляются «росы» сирийского автора VI в.[209] Упоминаются русы и в восточных источниках XI-XV вв., но применительно к тому же VI столетию. А. П. Новосельцев привел два таких сюжета: один у автора начала XI в. ас-Са'алиби, второй - у хрониста XV в. Захир ад-дина Мар'аши[210]. У первого автора русы названы рядом с турками и хазарами в рассказе о постройке Дербентской стены. Второй автор помещает русов где-то в районе, примыкающем к Северному Кавказу.
Локализация русов рядом с хазарами и тюрками довольно широко отражается в восточной литературе. В анонимном сочинении, составленном в 1126 г., в частности, приводится предание, будто «Славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться. Рус ему ответил, что это место тесное (для нас двоих). Такой же ответ дали Кимари и Хазар. Между ними началась ссора и сражение.
И Славянин бежал и достиг того места, где ныне земля славян»[211]. «Рус в этом тексте - сосед Хазара и Кимари, за которым едва ли не стоит Киммерик (т. е. область Восточного Крыма). Согласно тому же анониму, Рус и Хазар были от одной матери и отца», а «остров русов» оказывается на территории страны Хазара[212]. В «Космографии» Димашки о русах говорится, что «у них в море Майотис острова, которые они населяют, и боевые корабли»[213]. Здесь, очевидно, указано именно на Азовское (Меотское) море. По утверждению же египетского историка XV-XVI вв. Ибн Ийаса, русы - «большие народы из тюрок»[214]. О том, что «русы находятся на островах», сообщает и автор XIII в. Мубарак-шах[215]. Но в этом случае могут разуметься и острова Балтийского моря, где их, конечно, больше, чем в Приазовье, и они удобнее для постоянного проживания. Димашки же в Прибалтике поместил славян (четыре группы) и варягов, а для руси у него остался юг.
Если в восточных источниках постоянно смешивались острова и побережья Балтийского и Черного морей, когда речь идет о русах, то и в европейские источники в известной мере проникала подобная путаница (если только речь идет о простой путанице). Комментатор Адама Бременского, сделавший свои пояснения вскоре после завершения труда (1075) дополнил основной текст о диких варварах, населявших острова у южного и юго-восточного берегов Балтики, упомянутым выше уточнением о русах-тюрках[216]. Собственно, речь идет об остатках «скифских» народов, которых автор смешивал с «тюрками» явно под влиянием Иосиппона, ошибочно отнесшего к «роду тюрок» алан. В Западной Европе «тюрками» иногда называли венгров, и это было оправдано, поскольку тюркский элемент присутствовал и, может быть, даже преобладал в социальных верхах мадьяр. Тюркские элементы проникали туда ранее с восточными гуннами, аварами, болгарами. Но все эти группы не выходили за пределы Среднего Дуная. В Прибалтике же явно видны следы «скифских» (как верно отмечено в комментарии), то есть ираноязычных в прошлом народов, причем они существенно различались между собой, видимо, потому, что попадали туда в разное время. В данном случае существенно и то, что комментатор отделял часть жившего у моря населения не только от германцев, но и от славян и пруссов.
Персидский историк XIII в. Фахр ад-дин Мубарак-шах указал и еще на одну любопытную цепь связи Хазарии и Руси, уходящую, видимо, ко времени не позднее IX в.: «У хазар, - сообщает он, - есть такое письмо, которое происходит от русского; ветвь румийцев, которая находится вблизи них, употребляют это письмо, и они называют румийцев руссами. Хазары пишут слева направо и буквы не соединяют между собой. У них 21 буква... Та ветвь хазар, которая пользуется этим письмом, исповедует иудейство»[217].
Совершенно очевидно, что письмо, заимствованное хазарами от руссов, не имеет отношения к славянскому письму. Но это не греческое, и не иудейское письмо. Алфавит начинался с буквы «ш», а первой буквы иврита и греческого алфавита - «алефа» - в нем не было вообще. Вместе с тем восточный автор обратил внимание на способ написания типично западный: слева направо. С этим «русским» письмом Хазарии (или Алании) должно быть сопоставлено и еще одно письмо: именно «русьские письмена», обнаруженные Константином Философом во время его поездки в Крым и затем в Хазарию в 861 г.[218] Этими «письменами» были написаны Евангелие и Псалтирь. И, следовательно, предполагается присутствие в Крыму прослойки русов-христиан уже в середине IX в., то есть ранее возникновения Тмутараканской епархии при патриархе Фотии (ум. 867).
Мнение Березовца о тождестве русов с населением салтовской культуры имеет определенное основание. Их этимологический исток заложен уже в этнониме роксоланы - светлые или белые (в социальном смысле) аланы, то есть та часть аланских племен, которая претендовала на первенство среди них. Русы, например, смешиваются с аланами у Низами[219]. А в Азербайджане X-XI вв., как заметил С.П.Толстов, русов должны были знать[220]. Но «конные» русы, «белые» русы - не единственное с таким именем племя и на юге, не говоря уже о Западной Европе. «Повесть временных лет» постоянно говорит о «ясах и касогах» - аланах и черкесах, ни разу не называя их «русами». И не только на Балтике и в Киеве, но и на Крымско-Тмутараканском побережье были и иные «русы», коих воспел автор «Слова о полку Игореве». И эти русы традиционно связывались с морем. Само название Черного моря как «Русского» - определенное переосмысление. Кельтские саги выводили себя из мест, близких к «Маре Руад» - Красному морю. В славянских языках вплоть до XVI в. море называлось «Чермным», то есть «Красным». Красный цвет до XVII в. вообще обозначался словом «чермный» («Черная Русь» на Немане - тоже произошла из «Чермной» Руси). И название «Русское море» - вариант традиционного названия, увязываемый с этнонимом.
Значению этнонима «Русь» (исходя из представления о существовании одной «Руси») посвятил весьма полезное исследование В. Завитневич. Он отправлялся от заключения современника конфликта Константинополя и Киева в середине X в. лангобарда Лиудпранда, проживавшего в Северной Италии: «Это есть северный народ, который греки по наружному качеству называют руссами, а мы по положению их страны нордманнами»[221]. В. Завитневич напомнил и вроде бы давно и хорошо известные источники. Популярный у первых русских летописцев Георгий Амартол (ок. 867 г.) дал описание нападения росов на Константинополь. В описании хрониста, нападавшие «своим видом показывали кровопролитие». Примерно так же воспринимался библейский Рос (Рош). Вообще пурпурный цвет напоминал кровь и огонь. «Румяными или рыжими» представлял в начале X в. русов-торговцев в Великом Булгаре арабский автор Ибн Фадлан. От «цвета лица и власов» выводил название «Русь» автор Хронографа «второй редакции»[222]. Обозначение цвета помогает и различению разных видов русов: восточных (белых) и западных. Особенно важен этот указатель при проведении границы между «красными» и «белыми» в юго-восточной части Прибалтики, да и на всем Волга-Балтийском пути.
С конца IX в. русы неоднократно вторгаются в прикаспийские области, проникая до Бердаа. Нападения русов около 912-913 и 943-944 гг. отражены во многих, в том числе и в близких по времени к событиям, восточных источниках. Одним из наиболее осведомленных и авторитетных авторов середины X в. является Масуди. Им, между прочим, было отмечено, что «руссы состоят из многих народностей разного рода»[223]. Это указывает на определенный отрыв претендентов на первенство среди родственных племен от собственной этнической почвы - явление нередкое в эпоху перехода от племенного строя к государственному. Имело значение, конечно, и соседство с весьма агрессивным Хазарским каганатом. К тому же Масуди мог объединять под одним именем и этнически разноплеменных русов. Масуди хорошо представляет Меотское или Хазарское (в данном случае Азовское) море, соединяющееся 10-мильным проливом с «Русским» морем. Пролив служит защитой для прилегающих районов от кораблей «Кудкана» и «других племен русов». Самое многочисленное племя русов называется, по Масуди, эль-Лудзана (ал-Луд'ана).
Масуди бывал в южных прикаспийских областях и на Кавказе, а потому представления его вызывают особый интерес. Как и другие восточные авторы, он прежде всего становится объектом спора норманистов и антинорманистов. Так, В.Ф. Минорский «самое многочисленное племя» читал как ал-Урмана и таким образом отождествил русов с норманнами[224]. От такого рода идентификации лучше бы воздерживаться хотя бы до тех пор, пока не выяснится, каких именно русов имел в виду Масуди.
Как и у многих других восточных авторов, у Масуди Прибалтика приближена к Причерноморью. Он знает прибалтийских славян и распространяет их земли вплоть до Хазарии[225]. Знает он и о самых тесных контактах прибалтийских славян и русов. Но русов он все-таки локализует на юге, в Причерноморье. Это хорошо видно из его объяснения пути, которым русы вторглись в 844 г. в Андалузию (Испанию), где они разграбили Севилью. Масуди возражает против мнения, что русы пришли через Гибралтарский пролив. «Я думаю, а Аллах лучше знает, - добавляет он, - что этот пролив соединяется с морями Майтас и Понтос, а этот народ - рус, о котором мы уже упоминали, ибо никто, кроме них, не ходит по этому морю, соединяющемуся с морем Океан»[226]. В данном случае не имеет значения маршрут пиратов-русов. Важно, что с точки зрения Масуди, русы жили в Причерноморье близ Азовского моря.
Примечательно, что оба больших похода на Каспий русы совершали параллельно с походами киевских князей на Константинополь. В первом случае операции на Черном море и на Каспии могут все-таки быть совмещены, как последовательно развивающиеся во времени: в 911 г. Олег заключил мирный договор, в 912-913 гг. русы отправляются на Каспий. Но имеются в описании этих двух операций и трудно сопоставимые разноречия. По летописи, ладьи Олега вмещали по 40 мужей (по другой версии, ладьи имели 12 «уключин», т. е. весельных мест, что также предполагает команду из 40 мужей - три смены весельных и рулевых)[227]. По Масуди, на Каспий прибыло 500 судов по 100 чел. в каждом. Это более крупные, морские суда. Масуди знает, что русы прошли из Черного моря в Азовское, затем поднялись «рукавом реки» до «Хазарской реки», т. е. Доном (он считался рукавом Волги) до волока на Волгу, по которой и спустились на Каспий[228]. На Каспии русы несколько месяцев жили на островах, как люди, привыкшие к морскому образу жизни. При возвращении назад они были полностью перебиты хазарами.
Русские летописи ничего не знают о походах на Каспий. Они зафиксировали восторженно преувеличенное предание об успешном походе Олега на Константинополь, для чего, как минимум, необходимо было, чтобы певцам было кого прославлять. На Каспий, очевидно, ходило другое крупное войско (иначе русы не смогли бы на протяжении многих месяцев господствовать над густонаселенными районами). Все это войско погибло. Трудно представить, что столь крупная неудача не повлияла даже на описание княжения «вещего Олега».
О походе русов на Бердаа в 943-944 гг. сообщает ал-Макдиси (ок. 966), Ибн Мискавейх (кон. X в.), Ибн ал-Асир (XIII в.), воспроизводивший рассказ воевавшего с русами правителя Азербайджана Марзбана[229]. В этом рассказе говорится о приходе русов к берегам Куры, где и развиваются основные события. Русы пытались установить сотрудничество с местным населением, предполагая, возможно, обосноваться здесь навсегда. Мусульманский автор, во всяком случае, не сомневается в искреннем желании русов поддерживать определенный порядок в округе и вину за срыв этой попытки возлагает на своих единоверцев. В конце концов русы ушли из-за начавшихся в их стане эпидемий, что, по мнению Бартольда, произошло не раньше лета 945 г.[230] Ал-Макдиси, описывавший эти события два десятилетия спустя, отмечает, что русы «владели Бердаа в течение года и издевались над мусульманами, и насильничали над их харимами, как никогда еще не делали этого никакие язычники. И вот погубил всех Аллах при помощи холеры и меча»[231].
Поход 943-945 гг. и вовсе не может быть совмещен с деятельностью киевского князя Игоря, поскольку он приходится как раз на время неудачного предприятия князя. Правда, в литературе имеется мнение, что на восток отправились варяги во главе с Халевгу, упоминаемом в еврейско-хазарской переписке X в., и известным по русским летописям воеводой Свенельдом. М. И. Артамонов полагал, в частности, что это произошло после успешного похода Игоря на греков в 943 г.[232] Автор при этом вполне доверяет летописному сообщению о втором успешном походе руси на греков, отвергая тем самым данные византийских и иных источников о поражении Игоря, а также условия договора руси с греками 944 г., в которых явно отражается неудача киевского князя[233]. Поход же на Бердаа представляется автору вполне успешным, вопреки тому, что сообщает, например, ал-Макдиси.
Летописцы хорошо понимали, сколь трудное дело - поход на Константинополь, а потому задним числом включили в состав войска Игоря ополчения из тех племен, которые к этому времени в состав Руси еще не входили. Оба предприятия по размаху вполне стоили друг друга. Очевидно, русы, отправлявшиеся на Каспий, не были подвластны Игорю. Эти русы, судя по мимоходом сделанному замечанию, умерших предавали земле, зарывая с ними и оружие. Мусульмане позднее раскапывали эти захоронения с целью овладения погребальным инвентарем русов, в особенности их мечами.
Еврейско-хазарская переписка относится к середине X в. и сохранилась в рукописи XI-XII вв. Упомянутый выше Халевгу назван в ней «царем русов». По наущению византийского императора Романа Лакапина (920-944) Халевгу совершил нападение на хазар, взяв город Самбарай (Смкрц, Смкрия, Самкуш). Но хазары укротили русского правителя и в свою очередь заставили его идти на греков. Четыре месяца Халевгу воевал с греками на море и потерпел поражение от греческого огня. Стыдясь вернуться в свою страну, он пошел морем в Персию (или Фракию), где погиб вместе со своим войском. После этого русы стали подвластны хазарам[234].
«Кембриджский документ» (так называется пересказанный документ) подозревается как подлог XI в. Одним из аргументов в пользу этого мнения служит несоответствие его показаний данным русских летописей. Но еще В. А. Пархоменко высказал мысль, что Халевгу был правителем не Киевской, а Тмутараканской Руси[235]. Этого предводителя русов вообще не стоит притягивать к киевскому Олегу, ходившему на греков в 911 г., или же Олегу - воеводе Игоря, совершавшему поход, согласно Новгородской 1 летописи, в 922 г.[236] Причерноморье в районе Крыма и Таманского полуострова в какое-то время в X в. находилось в зависимости от хазар. Киевская же Русь освободилась от хазарской зависимости в IX в. и больше таковой не испытывала.
Недавно из «Кембриджского архива» извлекли документ в несколько строк - просьба еврейского купца из Киева о помощи в оплате долга. Документ был включен в издание Н. Голба и О. Прицака «Хазаро-еврейские документы X в.» (Лондон, 1982) и переведен с комментариями В.Я. Петрухина в издательстве «Гешарим» (Москва-Иерусалим, 1997-5757 - год еврейского летосчисления). Н. Голб - филолог-гебраист, О. Прицак - известный своими фантазиями американо-украинский тюрколог[237]. Здесь дается своеобразная этимология этнонима «Киев». Обозначив название как «иранское», авторы затем заключают, что «Киев как город и поляне как клан основателя Кия связаны с хазарами. Источники даже прямо называют этот род хазарами»[238]. Само название «Киев» авторы ищут в иранских и тюрко-хазарских древностях. Между тем достаточно открыть «Этимологический словарь славянских языков», чтобы убедиться, что подобные топонимы встречаются практически во всех славянских землях[239]. И не будет ничего удивительного, если параллели найдутся и в ранней индоевропейской письменности: славянский язык один из самых архаичных.
У ряда восточных авторов имеется сообщение, будто русы в 912-913 гг. (300 г. хиждры) приняли христианство, что сразу сделало их небоеспособными и беспомощными перед лицом внешних сил. Дабы выйти из такого положения, они организуют посольство в Хорезм с целью принятия ислама. В посольство входили четыре приближенных царя, называемого Уладмир (или Буладмир). В итоге русы перешли в ислам[240].
Разные русы крестились в разное время. На Дунае руги-русы принимали арианство еще в IV-V вв. С IX в. христианство распространяется и у русов и славян Прибалтики. При Фотии (ум. 867) христианство приняли причерноморские росы, в 932 г. - аланы. В середине X в. в Киеве была и церковь, и христианская община. Могла перейти в христианство и еще какая-то группа русов в начале X в. Но имя Уладмир слишком напоминает крестившего Русь Владимира. Поэтому обычно в сообщении видят путаницу как хронологическую, так и фактическую. Ясно, что Киевская Русь, да и Причерноморская в мусульманство не обращались. И знакомство Киева и балтийских русов с мусульманским миром осуществлялось через Волжскую Болгарию, а не Хорезм. Другое дело русы, осваивавшие Каспий. Аланы в конечном счете такой путь и проделали: сначала перешли в христианство, а затем в ислам. Весьма вероятно, что весь этот сюжет относится к какой-то группе салтовцев. Но за ним стоит представление именно о южной локализации Руси.
Таким образом, восточные источники IX-X вв. весьма сбивчиво и противоречиво, но настойчиво указывают на разные Русии - Причерноморскую, Салтовскую, Балтийскую и очень редко - Киевскую. И путь с Балтики к «Русскому» морю проходил в основном по Дону. Не случайно в среднем течении Оки, примыкающем к верховьям Дона, фиксируется наибольшее количество кладов восточных монет. (Только из поселения Борки, расположенного вблизи нынешней Рязани, в Рязанском музее имеется семь кладок арабских диргем, а по информации школьников, принесших такой клад в 1957 г., в поселке такие монеты «есть у всех».)
Некоторые сведения о Балтийской Руси будут рассмотрены ниже. Здесь же рассмотрим византийские известия того же периода, поскольку византийцы с «росами» соприкасались более непосредственно. Особый интерес в этой связи представляют те источники, в которых «росы» упоминаются ранее т. н. «призвания» варягов-руси.
Позднейшие авторы часто допускают анахронизмы. Так, византийский писатель XIV в. Никифор Григора упоминает о «русском» князе при дворе Константина Великого (IV в.)[241]. В эпоху Константина Великого «русским» князем могли титуловать кого-то из ругов или росомонов, которые перемешивались в движениях с северо-запада на юг и юго-восток и с востока на запад. Поэт XII в. Манасия называет русов в числе участников нападения под эгидой аварского кагана на Константинополь в 626 г.[242] Это сообщение кажется вполне достоверным, во-первых, потому, что примерно в это время русов упоминают и восточные авторы, во-вторых, потому, что русы названы здесь моряками в отличие от совершенно незнакомых с морским делом аваров. Правда, в других византийских источниках говорится о моряках-славянах, а не о русах.
Большего внимания, видимо, заслуживает упоминание «русов» в летописи Феофана (ум. 817). Под 773 г. в хронике говорится о том, что император Константин Копроним в поход на болгар послал 2000 хеландий, а сам на «русской» хеландии поплыл к устью Дуная[243]. Разногласия в этом случае вызываются двояким пониманием словосочетания «та роусиа»: как «красные» и как «русские». Но особой необходимости строить какие-либо выводы на этом замечании нет, поскольку русь упоминается в двух памятниках, близко стоящих к этому времени. Это жития Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, мастерски проанализированные В. Г. Васильевским[244].
Как источник особенно значительно первое, так как оно дошло в списке X в. В житии упоминается эпизод нападения руси на Амастриду (область Пафлагонии в Малой Азии). Васильевский установил, что житие было написано между 820 и 842 гг. Попытки оспорить эту датировку остаются совершенно неубедительными[245]. Но дело даже не в том, что это первая половина IX в., а в том, что речь идет о народе «хорошо известном, в высшей степени диком и грубом». «Хорошо известное» в данном случае - это традиционное представление о коренном населении Крыма - таврах. Именно тавров имел в виду и Манасия, когда он отождествил их с русами. В житии подчеркивается, что «древняя таврическая ксеноктония (принесение в жертву иностранцев, о котором писали еще древние авторы. - А.К.) остается юной»[246]. Иными словами, русы в этом памятнике рассматриваются как прямые наследники тавров.
Житие Стефана Сурожского, в котором упоминается о нападении русов на Сурож в конце VIII или начале IX вв., дошло лишь в славянском списке XV в. и краткой греческой редакции. Однако и в нем Васильевский выявляет древнюю историческую основу. Кое-что в этом плане может дать и имя предводителя русов: Бравалин. Его трудно было выдумать русскому автору, поскольку оно ничего не значит в славянских языках, как, впрочем, и в германских. Тем не менее оно имеет параллели и, видимо, объяснение на дальнем северо-западе Европы. Согласно Саксону Грамматику, в 786 г. произошла Бравалльская битва (по названию местности Бравалла) между датчанами и фризами. Имя «Бравалин» может означать либо выходца из Браваллы, либо участника этой битвы. Аналогичные имена (в том числе возникшие от топонимов) имеются в Северной Франции[247]. Бравалин, таким образом, оказывается выходцем с северо-запада. Кстати, в русских редакциях жития он и называется князем «Новгородским».
Никем не оспаривается подлинность двух посланий патриарха Фотия (860 и 867). Первое было адресовано населению Константинополя, осажденному русами. Патриарх подчеркивает «второсортность» неприятеля: «О город, царь едва не всей вселенной! Какое воинство ругается над тобою, как над рабою? Необученное и набранное из рабов... Те, которых усмиряла самая молва о ромеях, те подняли оружие противу их державы». До нападения на Константинополь это был «народ, считаемый наравне с рабами». С другой стороны, в послании имеется намек на предшествующие контакты с русами: «Эти варвары справедливо рассвирепели за умерщвление их соплеменников и справедливо требовали кары»[248].
«Окружное послание» Фотия 867 г. определенно свидетельствует о возвышении какого-то местного народа: «Народ, столь часто многими превозносимый и превосходящий все другие народы своей жестокостью и кровожадностью, т. е. россы, которые, покорив окрестные народы, возгордились и, имея о себе весьма высокое мнение, подняли оружие на Римскую державу, теперь и сами переложили нечестивое языческое суеверие на чистую и непорочную христианскую веру и, приняв епископа и пастыря, ведут себя как преданные сыны и друзья, хотя незадолго перед этим тревожили нас своими разбоями и учинили великое злодеяние»[249].
«Окружное послание» патриарха епископам - официальный документ, свидетельствующий об утверждении «русской» епархии. Эта епархия неизменно упоминается в церковных уставах византийских императоров, по крайней мере, с Льва VI (886-912), занимая 61 место в перечне[250]. Позднее она становится архиепископством. В отличие от Киевской Руси, эта «Росия» попадает в конце концов под власть Константинополя. В договоре между Византией и Генуей 1169 г. генуэзским кораблям разрешается торговать по всем владениям Византии, но для посещения Росии и Матрахи (Тмутаракани) требовалось особое разрешение[251]. Росия здесь отделена и от Тмутаракани. На основе ряда упоминаний есть основания отождествлять Росию с Боспором, т. е. городом, расположенным на территории нынешней Керчи[252].
Как известно, византийские авторы довольно последовательно называют Русь (Рос) таврами, тавроскифами, иногда скифами. Очень часто такое обозначение в литературе воспринимается как отражение только книжной традиции. Между тем сами византийцы имели в виду реальные этнические признаки. Так, у хронистов Скилицы и Кедрина в связи с событиями середины XI в. сообщается, что «на все, находящееся внутри Эвксинского понта, и на все его побережье нападал русский флот (народ же рос - скифский, живущий у северного Тавра, дикий и грубый), и на самый царствующий град навлекли они страшную опасность»[253]. Автор IX в. Никита Пафлагонский, имея в виду русь, пишет, что «скифы с северных берегов Черного моря приходят в Амастриду вести торговые дела»[254]. С. Гедеонов отметил преемственность византийской историографической традиции: под названием тавры или тавроскифы «разумеются обитатели Крымского полуострова»[255]. Это понимание в полной мере относится и к руси, отождествленной с таврами или тавроскифами во многих памятниках Х-ХII вв. При этом у упомянутого выше Манасии скифы (видимо, болгары и славяне) VII в. отличаются от «неистовых тавроскифов»[256].
Показания византийских и восточных источников столь определенны, что даже такой осторожный исследователь, как А. Н. Насонов, считал вопрос совершенно ясным. «Не подлежит сомнению, - заметил он, - что в IX в. как у византийцев, так и у арабов с представлением о «руссах» связывалось представление о Тавриде: руссов они представляли себе обитателями Тавра»[257]. Здесь можно только сделать оговорку: восточные авторы обычно смешивают причерноморскую и салтовскую «Русь», заезжая часто и в Прибалтику, а византийцы говорят почти исключительно о «таврических» русах. К выводу о существовании Руси в Крыму пришел также Д. Л. Талис, принимающий в общем мнение Березовца о ее салтовской природе. Поскольку салтовская культура погибает в начале X в., автор этим временем склонен датировать и гибель Причерноморской Руси[258]. Но такому заключению противоречит то же «Слово о полку Игореве». Поэтому выводы автора необязательны как в отношении этнической атрибуции, так и времени окончательной гибели русского этнического образования в Крыму и Тмутаракани.
Еще в XIX в. было обращено внимание на топонимы с корнем «рос» в Крыму и Приазовье. Шахматов посвятил специальное исследование встречающимся в каталонских и итальянских портоланах XIII-XVI вв. топонимам Россофар и Варанголимен[259]. Он указал и на ряд других топонимов с корнем «рос», хотя данный топоним склонен был выводить из итальянского rosso - «красный» и объяснял как «Красный маяк»[260]. Талис основательно усомнился в надежности и логичности такого объяснения, поскольку другие аналогичные топонимы, включая Варанголимен, имеют явно этническое значение[261]. Новое прочтение этим топонимам дал О. Н. Трубачев. Так, сочетание Ross Таг он объяснил из древнеиндийского (индоарийского) как «светлый берег»[262]. Автору важно подчеркнуть, что известное объяснение имени «роксаланы» как «светлые аланы» ведет в действительности не к иранскому, а к древнеиндийскому языку. Для этнической атрибуции причерноморских росов вывод чрезвычайно важный. Но в данном случае все-таки речь может идти и о «росском береге».
Как было отмечено, Масуди именовал Черное море «Русским». Так же его именуют Идриси и Димашки. «Русским» это море называет и Начальная летопись. А. В. Соловьев называет еще целый ряд источников, также именующих его «Русским». Среди них один русский (описание Константинополя архиепископом новгородским Антонием), два французских (XII-XIII вв.), еврейский (XII в.), три немецких (Еккехард, Анналист Саксон и Гельмольд)[263]. Поистине международное признание Черного моря «Русским» - важное свидетельство в пользу существования Причерноморской Руси. Название это идет не от славян. Летописец лишь один раз замечает, что море «словет Руское», но предпочитает именовать его по-гречески «Понтом». Он не понимает ни значения, ни условий возникновения имени, унаследованного вместе с именем «Русь».
А. В. Соловьев не учел еще нескольких источников, в которых упоминается «Русское море». Это упомянутые выше ирландские саги[264]. Правда, там оно называется Маге Ruad. Но это тоже обозначение «красного» цвета, как и славянское «чермный».
У восточных авторов (в частности Масуди и Идриси) упоминается также «Русская река», под которой обычно разумеют Дон с Северским Донцом[265]. В этом названии, очевидно, отражается чисто этническое начало. И называется река так либо потому, что по ее берегам проживали русы (салтовская культура), либо потому, что река служила путем, которым чаще всего пользовались русы в своих походах и передвижениях. Что же касается названия «Русское море», то оно изначально, возможно, и не связывалось с этническим определением: «красное» - значит «красивое». Так его, между прочим, могли называть переселенцы с холодного севера. И в таком случае название может принадлежать тем переселенцам, которые знали и какое-то иное море.
Таким образом, факт существования Руси в Причерноморье в VIII-X вв. не может вызывать сомнений. В сущности, сама полемика по вопросу ее существования вызывалась тем, что многие исследователи искали Русь славянскую. А. В. Гадло, в частности, пришел к отрицательному заключению именно потому, что не нашел в рассматриваемый период в Крыму и Приазовье следов славянской материальной культуры. Но это препятствие немедленно исчезает, как только делается допущение, что эта «Русь» не была славянской и что восточные авторы со знанием дела говорили о двух или трех видах «руси». Зато много вопросов возникает в связи с определением ее действительной этнической принадлежности. Решение этого вопроса в значительной степени зависит от установления времени появления этого этноса в Причерноморье, а также о характере его взаимоотношений с Русью Приднепровской и с балтийскими и дунайскими Русиями. Важно, в частности, уяснить связь росомонов IV в. с росами VIII-X вв., а также место росомонов в рамках Черняховской культуры (II—IV вв.). Необходимо учитывать возвращение части ругов и гуннов на Средний Днепр и в Северное Причерноморье после распада гуннской державы Аттилы, о чем говорит Иордан и что отмечено пальчатыми фибулами, привнесенными с Дуная на Средний Днепр и в Причерноморье, а также учитывать, что упоминаемые со II в. гунны в Причерноморье, а также держава Аттилы на Дунае - это фризы с побережья Северного моря.
По заключению А. В. Гадло, «этническая группа, обитавшая в Южном Приазовье, была носителем высокой самобытной культуры, родственной культуре всей Южно-Русской степи хазарского времени, которая опиралась на традиции древних земледельческих культур Кавказа. Конец развитию этой культуры был положен на юге Восточной Европы печенежским вторжением на рубеже IX-X вв.»[266]. Автор полагает, что «основная масса средневековых поселений возникла не в результате оживления или возрождения старых земледельческих общин, а в результате появления в Южном Приазовье нового оседлого (или полуоседлого) населения»[267]. По его мнению, этим новым населением были кочевники, родственные болгаро-гуннам. В связи с образованием Хазарского каганата, примерно с конца VII в., новое население оседает на землю, образуя вариант салтово-маяцкой культуры (ответвление зливкинской степной культуры). Однако в керамике сохраняется традиция, которая «восходит к гончарному производству древних земледельческих районов Юго-Востока»[268].
Вывод А. В. Гадло в целом, как отмечалось, поддерживает и Д. Л. Талис. Он заключает, что археологические материалы, «указывая на этническую общность населения Степного и Предгорного Крыма второй половины I тысячелетия н. э. с алано-болгарским миром Подонья и Приазовья, не дают возможности какой-либо иной этнической атрибуции степных поселений средневековой Таврики». Правда, автор оговаривается, что этот вывод «не снимает полностью возможности допущения проникновения в раннесредневековое оседлое население Крыма многочисленных и этнически разнородных групп, в том числе и славянских, которые не оставили никаких археологических следов»[269].
Выводы обоих авторов представляются убедительными. В Причерноморье VIII—IX вв. пересекаются традиции, уходящие в глубокое местное прошлое и привнесенные степью. Задача заключается в том, чтобы уточнить, с какими традициями связано население, давшее название «Росия» определенной территории в Крыму и Приазовье. Чисто количественный признак в данном случае ничего не решает, поскольку салтово-маяцкая культура была разноэтничной, а в Крым происходили «выбросы» и с северо-запада Европы (по крайней мере, со II в. н.э.). По мнению Д.Л.Талиса, «во взаимоотношениях с носителями разноэтничной салтово-маяцкой культуры славяне, как представители одноэтничной культурной области, обладали, по-видимому, весьма сильной противоассимиляционной стойкостью»[270]. Аргументация автора в данном случае неубедительна: славянство было представлено разными культурами и разными племенами (в различные периоды). После некоего биологического взрыва, когда славяне из Центральной Европы расселились по всем европейским окраинам, они скоро оказались ассимилированными на Балканах, в Малой Азии и в других районах Средиземноморья (вплоть до Северной Африки и Испании) уже в VII—VIII вв., уличи и тиверцы - в X-XI столетиях и т. д.
Автор прав лишь в том, что Росское объединение в Причерноморье не должно непосредственно связываться с приднепровскими славянами тех же столетий. Но проблема отыскания следов ругов и росомонов и вообще культуры готско-гуннского времени таким образом не снимается.
А. В. Гадло и Д. Л. Талис остановились главным образом на четырех этноопределяющих признаках, характеризующих культуру Приазовья и Крыма: керамика, тип жилища, погребальный обряд, антропологический материал. В керамике, как отмечалось, наблюдается сосуществование местных (или северокавказских) форм, изготовленных на гончарном круге и, по мнению Талиса, «лишенных каких-либо этнизирующих признаков»[271], а также форм, сходных с одновременными из Приазовья и Подонья, которым в данном случае придается этноопределяюшее значение. Следует только заметить, что если первый тип характерен для всего Причерноморья и даже Восточного Средиземноморья, то и второй распространен на территории, населенной разными в языковом и даже расовом отношении племенами.
Родство с салтовской культурой проявляется и в расположении селищ, а также жилищ и хозяйственных построек. Но расположение селищ само по себе мало что дает, поскольку они, как отметила С.А.Плетнева, «расположены в удобных для жизни местах, обжитых в течение многих веков разными народами»[272]. Что же касается жилищ, то наблюдается опять-таки сочетание местного и привнесенного. У местного оседлого населения была заимствована конструкция печи, а с населением Подонья поселения степного Крыма сближает наличие открытых очагов, характерных для кочевников (об этом свидетельствуют находки котлов с внутренними ушками)[273].
Погребальному обряду населения «росских» территорий ближе всего зливкинский вариант салтовской культуры. Речь идет о ямных погребениях со следами гробовищ, западной ориентации погребенных, положенных на спину, о бедности инвентаря. Но и здесь необходимы уточнения. Для основной салтовской территории характерны катакомбные погребения, с довольно богатым инвентарем, в частности, оружием и снаряжением боевого коня. Нередко умершего хоронили, видимо, с насильственно умерщвленной рабыней (или, как в описании Ибн Фадлана, добровольно последовавшей за господином одной из его жен или наложниц). В ямных погребениях оружия нет, а сбруя боевого коня встречается редко. Два разных типа погребений в рамках салтовской культуры, очевидно, свидетельствуют о смешанном характере ее населения. На Таврику как будто распространяется только второй вариант. Однако и за этим вариантом просматриваются местные традиции. Так, в Таврике распространен тип могил, выложенных и перекрытых каменными плитами, т. е. тип «еще античный по происхождению»[274]. Ближайшие аналогии ему находятся на северочерноморском побережье Кавказа, в Черкесии, а также на Каменском могильнике на Северском Донце, где, однако, иная ориентировка (южная).
Второму погребению салтовской культуры сопутствует преимущественно брахикранный антропологический тип. Д.Л. Талис обоснованно считает важным, что «грунтовые могильники Приазовья и Таврики объединяет также антропологический тип погребенных, почти исключительно брахикранный»[275]. Брахикрания в данном случае указывает на родство с потомками сарматского населения или болгарами или теми и другими вместе. Для этого варианта салтовских погребений характерна незначительная монголоидная примесь, которой практически нет в первом (долихокранном) варианте. Но и при сохранении брахикрании монголоидная примесь в крымских погребениях практически не отражается.
По-видимому, еще более существенно то, что брахикрания характерна для населения Западного Крыма. Антропологический же состав населения Восточного Крыма иной. «Сопоставление с краниологическими материалами из восточной части Крыма (Судак, Планерское и Керчь), - замечает Ю.Д. Беневоленская, к которой отсылает и Талис, - свидетельствует о несомненном различии физического облика населения этих районов». Это различие заключается в том, что «в смешанном населении Восточного Крыма существенное значение имеют длинноголовые варианты», хотя «представлены также и брахикефалы, типичные для западных районов Крыма»[276]. В более раннее время, в VI-VII вв., удельный вес долихокранного или мезодолихокранного населения был гораздо значительней и принадлежало оно, видимо, к досарматскому или просто несарматскому населению[277]. Существенно также, что «самая близкая к Крыму серия черепов из Мощеной балки (в низовьях Кубани) VI—VIII вв. резко отличается от всех крымских серий по форме черепа (долихокранной) и общей массивности[278].
В первом тысячелетии н. э. Крым оказался объектом нападений и вторжений самых различных этнических группировок. Наряду с массированным движением населения с востока, шел и встречный процесс. Примерно около середины III в. в Крым вторгаются отдельные племена Черняховской культуры[279]. В V-VI вв. возможны миграции населения из Придунавья[280]. В свою очередь, на р. Дюрсо под Новороссийском с III по VIII столетие существует могильник, основанный, по всей вероятности, выходцами из Крыма. Поэтому нельзя говорить о полном торжестве в населении этого района сарматского начала.
Местные традиции сами по себе также весьма сложны. Здесь выделяются элементы, относящиеся к таврической эпохе, и наслоившиеся на них затем черняховские традиции. К таврической эпохе, видимо, принадлежит та индоарийская топонимика, которую убедительно выявлял О.Н.Трубачев. Таврические элементы усматривают некоторые исследователи и в антропологическом материале[281]. Упомянутый могильник на р. Дюрсо А.В.Дмитриев сопоставляет с сообщением автора V в. о том, что в это время от Синдской гавани до Пагры жили племена, «говорящие на готском или таврском языке»[282]. Все эти данные в известной степени пересекаются с сообщениями о причерноморских росах. При этом надо иметь в виду, что готы в этом районе в целом хорошо известны под своим именем и отличались от росов. При всех перипетиях переселения народов, в Крыму и на Тамани все-таки было больше шансов сохраниться прежнему населению и древним традициям. Степнякам труднее было одолеть это население, поскольку они совершенно не знали мореходства. Да и нужны им были более всего степные просторы, а не трудоемкие области земледелия в предгорьях и на морском побережье.
Следует иметь в виду, что разные группы населения Причерноморья реально прослеживаются на протяжении целого ряда столетий. Могильник на р. Дюрсо существовал, по крайней мере, в течение пяти веков и принадлежал одному и тому же населению, несмотря на крайне беспокойное время. Готы в Крыму сохраняли свою самобытность на протяжении более тысячелетия. О готах в Крыму знал автор «Слова о полку Игореве», причем он помнил и о давней борьбе с ними каких-то предков руси. И еще в XV в. в Крыму звучала готская речь, которая была так же близка к немецкой, как фриульская к флорентийской[283].
Готская епархия в Крыму была одной из крупнейших. Однако ни археологических, ни антропологических следов готов практически не видно. Судьба соседних с готами росов, по-видимому, сходна. Если речь идет о росомонах, то в количественном отношении росы наверняка уступали ряду других местных и пришлых племен. Но с возвышением этого племени название «Росия» и «росы» (или «русы») неизбежно распространялись и на другие племена, в частности на тавроскифов, а возможно также на алано-болгар.
Судя по археологическим данным, Причерноморье и Крым испытывают в VIII—IX вв. заметный экономический подъем[284]. Можно отметить, что подъем этот совпадает по времени с возвышением в этой же области росов. Как и обычно в подобных случаях, название «росы» должно было распространиться на многие племена, попавшие под их политическое или культурное влияние. Это, в частности, и отразилось в смешении восточными авторами разных «русов».
Другая проблема заключается в определении соотношения причерноморских русов с варягами. Два вышеупомянутых топонима (Варанголимен и Россофар или Россо Тар) заставляют предполагать наличие какой-то связи (и, конечно, отличия). Связь эта могла быть порождена участием черняховцев в сложении того этноса, который предстает в источниках как «росы». Отметим, что из трех известных имен росомонов (Амий, Сар и Сунильда) одно определенно северное. Имя «Сунильда» - это прочтение распространенного имени Гунильда или Хунильда. О.Н.Трубачев указал, что название «синды» соответствует индоарийскому произношению, где сохраняется «с», тогда как в иранском оно заменялось на «х» (отсюда «хинди»)[285]. В данном случае возможна и обратная замена, свидетельствующая, может быть, о контактах пришельцев с северо-запада именно с потомками местного индоарийского (а не иранского) населения. Вопрос же о том, кем были эти пришельцы в этническом отношении, целесообразно отложить до рассмотрения этнической ситуации на северо-западе Европы.
Причерноморская Русь как особое образование, видимо, исчезает с вторжением печенегов в конце IX или начале X в. «Наплыв» русов на востоке в это время может являться реакцией на резко ухудшившиеся возможности в самом Причерноморье. А с середины X в. на территории, принадлежавшие причерноморским росам, стали претендовать киевские князья. Пока отметим этот факт. Объяснение же ему будет предложено ниже.
Примечания:
174. Эверс Г. Предварительные критические исследования для российской истории (перевод с немецкого издания, вышедшего в 1814 г.). Кн. 2. - М., 1826. С. 213-225.
175. Автор и сам сформулировал свое понимание «разных видов» лишь в статье «Росский каганат» и остров русов» в упомянутой книге «Славяне и Русь: Проблемы и идеи».
176. Брим В.А. Происхождение термина «Русь» // Россия и Запад. Вып. 1. - Пг., 1923.
177. Томсен В. Указ. соч. С. 35.
178. Миханскова В.А. Николай Яковлевич Марр. - М.-Л., 1948. С. 276.
179. Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI IX вв. // Древнерусское государство и его международное значение. - М., 1965; Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. - М., 1967
180. Березовець Д.Т. Про iм'я носiiв салтiвськоi культури // Археологiя. Т. XXIV. Киiв. 1970.
181. Лебедев Г.С. Этнографические сведения арабских авторов о славянах и руси // Из истории феодальной России. - Л., 1978. Автор видит доказательство «норманства» русов даже в замечании о их неопрятности, умывании «посредством самой грязной воды». По его мнению,- «способ омовения, когда несколько человек пользуются одной лоханью, чужд славянской бытовой культуре, несомненно германского происхождения» (С. 23). Но у Ибн Фадлана нет речи об общей лохани. И вообще, о той ли «чистоте» идет речь? Этот способ аргументации весьма напоминает доводы старых норманистов: русы любили мыться в бане, норманны - тоже. Следовательно русы - норманны.
182. Березовець Д.Т. Указ. соч. С. 65-66.
183. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 373.
184. Там же. С. 374.
185. Там же. С. 383.
186. Там же. С. 384-385.
187. Там же. С. 397-398.
188. Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. - М., 1882. С. 399.
189. Гаркави А. Крымский полуостров до монгольского нашествия в арабской литературе // Труды 4-го археол. съезда. Казань, 1891. С. 242; Насонов А.Н. Тмутаракань в истории Восточной Европы X века // ИЗ. Ч. 6. М., 1940. С. 81-82.
190. Березовець Д.Т. Указ. соч. С. 69-70.
191. Лебедев Г.С. Этнографические сведения... С. 23-24.
192. Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1. - М., 1908. С. 648; Kretschmer К. Historische Geographie von Mitteleuropa. - Munchen und Berlin, 1904. S. 123.
193. Гельмольд. Указ. соч. С. 100 и 237.
194. MGH SS. Т. III. Hannoverae, 1839 Р. 523 Ср.: Soloviev A.V. «Reges» et «Regnum Russiae» au Moyen Age // Byzantion. Т. XXXVI. Bruxelles, 1966. P. 146. Титул chacanus Nortmannorum упоминается в послании Людовика II от 871 г. греческому императору Василию, причем разъясняется, что этот титул приравнивается к королевскому. Адам Бременский и Гельмольд отмечали, что из всех славян только руяне имели короля. Маgistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. - Hannoverae et Lipsiae, 1917. P. 245; Гельмольд. Указ. соч. С. 38. Но титула «каган» не знали ни руяне, ни скандинавы.
195. Рыбаков Б.А. Русские земли на карте Идриси 1154 г. // КСИИМК. Т. XLIII. М., 1952. Подборка упоминаний «Руссии-тюрк» на Дону дана в статье Д.Т. Березовца «Об имени носителей салтовской культуры» (Археолопя. Сборник. Т. XXIV. Кшв, 1970. С. 67).
196. Гуревич Ф.Д. Скандинавская колония на территории древних пруссов // СС. Вып. XXIII. Таллин, 1978. С. 171.
197. Лебедев Г.С. Погребальный обряд скандинавов эпохи викингов. Автореф... дис... канд. наук. - Л., 1972. С. 15-16 и др. работы автора.
198. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 411-414; Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 101-104.
199. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 417-418; Быковский СЛ. К вопросу о трех древнейших центрах Руси // Труды Вятского педагогического института. Вып. VI. 1928; МонгайтА.Л. К вопросу о трех центрах Древней Руси // КСИИМК. Вып. XVI. М., 1947. В районе Оки или Верхнего Поволжья помещали «третий центр» также А.А.Шахматов, Д.Щеглов, В.В.Бартольд, П.П.Смирнов.
200. Wilinbachow W.B. Przyczynek do zagadnienia trzech osrodkow dawnej Rusi // Materialy Zachodnio-Pomorskie. Т. VII. - Szczecin, 1961.
201. HrbekJ. Der dritte Stamm der Rus nach arabischen Quellen // Archiv Orientalni. Vol. 25. - Praha, 1957.
202. Пархоменко В.А. Три центра древнейшей Руси // ИОРЯС. Т. XVIII. Кн. 2. 1913; Соболевский АЛ. «Третье» русское племя // Доклады АН СССР. 1929. (Автор имел в виду Крым).
203. Березовець Д.Т. Указ. соч. С. 72.
204. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 411.
205. Там же. С. 412.
206. Там же. С. 413.
207. Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 103.
208. Иордан. Указ. соч. С. 91. См. там же коммент. Е.Ч. Скржинской. С. 279-280.
209. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР. - М.-Л., 1941. С. 84, 166; ее же. Имя «рус» в сирийском источнике VI в. // Академику Б.Д. Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952.
210. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 362-363.
211. Там же. С. 391.
212. Там же. С. 401.
213. Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 79-80.
214. Там же. С. 80.
215. Там же. С. 79.
216. Magistri Adam... «Usque hodie Turci, qui prope Ruzzos sunt, ita vivunt, et reliqui Scithiae populi». «Вплоть до нынешнего времени турки, которые являются собственно русами, там живут, и остатки скифских народов». Мнение о том, что «комментатор» - сам Адам, явно несостоятельно: слишком часто проявляется полное несовпадение комментариев с основным текстом.
217. Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 152-153; Ср.: Турчанинов Г.Ф. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы. - Л., 1971. С. 96-97. Автор доказывает, что отмеченные особенности были свойственны древнеосетинскому и сирийско-несторианскому письму.
218. Никольский Н.К. К вопросу о русских письменах, упоминаемых в «Житии Константина Философа» // ИОРЯС. Т. 1. Кн. 1. Л., 1928; Лавров ПА. Евангелие и псалтирь, «роусьскыми» (роушкими) писмены писаны, в «Житии Константина Философа» // Там же; Истрин В А. Возникновение и развитие письма. - М., 1965. С. 452-456.
219. Низами Гянджеви. Искандер-Намэ. Ч. 1. - Баку, 1940. С. 312: «Русские бойцы из аланов и арков». У Низами это - конный народ.
220. Толстое С.П. Из предыстории Руси // СЭ. Сб. VI-VII. М.-Л., 1947. С. 40.
221. Завитневич В. Происхождение и первоначальная история имени Русь // Отт. из Трудов Киевской духовной академии, 1892, № 11. С. 25. Ср.: MGH SS Т. III. Р. 331.
222. Завитневич В. Указ. соч. С. 31-36.
223. Хвольсон Д. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-али Ахмед бек Омар Ибн-Дзета. - СПб., 1869. С. 166; ГаркавиАЯ. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). - СПб., 1870. С. 130. Ср.: Вестберг Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе // ЖМНП. Новая серия. Ч. 13 № 2 СПб., 1908. С. 389.
224. Минорский В.Ф. Куда ездили древние русы? // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. - М., 1964. С. 25.
225. Ковалевский АЛ. Славяне и их соседи в первой половине X в. по данным аль- Масуди // Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений. - М., 1973.
226. Калинина Т.М. Ал-Масуди о расселении русов // Восточная Европа в древности и Средневековье. - М., 1978 С 21
227. ЛЛ. С. 30.
228. Бартольд В.В. Соч. Т. И, - М 1963 С. 829-830.
229. Якубовский АЯ. Ибн Мпскавейх о походе русских на Бердаа в 332 г. // ВВ Т. XXIV. Л., 1926. С. 69; Бартольд В.В Указ. соч. С. 844-845; БейлисВМ. Народы Восточной Европы в кратком описании Муттахара ал-Макдиси (X в.) // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. II. - М., 1969.
230. Бартольд В.В. Указ. соч. С. 847.
231. Бейлис В.М. Народы Восточной Европы... С. 309.
232. Артамонов МЛ. Воевода Свенельд // Культура Древней Руси. - М., 1966. См. также: Половой НЯ. К вопросу о первом походе Игоря против Византии // ВВ Т. XVIII. М., 1961.
233. Кузьмин А.Г. Начальные этапы С 108-109, 266-268, 332-333. По договору Игорь обязуется в любое время предоставлять войска для защиты Корсуня. Русам запрещается зимовать в Белобережье и на устье Днепра (ЛЛ. С. 49-50).
234. Коковцев В.В. Еврейско-хазарская переписка в X в. - Л., 1932; Бартольд В.В. Указ. соч. С. 827-828. Норманисты имя «царя» обычно читают как «Хельги», сближая со шведским «святой», от какового производятся и имена Олега и Ольги. Но, как разъяснила на симпозиуме в Кирове шведская исследовательница Л. Грот, имя «Хельге» могло появиться в Швеции не ранее конца XI-XII вв., когда в Швеции распространяется христианство (Грот Л. Указ. соч. С. 153).
235. Пархоменко В. К вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни летописного Олега// ИОРЯС. Т. XIX. Кн. 1. - СПб 1914.
236. НПЛ. С. 108-109. О дате см.: Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 104.
237. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. - М., 1990. С. 62.
238. Там же. С. 76.
239. ЭССЯ. С. 256-257.
240. Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 146-147; Бейлис В.М. К оценке сведений арабских авторов о религии древних славян и русов // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. III. - М., 1974. С. 85-87.
241. Тебеньков М.М. Происхождение Руси. - Тифлис, 1894. С. 68.
242. Там же. С. 68-69. Ср.: Гедеонов С. Отрывки... СПб., 1862. С. 55-57.
243. Тебеньков М.М. Указ. соч. С. 71.
244. Васильевский В.Г. Русско-византийские исследования. Вып. II. Жития св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. - СПб., 1893; его же. Труды. Т. III. - СПб., 1915.
245. Липшиц Е.Э. О походе руси на Византию ранее 842 года // ИЗ. Ч. 26. М.-Л., 1948; Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. - М., 1956. С. 45-55.
246. Васильевский В.Г. Труды. Т. III. С. 64, CXXXIX. Ср.: Гедеонов С. Отрывки... С. 60-61; Насонов А.Н. Тмутаракань... С. 80-81.
247. Dozat A. Dictionnaere etymologique des noms famille et prenoms de Franse, 1951. P. 66: Breval, Breville; Reaney P.H. The Origin of englisch surnames. - London, 1967. P. 151: Rawlin - бретонское имя.
248. Ловягин E. Две беседы святейшего патриарха константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на Константинополь // Христианское чтение, 1882, сентябрь-октябрь. С. 426, 431 и далее. Ср.: Гедеонов С. Отрывки... С. 70-73.
249. Голубинский Е. История русской церкви. Т. I. Ч. 1. - М., 1880. С. 32; Левченко М.В. Указ. соч. С. 77.
250. Иловайский Д.И. Разыскания... С. 243. В конце XI в. появилась митрополия «Новая Росия», которую отождествляют либо с Черниговом, либо с городом в Причерноморье (Ср.: Поппэ А.В. Русские митрополии Константинопольской патриархии в XI столетии // ВВ. Т. XXVIII. М., 1968. С. 98-102). По логике возникновения имени его следовало бы помещать в Причерноморье, где находилась и «старая» Росия. Географ Равеннский упоминает где-то в Крыму город «Малоросса» (Гедеонов С. Отрывки... С. 59).
251. Насонов А.Н. Тмутаракань... С. 97.
252. Талис Д.Л. Росы в Крыму // СА, 1974, № 3. С. 88. См. также: Рыбаков Б А. Русские земли... С. 19-20 (отождествление России с Корчевым - Керчью). Столица Боспора - Пантикапей (назывался в раннем средневековье Боспором) находилась как раз на территории Керчи (гора Митридат).
253. Левченко М.В. Указ. соч. С. 53. Ср.: Гедеонов С. Отрывки... С. 53-54.
254. Левченко М.В. Указ. соч. С. 58.
255. едеонов С. Отрывки... С. 54.
256. Там же. С. 56.
257. Насонов А.Н. Тмутаракань... С. 80.
258. Талис Д.Л. Указ. соч. С. 98. См. также с. 91: «В соответствии с греческими и арабскими письменными источниками и данными топонимики можно утверждать, что не позднее во всяком случае первой половины X в. в Западной и Восточной Таврике, а также в Северном и Восточном Приазовье обитал многочисленный и известный своим соседям народ, который византийские авторы называли росы, тавроскифы, скифы или тавры, а арабские писатели - русы». Неточность заключается в том, что это были (часто смешанные) два разных этноса.
259. Шахматов А.А. Варанголимен и Россофар // Историко-литературный сборник. Посвящается В.И.Срезневскому (1891-1916 гг.). - Л., 1924.
260. Там же. С. 131.
261. Талис Д.Л. Указ. соч. С. 97.
262. Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства: Индо- арийцы в Северном Причерноморье // ВЯ, 1977, № 6. С. 27. С этим объяснением хорошо согласуется славянское «Белобережьс» (на что и указывает автор). Но Белобережье располагалось в низовьях Днепра.
263. SolovievA.V. Mare Russiae// Die Welt der Slaven. J. IV. H. 2. - Wiesbaden, 1959.
264. Lehmacher G. Goedel Glasse // ZCPH В. XIII. Halle, 1921. S. 156; Hull V. The Milesian Invasion of Ireland//Ibid В 19 Halle, 1931. S. 156.
265. Рыбаков Б.А. Русские земли... С. 20-21; Березовець Д.Т. Указ. соч. С. 67.
266. Гадло А.В. Южное Приазовье в период Хазарского каганата. (Проблема Приазовской Руси и современные археологические данные о Южном Приазовье VIII-X вв.). Автореф... дне... канд. наук. - Л., 1969. С. 14 (Обзор литературы и материалов по проблеме см.: Гадло А.В. Проблема Приазовской Руси как тема русской историографии. (История идеи) // Сб. РИО. Т. 4 (152). От Тмуторокани до Тамани. - М., 2002).
267. Гадло А.В. Южное Приазовье.. С 8
268. Там же. С. 10.
269. Талис Д.Л. Указ. соч. С. 96.
270. Там же. С. 97.
271. Там же. С. 95.
272. Плетнева С.А. От кочевий к городам - М., 1967. С. 19.
273. Гадло А.В. Южное Приазовье... С. 8; Талис Д.Л. Указ. соч. С. 94. Напомним,'что культ котла сохранялся у кимвров севера Ютландского полуострова и в начале н. э.
274. Якобсон АЛ. Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики // МИА, № 168. Л., 1978. С. 140.
275. Талис ДЛ. Указ. соч. С. 96.
276. Беневоленская ЮД. Антропологические материалы из средневековых могильников Юго-Западного Крыма // МИА № 168. С. 203-208.
277. Соколова К.Ф. Антропологические материалы из средневековых могильников Крыма // История и археология средневекового Крыма. - М, 1958. С. 63-70; Зиневич Т.П. Антропологические материалы средневековых могильников Юго-Западного Крыма, - Киев, 1977 С. 135.
278. Беневоленская ЮД. Указ. соч. С. 206.
279. Кропоткин Б.В. Черняховская культура и Северное Причерноморье // Проблемы советской археологии. - М., 1978. Автор отмечает, что и после падения Черняховской культуры «отдельные небольшие группы Черняховского населения сохраняются в Юго-Западном Крыму, на Керченском полуострове и в Нижнем Подунавье» (С. 163).
280. Амброз А.К. Дунайские элементы в раннесредневековой культуре Крыма // КСИА. Вып. 113. М., 1968. С. 20-23;Айбабин А.И. Погребения второй половины V - первой половины VI в. в Крыму // То же. Вып. 158. М., 1979.
281. Соколова К.Ф. Указ. соч. С. 70. Автор видит потомков населения поздней скифской поры в мезодолихокефалах северной окраины нагорья.
282. Дмитриев А.В. Могильник эпохи переселения народов на реке Дюрсо // КСИА. Вып. 158. С. 56.
283. Барбаро и Контарини о России / Подг. текста Б.Ч. Скржинской. - Л., 1971 С. 131, 157.
284. Якобсон АЛ. Указ. соч. С. 193.
285. Трубачев О.Н. О синдах и их языке // ВЯ, 1976, № 4. С. 44, 55.
Глава вторая. Сведения о Балтийской Руси
Несмотря на исключительную важность вопроса о Балтийской Руси как для норманистов, так и антинорманистов, он остается, пожалуй, наименее изученным во всем комплексе проблем, связанных с образованием древнерусского государства. И это несмотря на то, что уже в первой половине XIX в. был выявлен широкий круг источников, в которых упоминается Балтийская (Варяжская) Русь[286]. Очень многие авторы так или иначе должны были оценивать «попутно» встречные указания на эту «Русь». Но чаще всего такие сведения заносятся в разряд «сомнительных», объявляются ошибками переписчиков и т. п. В таком отношении к этим сведениям отчасти «повинен» С. Гедеонов. В его концепции «Русь» - это только южное, приднепровское образование, противостоящее «варягам» - первоначально балтийским славянам. Даже в тех случаях, когда он наталкивался на источники о Балтийской Руси, он говорил о них в подстрочнике с явным недоумением. Позднейший же спор норманистов и антинорманистов свелся к альтернативе: Скандинавия или Приднепровье. А при такой постановке вопроса Балтийская Русь явно мешала и той, и другой стороне. Норманистов сведения о ней не устраивали потому, что подрывалось представление о тождестве «Руси» и «Швеции», а антинорманистов потому, что необходимо было учитывать наличие еще какой-то Руси в Прибалтике. Достаточно сказать, что проблема эта не нашла никакого отражения в специальных исследованиях И. П. Шаскольского, посвященных вроде бы критике современных норманистских представлений. Не учитывал ее и коллективный труд, посвященный советской историографии Киевской Руси[287]. В нем, в частности, вообще не упомянуто обсуждение этого вопроса в 1970— 71 гг. в журнале «Вопросы истории» польским ученым Г. Ловмяньским и автором настоящей работы[288].
О том, что остров Рюген (Ругия) назывался «Русью» (Рутенией), писали многие авторы, в том числе и в советское время[289]. Расхождения в упомянутом обсуждении касались лишь оценки этого факта. Г. Ловмяньский полагал, что название не выходит за пределы острова и что оно своеобразный «мираж»: смешение ругов с русами по случайному созвучию. Ряд источников, говорящих о Руси на Балтике, он отвел как поздние или сомнительные. Поэтому необходимо рассмотреть их в целостном виде.
Известно, что «Русь» имеет в источниках разные обозначения. В латинской традиции, сохраняющейся и в средневековой литературе, преобладает написание Rutenia или Ruthenia. В собственно германских источниках это чаще всего Rugia со множеством вариантов, собранных и непонятых одним из наиболее активных современных норманистов А. В. Назаренко, недоумевающим по поводу постоянной взаимозамены написаний Rugia-Russia[290]. В византийских и восточных источниках, как указано выше, преобладают написания «Росия» и «Русия». Встречается оно и в западной средневековой литературе (в частности, в итальянских и английских источниках). При этом имеются в виду и разные «Русии», и разные значения этнонима. В иранских языках, как сказано, этноним связывался с «белым» цветом, символизировавшим социально привилегированное положение. Смысл многочисленных вариантов обозначения (тоже многочисленных) «Русий» в Европе в значительной мере объясняется обычными латинскими характеристиками галльского племени рутенов: «Russus Rutheni» и «Flavi Rutheni» - «красные» (или красноватые) и «златокудрые» (опять-таки с красноватым оттенком) рутены. А в кельтском это тоже один из синонимов красного цвета. Лиудпранд прямо связывал этноним «русы» в византийском понимании с обозначением внешнего вида. (См. об этом выше.)
В славянских языках это тоже один из вариантов обозначения желто-красного цвета. Наименование ругов - ружане или руйаны - имеет то же значение, что и месяца сентября «рюен» - желто-красный. Как «коричнево-желтый» осмысливался и эпитет «русый». Все эти варианты можно найти в настольном для историков и филологов словаре И.И.Срезневского («Материалы для словаря древнерусского языка»), а также в сербо-хорватских словарях. И задача заключается не в том, чтобы понять, почему такой разнобой в произнесении гласных и согласных (носовые, зубные и гортанные звуки различно произносились даже в соседних деревнях), а в том, чтобы понять смысл именно цветового обозначения этноса. О «белом» цвете выше говорилось. «Красный» цвет символизировал могущество, и выражалось это, как правило, в ритуальном раскрашивании, что, как увидим, также встречается в источниках, позволяя в ряде случаев различать «красных» и «белых» русов. Не объяснено значение «синего» цвета, в который красились, по сообщению Юлия Цезаря, бритты. Может быть, с целью нагнать страх на неприятеля.
Разные обозначения этнонима ценны в источниковедческом плане. Они часто помогают определить место или условия возникновения источника, а также пути распространения самого этноса.
Римские авторы имели некоторое (хотя и смутное) представление о Прибалтике. Ценно указание на то, что после завоевания Галлии римлянами ряд галльских племен ушли: венеты из Бретани полностью, погрузившись на суда, видимо, к своим дальним родственникам - венетам балтийским, рутены (ранее пришедшие с севера), видимо, к местам прежнего обитания. В ходе массовых переселений связи юга и севера были нарушены, и после Великого переселения народов их приходилось как бы открывать заново.
В раннее Средневековье на юге жили легендарные или полулегендарные представления, занесенные разноплеменными выходцами с севера в связи с римской политикой найма «варваров» в качестве воинов и «федератов», прикрывающих римские владения от других варваров. Эти представления нашли отражение у авторов IV-VI вв., в частности, у Иордана и его византииских современников. С VIII в. начинается продвижение к Прибалтике франкских королей и императоров. Прибалтика попадает в поле зрения франкских и затем германских хронистов. Ряд сочинений посвящается христианизации прибалтийских славян. С конца VIII в. начинаются и грабительские набеги на континент «норманнов» - как называли выходцев (разноэтничных!) из прибрежных районов севера на континенте в Германии. Именно в этом контексте прозвучит известие, вошедшее в состав Вертинских анналов (835-861) епископа г. Труа Пруденция. В 839 г. к франкскому императору Людовику Благочестивому (814-840) явились послы византийского императора Феофила (829-842). Посольство было торжественно принято 18 мая в Ингельгейме. В составе византийского посольства оказались и представители народа «рос»: «Послал он с ними также неких (людей), которые говорили, что их, то есть их народ зовут Рос (Rhos), и которых, как они говорили, царь их, по имени Хакан (Chac'anus), отправил к нему (Феофилу) ради дружбы. В помянутом письме (Феофил) просил, чтобы император милостиво дал им возможность воротиться (в свою страну) и охрану по всей империи, так как пути, какими они прибыли к нему в Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных и диких племен, и он желал бы, чтобы они, возвращаясь по ним, не подвергались опасности. Тщательно расследовав причину их прибытия, император узнал, что они принадлежали к народности свеонской (eos gentis esse Sueonum); считая их разведчиками по тому царству (Византии) и нашему, чем искателями дружбы, (Людовик) решил задержать их у себя, чтобы можно было достоверно выяснить, с добрыми ли намерениями они пришли туда или нет; и он поспешил сообщить Феофилу через помянутых послов и письмом также и о том, что он их из любви к нему охотно принял; и если они (росы) окажутся людьми вполне благожелательными, а также представится возможность им безопасно вернуться на родину, то они будут (туда) отправлены с охраной; в противном случае они с (особо) посланными будут направлены к его особе (к императору Феофилу), с тем, чтобы он сам решил, что с таковыми сделать»[291].
Естественно, что цитированный текст стал предметом самого оживленного обсуждения в полемике норманистов и антинорманистов. И для тех и для других он дает весомый материал: норманисты выводят отсюда тезис о тождестве росов и свеонов, а антинорманисты доказательство существования в первой половине IX в. Росского каганата. В числе сравнительно недавних работ можно выделить исследования А. Н. Сахарова и А. В. Рязановского[292].
А спор начался с самого зарождения норманизма, поскольку германское «норманны» воспринималось не просто как «северные люди», а как именно северные германцы. Ощутимый удар по норманистской интерпретации записи нанес уже Г. Эверс. Он указал на то, что титул кагана никогда не употреблялся в Швеции и что франки шведов хорошо знали, поскольку незадолго до посольства Феофила (именно в 829 г.) шведы просили у Людовика Благочестивого миссионеров для проповеди христианства[293]. Примерно в том же направлении шли разъяснения С. Гедеонова[294]. С. Гедеонов сопоставил известие 839 г. с упоминавшейся выше репликой Людовика II от 871 г. о титуле «каган» у норманнов, указав на их тесную связь.
В известии 839 г. есть и еще несколько моментов, осложняющих его интерпретацию. Самое этническое название «свеоны» исторически не совпадало с названием «свевы». В начале н. э. первые жили «в сердце моря», а свевы обитали еще на континенте. Но позднее оба эти названия как бы сливаются под пером немецких авторов и воспринимаются как идентичные. В данном случае неясно, знал ли Пруденций о их различии. Главное же заключается в том, что росы и свеоны не столько отождествляются, сколько противопоставляются. Людовик Благочестивый явно не поверил представителям народа «рос», заподозрив в них обыкновенных лазутчиков. И, конечно, особое опасение его вызывали возможные лазутчики норманнов, сотрясавших в это время прибрежные города империи. И если со свеями-шведами у империи отношения были вполне доверительными, то с собственно норманнами - «урманами» русской летописи, т. е. норвежцами, такой близости не было. Подозрение могло питаться и тем, что в числе «норманнов» особую активность в это время проявляли жившие здесь с давних пор аланы. Именно вождь аланов Роллон, считавший себя потомком Роллона, приведшего во II в. алан с Дона в северные пределы Франции, обретет «прародину» в начале X в., переселившись туда из Норвегии. Тогда подозрения императора будут вообще оправданы. Но о росах и Росском каганате в Ингельгейме, похоже, не знали. И искать его, конечно, следовало не в Киеве, традиционно связанном с Подунавьем, а на том пути, который еще и Гельмольд в XII в. считал балтийским «поясом», соединяющим Балтику с Черным морем, то есть донским вариантом пути «из варяг в греки».
Сама логика исторического процесса заставляет искать «Росский каганат» где-то по соседству с Хазарией, поскольку именно тюркоязычные хазары претендовали на господство в Восточной Европе, поднимая титул своих правителей на уровень византийских и римских цесарей. Тот же титул у кого-то из соседей уже сам по себе предполагает конфронтацию: «каган» не может быть в подчинении у кого-либо. В.В.Седов предположил, что «Русский каганат» - это славянская волынцевская культура на левобережье Днепра[295]. Но, как отмечалось выше, восточные источники называют «русами» чаще всего именно население салтово-маяцкой культуры, что верно отметил Д. Т. Березовец (неправомерно перенося эту культуру и на Средний Днепр) и обосновала на более широком материале Е. С. Галкина.
Свидетельство 871 г. - ответ византийскому императору Василию I Македонянину Людовика Немецкого (843-876), сына Людовика, встречавшего в 839 г. послов Росского каганата и заподозрившего, что это норманны. И это своеобразная поправка: «Каганом мы называем государя авар, а не хазар или норманнов»[296]. Зачем пришлось объясняться по поводу давних событий - остается не вполне ясным: письмо Василия I до нас не дошло. А судя по несколько раздраженному тону, византийский император упрекал коллегу в нарушении этикета: присвоении титула «Римского императора» (у Константинополя было больше прав на такой титул). Василий прислал Людовику роспись титулов, как она представлялась Константинополю, и, судя по всему, осудил высокомерное отношение к послам кагана росов со стороны Людовика I. Правда, Василий как будто «каганом» признавал только правителя хазар, возможно, учитывая факт реальной зависимости алан-росов от Хазарии. Само вторжение в Причерноморские степи тюркских или смешанных угро-тюркских народов (социальная верхушка мадьяр была тюркской), похоже, угрожало не хазарам, а их конкурентам - в данном случае как раз «асам и касогам», а также продвинувшимся на восток славянам.
Норманисты, пожалуй, правы в том, что Росский каганат нужно искать на севере. Только не у «норманнов», пришедших во II в. с Дона и готовившихся отвоевать на севере Франции свою «прародину». Но предводитель алан из Норвегии Роллон, считавший себя потомком Роллона II в., претендовал лишь на титул «герцога», а «каганы» у его предков могли появиться не ранее VIII в., когда более высокая, нежели хазарская, культура алан-росов должна была защищать себя от искавших дани восточных пришельцев. Византия традиционно лавировала и сталкивала племена и народы, в данном случае хазар и разные «Руси». А громили оседлое население Подонья явно не хазары. В свое время М.В.Левченко высказал мнение, что «народом, помешавшим возвращению русских послов, могли быть только мадьяры, которые в это время уже проникли в южнорусские степи и в своем движении на запад пересекли Днепр»[297]. Но это мнение само строится лишь на известии 839 г., исходя из предположения, что кто-то перерезал путь, ведущий с низовий Днепра именно к Киеву. Исходя из представления об одной-единственной Руси, это мнение разделяли и специалисты по истории Венгрии[298].
В первой половине IX в. мадьяры находились на территории некой «Леведии», номинально признавая власть хазар. Территория Леведии пока не выявлена. Но, судя по достоверно мадьярской археологической находке, теперешний Воронеж входил в нее[299]. Очевидно, по соседству с салтовцами и обосновались пришельцы из Предуралья. С 60-х гг. IX в. начинаются набеги венгров на Центральную Европу, а в самом конце столетия, теснимые печенегами, они переселяются на Средний Дунай. Русский летописец сообщает, что угры прошли мимо Киева на запад, похоже, без каких-либо столкновений с местным населением. Указанная дата - 6406 г. - предполагает болгарский источник и соответственно 894 г. н. э.[300] Иными словами, летопись дает точную дату движения угров из Подонья на Средний Дунай мимо Киева, поскольку именно к этому времени источники относят их переселение[301]. И многие авторы поэтому помещают «Росский каганат» севернее Подонья, на Верхней Волге или еще северней[302]. Но «Русь» в Поволжье источниками не зафиксирована. В Прибалтике же таковая имелась (и не одна).
Из письма Василия Македонянина вытекало, что титул «кагана» могли присваивать себе князья аваров, хазар, болгар и какого-то северного народа. Норманисты полагают, что в недошедшем письме «северной» называлась именно «Русь». С. Гедеонов согласился с тем, что имелась в виду «Русь», но называлась она, как это часто встречалось в греческих источниках, «северные скифы»[303]. Поскольку Скандинавия и норманны в средневековой литературе часто называются «скифами» или «северными скифами» (что само по себе весьма показательно), то и «норманнов-росов» следует искать в негерманской этнической среде.
От IX в. имеется еще несколько источников, в которых упоминается, правда, очень глухо какая-то «Русь». Географ Равеннский, с которым связывается определенная традиция VIII—IX вв., помещает в Прибалтике роксалан, сваров и савроматов, причем через земли этих народов протекают Вистула (Висла) и Лутта (очевидно, Одер, откуда и название племени «лютичи», равно как и ободриты). Этнонимы эти могли восходить и к традиции, поскольку земли по Висле и Одеру к этому времени были освоены славянами и большинство племен (хотя и не все) были ассимилированы ими. Но особое внимание должны привлечь роксаланы, поскольку именно этот этноним обычно связывается с аланами-росами. Географ Баварский (также традиция IX в.) дает довольно обстоятельное описание соседей Германской империи. Упоминается у него и Русь (Ruzzi). Но имеются в виду соседи хазар, что опять-таки ведет к донскому варианту пути из Балтики в Черное море. Целый ряд этнонимов, в которых корень «рос» входит вторым компонентом, вообще не поддается определению. В «Песне англосаксонского путника», относящейся, возможно, и к более раннему времени (П. Шафарик датировал ее VIII в.), в Прибалтике упомянуты варины, викинги, венеды, англы, даны, свевы, саксы и руги[304].
О ругах имеется и еще одно свидетельство, дошедшее в памятниках XI столетия, но указывающее на 844 г. В этом году Людовик II Немецкий провел карательную экспедицию против балтийских славян, входивших в ободритский союз. В Корвейском монастыре в этой связи сохранилась, как полагают, подложная грамота о крещении ран-руйан-ругов, признании своим патроном почитавшегося в монастыре святого Витта. После этого якобы раны вернулись в язычество и сделали из святого Витта бога Святовита[305]. Но, может быть, и не все в этом сообщении от легенды. Во всяком случае, Корвейский монастырь играл совершенно особую роль в жизни прибалтийских славян, вендов и ранов-ругов, что проявляется хотя бы в том, что, как будет показано ниже, именно в его зоне находится более всего параллелей для неславянских имен дружин Олега и Игоря. У Гельмольда дается в разных местах как бы два варианта предания, но по существу речь идет о разных аспектах одной легенды. Корвейский монастырь возник в Амьене первоначально в 622 г. Ровно два столетия спустя, при Людовике Благочестивом, в Саксонии на реке Везер выходцами из этого монастыря была основана Новая Корвея. А миссионеры отправились уже при Людовике Немецком.
Название «Рутения» или «Руссия», как отмечалось, чаще всего выступает дериватом названия «Ругия». Название «Ругия» являлось здесь традиционным, со времен римских авторов. Видимо, у саксов это название произносилось как «Руйана», хотя, как отмечалось, в названии звучит славянское определение красно-желтого обозначения цвета (месяц «рюен» - сентябрь). Во всяком случае, есть указание на то, что «руйанами» жителей острова называли «тевтоны», а «ранами» - славяне. Гельмольд же неоднократно поясняет, что «раны» и «ругиане» - это одно и то же[306]. Форма «руйане» могла появиться из-за того, что в германском языке и латинском алфавите нет звука «ж» и его обозначения. А этот звук совершенно естественно мог появиться на месте «г» в языке каких-то соседей руйан-ругиан-ружан.
В литературе постоянно привлекает внимание документ, относящийся к 904 г.: так называемый Раффелыптеттенский устав. В «уставе», содержащем таможенные правила, говорится о купцах, приходящих в города Верхнего Дуная, из Чехии и «Ругии». «Ругские» купцы торгуют воском, рабами и конями. Традиционно преобладало мнение, что речь идет о купцах из Киевской Руси[307]. Действительно, источники свидетельствуют о существовании торгового пути из Регенсбурга через Прагу на Краков. Из Кракова же нетрудно было попасть в Киевскую Русь и еще проще по Висле спуститься к Варяжскому морю. Еще ближе был путь к этому морю через Прагу по реке Одер непосредственно к Ругии. Но Е. Цёльнером предложено и еще одно, более естественное объяснение, что речь идет о подунайских ругах, давних переселенцах из Прибалтики[308]. С Цёльнером согласились видный ученый ГДР Й. Херрман[309] и некоторые другие авторы. Эту версию пытался «опротестовать» в ряде публикаций А.В.Назаренко[310]. В его интерпретации, «стержневая идея... состоит в сопоставлении «ругов» со славянским населением древнего Ругиланда, т. е. территории, которую в V в. н. э. в течение примерно тридцати лет населяло восточногерманское племя ругов. Земли ругов располагались к северу от Дуная... (несколько выше Вены по Дунаю). Государство ругов было разгромлено Одоакром в 80-е г. V в.»[311]. А в сборнике «Древняя Русь в свете зарубежных источников» (М., 2001) Одоакр, сокрушивший в 476 г. Римскую империю, в указателе объявлен даже «римским полководцем».
В источниках его этническую принадлежность определяют различно: король торкилингов, скирр, герул с острова Рюген, руг, но нет ни одного, где бы его числили римлянином. И на Руси о нем помнили и в XVII в., почитая даже и Богдана Хмельницкого его потомком[312].
И, конечно, руги в Подунавье пробыли не 30 лет. Они появились здесь в качестве федератов Римской империи, по крайней мере, с начала IV в. (первое упоминание 307 г.). А тысячелетие спустя чешская Хроника Далимила назовет и просветителя славян Мефодия «русином». Но об этом обстоятельнее в другом месте. Другой вопрос - поддерживались ли связи подунайских русов с прибалтийскими в эпоху составления Раффелынтеттенского устава. О тесных контактах с дунайскими ругами-русами прямо говорит «Повесть временных лет», выводя из Норика и Иллирика и славян, и русь. И в это время язык их не различался ни на Днепре, ни на юге Прибалтики, ни на Дунае.
Чередование «Ругия» - «Руссия» (или их отождествление) проходит через все германские источники X в. Так, в документе 946 г. Балтийское море называется Mare Rugianorum[313]. Целый ряд современных событиям источников рассказывает о крещении княгини руссов или ругов Елены (имя Ольги в крещении) и миссии на Русь Адальберта в 961-962 гг.[314] В 968 г. Адальберт стал главой вновь утвержденного Магдебургского архиепископства, созданного для проведения христианизации балтийских славян, в связи с чем напоминается о его миссии «к ругам»[315]. Годом раньше, в 967 г. (или, по другой эре, в 973?), папа Иоанн специальной буллой запретил богослужение на «русском или славянском языке»[316]. Здесь речь явно идет о подунайских русах, и параллелью может служить примерно к тому же времени относящееся пояснение летописца, вводившего «Сказание о славянской грамоте»: «А словеньскый язык и рускый одно есть»[317].
Следует подчеркнуть, что в X в. в Империи очень хорошо знали балтийских ругов-русов, поскольку они помогали Оттону I (основатель Священной Римской империи и император 962-973 гг.) в борьбе против восставших славянских племен[318]. Именно благодаря помощи со стороны этого племени было подавлено восстание континентальных славянских племен, причем, как сообщается в одном документе, были покорены все племена, жившие у моря «против Руси»[319].
Все эти события приходились на 954-960 гг. Покорение славянских племен сопровождалось утверждением здесь епархий и христианизацией населения. Миссия Адальберта, очевидно, направлялась в Киев. Но будучи во главе Магдебургского архиепископства, основанного для христианизации балтийских славян, он должен был пытаться «просветить» и ругов. Судя по дальнейшим событиям, такая попытка кончилась неудачей. И это само по себе должно было привести к разрыву союза Империи с ругами-русами балтийскими. Отчасти и этим обстоятельством может объясняться факт запрещения богослужения на «русском» языке. («Русское письмо» на языке римских пап обычно означало приверженность христианских общин к арианству.)
Г. Ловмяньский, рассматривая вопрос о замене в источниках «ругов» и «руссов», пришел к заключению, что это происходит довольно поздно и внезапно: именно в житиях Оттона Бамбергского (XII в.)[320]. Смешение это он объясняет случайными причинами и полагает, что для постановки вопроса о Поморской Руси заслуживают внимания «только два источника»: сообщение Ибн Якуба (X в.) и запись Рагевина, продолжателя Оттона Фрейзингенского (ум. 1177). В обоих известиях он предполагает путаницу[321].
Пренебрежительное отношение к большому числу источников в данном случае отдает гиперкритицизмом, а потому согласиться с ним невозможно. Ведь обоснования требует не только привлечение, но и отвержение источника. А этого автор не делает. Он считает существенным, что королевой «ругов» киевскую княгиню именуют только продолжатель Регинона и восходящие к нему Анналист Саксон и Магдебургские анналы, тогда как другие источники «передают имя Руси, а не Ругии»[322]. Но ведь «Русь» могли называть «Ругией», очевидно, потому, что «Ругию» могли называть «Русью». Кстати, в это время Балтийскую Ругию в Германии знали, конечно, лучше, чем Киевскую Русь.
Испанский иудей Ибрагим ибн Якуб посетил Империю в 965 г., видимо, с дипломатическим поручением. Его резиденцией был Мерзебург, и он непосредственно познакомился со славянскими землями. Донесение Ибн Якуба дошло в составе компиляции ал-Бекри (XI в.). Автор стремился к точности описания. Единственное будто бы фантастическое (а на самом деле, как сказано выше, вполне обоснованное) свидетельство о «городе амазонок» - постоянный сюжет германской хронографии - дано со ссылкой на самого императора Оттона. По сообщению Ибн Якуба, «граничат с Мшкой (польским князем Мешко. - А.К.) на востоке русы и на севере брусы. Жилища брусов у окружающего моря... И производят на них набеги русы на кораблях с запада»[323]. Г. Ловмяньский предположил, что Ибн Якуб вместо «с востока» написал «с запада», но такого рода ошибка невероятна для географического сочинения, где страны света являются ориентирами. К тому же на кораблях русы могли нападать на пруссов только со стороны моря, т. е. именно с запада. «Русы» Ибн Якуба - «островитяне», живущие недалеко от Волжской Болгарии, могущественные на морях, достигающие через «рукав моря Окиануса» Испании. Речь, следовательно, должна идти не о путанице, а о представлении, согласно которому и Русь Киевская (граничившая с Польшей на Востоке) и Русь Балтийская воспринимались как части одного этнического (и даже этнополитического) образования. Весьма вероятно, что и это представление он позаимствовал от своих германских информаторов.
В середине X в. подобные представления достигали и Византии. Выше рассматривалось упоминание Константином Багрянородным Руси «ближней» и «дальней». В связи с нападением Руси на Константинополь в 941 (или 944) г. три автора: Феофан, Продолжатель Георгия Амартола и Симеон Магистр - поясняют, что росы - это «дромиты», происходящие «от рода франков»[324]. «Дромиты» в данном случае означают, видимо, непоседливый, кочующий, переселяющийся народ. «Франками» же может обозначаться население, так или иначе зависимое от преемников бывшей Франкской империи. Скандинавия в этом случае исключается. Зато Балтийское Поморье частично вошло в состав Франкской империи еще при Карле Великом («Правда англов и варинов», данная императором), а в X в. активно осваивалось имперской властью и христианской церковью. Показательно, что в славянском переводе Хроники Георгия Амартола в данном случае дается «от рода варяжска»[325].
Таким образом, помимо Ибн Якуба, «Русь» и «Ругию» смешивают и германские, и византийские авторы, причем и те и другие отождествляют Русь Киевскую и Русь Балтийскую. В этой связи могут быть рассмотрены сведения и еще одного автора той поры: столь почитаемого норманистами Лиудпранда. Лиудпранд, родом лангобард, отразил представления, характерные для Италии. Его отец был свидетелем нападения русов на Константинополь, и он сам побывал в этом городе в 949 г., т. е. сравнительно скоро после событий. Ок. 958 г. им была написана история, в которой он коснулся рассматриваемых событий.
Весьма любопытно, что в Северной Италии франки отождествлялись с венетами. В свою очередь в Южной Италии это название распространялось и на лангобардов[326]. Относительно русов он говорит, что «это северный народ, который греки по внешнему виду (a qualitate corporis) называют русами (rusios), а мы по их местоположению нордманнами»[327]. Свидетельство, безусловно, указывает на связь русов с севером, но, конечно, не говорит о тождестве их со скандинавами. Даже в германских источниках балтийские славяне включались иногда в число норманских народов[328]. Для Италии же, как и для Византии, «север» начинался сразу за Дунаем.
«Ругия», конечно, числилась в ряду «норманских» стран. В хронике Гельмольда сообщается, что в связи с переходом Любека в руки Генриха Льва (ок. 1158) герцог отправил послов «в города и северные государства - Данию, Швецию, Норвегию и Русь - предлагая им мир, чтобы они имели свободный проезд к его городу Любеку»[329]. «Русь» и «Ругия» в источниках в этой связи снова смешиваются[330]. Но, во-первых, «Русь» мыслится как государство «северное», наряду с Данией, Швецией и Норвегией, северной, очевидно, по отношении к земле вагров, в которой протекала деятельность Гельмольда или же по отношению к Германии в целом. Во-вторых, «Русь» Гельмольда, «северная» Русь совершенно четко отделена от Швеции и других скандинавских государств. Несколько позднее, в аналогичном привилее Любеку Фридриха I от 1187 г. названы «рутени, готы и норманны»[331]. В данном случае несущественно, кого конкретно называет источник «рутенами». Важно, что этноним снова идет в ряду северных народов и отличается от готов и норманнов.
Смешение Руси южной и северной - прибалтийской, наблюдается у проживавшего в Италии еврейского автора X в. Иосиппона (Иосифа бен Гориона). С одной стороны, русы у него живут где-то у Каспийского моря, а с другой - они соседи англов и саксов и проживают по «великому морю» - «Океану»[332]. Сам автор, видимо, не обращает внимания на противоречие и никак его не объясняет. Но для восточных авторов, как отмечалось, вообще «Океан» и его залив - Балтийское море, мыслились в непосредственной близости от Булгара и вообще поволжских и прикаспийских областей. Именно Иосиппон дал повод для смешения разных Русий - русов-алан и русов, рассеянных по Западной Европе и утвердившихся в Среднем Поднепровье. Именно он отнес алан к потомкам тюрок, видимо, смутившись титула правителя росов-алан - «каган». А на побережье и островах Балтийского моря оказались и те, и другие русы.
В сущности, только один документ, говорящий о событиях X в. и упоминающий «Русь» в составе Империи, может быть поставлен под сомнение: это т. н. «устав» турниров в Магдебурге, приписываемый Генриху I Птицелову (919-936)[333]. Магдебургские грамоты из собрания Мельхиора Гольдаста (впервые опубликовавшего «устав») заподозрены как подложные[334]. Но подложность в такого рода документах обычно не касается основного содержания (указаний титулов, в частности), которое только и представляет интерес в данном случае. Просто Магдебург мог присвоить грамоту, адресованную какому-то другому городу. Поэтому упоминание в «уставе» феодальных владетелей Империи Велемира, «князя русского», Радеботто, «герцога русского» и Венеслава, «князя ругского» не может вызывать подозрений. Даже для того чтобы их придумать, нужно было иметь представление о какой-то смежной с Империей Русией.
«Русь» в Прибалтике упоминается в ряде документов, относящихся к самому концу X - началу XI вв. Один из них - это т. н. «Дагоме юдекс», документ, относящийся к 990-992 гг. и известный в списках XI-XII вв.[335] В документе идет речь о пожаловании неким Дагоме и Отой с сыновьями папе Иоанну XV территории, именуемой Шигнезе. Что-то в нем, видимо, не так: говорится о пожаловании одного места, а очерчивается территория всей Польши. «Русь» сначала упоминается как конкретное место «Руссе», а затем сказано о ее границах, простирающихся вплоть до Кракова. Документ привлекался в качестве возможного источника, касающеюся «Неманской Руси»[336]. Но если «граница Руси» в данном случае не ошибка (вместо «от границ Руси»), то вблизи Кракова может быть локализована Прикарпатская Русь. Дальнейшие границы до «Алемура» (Олоомуц?) и «Милски», очевидно, относятся к Польскому государству.
Другой документ - это «Житие Адальберта», погибшего в 997 г. в Пруссии, написанное около 1004 г. Бруноном. «Житие» также известно уже в списках XII в. Адальберт-Войтех прибыл в Пруссию со стороны Гданьска, т. е. со стороны моря и вскоре был убит язычниками. В некоторых списках убийцами называются «рутены»[337]. И вообще в тексте «Жития» часто вместо «Пруссия» значится «Руссия» и т. п.[338] Брунон, как и Адальберт, достаточно хорошо знал славянский мир. В 1008 г. он непосредственно побывал в Киевской Руси, и с ним связана одна из легенд о ее крещении. А в 1009 г. он разделил участь Адальберта, погибнув где-то на границе Пруссии и Руси[339].0 какой Руси идет речь во всех этих записях - сказать трудно. Но обращает на себя внимание легкость, с какой переписчики готовы были поместить Русь в окружении балтского мира.
Ряд упоминаний Балтийской Руси (или Балтийских Русий) имеется у Адама Бременского и его комментатора, относящихся ко времени около 1075 г. Так, перечисляя балтийские острова, Адам называет заселенную славянами Фембру, «тот, которым владеют раны (руги, руны)», а также «третий остров, называемый Семланд, смежный с русью и поляками, населенный сембами и пруссами, отличающимися человеколюбием»[340]. Семланд - это Самбия, полуостров (в районе нынешнего Калининграда), принятый хронистом за остров. Если с запада к нему подходят польские пределы, то Русь могла граничить с ним у низовий Немана.
Комментатор имел больше познаний о норманнах и русах. Выше упоминалось его много разъясняющее обозначение одной из Русий - «Русия-тюрк». Это, очевидно, часть донских «русов-тюрк», о которых писал в XII в. Идриси. Комментатор является единственным западноевропейским автором, прямо указывающим на разные и по языку и по культуре «Руссии» на Балтике. В ряде добавлений он упоминает «Русь» в связи с событиями главным образом в германоязычных землях. В одном из них сказано о том, что польский король Болеслав в союзе с Оттоном III (ум. 1002) подчинил всю Славонию, Руссию и Пруссию[341]. «Славония» - это либо Западное Поморье[342], либо вся территория балтийских славян. Руссия здесь занимает область между Славонией и Пруссией. Конечно, это не Киевская Русь, к этому времени достигшая вершин своего могущества при Владимире. Зато наивысший успех Болеслава в Поморье приходится как раз на период около 1000 г. Уже через несколько лет Поморье снова отпадет: лютичи выступают на стороне Империи, Волин возвращает независимость, ликвидируется епископство в Колобжеге. Соседняя с
Пруссией «Руссия» могла находиться у устья Немана, но могла иметься в виду и тоже неясная «Руссия» из «Дагоме юдекс».
К началу XI в. относятся события, связанные с более западной Балтийской Русью, нашедшие отражение в целом ряде источников. По сообщению Адама Бременского, «брат Адельрада Эмунд, доблестный муж, в угоду победителю был умерщвлен ядом; его сыновья были осуждены на изгнание в Русь»[343]. Эмунд - это Эдмунд Железнобокий, английский король (ум. 1016). Этельред II - старший его брат, также англосаксонский король (979-1014). Победителем их явился датский предводитель Кнут Великий (ум. 1035), ставший с 1016 г. английским, а с 1018 г. также и датским королем. Кнут объединил под своей властью большую часть Северной Европы, в том числе и земли балтийских славян (мать его происходила из рода ободритских князей), хотя зависимость их была скорее номинальной, чем реальной.
Примечательно, что различные источники говорят об изгнании сыновей Эдмунда с теми или иными разночтениями, свидетельствующими о их независимости друг от друга. Довольно обстоятельно они были рассмотрены М.П. Алексеевым и вновь опубликованы В. И. Матузовой[344]. Один источник - это комментарий к т.н. «Законам Эдуарда Исповедника», якобы утвержденным Вильгельмом Завоевателем в 1070 г. Комментарий имеется в разных списках этих законов, а также в «Хронике» Роджера из Ховедена (ум. 1201). В комментарии сказано, что «у этого вышеназванного Эдмунда был некий сын, которого звали Эдуард; он по смерти отца, страшась короля Канута, бежал из этой земли в землю ругов, которую мы называем Руссией. Король этой земли, по имени Малесклод, когда услышал и понял, кто он, с честью принял его»[345]. В разночтениях земля ругов называется «королевством ругов», которое «лучше назвать» (или «мы предпочитаем назвать») «Руссией». Имя короля у Роджера «Малескольд», у нормандского хрониста Гильома Жюмьежского (вт. пол. XII в.) «Юлиусклодиус», у Ордерика Виталия (ум. 1143) - «Юлиус Клодиус».
В приведенном тексте представляют интерес два момента. Во-первых, это прямое отождествление Ругии и Русии (независимо от того, имеется в виду Балтийская или же Киевская Русь), представление о том, что это одно и то же различно записываемое на бумаге наименование. Второй момент - имя короля ругов-русов. М.П.Алексеев стремился доказать, что речь идет о Ярославе Мудром. Автор сопоставляет clodus и sclavus, предполагая ошибку фонетического порядка[346]. Но компонент clod довольно широко представлен в западноевропейской антропонимии. И он имеет простую и ясную этимологию: по-кельтски это означает «славный» В кельтских именах хорошо известен и первый компонент Mai. Значение его - «князь, дворянин»[347]. Значение имени в целом, следовательно, «славный князь». И если возможно сближать это имя с именем Ярослава, то лишь в качестве осмысления, кальки. А это должно было бы предполагать хорошее знание славянского и кельтского языков. Неудивительно, что кельтское имя Малесклод переосмысливалось поД пером авторов, не понимавших кельтских языков, на латинский манер[348].
Сопоставление имени Малесклода и Ярослава навеяно, как и многое другое, представлением об одной-единственной Руси. Между тем сам М.П.Алексеев привел данные, свидетельствующие о том, что имеется в виду именно Ругия - Балтийская Русь. В стихотворной хронике Жеффрея Геймара (между 1135-1140) дается еще один вариант (или аспект) событий начала XI в. Король Кнут, подстрекаемый женой Эммой, приказал отравить сыновей Эдмунда Железнобокого. Их воспитатель датчанин Вальгар «не стал медлить: он оставил свою землю трем сыновьям; лишь с тремя кораблями пустился он в море, всего за пять дней проехал Руссию и завершил свое путешествие, прибыв в Венгерскую землю»[349].
Любопытно, что в старшем списке хроники называется не «Руссия», а «Сусия». В такой замене обычно видят ошибку переписчика[350]. Но славянское племя «сусов» было известно источникам, и оно было знакомо под таким именем как раз авторам XII в., в частности Гельмольду[351]. «Земля сусов» - это либо часть Вагрии, либо другое ее название[352]. Это область, непосредственно примыкающая к Дании, откуда начиналось путешествие беглецов. Ошибка, следовательно, свидетельствует об определенном знакомстве автора или переписчика с реальным положением на южном побережье Балтики. И, конечно, как это следует из всего повествования, речь идет о Балтийской Руси, в рамках которой, возможно (по крайней мере, в данном конкретном случае), мыслится и Сусия. Киевскую Русь за 5 дней, конечно, не проехать (не говоря уже о том, что она и не по пути в Венгрию). От устья Одера до Новгорода при попутном ветре путь занимал, по сообщению Адама Бременского, две недели. Из Сконии (южная часть Швеции) до Бирки датские мореходы доходили за пять дней. Пять дней требовалось и для того, чтобы из Бирки попасть на «Русь»[353]. Речь идет, видимо, о Руссии-тюрк - Роталии, Аланской Руси у восточного побережья Балтики.
Г. Ловмяньский, признавая в целом достоверность приведенных известий, считает все-таки, что речь идет о Киевской Руси, а не о Ругии, ибо «Ругия не была соответствующим местом ссылки королевичей, как маленький островок... и слишком близкий к Дании»[354]. Но такая интерпретация противоречит и буквальному чтению источников, и существу отраженных в них событий. Что же касается удельного веса Ругии, то о значительности его можно судить хотя бы по тому, что, как это отметили Адам Бременский и Гельмольд, лишь раны-руги из всех славян имели правителей, титуловавшихся «королями». Руги брали дань со многих балтийских (славянских и неславянских) племен, и их территория, судя по источникам, не ограничивалась островом Рюген. При всех частных расхождениях и разночтениях рассмотренная группа источников настойчиво указывает на Балтийскую Ругию-Русь.
Комментатор Адама Бременского еще несколько раз упоминает «Русь», причем в одних случаях разумеется Ругия, в других Роталия или собственно Киевская Русь. В отдельных случаях без дополнительных данных вообще невозможно определить, о какой «Руси» идет речь. Так, в одном источнике отмечается, что «Кнут отдал в жены свою сестру Эстредь за сына короля Руссии»[355]. А. В. Назаренко сочинил целый роман о женитьбе на Эстредь сына Ярослава Ильи, упомянутого во вводных статьях Новгородской 1 летописи, составленных в середине XV в., и совершенно неизвестного предшествующему новгородскому летописанию[356]. При этом автору пришлось завысить возраст Ярослава даже по сравнению со всеми летописями, которые определяли возраст князя под 1016 г. большинство в 28 лет, а Ипатьевский список и софийско-новгородские летописи - в 18. В условиях борьбы с полоцкими князьями, потомками старшего сына Владимира Изяслава, князю «добавили» десяток лет, и в статье-эпитафии под 1054 г. определили его возраст в 76 лет. Таким образом, князь становился старше даже и неправедного брака своего отца Владимира и Рогнеды, который в той же летописи (и в киевской, и в новгородской интерпретации) овладел гордой княжной, не желавшей «розути робичича» в 980 г. А Ярослав был далеко не первым сыном Рогнеды. Из четырех сыновей он значился третьим. А кроме того, у него были и сестры, упоминаемые в летописях. А работу А. Г. Рохлина, основательно обследовавшего останки князя и установившего, что князь был моложе указанного в итоговой статье возраста, автор, похоже, не заметил[357]. Главное же - автор, кроме «норманской» Киевской Руси, никакие иные не видит. А многомужней Эстредь надо было успеть до 1019 или даже до 1016 гг., когда сам Ярослав, нанимая в Швеции сначала против отца, а затем против братьев варягов-свеев, женится на дочери шведского конунга Олава Ингигерд - матери всех шести внесенных в собственно летописный текст сыновей Ярослава и дочерей, которым князь подыскивал женихов за пределами Киевской Руси. А у Эстредь мужья менялись с быстротой, за которой хронисты едва успевали, и все они были из соседних с Данией и Англией (королем которых был Кнут в 1016-1035 гг.) земель. Тесные связи король поддерживал, в частности, с герцогами нормандскими, искал опору и среди своих родичей по матери (ободритов), на которых к этому времени уже распространялось имя «Руси», и, может быть, именно при нем возникнет стойкий интерес датских королей и епископов к Руси-Роталии. И, конечно, это сообщение должно быть рассмотрено в контексте изложенных выше сведений о Поморской Руси, которую можно было проехать лишь за пять дней.
Сообщение о «сыне русского короля», за которого была выдана Эстредь, имеется только в комментарии и, по существу, противоречит основному тексту хроники, где фейерверком проходят нормандские мужья Эстредь. Киевского князя Ярослава комментатор тоже знал. Он, в частности, сообщил о том, что «Гаральд, возвращаясь из Греции, взял в жены дочь короля Руссии Герцлефа»[358]. Написание Gerzlef обычно для германской передачи имени Ярослава. Гаральд возвращался из Греции после 1042 г. Женой его стала дочь Ярослава Елизавета, известная сагам и под этим именем, и под именем Эллисив.
Любопытно замечание комментатора о «Руссии, называемой варварами Дании Острогардом», а также «Хунигардом», поскольку там некогда обитали гуны[359]. Как отмечено выше, «гуннами» в западных источниках именовали фризов, неоднократно выселявшихся с побережья Северного моря (и том числе во II в. в Причерноморье), а в конце VIII в. в большинстве ушедших от франков на восток, рассеявшись по Волго-Балтийскому пути. Известно, что в сагах Русь именуют «Гарды» или «Гардарики», видимо, имея в виду сказочное представление о цветущих землях или путях за серебром и иными ценностями. (Современное норвежское «gard» - усадьба, дом с участком земли, в прошлом также замок, крепость. Примерно то же значение и в кельтских языках.) В данном же случае название «Острогард» как бы должно отличить «Руссию» восточную от рядом лежащей. «Острогард Русии» назван и при исчислении расстояний (в днях пути)[360]. И речь может идти как раз о Роталии и «островной земле» - «Острове русов» восточных источников, буквальным переводом которого является постоянно упоминаемая в сагах «Holmgarda», иногда по созвучию переносимого и на «Новгород».
Отсутствие специальных оговорок у большинства авторов XI-XII вв., упоминающих «Русь», затрудняет правильное их понимание, приводит к постоянному смешению разных Русий и в литературе. Это видно, на примере интерпретации рассказа Штаденских анналов под 1112 г. Согласно рассказу, дочь штаденского графа Ода, выданная за русского князя, вынуждена была после его смерти бежать со своим сыном Вартиславом в Саксонию. Затем Вартислав был призван на княжение «в Русь»[361]. А. В. Соловьев предположил, что под «Вартиславом» следует разуметь Ростислава Владимировича (ум. 1065)[362]. В.Т. Пашуто видел в нем Святослава Ярославича (ум. 1076)[363]. Между тем этот факт находит объяснение без каких-либо натяжек в истории Поморья как раз в указанный анналами период. Имя «Вартислав» отсутствует в киевском именослове. Но оно неоднократно встречается в Прибалтике (видимо, в связи с рекой Варта). Именно с Вартиславом связывается крещение части Поморья во втором десятилетии XII в. Этот Вартислав был, видимо, сыном Святобора - ставленника польского короля Болеслава III в Поморье, изгнанного поморянами[364]. Скитания Вартислава являются, таким образом, следствием неудач его отца. Название «Русь» в зтом случае, очевидно, предполагает либо какую-то часть Поморья, либо вообще славян-вендов.
Крещение Поморья в 1124-1125 гг. Оттоном Бамбергским нашло отражение в трех его жизнеописаниях, наибольшей полнотой из которых отличаются биографии Эбона и Герборда. Эбон писал в 1151-1152, Герборд в 1158-1159 гг. Помимо своих предшественников, Герборд использовал сведения, сообщенные участниками миссии Зефридом и Тимо, что делает его описание наиболее насыщенным фактами.
Как и многие другие авторы X-XII вв., Эбон и Герборд неизменно порождают недоумение у специалистов, называя «Рутенией» и Восточную - Киевскую Русь, и Балтийскую Ругию[365]. Но, как и в других аналогичных случаях, путаница, очевидно, отражает реальное положение или же представление об этом положении. Герборд прямо говорит о том, что «Рутения» непосредственно примыкает к Дании и должна находиться (с точки зрения римской церкви) во власти датского архиепископа[366].
Миссионеры получили у щетинцев «многие» сведения «о происхождении племени рутенов». К сожалению, эти ценнейшие сведения Герборд не пересказал. Остается лишь предполагать, что балтийские рутены придавали большое значение своей этнической генеалогии, большее, чем как будто единоверные и единоязычные с ними поморские славяне. Очевидно, они отличали также свою генеалогию от родословной соседних племен, в том числе и славянских. Может быть, отражением «рассказов» этих рутенов являются некоторые легенды, распространенные в литературе рассматриваемой эпохи, в частности легенда об основании г. Волина (Юмны, Юлина) Юлием Цезарем[367]. Некоторые иные предания будут затронуты ниже.
После принятия щетинцами крещения рутены долгое время беспокоили их своими нападениями, добиваясь возвращения в язычество. Естественно, что рутены не могли бы проводить свои операции против щетинцев, если бы расположенные в устье Одера острова Волин (с г. Волином) и Узедом не были бы их своеобразным тылом.
О «земле варваров, которые называются рутенами», говорит и Эбон. Рассказывает он и о войне между рутенами и щетинцами. Особый же интерес представляет его дополнительное свидетельство, определенным образом характеризующее племя. Оттон, согласно Эбону, пытался обратить в христианство и рутенов. Однако рутены предупреждали, что если епископ или его люди приблизятся к «границам Рутении» с целью проповеди христианства, им будут «отрублены головы» и (очевидно тела их) будут выброшены на растерзание зверям[368]. Здесь интересно и упоминание «границ Рутении», и мотив «отрубания голов», если только это не обычная преувеличенная угроза.
Реальная путаница у авторов житий начинается лишь тогда, когда они касаются сюжетов, связанных с Киевской или Галицкой Русью. В этой связи показателен следующий текст Герборда: «С одной стороны на Польшу нападали чехи, мораване, угры, с другой - дикий и жестокий народ рутенов, которые, опираясь на помощь флавов, пруссов, поморян, очень долго сопротивлялись польскому оружию, но после многих понесенных поражений принуждены были, вместе со своим князем, просить мира. Мир был скреплен браком Болеслава с дочерью русского князя, но не надолго...»[369]. Обычно вспоминают о том, что за Болеслава была выдана дочь Святополка Сбыслава, и связывают весь рассказ с русско-польскими отношениями. Между тем «дикий и жестокий народ рутенов» - это, конечно, раны-руги, которые очень часто в борьбе с польскими князьями и церковью имели на своей стороне всех язычников балтийского побережья. Здесь, очевидно, надо искать и загадочных «флавов», которых отождествляют с половцами, только исходя из убеждения, что речь идет о Руси Киевской. И ответ, можно сказать, лежит на поверхности: традиционные «руссус рутены» и «флави рутены» - все три варианта означают одно и то же: красные, красноватые, желто-красные - обозначение культового цвета.
Балтийское Поморье на протяжении ряда столетий рассматривалось как вотчина и Рима, и Империи, и датского архиепископства, и польских князей. По сообщению Оттона Фрейзингенского (ум. 1158), в 1135 г. германский император Лотарь III, получив с Болеслава за 12 лет дань, передал польскому князю в лен «поморян и ругов»[370]. Однако вопреки настойчивым утверждениям польских хронистов о подчинении «Ругии» или «Руссии», борьба продолжалась с переменным успехом. Продолжатель Оттона Фрейзингенского - Рагевин (ум. 1177) поместил «рутенов» за пределами Польши, «на севере» от нее. Он ограничил польские земли с запада Одером, с востока Вислой, а с севера «рутенами и морем Скифским»[371]. Помимо островов, сюда, видимо, входили и какие-то территории Западного Поморья, поскольку поморян специально хронист не выделяет.
Против язычников - балтийских славян - в 1147 г. императором Конрадом III был организован специальный крестовый поход. О нем сообщают многие хроники. Гельмольд подробно описывает не слишком успешные действия крестоносцев против ободритов и лютичей[372]. Магдебургские анналы (вт. пол. XII в.) дают перечень состава огромного войска, отправившегося против «язычников севера»[373]. Возможно, вне связи с этим походом брат «польского герцога» «пошел с бесчисленным войском против пруссов, жесточайших варваров, и долго там пробыл. Против них же и рутены, хотя и не католики, но, по произволению Бога, называющиеся христианами, выступили с огромным войском». Неясно, как соотносятся выступления этих двух войсковых соединений. Дело в том, что вторгаться в Пруссию восточные русы могли либо через территорию Польши, либо через земли литовских племен. Непосредственно с пруссами соприкасались русы неманские. Но в данном случае речь, видимо, идет о союзниках польского князя, поскольку это рутены-христиане. Ими могли быть, например, дружины полоцких или галицких князей. Правда, «огромного войска» эти княжества выставить не могли, и в летописях никаких следов участия русских воинов в походе против пруссов нет[374].
В 1168 г. столица Ругии Аркона была взята датчанами. Территория Балтийского Поморья оказалась во власти либо немецких, либо датских феодалов. Но какие-то группы балтийских рутенов еще продолжали сохранять самостоятельность. Выше говорилось о Неманской Руси. На ее существование обращали внимание и антинорманисты и норманисты[375]. Какие-то сведения об этой Руси, возможно, связаны с миграцией ранов с завоеванного острова: некогда плотно заселенный остров вскоре опустел и к началу XV в. славянская речь там совсем угасла.
Значительное количество сведений о рутенах содержит хроника Петра Дюсбургского, датируемая 1326 г. В этой хронике, в частности, сообщается о прибытии рутенов в земли скаловитов за 9 лет до прихода рыцарей Тевтонского ордена, т. е. в 1221 г.[376] Это могли быть как раз рюгенские рутены. Но не исключена и еще одна возможность. Примерно тогда же вендам, жившим по реке Виндаве, пришлось уступить свои давние территории литовскому племени куршей[377]. А эти венды тоже, по-видимому, назывались «рутенами». Во всяком случае, примерно на этой территории локализует рутенов Саксон Грамматик. Упоминают их здесь и некоторые другие источники.
Сведения о рутенах у Саксона Грамматика довольно многочисленны и нуждаются в специальном исследовании, тем более что он приводил данные, относящиеся к разным «рутенам»: именно на восточном побережье Балтики пересекались пути рутенов, пришедших с запада и с востока. Автор писал в конце XII - начале XIII вв. Но «рутены» представлены у него в той части, которая основана на устных преданиях и отражает события VIII-IX вв.
Непосредственно Саксона интересовала именно «Русия-тюрк», как ее определял комментатор Адама Бременского. После овладения в 1168 г. Рюгеном датская экспансия устремилась далее на восток, к Рутении со столицей в Ротале, и Саксон Грамматик оказался современником и почти очевидцем происходящего. И как всегда военным мероприятиям предшествовало и сопутствовало изучение потенциального противника и намеченной жертвы. Как отмечено выше, норманисты рутенов восточного побережья Балтики пытаются представить колониями норманнов-шведов. Саксон четко отличает рутенов и от датчан, и от шведов, в частности, по обряду погребения. При этом погребальный обряд рутенов в целом соответствует описаниям восточных авторов: умершего хоронят с конем под курганом. В хронике Саксона дается довольно значительный перечень и рутенских имен, которые будут рассмотрены ниже. Сводка этих данных имеется уже у Карамзина, который принял их просто за легенды[378]. Конечно, легендарного в такого рода документах много. Но не больше, чем в других скандинавских сагах.
Саксон говорил о рутенах в области позднейшей Ливонии применительно к сравнительно отдаленному прошлому. Но, приводя услышанные предания, он, очевидно, не предполагал, что локализация Рутении по восточному побережью Балтики может вызвать у кого-то недоумения. И у него были вполне достаточные основания верить в это. В 1188 г. папа Климент утвердил епископство в г. Икскюль, расположенном на Двине недалеко от позднее возникшей Риги. Папа уточнял, что город находится «в Рутении». В 1224 г. папа Гонорий III говорит о ливонских епископах, «надежно обосновавшихся в Руссии»[379]. В той же хронике Петра Дюсбургского «земля Руссия» помещается между Неманом (Мемелем) и Мазовией[380]. В этнографическом введении «Повести временных лет» в числе данников Руси называются «литва, зимигола, корсь, нерома, либь»[381]. Дань с приморских племен корси и ливов брали явно не киевские князья. Это могли быть рутены из Роталии. Но и полоцкие князья позднее претендовали на устье Двины, может быть в качестве наследников каких-то рутенов: ведь Рогволод пришел в Полоцк из-за моря. Позднее именно в Понеманье зародилась легенда о происхождении Рюрика в 14-м колене от Пруса - брата Августа. Видимо, о чем-то подобном рассказывали рутены и миссионерам, пришедшим с Оттоном Бамбергским. Но у них могли сохраняться и более глубокие предания.
Отмеченное выше свидетельство Герборда указывает, по крайней мере, на два обстоятельства: во-первых, у рутенов более чем у других поморских племен поддерживался культ происхождения, генеалогии, во-вторых, они, очевидно, считали себя не автохтонным, а пришлым населением. Привязывание преданий венедских племен к Риму начала Империи не случайно. В этот период устанавливаются определенные контакты Рима с северной частью Европейского континента. Так, по сообщению Страбона, кимвры обратились к Августу, «прося императора о дружбе и забвении прошлых проступков». После того «как просьба их была удовлетворена, они вернулись назад», т. е. на побережье океана в Ютландию[382]. Римское же посольство «в страну янтаря» состоялось как раз во времена правления Нерона (54-68) - последнего отпрыска (по женской линии) потомства Августа и рода Юлиев. Посольство было направлено неким Юлианом - управителем театра гладиаторов Нерона. Посланец осмотрел в стране янтаря побережье и торг и привез такое количество весьма ценившегося в Средиземноморье материала, что из него сделали сеть, окаймлявшую нижнюю часть театра, а один из цельных кусков янтаря достигал 30 фунтов[383].
Должно заметить, что в самом Риме в середине I в. родство с Цезарями (Гай Юлий Цезарь и Гай Юлий Цезарь Октавиан - Август), как сообщает Тацит, «почиталось превыше всего»[384]. Род Юлиев вел себя от Энея, судьба которого в преданиях о Троянской войне оказалась аналогичной участи Атенора или Палемона - вождей венетов. В этой связи, очевидно, не случайно в Прибалтике у венедов распространяется своеобразный культ Юлия Августа и отнюдь не респектабельного Нерона. Судя по итогам, римский посланник был встречен в Прибалтике с большим почетом. И едва ли не главным основанием для столь благожелательной встречи явилось родство генеалогий. В сущности, в средневековых генеалогических преданиях на I в. переместилось то, что относилось к эпохе Троянской войны.
С адриатическими венетами у Рима поддерживались традиционно дружественные отношения. Такие отношения должны были распространяться и на балтийских венедов, если они воспринимались в качестве ветви той же этнической среды. Но с юга в Прибалтику направлялось неоднородное население, в числе которого венеды были лишь одним из племен. Примерно такая же ситуация складывалась и в районе Северной Адриатики, где взаимодействовали собственно венетские и иллирийские племена. Этим может объясняться и выделение как бы двух ступеней генеалогической лестницы.
Примечательно, что в связи с традицией сведений о разных балтийских «Русиях» находится параллель уникальному обращению автора «Слова о полку Игореве»: «русичи» и «рутеничи»[385]. В литературе эта форма обращения использовалась даже для доказательства «подложности» поэмы. Но это чтение оказывается не только возможным, но и реально употребимым в близкое ко времени создания «Слова». При этом поэт, основываясь, видимо, на традиции Тмутараканской Руси, различал «чистых» русов-алан и русов-рутенов.
Название «Руссия» или «Рутения» еще длительное время продолжало сохраняться за Ругией и некоторыми районами Балтийского Поморья. Датские «Риенские анналы» (до 1288 г.) неоднократно упоминают «Руссию», говоря об усобице в Дании в середине XII в. Хорошо осведомленный об этих событиях Гельмольд сообщает о трехкратном изгнании Кнута из Дании его соперником Свеном, причем Кнут всякий раз искал поддержки в Саксонии и у фризов, живших на территории Ютландии. А в 1152 г. «Кнут отправился в Руссию, которую он с помощью, полученной от Саксонии, воевал и обратил в бегство»[386]. Под следующим годом анналы сообщают, что «Кнут, возвратившись из Руссии, прибыл во Фризию». У Гельмольда «Русь» в этой связи не упоминается. Но у него есть сообщение о том, что около этого времени саксонский граф Адольф, поддерживавший Кнута, оказал помощь ободритскому князю Никлоту в борьбе против отпавших племен хижан и черезпенян[387]. По- видимому, об этих событиях и идет речь.
В «Риенских анналах» имеются экскурсы и в эпическую историю Дании, в частности говорится об успехах Регнера Лотброка (кон. VIII - начало IX вв.), якобы подчинившего Англию, Шотландию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Тевтонию, Славию, Руссию «и все королевства запада»[388]. Саксон Грамматик в данном случае говорит о территории Ливонии, видимо, под влиянием ситуации его времени. В «Риенских анналах» территория «Руссии» не поддается определению. Но это явно та же «Руссия», что и в английских документах XI в. Город Любек в документах 1373 и 1385 гг. помещается «в Руссии»[389].
Разные «Русии» явно смешиваются и в северных сагах. Само название «Хольмгард», как отмечено выше, является, по существу, калькой обозначения «Островная земля» и «Ейсюсла». Буквально то же значение прочитывается и в весьма популярном топониме «Хольмгард». И некоторые саги указывают именно на остров. Так, в рассказе «Саги о фарерцах» о походе викингов сначала на Швецию, а затем «на восток в Хольмгард», где викинги «грабили на островах и мысах», Е.А.Рыдзевская резонно видела именно остров Сааремаа[390]. К тому же рядом с Хольмгардом часто фигурирует Вик - область, лежащая напротив острова Сааремаа.
У Адама Бременского упоминаются проживавшие здесь «аланы или албаны». Последнее обозначение, видимо, книжное, означающее (в латинском) белый цвет. О том, что в иранских языках и росы-русы означают то же самое, западные авторы явно не догадывались. Датчане рутенов с острова Рюген звали «ре» или «рены» - все те же «рыжие», «красные». «Рутенами» же они именовали именно аланскую Русь. Анналист Саксон воспроизвел и некоторые легенды роталийцев. В одной из них задействован и Один, который пришел на Балтику с Дона и вернулся на Дон. Он воспроизвел предание о рождении у дочери рутенского вождя Ринды от Одина сына Боя. Бой же - легендарный герой рутенов из Роталии. Один побывал и в Швеции и там тоже оставил свой след, и его шведы почитали как божество, но вернулся он на Дон.
Поскольку норманисты даже женщин-наездниц восточного побережья Балтики склонны рассматривать как колонию скандинавов, важным является указание шведского автора XVII в. Иоганна Мессениуса в «Хронике линчепингских епископов» (одна из первых шведских епархий), что во время шведского похода 1220 г. в Вик, в «Руссию», «рутены» убили епископа[391]. К сожалению, на острове Сааремаа, да и на побережье археологические раскопки не производились. Отмечены лишь случайные находки: на острове найдено семь мечей, на континенте лишь один. С островом не случайно связывался и титул «кагана» у восточных авторов IX-X вв. Хотя титул этот явно не был признан соседями, в известной «крестьянской войне» 1343-1345 гг. именно остров стоял во главе восставших[392].
Примечательно, что земли по южному и восточному побережью Балтики именуются «Руссией» именно в датских источниках, т. е. у непосредственных соседей входящих в эту территорию племен. Это обстоятельство совершенно снимает вопрос о возможности смешения Руси со Скандинавией, в частности со Швецией. Вместе с тем собственно «Руссия» отличается и от «Славии», хотя иногда они и покрывают друг друга.
«Руссией» продолжали именовать римские папы и Ливонию, и земли, прилегавшие к острову Рюген. В 1245 г. папа Инокентий IV с требованием прекратить преследования францисканского ордена обратился к духовенству «Богемии, Швеции и Норвегии, а также в провинциях Польши, Литвы, Славии, Руссии и Пруссии»[393]. «Руссия» здесь, очевидно, область, подчиненная римской церкви, та же самая, что и в ряде других рассмотренных документах. Папа Бенедикт XI обращался в 1304 г. к последним собственно рюгенским князьям Вышеславу и Самбору, называя их «знаменитыми мужами, князьями русских» (principibus Russianorum)»[394]. В «Хождении на Флорентийский собор» в 1437 г. митрополита Исидора отмечено, что «кони митрополичи гнали берегом от Риги къ Любку на Рускую землю»[395].
Вполне живая еще традиция отразилась и в сочинениях авторов XVI столетия С. Герберштейна и Герарда Меркатора. Герберштейн стремился понять природу «варягов» и указал на то, что если у восточных славян Балтийское море называется «Варяжским», то у балтийских оно называется «Варецким». Автор сближал это название с «Вагрией» и сопоставлял «русских» России и «русских» Вагрии[396]. Географ Меркатор в описании балтийских народов уделяет видное место «рутенам» или «ранам» с острова Рюгена. Он, в частности, дал денное указание на их двуязычие: язык рутенов был «словенской да виндальской»[397]. «Виндальский» язык, очевидно, относится к изначальной природе балтийских рутенов (видимо, язык всей группы племен ингевонов). «Словенский» они приобрели в ходе освоения балтийского побережья славянами в VI-IX вв. Поиски следов «виндальского» языка в Прибалтике, по всей вероятности, и должны привести к решению варяго-русской проблемы.
Интересные данные для решения «русской» проблемы содержит «Список русских городов дальних и ближних», созданный в конце XIV в. в окружении митрополита Киприана и отражавший притязания митрополии на территории, заселенные русами[398]. В «Списке» упомянуты подунайские и причерноморские города Болгарии (митрополит сам был болгарином), среди которых обозначено Тырново (Тернов). (По летописи, Святослав отправился в поход на Дунай с целью перенести туда центр своей земли.) Упомянуты также «волошские» города - область, примыкающая к нынешней Закарпатской Руси или «Червленой» (т. е. «красной») Руси Средневековья. В числе литовских городов названы Ковно, Вильно, Троки («Старый» и «Новый») и целый ряд городов на Среднем Немане в так называемой Черной Руси. Само это название, которое нередко можно встретить и на исторических картах, - результат переосмысления примерно в XVI в. обозначения «красного» цвета в славянских языках. Ранее слово «красный» означало «красивый». (Поэтому так много титулованных особ с добавлением «Красный»), Красный же цвет обозначался словом «чермъный» или «червленый» («червленые щиты» «Слова о полку Игореве» и «Чермъное» море, ставшее «Черным». А особое внимание к цвету в Понеманье связано с тем, что по соседству на Западной Двине и далее по эстонскому побережью располагалась «белая» Русия (от ирано-аланского обозначения белого цвета).
Таким образом, широкий круг разнообразных и независимых друг от друга источников с IX по XVI вв. указывают на наличие ряда Русий по южному и восточному берегам Балтики и на прилегающих к этим берегах островам. На восточном побережье выделяется «Русия-тюрк», являющаяся ответвлением донских русов-аланов, на острове Рюген и на побережье, в той или иной степени удаленном от моря, вплоть до Немана, упоминается несколько изолированных друг от друга, но восходящих к единому корню Русий «красных». Именно эти «Русии» традиционно, на протяжении столетий, воспринимались как части Руси Киевской и позднее Московской. С этими же Русиями - вполне обоснованно - увязывались и разные «Русии» в Подунавье и примыкающих к Дунаю областях. В Причерноморье же смешивались «Русии» разного этнического происхождения.
Примечания:
286. Боричевский И. Руссы на южном берегу Балтийского моря // Маяк. Ч. VII. СПб., 1840; Морошкин ФЛ. Историко-критические исследования о руссах и славянах. - СПб., 1842.
287. Советская историография Киевской Руси. - Л., 1978. (Образование Древнерусского государства и норманская проблема изложены И.П. Шаскольским).
288. Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»...; Ловмяньский Г. Руссы и руги.
289Державин Н.С. Славяне в древности С. 32.
290. Назаренко А.В. Об имени «Русь» в немецких источниках IX-XI вв. // ВЯ, 1980, № 5. С. 57; его же. Древняя Русь... С. 45-47.
291. Кочин Г.Е. Памятники истории Киевского государства IX-XII вв. - Л., 1936. С. 23-24.
292. Сахаров А.Н. Русское посольство в Византию 838-839 гг. // Общество и государство феодальной России. - М., 1975; Riasanovsky A.V. The Embassy of 839 Revisted: some Comment on Early Russian Historu //Jahrbucher fiir Geschichte Osteuropa. Bd. 70. H. 1. Wiesbaden, 1962.
293. Эверс Г. Указ. соч. Кн. 1. - М., 1825. С. 116-117.
294. Гедеонов С. Отрывки... С. 101-106.
295. Седов В.В. Русский каганат IX в. // ОИ, 1999, № 4.
296. Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 290.
297. Левченко М.В. Указ. соч. С. 56.
298. История Венгрии. Т. 1. - М., 1971. С. 92 (дата 839 г. как «первое упоминание о венграх». Автор главы - В.П. Шушарин. Его же. Русско-венгерские отношения в XI в. // Международные связи России до XVII в. - М., 1961).
299. Мерперт М.Я. Угорские (венгерские) племена в южнорусских степях // Очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР. Ill—IX вв. - М., 1958. С. 682.
300. Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 283-284, 309-311.
301. Д.Дьерфи показывает, что это произошло в 895 г. Dyorffy Dyorgy. A besenyok europai honfoglalasanak kerdeseher // Tortenelmi Scemle 1971. 3-4; его же. Время составления Анонимом «Деяний венгров» и степень достоверности этого сочинения // Летописи и хроники. 1973. С. 115.
302. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 406-407. См. также: Кудрякова Е.Б. Надуманная концепция происхождения Руси // ВИ, 1978, № 7 (о концепции О.Прицака). 12. Гедеонов С. Отрывки... С. 102.
303. Гедеонов С. Отрывки... С. 102.
304. Шафарик ПЛ. Указ. соч. Т. III. Кн. III. - М., 1848. С. 56-74.
305. Гильфердинг А.Ф. История балтийских славян // Его же. Собрание сочинений. Т. 4. - СПб., 1874. С. 298-299. Ср.: Гельмольд. Указ. соч. С. 44-45, а также коммент. на с. 252.
306. Гильфердинг А. Указ. соч. С. 3, примеч. 4.
307. Васильевский В.Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом // ЖМНП. СПб., 1888, июль; Флоровский А.В. Чехи и восточные славяне. - Прага, 1935. С. 159-164.
308. ZollnerE. Rugier oder Russen in der Raffelstettener Zollurkunde? // Mitteilungen des Instituts fiir osterreichische Geschichtsforschung. 60. Graz-Koln, 1952.
309. Herrmann J. Slaven und Beiern im Donaugebit // Die Slaven in Deutschland. - Berlin, S. 46.
310. Назаренко А.В. Русь и Германия в IX X вв. // ДГ. 1991 г. М., 1994; его же. Древняя Русь...
311. Назаренко А.В. Русь и Германия в IX-X вв. С. 21; его же. Древняя Русь... С. 83, где Одоакр назван «итальянским королем».
312. Величко С.В. Летопись событий в юго-западной России в XVII веке. Сказание о войне козацкой з поляками. Т. I. - Киев, 1848 (Сравнение Богдана Хмельницкого с «древним русским Одонацером». С. 293). Там же изложение «Церковного Универсала Богдана Хмельницкого» 1648 года, где вполне логично и достоверно изложена история деятельности Одоакра, выходца из Ругии-Русии - прародины и киевских русов (С. 85). См. также: Фомин В. Варяги и варяжский вопрос в судьбе России // Роман-журнал XXI век, 2001, М> 9. С. 109.
313. Pommersches Urkundenbuch. В. 1. - Stettin, 1868. P. 5.
314. Левченко М.В. Указ. соч. С. 233-235; Гамм Б.Я. Папство и Русь в X-XV веках. - М.-Л., 1959. С. 33-37; Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. С. 119-120; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 43; Ловмяньский Г. Руссы и руги. С. 48-49.
315. MGH SS. Т. I. Hannoverae, 1826. Р. 624; Т. III. Hannoverae, 1839. Р. 60-61; Titmari Merseburgensis episcopi. Chronicon. - В., 1966. P. 56. Ср.: MGH SS. Т. XIV. - Hannoverae, 1883. P. 381.
316. MGH SS. Т. VI. - Hannoverae, 1844. P. 619.
317. ЛЛ. C. 28.
318. Гильфердинг А. Указ. соч. С. 365-367.
319. Там же. С. 370. Аналогичным образом Адам Бременский и Гельмольд определяют остров ругов как лежащий «против земли вильцев» (Гельмольд. Указ. соч. С. 37-38).
320. Ловмяньский Г. Руссы и руги. С. 45-46.
321. Там же. С. 52.
322. Там же. С. 48.
323. Куник А., Розен В. Известия ал-Бекри и других авторов о русах и славянах. - СПб., 1878. С. 51 и 11.
324. Гедеонов С. Отрывки... С. 74; его же. Варяги и Русь. Ч. 2. - СПб., 1876. С. 471-473.
325. Гедеонов С. Отрывки... С. 76.
326. Там же. С. 74, примеч. 2.
327. MGH SS. Т. III. Р. 331.
328. Гедеонов С. Отрывки... С. 96-99. Автор обращает внимание на то, что бельгийский хронист Сигберт (1030-1112), буквально передавая текст Лиудпранда, опускает его комментарий (там же. С. 100-101).
329. Гельмольд. Указ. соч. С. 195.
330. Гедеонов С. Отрывки... С. 100, примеч.
331. Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 160 (примеч. 243 к т. 3). Ср.: Аристов Н. Промышленность Древней Руси. - СПб., 1866. С. 199; Гедеонов С. Варяги и Русь. Ч. 2. С. 438.
332Гаркави А.Я. Сказания еврейских писателей о хазарах и Хазарском царстве. Вып. 1. - СПб., 1874. С. 41, 58, 76. В разных списках значится либо «бошни», либо «саксини» (Ср.: пренебрежительное название немцев у соседей «ботами»), См. также: Барац Г.М. Происхождение летописного рассказа о начале Руси. - Киев, 1913. С. 8-15.
333. Морошкин Ф.Л. Указ. соч. С. 24-25; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 44- 45. «Устав» датирован 938 г. Но в данном случае явная ошибка либо даты, либо имени Генриха (ум. 936). Текст «Устава» см.: Melchioris Goldasti. Collectio constitutionum. - Frankfurt, 1713. P. 213-214. В «Уставе» речь идет о «Славонии» как части Империи, упоминаются поморские владетели и в их числе, очевидно, «Bilmarus princeps Russiae, Radebotto, dux Russiae, Vinslaus, princeps Rugiae».
334. BohmerJ. Regesta Imperii. II. - Insbruck, 1893. P. 32; Ottental E. Die gefalschten Magdeburgen Diplome und Melchior Goldast. - Wien, 1919.
335. Kiirbisowna B. Dagome iudex - studium Krytyczne // PoczEtfki paristwa Polskiego. Т. I. - Poznan, 1962. S. 394-396.
336. Боричевский И. Указ. соч. С. 175-176.
337. Морошкин Ф.Л. Указ. соч. С. 48.
338. Pomniki dziejowe Polski. Т. IV. Cz. 2. - Warszawa, 1969. S. 5, 19.
339. MGH SS. Т. III. P. 90.
340. Magistri Adam... P. 114.
341. Ibid. P. 95-96.
342. Бречкевич M.B. Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья. Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времени принятия ими христианства (1128-1278 гг.). - Юрьев, 1912.
343. Magistri Adam... P. 245.
344. Алексеев М.П. Англо-саксонская параллель к Поучению Владимира Мономаха // ТОДРЛ. Т. И. М.-Л., 1935; его же. К вопросу об англо-русских отношениях при Ярославе Мудром // Научный бюллетень ЛГУ, 1945, № 4; Матузова В.И. Указ. соч. С. 36-39, 55-59. См. также: Ловмяньский Г. Руссы и руги. С. 49-50; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 43-44.
345. Матузова В.И. Указ. соч. С. 58. Ср.: Die Gesetze der Angelsachsen. Bd. 1. - Halle, 1903. S. 664, ect.
346. Алексеев М.П. Англо-саксонская параллель... С. 47-48; его же. К вопросу об англо-русских отношениях... С. 31.
347. Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 59 (компонент mal в именах собственных).
348. Считаю ошибочной и свою попытку этимологизации имени из латинского (статья «Варяги» и «Русь»...). Латинский именослов вообще мало повлиял на европейскую антропонимию. Кроме того, негативный смысл могло носить только прозвище со стороны.
349. Ср. текст: Матузова В.И. Указ. соч. С. 38 (Редакция перевода несколько изменена).
350Там же. Примеч. 1. Некоторые авторы, ссылаясь на Хронику Флорентия Вустерского (XII в.), считают, что речь идет о Швеции. Но упоминающиеся здесь «свавы» (ad regem Suuavorum) - это либо швабы Баварии, либо «сварины» древних авторов и «свары» Географа Равеннского, жившие на южном берегу Балтики, что указывает скорее на знакомство с литературой, чем с реальной ситуацией в Прибалтике.
351. Гельмольд. Указ. соч. С. 47.
352. Гильфердинг А. Указ. соч. С. 27.
353. Magistri Adam... Р. 249.
354. Ловмяньский Г. Руссы и руги. С. 49, примеч. 37.
355. Magistri Adam... P. 114.
356. Назаренко А.В. Древняя Русь... С. 484-504.
357. Рохлин А.Г. Итоги анатомического обследования и рентгенологического изучения скелета Ярослава // КСИА. Т. VIII. М., 1940. С. 46-57.
358. Magistri Adam... P. 153.
359. Ibid. P. 240.
360. Ibid. P. 254-255.
361. MGH SS. Т. XVI. Hannoverae, 1859. P. 319.
362. Soloviev A.V. «Reges» et «Regnum Russiae»... P. 152.
363. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. С. 124.
364. Бречкевич М.В. Указ. соч. С. 95; Галл Аноним. Хроника. - М., 1961. С. 89.
365. Котляревский А. Книга о древностях и истории поморских славян в XII веке. Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древности. - Прага, 1874; Петров А. Гербордова биография Оттона, епископа Бамбергского // ЖМНП. Ч. 224. СПб., 1882; Ч. 225. СПб., 1883. См. также: Свердлов М.Б. Известия немецких источников о русско-польских отношениях // Исследования по истории славянских и балканских народов. - М., 1972. С. 161 163.
366. МРН. Т. II. Lwow, 1872. Р. 123: «Ruthenia vero Danos adiunktos habet, porro archiepiscopo Danorum itiam Ruthenia subiecta esse debuit». Остров Рюген известен Герборду и как «Ругия».
367. Ibid. Р. 49,131.
368. Ibid. Р. 68-69.
369. Ibid. Р. 73-74.
370. MGH SS. Т. XVI. Р. 188-189.
371. Ibid. Р. 417.
372. Гельмольд. Указ. соч. С. 143-148.
373. MGH SS. Т. XVI. Р. 188-189.
374. В.Т. Пашуто сопоставил с сообщением Магдебургских анналов известие Ипатьевской летописи о походе на голядь. См.: Пашуто В.Т. Русско-польские взаимоотношения с середины XI в. до монгольского нашествия в связи с политикой Германской империи // Международные связи стран Центральной, Восточной, и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения. - М., 1968. С. 20. Но летопись говорит о походе на голядь, жившую на Протве (см.: ПСРЛ. Т. II. С. 339).
375. Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 78-80 (примеч. 111 к т. I). Автор разделял мнение первого издателя Хроники Петра Дюсбургского Гарткноха (XVII в.) о происхождении самого названия «Пруссия» от «Порусья», т. е. территории, прилегающей к реке Русе (нижнее течение Немана или его правый рукав). См. также: Гедеонов С. Отрывки... С. 20-21; Hartknoch Н. Selectae dissertationes Historicae de variis rebus Prussicis. 1679. P. 63- 64. Существование «Неманской Руси» признал, как отмечалось выше, и М.П.Погодин, считавший ее норманской колонией.
376. Scriptores rerum Prussicarum. Т. I. Leipzig, 1861. P. 133.
377. Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. - М.-Л., 1938. С. 94. Изгнанные с реки Виндавы, венды сначала поселились у устья Западной Двины, где позднее возникла Рига (1201 г.), но и отсюда их курши изгнали. По сообщению автора, венды бежали отсюда к лэттам. Но, видимо, речь идет только о части этого некогда многолюдного племени.
378. Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 65-68.
379. Генрих Латвийский. Указ. соч. С. 248 (коммент. С.А. Аннинского).
380. Scriptores rerum Prussicarum. Т. I. P. 50-51.
381. ЛЛ. С. 10.
382. Страбон. География. - М., 1964. С. 268.
383. Кай Плиний Секунда. Естественная история. - СПб., 1819. С. 332-333.
384. Корнелий Тацит. Сочинения. Т. I. - Л., 1969. С. 224.
385. Scriptores rerum Prussicarum. Т. II. Leipzig, 1863. P. 64, 97 (Hermanni de Wartberge); Hartknoch H. Op. cit. P. 161 (1295 г.).
386. MGH SS. Т. XVI. P. 402.
387. Гелъмолъд. Указ. соч. С. 161-162, 164-165.
388. MGH SS. Т. XVI. P. 397.
389. Васильев А. О древнейшей истории северных славян до времени Рюрика, и откуда пришел Рюрик и его варяги. - СПб., 1858. С. 37.
390. Рыдзевская ЕЛ. Указ соч. С. 69-70.
391. Кейслер Фридрих фон. Окончание первоначального русского владычества в Прибалтийском крае в XIII столетии. - СПб., 1900. С. 92-93.
392. См. об этом также в указ. издании «Славяне Русь: Проблемы и идеи».
393. Regesta diplomatica... Bohemiae et Moraviae. Т. I. - Pragae, 1855. P. 530.
394. АИ. C. 351.
395. Кузьмин AS. Флорентийская уния и русская церковь // Великие духовные пастыри России. С. 237-238, 242-246. Таково чтение древнейшего списка. Дважды издававшая текст Н.А.Казакова «поправила» его по списку XVII в. на «Курскую» (даже не указав, как читалось в древнейшем списке) и перевела как «Курляндия», которой в XV-XVI вв. вообще еще не было.
396. Герберштейн С. Указ. соч. С. 4.
397. Забелин И. Указ. соч. С. 649.
398. Тихомиров М.Н. Русское летописание. - М., 1979. С. 83-137 (с картой).
Часть третья. Становление древнерусской цивилизации
Крушение рабовладельческого Рима и возрождение свободной крестьянской общины на значительных пространствах Европы было лишь этапом перехода к феодальным отношениям. Разрушив прогнивший мир, варвары в большой степени сами прониклись идеологией и жизненными нормами классового общества. Не имея возможности использовать в широких размерах рабский труд, они либо продавали массы захваченных пленных, либо заставляли их отрабатывать свободу в рамках обычного трудового цикла земледельческой общины. Первое давало им деньги, а вместе с ними неизбежное неравенство. Второе - привычку использовать чужой труд в специфических условиях сельскохозяйственного производства. Сама крестьянская община, обеспечивая земледельцу определенную защиту перед лицом внешней угрозы со стороны своей или чужой знати, постепенно попадает в зависимость от нарождающейся государственной власти. Зависимость от короля или князя становится платой за право относительно спокойно добывать хлеб в поте лица своего.
На характер возникающей государственности большое влияние оказывали разные формы общины. Византийские авторы не без удивления отмечали специфику славянской общины: пленных там не держат в рабстве, а либо отпускают за выкуп, либо предлагают остаться в качестве равноправного ее члена. В литературе обычно территориальная община рассматривается как этап развития после общины кровнородственной. На самом деле они сосуществовали на протяжении столетий и даже тысячелетий. Чаще всего территориальная община складывалась у оседлого земледельческого населения, а кровнородственная - у степного кочевого. Но в ходе многочисленных перемещений и смешений возникали соответственно и смешанные варианты. В принципе, в территориальных общинах управление выстраивалось снизу вверх, и иллюстрацией этого принципа может служить известный «Приговор» 30 июня 1611г., принятый по инициативе ПрокоПия Ляпунова Первым ополчением в годы Смуты. Согласно «Приговору», бояре избирались земством и могли быть им же отозваны. Взаимоотношение «Земли» и «Власти» является стержнем внутриполитической истории многих народов, в особенности именно славян.
О. Н. Трубачев, анализируя специфику появления этнонимов у разных народов, указал на принципиально важный факт: у славян и кельтов племена обычно назывались по занимаемой ими территории (поляне, древляне, дреговичи, уличи (у «луки» реки), ободриты (по берегам Одры-Одера) и т. д. Кельтская Арморика в Бретани - равнозначна славянскому Поморью на Балтике. Этнонимы варины (варанги, варяги, вэринги) на Балтике и морины на побережье Северного моря также объясняются из кельтского как «поморяне». От названия реки (Рур, Раура) происходит племя руриков-рауриков. Германские и многие другие племена Европы чаще всего вели свое название от родоначальника или какого-то реального или легендарного давнего предка, вроде венетского Палемона. И славянские племена вятичей и радимичей, пришедшие с польского Поморья, видимо, испытали влияние тех же венетов: именно в Юго-Восточной Прибалтике позднее проявится культ Палемона. Многие самоназвания означали просто «люди». Таковы упоминаемые Лиудпрандом славяне - «нордлюди». Таковы «манны», «инги», «гунны». Нередко названия давались со стороны и со временем усваивались и теми, кого так или иначе прозвали соседи. Часто это связывалось с тем или иным ритуалом, вроде упомянутых «разноцветных» русов.
Поскольку «чистых народов не было и нет», как любили некоторое время назад повторять последователи исторического материализма в спорах с приверженцами расистских теорий, и исконные формы общежития неизбежно подвергались внешним воздействиям. Нашествия кочевников часто ставили вопрос о выживании, заставляя либо бороться, либо договариваться, либо искать новые места поселения. При этом, как правило, территориальные общины легко ассимилировали иноплеменников и довольно легко воспринимали соседство иных племен. В середине XIX в. два далеких друг от друга автора отметили характерную черту славяноязычных россиян: способность ассимилировать иные народы. Французский публицист и историк А. Токвиль отметит, что Россия (в отличие от Америки), дойдя до Тихого океана, не уничтожила ни одного народа. Об этой же уникальной способности России скажет и Ф. Энгельс в письме К. Марксу (от 23 мая 1851 г.).
Специфические черты, отличающие древнерусскую культуру, формируются главным образом в Среднем Поднепровье. Именно проходившие здесь процессы накладывают ту особую печать, которая отличает древнерусское от общеславянского. Здесь соприкасались лес и степь и связанные с природным фактором разные формы ведения хозяйства. Отсюда шли связи с культурными центрами Подунавья, Причерноморья и Средиземноморья, а через Прибалтику - со странами европейского Запада и северо-запада. На протяжении многих столетий на южной периферии Среднего Поднепровья шли передвижения племен с востока на запад. В отдельные периоды происходили и встречные передвижения. Таковые особенно усилились в последние века до н. э. и в первых веках н. э. Растущий Рим как бы блокировал возможности расселения на юго-запад, а сдвиги в социальном укладе и, может быть, климатические изменения заставляли многие племена приходить в движение.
Эпоха Великого переселения народов сопровождалась возникновением государственных объединений, которые на первых порах еще весьма непрочны и поддерживаются не столько производственными процессами, сколько стимулами внешнего порядка: существованием общего врага или надеждой на богатую добычу. Классовое расслоение все больше сближает социальные верхушки разных племенных союзов и углубляет противоречия внутри них. Государство теперь берет на себя главные свои функции: обеспечение определенного «порядка» за счет узаконения системы господства и подчинения в собранной воедино внутренним развитием или внешним воздействием территории. VI-VIII вв. в Европе - это эпоха своего рода упорядочения новой социальной структуры и значительно обновленной этнической карты. В Европе формируются новые народности и новые государства. Процесс этот неизбежно должен был принять всеевропейский характер, поскольку экспансия сильных в отношение слабых соседей могла остановиться, лишь встретившись с соответствующим противодействием. Иными словами, процесс классообразования и возникновения новых государств в Европе должен был втянуть в него все племена и все территории. Практически это означало, что в Европе не оставалось племен, не плативших кому-нибудь дань.
Восточная Европа, естественно, не была исключением. Здесь также интенсивно идет процесс классообразования и сказывается неравномерность развития. Государственные образования здесь также возникают в разных местах и на разной этнической основе, при этом одни племена попадают в зависимость от других. Помимо традиционных причерноморских центров цивилизации, к государственности переходят отдельные ирано- и тюркоязычные народы. Возникает государственность у алан, хазар, волжских булгар. Устойчивый характер принимает государственность и у славян. И у них выделяется несколько центров, между которыми длительное время идет борьба. Участие в этой борьбе неславянских элементов (обычное для переходного периода у всех европейских народов) породило крайне противоречивое толкование самого процесса оформления древнерусской государственности. На протяжении длительного времени существенно менялись границы нового образования: отпадали одни земли, включались другие, пока в IX-X вв. наконец более или менее стабилизируется круг территорий, племен и традиций, с которыми ассоциируется понятие собственно древнерусского. Борьба норманизма и антинорманизма в позднейшей историографии - лишь отражение и упрощение крайне сложного и противоречивого процесса сложения древнерусской цивилизации, в котором реально участвовали выходцы из разных земель и племен.
Сложение древнерусской цивилизации осуществляется в ходе взаимодействия главным образом славян и русов, причем и те, и другие сами оказываются осложненными реликтами других этнокультурных объединений, а различные племена их более или менее существенно различаются между собой. Русы к тому же и изначально представляли разные по происхождению этносы. А взаимодействие славян и русов проявляется в разной форме почти во всех основных районах обитания разных «Русий». Славянизации подвергается и рутено-венедское население Прибалтики, и Русь Причерноморская, отчасти русы-аланы Подонья, не говоря уже о собственно Руси в Приднепровье, где русы появляются с зарождения Черняховской культуры, причем, видимо, оба главных ее вида (руги-роги и росомоны). Но естественно, что и славянство в ходе взаимодействия проникалось какими-то чертами, характерными для руси или иных племен и народов (в частности, иранских), которые участвовали в сложении новой государственности и культуры. В этой связи представляет значительный интерес выделение компонентов, из которых складывается новый этнос и новые традиции.
Глава первая. Следы взаимодействия Приднепровской Руси с Прибалтикой и Причерноморьем
Как известно, норманизм длительное время питается тем, что в археологических древностях Восточной Европы имеются явно неславянские или не вполне славянские элементы материальной культуры. При этом от славян требуется четкое «удостоверение» в виде неизменного комплекса хозяйственно-бытовых и погребальных традиций, а норманнам-германцам «разрешается» довольно широкий допуск в том и другом. В сущности, норманизм дает заявки едва ли не на все не укладывающееся в рамки строгого славянского эталона, реликты материальной и духовной культуры. Приняв отдельные постулаты норманизма, некоторые антинорманисты незаметно для себя сами способствовали утверждению такого положения. Так, в нашей литературе долгое время шло обсуждение вопроса о «проценте» норманских элементов в тех или иных древностях. Под натиском реальных или определенным образом осмысленных фактов процент этот в последнее время сдвигался в пользу норманизма.
Недавно видный в прошлом норманист Л. С. Клейн выступил с воспоминаниями о семинаре-дискуссии в ЛГУ в 1965 г. по вышедшей в том же году книге И. П. Шаскольского «Норманская теория в современной буржуазной науке» (М.-Л.). Автор напомнил, что перед началом дискуссии Игорь Павлович согласовал с ним свое выступление. «Стыдливый норманист», признавая, что варяги - это норманны, просил не завышать процент их в Восточной Европе, дабы не поставить под удар марксистскую концепцию возникновения государства, как спонтанного развития любого конкретного общества. В то время слова Энгельса о том, что «государство не может быть навязано извне», воспринимались как отрицание возможности завоевания одних племен другими, тогда как Энгельс имел в виду «извне» человеческого общества (т. е. с неба). Вспомнил автор и о том, что некто Кузьмин в 1971 г. выступил в «Вопросах истории» против обвинения норманистов в антимарксизме[399].
Статья Л.С.Клейна, Г.С.Лебедева, В.А.Назаренко «Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения»[400], равно как позднее вышедшая книга С. И. Кочкуркиной «Юго-Восточное Приладожье в X-XIII вв.» (Л., 1973), оказались весьма полезны введением в научный оборот большого материала, который было необходимо понять и объяснить. Авторы исходили из догмата скандинавской природы варягов. И чем больше они находили варяжских (привнесенных по Волго-Балтийскому пути) элементов культуры, тем более рушилась презумпция о скандинавском происхождении варягов. Это понимал И. П. Шаскольский, для которого главным противником был «буржуазный» антинорманизм[401]. Поэтому он и уговаривал «не завышать процент». И я действительно в этом споре был на стороне археологов: чем больше в их руки попадало подобного материала, тем скорее они должны были задуматься над главным: а обоснованна ли сама норманистская презумпция? Суть этого взгляда была выражена в ряде статей. «Сложившиеся представления о соотношении автохтонного и привнесенного начала, - сказано в одной из них, - в последнее время серьезно пошатнулись. В археологической литературе все более широкое обоснование получает тезис, что удельный вес норманно-варягов был намного значительней, чем это предполагалось некоторое время назад. С норманнами теперь связывается подавляющая часть социальной верхушки древнерусского государства. На Белое озеро и Верхнюю Волгу, согласно новым представлениям, варяги-норманны проникают примерно на столетие раньше славян... Но новый материал неизбежно порождает старые вопросы. Снова возникает потребность объяснить, почему на территории, где соприкасаются варяги и угро-финны, распространяется славянский язык, почему нет сколько-нибудь заметных проявлений германских верований, почему так быстро исчезают варяжские имена, причем в княжеской династии раньше, чем у рядовых дружинников. На все эти «почему» норманизм, очевидно, не в состоянии дать ответ. А это означает, что необходимо более тщательное выяснение природы тех этнических элементов, которые многие лингвисты признают северо-германскими»[402].
В частных беседах постоянно звучал призыв: посмотреть на противоположную сторону моря. И отрадно было прочесть вскоре статью Г. С.Лебедева и А. А. Розова. Исследуя укрепления Городца под Лугой (IX-X вв.), авторы установили, что «решетчатые кладки из бревен до сих пор неизвестны в военном зодчестве Руси X-XI вв. Зато они типичны для западнославянских городищ IX-XII столетий в Поморье, Мекленбурге, Лужице». «Возможно, - заключали авторы, - эти аналогии указывают направление дальнейших поисков истоков славянской культуры Верхней Руси»[403]. Именно о «направлении дальнейших поисков истоков» и шла речь в принципиальном споре. И вопрос осложнялся тем, что южный и восточный берега Балтики знали у нас меньше, чем следовало бы для преодоления норманистской традиции. А под пером тогдашнего директора Ленинградского отделения института археологии М.И.Артамонова норманны-германцы даже вытесняли славян с территории Восточной Европы[404].
Через призму активного норманского участия в сложении древнерусской государственности рассматривали многие специалисты те или иные языковые явления. Так, А. И. Толкачев, говоря о названиях днепровских порогов, не сомневался, что «всякие попытки... объяснить эти названия путем сопоставления не с северогерманскими, а с другими языками совершенно лишены основания»[405]. О несостоятельности этого взгляда и с языковой точки зрения речь пойдет ниже (имеется в виду, в частности, работа М.Ю.Брайчевского). Здесь остановимся на торговом и миграционном потоке по Волго-Балтийскому пути.
Как отмечалось выше, ритуальные поиски следов германизмов в культуре Восточной Европы проистекает из априорного понимания варягов как норманнов (именно шведов), что противоречит прямым показаниям источников.
Но прибалтийские элементы в археологических материалах Восточной Европы, безусловно, имеются, и, может быть, даже в больших размерах, чем это представлялось и представляется норманистам. Дело в том, что эти элементы необязательно неславянские, а различия материальной культуры в зависимости от различия географических условий - явление вполне закономерное, обязательное. Поэтому здесь ставится задача выявить эти прибалтийские элементы без уточнения их конечной этнической принадлежности.
Хотя колонизационное движение морем являлось издревле самым естественным, а для значительной массы прибалтийского населения уже с VIII в. и вынужденным, эта мысль не пользуется должным вниманием не только в норманистской, но и в антинорманистской литературе. Между тем в общей форме она выдвигалась еще В.Н.Татищевым и М.В.Ломоносовым. В XIX в. приводились и определенные свидетельства, указывавшие на движение славянского и славянизированного населения с южного и юго-восточного побережья Балтики на Восток. Обращали внимание на некоторые этнографические и языковые параллели, сопоставляли южнобалтийские Старграды с Новгородом (и несколькими «Новыми» городами), указывали на прибалтийские истоки некоторых языческих представлений, отмечали сообщения некоторых саг[406]. Однако этого оказывалось недостаточно для преодоления привычки смотреть на события через призму норманской концепции. Для позитивистской науки все эти данные были «не прямыми», а потому не заслуживающими серьезного внимания. М. Погодин полагал, что если бы «одно слово сорвалось еще с языка у Гельмольда, то все бы нам стало ясно»[407]. Одному слову при таком подходе придавалось большее значение, чем целой системе взаимосвязанных явлений.
Приводимые в литературе лингвистические данные вполне конкретны. Речь идет о совпадениях лексики, фонетики и некоторых других языковых явлений у балтийских славян и жителей северо-западных и северных областей Руси (прежде всего Новгородской земли)[408]. Многочисленные этнографические параллели представлены в работах Д. К. Зеленина и В. Б. Вилинбахова, упомянутых выше. Но в то время как скандинавская археология заполняла книжный рынок исследованиями о скандинавских древностях, отыскивая для них реальные или мнимые параллели в разных частях Европы, даже в нашей литературе долгое время держалось мнение, будто Балтийское Поморье - это самый отсталый уголок славянского мира. Сейчас такое представление отвергнуто. Видный немецкий ученый, специалист по ранним славянам Й. Херрман напоминает о построениях историков, археологов и филологов империалистической Германии как об откровенно спекулятивных и бесплодных. Новый материал позволил поставить вопрос о том, «какой народ соорудил первые города и кто с помощью быстрых кораблей владел Балтийским морем... славяне или шведские викинги»[409]. Как отметил В.Л.Янин, до первой трети IX в. включительно «основная и притом сравнительно более ранняя группа кладов восточных монет обнаружена не на скандинавских землях, а на земле балтийских славян»[410]. Уточнения В. М. Потина еще более усиливают положение о своеобразном приоритете славянского Поморья: на Готланде нет кладов ранее IX в., а в самой Швеции древнейший относится лишь к середине IX столетия. В то же время на Поморье имеются клады VIII в.[411]
Известное отставание Скандинавии от континентального побережья Европы вполне естественно: на континенте мог быть учтен и использован опыт обширных населенных территорий, в том числе весьма развитых. Специальные исследования показывают, что и процесс классообразования, и создание государственности в Скандинавии, в частности в Швеции, также отставал от темпов развития материковой Европы[412]. Но, конечно, вопрос об уровне и темпах социального развития ни в коей мере не имеет этнического значения. Славяне на Поморье унаследовали издавна развитую местную морскую культуру. А включение их в международную торговлю по крайней мере с VIII в. было естественным результатом географического положения: Франкская империя с одной стороны, путь в Волжскую Болгарию и далее на Восток - с другой. Не удивительно (и весьма многозначительно), что франкские источники начала IX в. представляют славян монополистами заморской торговли[413]. Неудивительно также, что кладов арабских монет VIII в. еще больше на Волжско-Ладожском пути[414]. В итоге же топография кладов прямо-таки накладывается на карту расселения варягов, нарисованную русским летописцем.
Традиционные торговые пути обычно используются в первую очередь при вынужденных переселениях. Неман, Западная Двина и реки, впадающие в Ладожское озеро, должны были привлекать и купцов-воинов (возникала необходимость создания на этих путях опорных пунктов), и следовавших за ними мужей и смердов, просто уходивших от теснивших их феодальных государств и христианской церкви.
Д. К. Зеленин и В. Б. Вилинбахов обратили внимание на то, что с южного берега Балтики на русский северо-запад в готовом виде приходит строительная техника и топография поселений[415]. По существу, о том же идет речь в упомянутой статье Г.С. Лебедева и А.А.Розова. И.И.Ляпушкин склонялся к крайнему скептицизму, не видя возможности увязать славян лесной зоны (словен и кривичей) с Приднепровьем. Затем, однако, он нашел им аналогии в одновременных памятниках западных славян лесной зоны. И различие двух зон, равно как и происхождение некоторых специфических особенностей славянской культуры северной зоны, получили естественное объяснение[416].
И.И.Ляпушкин формулировал новый взгляд несколько неопределенно, в общей форме называя «бытовые и хозяйственные комплексы, в том числе остатки жилых и хозяйственных построек». В 70-х гг. материал, указывавший на связь балтийских славян и вообще южного берега Балтики с Северо-Западной Русью, нарастал весьма интенсивно и проявлялся в разной форме. Особенно весомым аргументом стал широко представленный керамический материал. Еще в 1956 г. Г. П. Смирнова обратила внимание на группы новгородской керамики, не находившие аналогий в восточнославянских областях и не имевшие местных корней[417]. В позднейших ее публикациях, во-первых, выявилась значительная группа керамики, находящая аналогии в разных районах Поморья, на территории ГДР и Польши, во-вторых, уточнялась датировка возникновения Новгорода, который (отчасти как бы в противовес норманизму) слишком уверенно относился (на основе дендрохронологии) к середине X столетия (именно к 953 г.). Но речь в данном случае шла о конкретной мостовой, под которой также находился культурный слой. И керамический материал позволил говорить о значительно более раннем появлении поселения на этой территории[418]. Видимо, можно говорить о достоверности летописной даты, связывающей сооружение Новгорода с Рюриковыми варягами около 864 г., и о достоверности самого сообщения о прибытии около этого времени (или все-таки несколько ранее) Рюрика с братьями в Ладогу именно с южного берега Балтики.
Выявленная в Новгороде керамика поморского облика имеется также на других поселениях, где обычно ищут следы викингов, в частности, в Ладоге и даже в Гнездово[419]. В. Д. Белецкий еще в 1965 г. обратил внимание на керамику поморского типа в древнейших слоях Пскова[420]. С. В. Белецкий отметил западнославянские параллели для сосудов с налепными валиками (у донной части), которые найдены в Изборске, Пскове и многих других городах северо-запада Руси, достигая Рязани и Гнездова[421]. В. В. Седов писал в 1970 г., что «собранный к настоящему времени материал весьма обширен и свидетельствует о несомненной генетической связи древних новгородцев со славянскими племенами Польского Поморья». Автор, в частности, обратил внимание на широкогорлые биконические сосуды и реберчатую керамику, которая широко представлена по всему северо-западу, преобладая в древнейших слоях Старой Ладоги. И важно его указание на то, что «появление биконической керамики в Новгородской земле не может быть обусловлено ни древними местными традициями, ни культурными влияниями местных племен... Объяснить появление биконических и реберчатых сосудов на ранних славянских памятниках Приильменья можно только предположением о происхождении новгородских славян с запада, из Венедской земли»[422]. С запада выводит автор и кривическое население Псковщины.
Следует подчеркнуть, что славянская (или поморского облика) керамика сопровождает и так называемые норманские погребения[423]. Очевидно, требуется привлечь и другой (менее связанный с этническими и хозяйственными традициями) материал, обязательно включив в сферу сопоставления южное и юго-восточное побережье Балтики, а также побережье Северного моря, откуда в конце VIII в. ушли на восток фризы, не желавшие мириться с господством захвативших побережье франков. При этом, разумеется, необходимо учитывать условия славянизации различных племен на Поморье. На восток переселялось население в разной степени ассимилированное, сохранявшее значительные элементы своей старой культуры, верований, отчасти языка. Так, котелки в погребениях Приладожья, а также Верхнего Поволжья и Гнездова (т. е. основных районов распространения «норманских» погребений)[424] необходимо сопоставлять с кельтскими культовыми котелками. В.А.Назаренко задумался над природой имеющихся в приладожских курганах отделенных от туловища голов, заметив, что «отражением каких религиозных представлений является эта черта обряда, решить трудно»[425]. Но обряд этот хорошо известен по кельтским и кельтическим культурам. Захоронения одних черепов или туловищ без черепа характерно было, в частности, для племен оксывской культуры[426], которых с наибольшим вероятием следует связывать с венедами.
А. Л. Никитин указал на интереснейшую параллель для загадочных действий языческих вождей, восставших в Ростово-Белозерской земле около 1071 г. против киевского князя: волхвы извлекали из спины жертв «гобино». Оказывается, эта операция созвучна кельтскому обряду, называемому «гобония» (от gabim - богатство и т.д.)[427]. Кстати, здесь также фигурирует магический котелок, который в Ирландии «был символом изобилия и бессмертия»[428].
Если поиски германских элементов на северо-западе Руси, усиленно проводившиеся на протяжении более чем двух столетий, практически ничего не дали, то отыскание специфических варяжских черт все еще остается делом будущего. Между тем и в именах (об этом еще будет речь), и в топонимике варяжские черты представлены гораздо шире, чем можно было бы думать, исходя из факта передвижения уже в целом славянизированного населения. Так, например, знаменитому озеру Селигер находится малоизвестная параллель на острове Рюген (озеро Selliger). Название это, по-видимому, докельтское. Но на фракийской территории упоминается кельтское племя Celegeri[429]. Трудноэтимологизируемым окским и волжским «Исадам» - поселениям на берегах рек, упоминаемым в домонгольское время, - может быть приведена кельтская параллель ossad - «высаживать». Очевидно, в названии отражается первоначальное значение как места высадки на берег. (Исады на Оке были загородной резиденцией князей и, видимо, своеобразной торговой факторией, примыкавшей с востока к столице земли Рязани.) Город Ростов, название которого не объясняется ни из славянских, ни из угро-финских языков, может быть сопоставлен с поселением Radestow «в Старградском округе»[430].
Тесная связь южного берега Балтики с восточноевропейскими русскими землями отражается и в некоторых сагах. От южнобалтийского побережья до «Палтескиа» и «Холмгарда» (т.е. города-острова) развертывается действие в саге о Тидреке Бернском. Сага записана в XIII в., но отражает события IX- X вв., возможно, и только IX (поскольку не упоминаются венгры). В саге постоянно упоминаются «вильтины», очевидно, вильцы-велеты, в тесной связи с которыми находится Русь. Хотя реальный Тидрек, как и его соперник Одоакр жили в действительности в V в., соперничая в борьбе за Рим, предания о них жили и на Балтике, и новгородский летописец XIII в. упомянул косвенно об этой распре, назвав Тидрека «поганым и злым», видимо, потому, что на Волго-Балтийском пути были и сказания с противоположными оценками соперников.
Холмгард, как отмечалось выше, - это нынешний Сааремаа, а Палтескиа не Полоцк, как обычно считается, а входивший в состав «Руссии-тюрк» город в районе нынешнего Таллина (Ревеля). Не исключено, что и в самих изустных сказаниях смешивали Палтескию с Полоцком. И «Смаланд», который берет Аттила (тоже персонаж V в.) на Руси, - не Смоленск. Это вероятнее всего описанный Адамом Бременским «третий остров - тот, который называется Самландом и соседствует с русскими и поляками», населяют который «самбы или пруссы», «очень человеколюбивые люди»[431]. За «остров» Адам Бременский принял полуостров Самбию.
А. Н. Веселовский, опубликовавший перевод и исследование отрывка из саги, полагал, что в основе ее лежит саксонское сказание[432]. У исследователей обычно нет сомнения в том, что упоминаемые в саге «вильтины» (vilcinus) - это вильцы-велеты[433]. В саге отражен такой период, когда вильтины господствовали на берегах Балтики и, например, датские конунги были у них лишь в подконунгах. И если даже речь идет о поэтическом вымысле, то перед нами творение, которое ведет к западнославянскому эпосу, поскольку преувеличивают всегда успехи своих, а не чужих предков.
По саге, в тесной связи с вильтинами находится и Русь, и в этой связи делается своеобразный экскурс во времена Тидрека и Аттилы, где Аттила (в полном соответствии с действительностью) назван «фрисландским конунгом», которых «русские» конунги не признавали равными себе. В частности, русский конунг отказался выдать дочь за фрисландского конунга Аттилу, ибо «род его не так знатен, как были русские люди, наши родичи»[434]. Возможно, прародителем конунгов предполагался Одоакр, овладевший Римом в 476 г. Именно этот вариант сказания знал новгородский летописец XIII в. А в позднейшей традиции даже и Богдан Хмельницкий считал себя (или так считало его окружение) потомком властителя Рима Одоакра, выходца из Ругии-Руссии.
В саге представлена не соседняя с вильцами балтийская Русь, а Русь восточная. Легендарный конунг вильтинов Вилькин совершил поход на восток, опустошил Польшу и все царства до моря, взял Смаланд и Палтескию и, наконец, столицу русского конунга Гертнита Хольмгард. Русский конунг обязался платить дань. Но после смерти Вилькина положение меняется. Теперь Гертнит идет в страну вильтинов и облагает ее данью. В саге явно смешаны разные Русии: «красные» и «белые», причем в Пруссии они, видимо, и реально смешивались. Определенное смешение наблюдалось и в изложении Саксона Грамматика, наиболее осведомленного в событиях, связанных с многовековой борьбой данов с рутенами восточного берега Балтики, то есть аланской Русью, «роксоланами» Географа Равеннского.
Предания, подобные зафиксированным сагой о Тидреке Бернском, отражаются и в славянских источниках. В указанной выше «Хронике великопольской» (прим. 72) хунгары и вандалы отождествляются, и Аттила является первым их королем. В саге о Тидреке Бернском «Гуниланд» располагался на запад от Польши, что может указывать и вполне обоснованно на гуннов-фризов побережья Северного моря. Но имеется и группа источников, в которых гунны сближаются со славянами. Название Венгрии - «Хунгария» явилось результатом осмысления династии венгерских королей как преемников Аттилы. В славянской же традиции бытовало представление, что «хунгары» - это славяне, пришедшие из Поморья, от реки Варта или Укра. Отсюда допускалось смешение «укран» с «унгарами»[435].
П. Шафарик привел большое число сведений о смешении славян с гуннами, причем даже в XIX в. немцы именовали «гуннами» группу славян, проживавших в Швейцарии. Название «гуннов» иногда распространялось на вендов-венедов, «городом гуннов» в некоторых сагах именовался знаменитый славянский Волин, располагавшийся у устья Одера[436].
В связи с отмеченным Саксоном Грамматиком рутенским погребальным обрядом, представляют интерес параллели ему на территории Древней Руси. Это именно те погребения в Гнездово, которые Е. А. Шмидт считал литовскими и аналогии которым имеются в срубных погребениях Киевщины[437]. В свете сведений, сообщаемых Саксоном Грамматиком, распространение этого обряда на шведскую Бирку может быть объяснено именно рутенским влиянием, независимо от того, в какой форме это влияние выражалось: культурное влияние, переселение, захват пленных, погребение убитых в сражениях.
Погребения с конем (и рабыней) распространены во всех районах, где ищут следы норманнов. Не исключено, что во многих случаях обряд действительно связан с варягами, только не с норманнами, а с рутенами. В Киеве таким образом погребались представители социальной верхушки, может быть, княжеской династии, хотя в составе дружинных погребений находится ряд существенно различающихся между собой типов. А погребения с конем и рабыней, как отмечалось, были распространены не только у балтийских рутенов, но и в салтовской культуре. И речь может идти именно о русах-тюрк, то есть аланах-роксаланах, хотя область Пруссии являлась именно той территорией, где соприкасались и смешивались русы разного происхождения.
Исследователи отмечали также сходство некоторых религиозных обрядов у балтийских славян и киевских русов. Так, весьма вероятно влияние балто-славянского язычества на реформу Владимира, осуществленную вскоре после возвращения его «из варяг». Главное божество дружины киевских князей - Перун - в «Слове о полку Игореве» даже не упоминается. Похоже, что он вообще не имел глубоких корней ни у славян, ни у других народов Приднепровья. Зато в Прибалтике роль его была весьма заметной. Имя Перуна отражалось в названии четверга: «Перундан», т.е. «день Перуна». По аналогии с «днем Юпитера» (французское jendi) или «днем грома», по аналогии с немецким Dormers tag[438]. Перун в звучании «Перкун» был одним из главных божеств у прибалтииских народов, причем функции его целиком совпадают с аналогичными функциями у славян и руси. В созданном Владимиром пантеоне языческих божеств первое место принадлежало именно Перуну, причем его изображение также было заимствовано у прибалтийских славян: «глава сребрена, а ус злат»[439].
Имеются определенные свидетельства и активных связей Руси Приднёпровскои и Причерноморской. В течение длительного времени обсуждается вопрос о времени появления в Крыму и Подонье славян, и в зависимости от решения этого вопроса ставится и проблема Причерноморской Руси Но искать, видимо, следует не «чистых» славян, а реликты весьма многочисленных переходных форм, возникших в результате взаимодействия славян с венедским и кельто-иллирийским миром. Видимо, только таким путем может быть объяснен и факт распространения славянского языка на территории будущего Тмутараканского княжества, что явно предшествовало распространению там вполне определенной славянской материальной культуры.
В литературе неоднократно оценивалось сообщение Льва Диакона отождествлявшего воинов Святослава с потомками тех росов, которые жили у Киммерииского Боспора. Д. Л. Талис вполне оправданно заключал, что «Днепровскую Русь византийские писатели называли тавроскифами и таврами именно потому, что на нее было перенесено название народа, действительно обитавшего в Крыму в VIII-IX вв., т. е. росов»[440]. Задача, следовательно, заключается в том чтобы определить: было ли у греческих авторов основание для отождествления приднепровских и крымских росов? Напомним, что последних они должны были знать особенно хорошо после того, как в IX в. возникает росская епархия.
Во времена Льва Диакона христианство все шире распространяется и в Приднепровской Руси, с которой, кстати, на протяжении X в. Византия поддерживала систематические договорные отношения. В этой связи может представлять интерес и то обстоятельство, что в Киевской Руси наследуются некоторые традиции Причерноморской, связанные с распространением христианства. Гак, первые сообщения о крещении Руси (при Фотии до 867 г и затем при Василии Македонянине и патриархе Игнатии) относятся: первое - к Крымско-Тмутараканской области, второе - к русам Болгарского Причерноморья, куда в 70-е гг. X в. Святослав намеревался перенести «центр» Русской земли и где в конце XIV в. митрополит Киприан - болгарин по происхождению - выделял ряд городов в «Списке русских городов ближних и дальних», претендуя на подчинение их единой «Русской» митрополии. Но в позднейшей летописной традиции будет упорно сообщаться о Крещении именно Киевской Руси патриархом Фотием, причем перечисляются и конкретные (реально существовавшие) митрополиты (Михаил, Леон, Иоанн), которые якобы появились после этого Крещения на Руси. В письменной традиции этот акт обычно смешивался с крещением Руси при Владимире, к которому, кстати, Византия непосредственного отношения не имела, как не имела отношения и к появлению христианской общины при церкви св. Ильи в Киеве во второй четверти X в.
В описании Льва Диакона войны греков с «тавроскифами» Святослава имеется ряд бытовых зарисовок. Среди них обычно привлекает внимание обряд человеческих жертвоприношений. С. Гедеонов даже акцентировал внимание на этом обряде, доказывая невозможность признания русов норманнами. Он полагал, что именно для славян-руси было характерно приношение в жертву юношей и девушек. Автор приводит, в частности, напоминание позднейшего летописца о том, что «жряху им, наричюще я богы, привожаху сыны своя и дщери, и жряху бесом... и осквернися кровьми земля Руска». В той же летописи «старци и боляре» предлагают: «Мечем жребий на отрока и девицю»[441]. С. Гедеонов, видимо, прав, говоря об отсутствии такого обряда у германцев. Но и у славян его тоже, по-видимому, не было. Здесь мы видим отражение религиозных и бытовых представлений, характерных для кельтов в Европе и тавров в Причерноморье. Иными словами, это специфически «русский» (одной из «Русий») обряд.
В плане взаимосвязи Причерноморской и Приднепровской Русий может представить интерес происхождение «знака Рюриковичей». Правда, вопрос этот может быть поставлен лишь в сослагательном наклонении: знак становится важным аргументом при условии его правильной интерпретации, а правильная интерпретация во многом зависит от правильного воспроизведения хода событий. Знаку посвящена большая литература и предложены самые разные варианты его объяснения. В большинстве случаев указывается на близость знака киевских князей причерноморским, именно боспорским знакам[442]. Эти знаки сближаются и по значению, и по применению: это герб правителей, их именной знак и знак собственности[443]. Собственно боспорский знак, видимо, правильно объясняется как триденс, что связано с генеалогическими преданиями боспорских царей, ведших свое происхождение от бога Посейдона[444]. В последнем предании ясно проступает «морская» традиция не только греческого населения Боспора, но и их предшественников - «людей моря». В Боспорском царстве, видимо, сильнее, чем в других греческих колониях, издревле сказывались местные традиции, вплоть до того, что самое название боспорской столицы - Пантикапей - негреческого происхождения[445].
В сарматский период, наряду с триденсом, появляется и совершенно иная форма тамги. По наблюдению В. С. Драчука, «именно в X в., то есть в то время когда распространялись «знаки Рюриковичей»... в Причерноморье и на прилегающей территории уже исчезли те тамгообразные знаки римского времени, которые повсеместно употреблялись в северопонтийской периферии античного мира»[446].
Должно однако, заметить, что знаки Рюриковичей составлялись не только и не столько из триденсов (таковые имелись), сколько из двузубцев Двузубцы также появляются в Причерноморье в раннесредневековое время (VI- VIII вв.). Но они ранее (II—I вв. до н. э.) были известны в Прибалтике[447] где могли связываться с венедскими племенами. Именно двузубцы дали основание считать знак Рюриковичей изображением сокола[448]. Не исключено что сосуществование двух основных форм тамги княжеской династии связывалось с разными осмыслениями самой тамги и, следовательно, разными представлениями князей о собственном происхождении.
Расцвет Причерноморской Руси приходится на VIII-IX вв , а где-то в начале X в. сравнительно высокая оседлая культура Крыма и Приазовья гибнет, видимо, под натиском печенегов[449]. Многие поселения запустевают хотя на некоторых жизнь продолжается до XI в. (прежде всего по восточному побережью Крыма и прилегающему побережью Азовского моря) Видимо тогда же русы оказываются на службе у разных владетелей Кавказа и в Византии. Вероятно, участвовали они и в походах на Каспий, хотя «наезженный» путь туда был у салтовских алан-русов. Прижатым к морю росам ничего не оставалось, как либо подчиниться кочевникам, либо искать новых мест для поселении. Какая-то часть их оказывается и в Приднепровье. Во всяком случае в Приднепровье имеются и археологические, и антропологические признаки ведущие к Причерноморью и Подопью[450]. В литературе выдвигалось мнение и о прямой связи салтовцев и полян в антропологическом отношении. Но речь может идти только о смешении разных по происхождению групп[451]. Пришельцы, видимо, были здесь лишь беглецами. Но они приносили с собой культурные традиции, для которых здесь имелась определенная почва.
Некоторые линии пересечения ведут от Причерноморья к Прибалтике и в эту эпоху. Выше отмечалось сходство тамги какой-то части прибалтийского населения с аналогичными в Причерноморье. Близость отмечалась также в распространении камерных погребений, а для венедо-рутенской части также и в антропологическом типе[452]. Естественно, обычно привлекают внимание и два соседствующих топонима в Крыму: Россофар (Росский маяк) и Варанголимен (Варяжский залив). Соседство этих названии, конечно, не свидетельствует о тождестве варягов и руси. Но оно говорит о их тесных контактах что было бы трудно понять, если бы речь не шла о близких в каком-то отношении народов. В. Г. Васильевский убедительно доказал тождество варягов и руси из числа наемников, находившихся на византийской службе. И не исключено, что это тождество возникло раньше, чем те и другие стали говорить на славянском языке. Иными словами, если в культуре Прибалтики и Крыма в VIII-IX вв. лишь при самом внимательном рассмотрении можно обнаружить какие-то общие черты, то в языке эта общность осталась: готы сохраняли диалект германских языков, росы - близкий к «варяжскому».
Некоторые явления, связанные с Балтийской Русью, трудно понять, если не допустить наличия контактов ее с Причерноморьем. Это относится прежде всего к «Руссии-тюрк» - аланской Руси - Роталии и естественным смешением ругов, пришедших к Причерноморью вместе с готами и гуннами-фризами во II-III вв., а затем вернувшихся сюда после развала державы Аттилы с аланами-русами Подонья. Явно к аланской «Руссии-тюрк» на Балтике возвращались в 839 г. через Германию послы «Росского каганата». Титул «кагана» на севере не мог возникнуть спонтанно, без контактов с тюркскими народами или их ближайшими соседями (как это и было в данном случае). И «Остров русов» с каганами во главе, как отмечено выше, по всем описаниям соответствует «Островной земле» - «Холмгарду» - Сааремаа и по размеру, и по действительной роли своеобразного центра силы Роталийского объединения вплоть до середины XIV в.
Появление «Варяжского лимана» рядом с «Росским маяком» безусловно свидетельствует о движении более или менее значительных групп прибалтийского населения на юг к Причерноморью. Однако с конца IX в. положение здесь становится крайне неспокойным, а в X в. те политические образования, которые, видимо, привлекали варягов, и вообще погибают. В таких условиях возврат части переселенцев назад к холодным берегам Прибалтики вполне закономерен. Специалисты отмечают один любопытный факт: в Восточном Крыму нередко мужским долихо- и мезокранным останкам сопутствуют брахикранные женские[453]. Долихо- и мезокраны - это, очевидно, несарматское и досарматское население, а брахикраны принадлежали либо к сарматам, либо к тюркоязычным племенам. Такое несоответствие обычно возникает, когда на новую территорию переселяется только мужская часть племени (обычно молодежь). Но шли эти переселенцы в область Причерноморской Руси едва ли случайно.
Выше упоминалась литовская генеалогическая легенда о Палемоне, искусственно привязанная к Риму. В действительности имя Палемон греческое (значение - «борец»), А распространено оно было в Малой Азии и Причерноморье, причем в династии боспорских царей встречается неоднократно. Правда, Боспорское царство было периферией Римской империи и в таком качестве могло мыслиться как его часть. Самое зарождение легенды могло относиться к переселениям первых веков н. э., может быть связанных как раз с падением Боспора в III в. н. э. Но, видимо, на протяжении многих столетий балтийские «варяги» или веиеды-рутеиы хранили воспоминания о каких-то своих сородичах в этой части «Рима», тем более что племена росомонов (возможно, аланское) и рогов известны здесь со времен Черняховской культуры. Название «Росия» начинает заслонять «Боспор», видимо, в связи с возвышением именно этих племен. И в отличие от готов они встретили здесь остатки племен, говоривших на близких, может быть, понятных им языках. В свою очередь и в Прибалтике и те, и другие росы всегда могли найти близких или дальних родичей.
Примечания:
399. Клейн Л.С. Норманизм - антинорманизм: конец дискуссии // Stratum plus. СПб., Кишинев, Одесса, Бухарест, 1999, № 5.
400. Исторические связи Скандинавии и России. - Л., 1970.
401. Шаскольский И.П. Антинорманизм и его судьбы // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Генезис и развитие феодализма в России. Вып. 7. Л., 1983.
402. Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов... С. 55.
403. Лебедев Г.С., Розов А.А. Городец под Лугой//ВИ, 1975, №2. С. 217.
404. Артамонов МЛ. Вопросы расселения славян и советская археология // Проблемы всеобщей истории. - Л., 1967.
405. Толкачев А.И. О названии днепровских порогов в сочинении Константина Багрянородного «De administrando imperio» (В связи с работой К.-О. Фалька на ту же тему) // Историческая грамматика и лексикология русского языка. Материалы и исследования. - М., 1962 С. 29.
406. Вилинбахов В.Б. Об одном аспекте историографии варяжской проблемы // СС. Вып. VII. Таллин, 1963 (Обзор литературы о связях восточных славян с балтийскими).
407. Погодин М. Г.Гедеонов и его система происхождения варягов и руси // Приложение к VI тому ЗАН. № 2.1864. С. 2.
408. Ляпунов Б.М. Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи. - СПб., 1900. С. 238-240; Петровский Н.М. О новгородских «словенах». (По поводу книги: А.А.Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени. Издание русского исторического журнала. Петроград, 1919) // ИОРЯС. Т. XXV. Пг., 1922; Зеленин Д.К. О происхождении северновеликоруссов Великого Новгорода // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. М., 1954. № 6.
409. Herrmann J. Zwischen Hradschin und Vineta. - Leipzig-В., 1971. S. 8.
410. Янин B.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. - М., 1956. С. 89.
411. Потин В.М. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (IX-XII вв.) // Исторические связи Скандинавии и России. С. 64-68. Позднее, после прекращения доступа арабского серебра, намечается обратное движение потока монет из Европы через Поморье на Русь. Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в X-XIII вв. Историко-нумизматический очерк. - Л., 1968. С. 33-46, 62-69; Даркевич В.П. К истории торговых связей Древней Руси (по археологическим данным) // КСИА. Вып. 133. М., 1974. С. 98.
412. Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции. - М., 1977.
413. Гильфердинг А. Указ. соч. С. 270 (капитулярий Карла Великого 805 г. о торговле).
414. Потин В.М. Русско-скандинавские связи... С. 68. О Балто-Волжском пути см.: Вилинбахов В.Б. Балтийско-Волжский путь // СА, 1963, № 3.
415. Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 90; Вилинбахов В.Б. Балтийские славяне и Русь // SO. Т. 22. Poznan, 1962.
416. Ляпушкин ИИ. Археологические памятники славян лесной зоны Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства (VIII-IX) // Культура Древней Руси; его же. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства (VIII - первая половина IX в.). Историко-археологические очерки // МИА. № 152. М.-Л., 1968. С. 16-21.
417. Смирнова Г.П. Опыт классификации керамики древнего Новгорода // МИА. № 55. М., 1956. Публикация была встречена с резким осуждением (как отклонение от автохтонизма всего и вся и поворотом в сторону норманизма). В 1970 г. автор предлагала мне взять ее материал для подкрепления концепции, высказанной в статье «Варяги» и «Русь» на Балтийском море» (ВИ, 1970, № 10). Я согласился с условием, что опубликует его она сама, и предложил помочь в этом (предложением она не воспользовалась, но материалы, к сожалению не все, опубликовала).
418. Смирнова Г.П. О трех группах новгородской керамики X - начала XI в. // КСИА. Вып. 139. М., 1974; ее же. Лепная керамика древнего Новгорода // То же. Вып. 146. М., 1976. Мостовые, естественно, настилались более или менее значительное время спустя после возникновения поселения. См.: Засурцев ПЛ. Новгород, открытый археологами. - М., 1967. С. 69.
419. Станкевич Я.В. Классификация керамики древнего культурного слоя Старой Ладоги // СА. Т. XV. М.-Л., 1951; Смирнова Г.П. Лепная керамика... С. 4, 6, 7; Пушкина ТА. Лепная керамика Гнездовского селища // Вестник Московского ун-та. Сер. IX. 1973, № 3. С. 88. На подобные факты указывалось и в дореволюционных работах. Сизов В.И. Курганы Смоленской губернии // Материалы по археологии России. № 28. СПб., 1902. С. 123.
420. Белецкий В Д. Раскопки Древнего Пскова в 1964 году // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1964 год. - Л., 1965. С. 29; его же. Древний Псков по материалам археологических раскопок экспедиции Государственного Эрмитажа // Сообщения Государственного ордена Ленина Эрмитажа. Вып. XXIX. Л., 1968. С. 7.
421. Белецкий С.В. Миска с налепными валиком из Старого Изборска // КСИА. Вып. 144. М., 1975. На этом фоне непонятна позднейшая «передача» автором Изборска норманнам. (См. выше о топониме «Изборск»).
422. Седое В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья // МИ А. № 163. М., 1970. С. 71-72.
423. Арциховский А.В. Археологические данные по варяжскому вопросу // Культура Древней Руси. С. 38-40.
424. Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной науке. - М,- Л., 1965. С. 146-147; Кочкуркина С.И. Юго-восточное Приладожье в X-XIII вв. - Л., 1973. С. 48.
425. Назаренко В.А. О погребальном ритуале приладожских курганов с очагами // КСИА. Вып. 140. М., 1974. С. 40, 45.
426. Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы. - М., 1974. С. 40, 45.
427. Никитин АЛ. Биармия и Древняя Русь // ВИ, 1976, № 7. С. 68.
428. Филипп Ян. Кельтская цивилизация и ее наследие. - Прага, 1961. С. 171.
429. Holder A. Altkeltischer Sprachschatz. Т. 1. - Graz, 1961. S. 884.
430. Scriptoris rerum Prussicarum. Т. I. P. 687.
431. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. - М., 1959. С. 88.
432. Веселовский А.Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском)
// ИОРЯС. Т. XI. Кн. 3. - СПб., 1906. С. 8.
433. Там же. С. 11; Шафарик П.И. Указ. соч. Т. II. Кн. 3. - М., 1848. С. 81-104.
434. Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 148.
435. Pomniki dziejowc Polski. Т. VIII. Cz. 2. - Warszawa, 1970. S. 7, 134-135; MGH SS. Т. VI. P. 362. («Ungariorum» - так называются Гротовитом славяне под 860 г., т.е. еще до прихода венгров в Дунайскую котловину). См. также: Павинский А. Полабские славяне,- СПб., 1871. С. 59.
436. Шафарик П. Указ. соч. Т. I. Кн. 1. С. 257- 259.
437. Шмидт Е.А. Об этническом составе населения Гнездова // СА, 1970, № 3. Ср.: Куликаускене РК. Погребения с конями у древних литовцев // СА. Т. XVII. М., 1953; ее же. Боевой конь литовского воина. - Вильнюс, 1971. Автор отмечает, что ранее всего «этот обычай проявляется у побережья Балтийского моря... но со временем распространяется по всей территории Литвы... В конце I и начале II тысячелетия н. э. погребения с конями распространились по всей территории Литвы» (С. 26-27). На территории Латвии этот обычай был распространен только в приморской части Курземе. См. также: Каргер М.К. Древний Киев. Т. I. - М.-Л., 1958. С. 166.
438. Нидерле Л. Славянские древности. - М., 1956. С 277.
439. Гедеонов С. Варяги и Русь. Ч. 1. С. 350-355; Фаминцын А.С. Указ. соч. С. 202-203.
440. ТалисДЛ. Указ. соч. С. 99.
441. Гедеонов С. Отрывки... С. 61-63.
442. Драчук B.C. Системы знаков Северного Причерноморья. - Киев, 1975. С. 91.
443. Там же. С. 92. Ср.: Рыбаков Б.А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X-XII вв. // СА. Т. VI. М.-Л., 1940. С. 227-257.
444. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. - М.-Л., 1949. С. 56.
445. Жебелев С.А. Боспорские этюды // Из истории Боспора. - M.-Л, 1934. С. 7-8.
446. Драчук B.C. Указ. соч. С. 91.
447. Отсылки к литературе см. там же. С. 93.
448. Гедеонов С. Варяги и Русь. Ч. 2. С. XXXIV; Рапов О.М. Знаки Рюриковичей и символ сокола // СА, 1968, № 3.
449. Талис Д.Л. Указ. соч. С. 98, а также работы А.В.Гадло, указанные в недавней его публикации «Проблема Приазовской Руси как тема русской историографии». С. 14-39.
450. Каргер М.К. Указ. соч. С. 136-137; Толочко П.П. Про торговельни звязки Киева з крашами арабського сходу та В1зант1ею у VIII-X ст. // Археолопчш дослщжения стародавнього Киева. - Киев, 1976. С. 6.
451. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). - М., 1969. С. 192; и возражения: Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным археологии. - М., 1973. С 256.
452. Чебоксаров Н.Н. Некоторые вопросы этнической истории Советской Прибалтики в свете новых антропологических и этнографических данных // Материалы Балтийской этнографо-антропологической экспедиции (1952 год). - М., 1954. С. 8; его же. Новые данные по этнической антропологии Советской Прибалтики // Там же. С. 25; Битов М.В., Марк К.Ю., Чебоксаров Н.Н. Этническая антропология Советской Прибалтики, - М., 1959. С. 229. Речь идет в основном о территории Роталии-Вик, то есть аланской Руси, но параллели обнаруживаются и непосредственно в Причерноморье.
453. Беневоленская ЮД. Указ. соч. С. 203
Глава вторая. Имена социальной верхушки древнерусского государства
До сих пор древнерусские языческие имена являются одним из наиболее прочных аргументов в пользу норманской теории. Попытки «славянизации» этих имен, предпринимавшиеся в XIX столетии, привели, по существу, к обратному результату: искусственность славянских этимологий служила как бы доказательством правильности германистских интерпретаций. Между тем проблема эта не только не решена, но в полном объеме даже и не поставлена[454], несмотря на исключительную важность ее как для норманистов, так и для антинорманистов. Достаточно сказать, что до сих пор не было попыток выявить европейские параллели древнерусскому именослову.
Дошедшие до нас имена принадлежат социальной верхушке и могут служить источником по истории формирования господствующего класса. Большинство имен сохранили договоры руси с греками 911 и 945 гг., т. е. имеются в виду именно русские, а не варяжские имена, хотя в ряде случаев прямо указывается, что речь идет о варяго-руссах. Необходимо также считаться с тем, что имена непосредственно на этническую природу не указывают. Достаточно сказать, что наши нынешние имена в большинстве древнееврейские и греческие. Но по именам можно проследить культурные связи, преемственность эпох, поскольку у истоков они имеют вполне конкретное значение.
Необходимо также иметь и виду, что в прошлом имя имело совершенно иное значение, нежели в наше время. Даже специалисты-этнографы часто недоумевают, когда сталкиваются с народами, вообще не имеющими личных имен. Еще и в Средние века понятие «крестить» имело и значение «дать имя»[455]. Следовательно, были народы, для которых даже в это время имя не стало обязательным.
Личные имена у народов появляются лишь на определенном этапе развития, но связь их с характером социальных отношений тоже не прямолинейная.
Показательно, что в Европе чрезвычайно слабо сказалось влияние римской антропонимической традиции. Очевидно, дело в том, что развитого именослова в Риме не было. Весь набор латинских имен не насчитывал и двух десятков. Женщины практически до конца Империи не имели личных имен, сохраняя только родовые и различаясь внутри семьи порядком рождения: Майора, Терция и т. д. Замужние женщины обычно носили имя мужа, как бы обозначая принадлежность ему (Юлия, Августа). Рабам имена-клички давались по их родине, иногда по растениям и камням, что могло связываться с их верованиями. Клановые имена преобладали до недавнего времени у островных кельтов[456]. У многих народов (китайцев, курдов, ранее ирокезов и др.) имя неоднократно меняется: одно для ребенка, иное для взрослого[457]. У тувинцев и ряда других народов получение имени - торжественный акт посвящения в мужи[458].
В родовом обществе имена не нужны: каждый носит родовое имя за пределами общины, а внутри их различают по кличкам и по старшинству. По определению В.АНиконова, «личное имя - пароль, обозначающий принадлежность носителя к тому или иному кругу»[459]. Китайские имена до недавнего времени строились таким образом, что по соотношению его элементов родственники могли узнать друг друга и даже определить поколение, к которому принадлежал носитель имени[460].
Активный процесс образования имен обычно приходится на время перехода к военной демократии и классового расслоения. Имя противопоставляет личность общине. Развитый именослов обычно свидетельствует о далеко зашедшем ее разложении, об изменении самой психологии общества, когда генеалогии племени противопоставляется родословная отдельных родов и родственных групп. Развитые именословы обычно сопровождает и наклонность к удревнению личных родословных, принимающая нередко гипертрофированный характер. Примечательно, что у римлян не придавалось значения личным генеалогиям. В этом рабовладельческом государстве, выросшем из полиса, все-таки выше всего ценилась способность жертвовать личным ради общественного. Не было вымышленных личных генеалогий позднее у франков и, видимо, соседних с ними германских племен. У племен же, населявших побережье Северного и Балтийского морей, шло многовековое соревнование родословных аристократических семей. И. Хюбнер, собравший в начале XVIII в. более 1300 генеалогий, франкских королей начинает с V в., норвежских - с конца IX, шведских - с середины XII столетия. Зато легендарный Дан, с которым себя связывала датская знать, правит с 2910 по 2951 гг. от «сотворения мира» (правда, по какой-то эре, считавшей время от Рождества Христова не в 5508 или 5500, а менее чем в 4 тысячи лет). С 3629 г. (по той же хронологии) начинается генеалогия королей герулов, вандалов и венедов в Мекленбурге и Поморье, причем предполагается, что племена эти одного корня, и корня негерманского. По всей вероятности, к этой ветви принадлежали и рутены, которые «много рассказывали о своем происхождении» спутникам Оттона Ьамоергского, крестившего в начале XII в. Поморье.
Древнейшие имена обычно распадаются на два типа. Одни просто повторяют племенные или родовые наименования, другие означают какие-то воинские доблести или атрибуты власти: храбрый, смелый, быстрый, крепкий сильныи, великолепный, величественный, старейший и т. п. Обычно племена позднее пережившие разложение общинного начала, заимствуют имена у народов, ранее прошедших этот путь, прежде всего, конечно, у народов, воинская слава которых привлекала сказителей и песнотворцев. На это обстоятельство обратил внимание еще Иордан (VI в.). «Все знают и обращали внимание - заметил он, - насколько в обычае племен перенимать по большей части имена- у римлян - македонские, у греков - римские, у сарматов - германские. Готы же по преимуществу заимствуют имена гуннские»[461]. Практически у всех европейских народов, позднее переживавших стадию разложения родового строя так или иначе отразились имена их предшественников, хотя они часто переосмыслялись. Наибольшее значение для европейского именослова имели имена континентальных кельтов, иллирийцев, венетов, фракийцев, иранцев, а также особой этнической группы, определяемой как «северные иллирийцы», и которая включала более или менее значительный уральский языковой компонент Иордан, говоря о событиях IV в., приводит три имени племени росомонов (то есть одного из вероятных предков «видов» русов). Два мужских имени - Амии и Сар - сходны с именами южных народов («сар» в осетинском «голова»), Женское имя - Сунильда указывает, очевидно, на Прибалтику (Сунильда - то же что гунно-фризские Хунильда, Гунильда, часто встречающиеся на севере). Возможно, эти имена могут явиться аргументом в пользу раннего появления роксалан в Восточной Прибалтике. Смешанный характер Черняховской культуры II-IV вв. легко объясняет и перемешанность именослова.
Первые известные славянские имена относятся к VI-VII вв Это преимущественно двучленные имена вождей со вторым компонентом «гаст» или «мир». Славянским Ардегастам, Келагастам, Оногастам и т.п. находятся многочисленные параллели в кельтских языках, из которых эти имена объясняются и этимологически[462]. Аналогичные имена были в то же время распространены и у франков, и даже А. Бах, готовый объяснить все европейские имена и топонимы из германских языков, в данном случае не мог ничего предложить[463].
У славян развитие именослова сдерживалось прочностью общины, а также слабой предрасположенностью к мистике, которая побуждала вкладывать магическии смысл в сами имена. Длительное время имена-титулы - Святослав, Ярополк, Владимир и т.п. даются только представителям княжеских семей и являются как бы династическими[464]. Дружинники довольствуются простыми собственными или заимствованными именами, а у крестьян имена долго вообще не имели различительного значения. В XII-XIII вв. немецкое духовенство запрещало обращенным в христианство балтийским славянам принимать одно и то же имя (в частности имя Иван)[465]. В России XVII-XIX вв. одни и те же имена уживались в одной семье, вроде «Ивашко большой, середней Ивашко, третей Ивашко». У польского хрониста Яна Длугоша было десять братьев с тем же самым именем. Одноименность сохранялась и у простонародья Германии[466]. Да и у аристократии она заметно проявлялась. Так, в 1171 г. на рождественском пиру в городе Байо (Северная Франция) собралось 117 Вильгельмов[467].
Как и в Риме, женские имена у славян чрезвычайно редки, и обычно в них проявляется воздействие неславянской традиции (Рогнедь, Малфредь, Эстредь), либо женский вариант княжеского имени-титула. От X в. сохранилось одно такое имя: Передъслава - дочь или племянница Игоря и Передъслава - дочь Владимира Святославича. В данном случае, возможно, проявляется как раз мистический мотив: рождение девочки предвещает славу будущего мужского потомства. Даже в XII в. знатные женщины именовались либо по отцу («Ярославна»), либо по мужу («Глебовая» и т. п.). Видимо, такого же происхождения имя матери Владимира Малуши (от отца Малъко). Исследовательница именослова новгородских берестяных грамот поразилась, что во всем их наборе имен нет «ни одного нехристианского женского имени»[468]. Имена же, данные при крещении, долгое время в быту не употреблялись.
В работах германских филологов и даже у многих негерманских авторов ярко выражена тенденция приписать германское происхождение подавляющему большинству европейских имен только на том основании, что они встречаются на территории, именуемой «Германией». Выше говорилось об иной природе имен винилов, вандалов, ругов и некоторых других племен «венетской» («виндальской») группы. О готах сам Иордан говорит, что имена их по большей части «гуннские». Собственно германские имена распространяются на территории Германии и Скандинавии уже в основном после Великого переселения. Но и в это время, наряду с собственно германскими, в еще большей мере сохраняются имена традиционные. На германской почве они иногда переосмысливались. Чаще же они изменялись под пером позднейших авторов. Ф. И. Моне приводил примеры того, как может быть искажено и переосмыслено содержание слова при переходе его, в частности, из кельтского в германский язык. Так, ясное кельтское Ricdag - «хороший вождь», «добрый король» - превратилось на немецкой почве в Regentag (соединение слов «дождь» и «день»)[469]. Много аналогичных примеров приводит Г. Балов, критикуя германские ономастические труды А. Баха[470]. Гельмольд в XII в. не понимал уже, что означало имя короля данов Горма (899-936). Он его смешивал с немецким Worm - «червь», и обыгрывал это объяснение: («ворм, самый жестокий... из червей»)[471]. Между тем это кельтское имя, означающее «знатный»[472]. Оно показывает, кстати, что на территории Дании кельтская речь еще долго сохранялась: у большинства индоевропейских народов имена правителей и дружинников носили возвышающий смысл, отрицательным же могло быть лишь прозвище, данное со стороны.
От IX-X вв. истории Руси источники донесли около сотни имен, большая часть которых перечисляется в названных договорах. Кстати, последние и наиболее ценны, так как имена донесены в записи, а не в устной традиции. Записывали их, следовательно, так, как их произносили сами носители имен. К тому же многие из них позднее не повторялись. Учитывая довольно распространенную закономерность повторять в роду одни и те же имена (обычно старший внук воспроизводил имя деда), следует думать, что либо носители этих имен не оставили потомства, либо они позднее были «переведены» на славянский язык.
Имеется две группы материалов, которые следовало бы сопоставить с древнерусской антропонимией: это топонимика и языческий пантеон богов. В топонимике Поднепровья, помимо славянского пласта, выявляются иранский, тюркский, балтский, в небольшой степени фракийский и, что особенно примечательно, - иллирийский и вообще западнобалканский[473]. Именно из тех мест, как сказано выше, летописец выводил полян-русь. Германизмы единичны и не бесспорны. Даже в Крыму, где готы дожили до Средневековья, заметнее следы древней индоарийской топонимики, выявленной О.Н.Трубачевым.
Языческий пантеон богов, устроенный Владимиром, также ясно свидетельствует о разных культурных традициях и разноэтничности Руси эпохи складывания государственности. Но и здесь сколько-нибудь заметных германских следов нет. Главные боги русской дружины и купечества - Перун и Велес у германцев неизвестны. И, как было отмечено выше, в киевских могильниках (трупоположениях) выявляется «разительное отличие древних киевлян от германцев»[474].
Таким образом, германо-норманистская интерпретация древнерусских имен противоречит другим материалам, характеризующим облик и верования социальных верхов Киева и указывающим на разноэтничность населения Поднепровья. Да и сама интерпретация имен недалеко продвинулась со времени Г. 3. Байера. Отыскание приблизительных параллелей обычно считается достаточным для доказательства норманского происхождения имени, хотя эти имена не имеют в германских языках, как заметил еще М.В.Ломоносов, «никакого знаменования». При этом даже не ставится вопрос: а откуда эти непонятные имена попали к германцам? Между тем параллели, и подчас с ясным значением, отыскиваются в других языках.
Собственно славянских имен в языческой Руси немного. В договоре Игоря таковые носят члены княжеской семьи (Святослав, Володислав, Передъслава) и только несколько послов и купцов. Достаточно широко известно славянское имя Воико, параллели которому находятся в разных областях. В Болгарии известно имя Клек[475]. По форме образования славянскими являются имена Синко и Сфиръко. Этимологически они могут восходить и к другим языкам. Первое имеет параллель в болгарском именослове, где его понимают как вариант от имени Симеон[476]. Возможна в этом случае и связь с именем Синеус, о чем будет сказано ниже. Второе имя может восходить к семитским корням связываясь с хазарским влиянием.
В литературе обращалось внимание на наличие в древнерусском именослове иранских имен. Таковы женское Сфандра, мужские Прастен, Фроутан[477]. Традиционные иранские имена - женское Эсфанд и мужское Эсфандар происходят от «Эсфанд» - двенадцатый месяц года (у иранцев имена часто давались по датам календаря). В договоре имя производится от мужского варианта, в чем может сказываться славянское влияние. Имя Фроутан в иранском означает «скромный» и т. п. Для имени Прастен, трижды повторяющемся в договоре, возможна и кельтская параллель[478]. В иранском именослове находит аналог и имя договора Алвад (в иранском Алвад или Арванд), со многими возможными значениями. Возможно объяснение имени и из уэльского (кельтского) allwedd - главный, ведущий. Такого рода двоякое объяснение возможно и для имени договора Мутур. Оно может сближаться с иранским Мохтар (старший, высший) и с шотландским Muter. Само имя Олег созвучно иранскому Халег (творец, создатель).
Значительное число древнерусских имен находит аналогию или созвучие в топонимах венето-иллирийских областей. Так, у иллирийцев было употребительно имя Дир[479]. В конечном счете оно может быть и кельтского происхождения. У кельтов оно известно и сейчас (значение - крепкий, сильный, верный, знатный). Иллирийскими, по всей вероятности, являются распространенные у западных славян имена с корнем бор, бур (Буривой, Борислав, Борис). Это один из самых естественных путей образования имени: от понятия «муж», «человек». В договоре Игоря имеется имя Боричъ. Параллели ему имеются в Западной Европе, в том числе у балтийских славян[480].
Ряд имен находит соответствие в племенной номенклатуре и топонимике Подунавья и Иллирии. Так, имя Карн из договора Олега может означать просто принадлежность к племени карны, обитавшему по соседству с адриатическими венетами. Как и другие происходящие от этнонима имена, оно было широко распространено в Европе, в особенности у кельтов[481]. Другое подобное имя Акун из договора Игоря, многократно повторяющееся позднее в форме Якун (особенно в Новгороде), тоже имеет многочисленные параллели в кельтском именослове[482]. Но восходит оно, видимо, к обитавшему в Иллирии племени аконии. Имя договора Игоря Тилен повторяет соответствующее кельтское племенное название. Это племя обитало в Подунавье, а затем переселилось в Малую Азию, где кельты (галаты) около тысячелетия сохраняли свою самобытность.
Названия рек и местностей повторяются в именах Истр, Стир, Гомол. Первое имя повторяет одно из названий Дуная. Аналогичным образом в конце VIII в. имя «Истер» взял псевдонимом известный «просветитель» славян, ирландский монах Виргилий. Во втором отражается название прикарпатской реки или области позднейшей Штирии. Имя также издревле встречается у кельтов, причем в Британии есть и река со сходным названием (значение слов «могучий», «значительный»). Последнее имя повторяет название македонского города Гомолы.
К венето-иллирийским именам могут быть отнесены также имена из договора Игоря: Егри, Уто, Кол, Гуды[483]. Имя Кола широко распространено также у кельтов, известно оно и в Скандинавии, но ясной этимологии его не видно ни на кельтской, ни на германской почве. На балканской почве следует искать и объяснение имени Стемид. Во всяком случае, в Македонии имя Астимед упоминается еще Полибием.
Фракийских имен, как и топонимов, меньше, чем западнобалканских. Фракийскими, по-видимому, являются имена с компонентом бит, вит, более всего распространенные у балтов и изредка у славян. Значение компонента - «видный», «знаменитый» и т. п. В договоре Игоря есть одно имя, возможно объясняющееся через этот компонент: Туръбид. Имя Тур было широко распространено в Иллирии, Адриатической Венетии, у западных славян (в частности, в Чехии). Известно оно было и на Руси (легендарный основатель города Турова). Второй компонент может быть объяснен также из кельтского, в котором он означает «мир» и который также часто входит в состав сложных имен.
В общей сложности славянские, иранские и подунайские параллели находятся лишь примерно для трети именослова. Но, во-первых, северные имена также получили заметное распространение в Подунавье в эпоху Великого переселения народов, а во-вторых, и они имеют различное происхождение.
В числе «русских» имен договора Игоря ранее уже была выделена чудская (эстонская) группа антропонимов: Каницар, Искусеви, Апубъксарь[484]. Носителями этих имен могли быть и сами эстонцы, и выходцы из смежных областей, в частности из Роталии. В Роталии была и местность Ингария, с которой может связываться и имя одного из первых русских князей, пришедших с севера в Киев.
Имя Игорь обычно производится от скандинавского Ингвар, где первый компонент - имя бога, а второй - прилагательное «осторожный»[485]. Но, во-первых, как указал еще С. Файст, это не германское божество, во-вторых, география распространения имени не совпадает с территорией германских стран. Подобные имена встречались в разных областях кельтского расселения; прибалтийские племена имена с корнем инг в эпоху Великого переселения занесли на Дунай. Имя Инго носил один из паннонских князей первой половины IX в.
Имя Игоря в западных и византийских источниках воспроизводилось как Ингер. Именно так назывался и дед византийского императора Льва VI, родившийся не позднее начала IX в., когда варягов в Византии определенно не было, а до первых поездок норманнов пройдет еще два столетия. Встречается это имя также в числе бретонских святых, а в Галлии в VIII-X вв. оно входит в состав двучленных имен[486].
Этимологизировать имя в конечном счете, видимо, надо на уральской языковой почве, так же как имена с корнем «гун». Переводится оно как «господин», «великий», «сильный», «старший»[487]. Уральским по своим истокам является в распространенное в Прибалтике имя Инга, означающее в кельтских языках просто «девушка».
Следует отметить, что в русском именослове имеются и Игори, и Ингвары, причем они не смешиваются. Имя Игорь может быть славянской формой, обозначающей выходца из Ингарии или Ингрии (Ижоры). Имя Ингвар попало на Русь много позднее, лишь в конце XII в., вероятно, через брачные контакты.
В договоре упомянут еще один Игорь - племянник князя. Очевидно, это имя у русов было достаточно распространенным. А это обстоятельство побуждает внимательнее присмотреться именно к русам Роталии, тем более что и чудь, то есть эстонцы, согласно сказанию о призвании, участвовали в приглашении варяго-русов.
Чудские контакты русов могут объяснить и еще одно древнерусское имя - Улеб или Олеб. Имя было довольно распространенным. В договоре Игоря так назывался посол Володислава и еще один купец. Сам Улеб занимал высокое положение в дружине, поскольку его жена - единственная женщина, не являющаяся членом княжеской семьи, - направляла в составе посольства своего посла. Позднее имя Улеба будет носить один киевский тысяцкий и новгородский посадник времени Мстислава Владимировича (конец XI - начало XII вв.). Норманисты пытаются сопоставить имя Улеб со скандинавским Олаф. Но это имя и само нуждается в объяснении, так как ничего вразумительного на германской почве изобрести не удается[488]. И территориально, и по смыслу ближе оказываются чудские параллели. Известны эстонские имена Олев, Алев, Сулев (герои эстонского эпоса «Калевипоэга»). В эстонском ulev означает «высокий», «высочайший», «величественный», то есть вполне соответствует социальному назначению имен эпохи классообразования.
К кругу восточнобалтийских имен относится также Ятвяг из договора Игоря. Оно, очевидно, означает просто выходца из племени ятвягов. При этом надо иметь в виду, что непосредственно с племенем имя связывается только для того, кто впервые с ним порывает. А далее оно уже может переходить и на лиц, никакого отношения к племени не имеющих (обычно через родственные связи или увлечение славой носителя имени).
По Саксону Грамматику, один из вождей рутенов из Роталии носил имя Траннона. С этим именем может быть сопоставлен Труан из договора Игоря. Но для последнего есть и более близкая параллель: Троян «Слова о полку Игореве». В поэме Троян - легендарный предок русских князей, «внуком» (потомком) которого признается и Игорь Святославич. Имя это широко было распространено у западных славян, а также во Франции, что, может быть, указывает на древнюю кельтическую основу[489].
Значительное число имен имеет столь широкую область распространения, что делать какие-либо заключения об этнической принадлежности даже ближайших их предков невозможно. Так, имена Гуннарь и Гунастр в конечном счете восходят к имени фризского племени гуннов. Но усвоить его давно могли и русы, и славяне, и чудь, и скандинавы, и континентальные германцы. Имя Веремуд из договора Олега известно едва ли не всем прибалтийским племенам, захваченным Великим переселением. Оно часто встречалось и позднее у готов Испании и в такой же форме в генеалогиях древних королей Дании (Веремунд). Вместе с тем у побережья Северного моря имелся кельтский топоним, образованный от этого имени: Веремундиакус. Очевидно, имя уходит в глубокую древность, то ли отражая название племени виромандуев, жившего здесь во времена Юлия Цезаря, то ли составляясь из двух компонентов, первый из которых - муж, человек - и поныне жив в кельтских языках, а второй, может быть, ведет к тем же фризам, у которых имя Мунд было известно и без сложения с каким-то другим корнем. Многим источникам известен и видный деятель конца V - начала VI вв. в Подунавье Мундо, которого Иордан считал родственником Аттилы. Указание на такое родство является лишним свидетельством в пользу фризского происхождения Аттилы.
Фризское влияние может проявляться также в однокоренном Фост из договора Олега и двукоренных именах с компонентом фаст. Имя это само по себе достаточно древнее, известное с римских времен и, вероятно, различно осмысливавшееся у разных народов. Но для эпохи VIII-X вв. наиболее употребительно оно было именно у фризов. У них же в числе излюбленных было также имя Гримм[490], представленное и в договоре Игоря. Объяснение его из германских языков как «страшный», «уродливый» - явно переосмысление, причем враждебное переосмысление (как у Гельмольда Ворм - червь, вместо Горм - знатный). В кельтских языках слово означало «война», «битва». Но не исключено, что объяснение надо вообще искать на иной языковой основе.
Имя Вуефаст из договора Игоря отражает, возможно, этап славянизации неславянских имен. Первый компонент здесь аналогичен именам Воемир, Воислав. Тексты договоров не оставляют сомнения в том, что русы времени Олега и Игоря говорили по-славянски.
Три имени из договора Олега: Карлы, Фарлоф и Фрелав - также, видимо, имеют истоки на побережье Северного моря. Первому имеется прямое соответствие в названии топонима и личного имени из французского департамента Па-де-Кале[491]. Имеется и кельтский топоним с этим именем («Карлиакус»), что свидетельствует о его архаичности. С именем «Карл» оно непосредственно не связано, так как старше его. К тому же само это имя, ставшее популярным благодаря славе Карла Великого, имеет те же истоки: оно восходит к одному из обозначений человека («карл», «керл»), позднее означавшее «парень».
В двух других именах первый компонент, видимо, тот же, что и в имени Веремуд, то есть обозначает «мужа». Но различие в написании и произнесении предполагает разноплеменность и носителей сходных имен. Второй компонент имеет параллели в именах и топонимах кельтов, а также сходные по написанию слова с различным значением («рука», «малый», «счастливый»). Но, может быть, в этих именах сохраняется собственно «русское» начало, которое остается пока неопределенным.
Еще три имени в договоре Олега начинаются компонентом ру.Руар, Рулав, Руалд. Последнее имя дважды встречается и в договоре Игоря (Руалд и Роалд). Скандинавским сагам известны имена Хроальд и Хроар, которые обычно и считаются одноименными древнерусским антропонимам. Объясняют эти имена от hrod - «слава». Но имя Руар в том же написании, что и в договоре, известно и кельтскому именослову, а компонент «ро>> является обычным в кельтских именах. Он может означать просто усиление[492]. Возможно образование этих имен и от ирландского rue - «герои»[493]. Не исключено и то, что к самим кельтам эти имена попали с континента.
Второй компонент имени Рулав тот же, что и в имени Фрелав. В имени Руалд отражается кельтское (или докельтское) aid, ard, oil со значением «высокий». Имя легендарной Изольды в раннее Средневековье передается, например, как Issolt и как Isard[494]. То же чередование встречается в именах с компонентом «гилла» или «гильда», также неосновательно включенных в число «германских»[495]. На кельтской основе этот компонент осмысливается как обозначение «слуги» (в военно-феодальном смысле). Но опять-таки не исключено, что это еще один реликт языка «северных иллирийцев». В договоре Олега есть имя Инегелд, а в договоре Игоря имена Игелъд или (в разночтениях) Ингелд. Очевидно, речь идет об одном и том же имени с корнем «шг», известным в разных вариантах по всему европейскому Северу. К тому же корню восходит и имя Иггивлад из договора Игоря, хотя второй компонент в этом случае, видимо, другой. Как отметил в свое время А. А. Шахматов, - это слово, означающее у кельтов и славян правителя, правление и управляемую территорию[496]. Титмару Мерзебургскому было ясно, например, что имена Владимир и Владивой имеют в основе корень, означающий по-славянски обладание.
В ряде случаев трудно размежевать варианты «алд» и «валд» или «влад». Таковы имена Асколъд, Асмолд (Асмуд), Свенделд (Свенельд). Все три имени, очевидно, северные. Но значение их остается неясным. Да и четких параллелей они не находят. В Скандинавии и Дании многократно встречается имя Свен, каковое носит и один купец в договоре Игоря. В имени можно видеть реликт племенного обозначения свевов. Прямой параллели Свенелъду, однако, нет, а это предполагает и особую традицию бытования имени.
Как правило, те имена, которые находят аналогии в Скандинавии, имеются также в кельтских областях и из кельтского же языка и объясняются. Это указывает либо на наличие в Прибалтике древнейшей кельтической традиции, либо на переселение сюда более или менее значительных групп кельтов из Центральной Европы или из северных областей Франции и с Британских островов. Южный берег Балтики, как было отмечено Й.Херрманом, в VIII-X вв. сохранял явные следы кельтического влияния. Следует считаться и еще с одной возможностью: значительная часть имен, особенно имен фризского происхождения, указывает на обитание здесь этнических групп, восходящих к уральским племенам.
В древнерусском именослове имеется целый ряд имен, параллели которым отыскиваются только на кельтской почве. Таковыми являются неизвестные скандинавам Туад, Тудор, Тудко из договора Игоря. Первое из них широко распространено у ирландцев[497], второе - в кельтских областях Британии (знаменитая уэльская династия Тюдоров в том числе). На Руси - это также одно из излюбленных имен. Известно оно также в Румынии, куда могло быть занесено карпатскими русинами или еще древними карпатскими галатами-кельтами. Третье имя, очевидно, славянизированная форма двух первых. Ближайшие параллели ему находятся в Бретани: Tudi, Tudes[498]. Эти имена восходят к понятию «племя», «народ», видимо, с оттенком социального превосходства, а разночтения совпадают с разным написанием у отдельных кельтских племен[499].
Имя посла Игоря - Ивор - известно по всем берегам Прибалтики. Но объясняется оно из кельтских языков («господин»)[500]. В конечном счете оно восходит, видимо, к кельтскому культу деревьев, так обозначался тис - дерево «благородной» породы, и это обозначение стало собственным именем[501].
Представительные кельтские параллели имеются для имен Куци, Кары, Моны. Первые два встречаются, в частности, у галльского племени рутенов[502]. Второе из них известно и в Скандинавии, но ясную этимологию дают именно кельтские языки (производное от глагола cari - «любить» или саге - «друг»), У корнуэльцев имя Кар одно из излюбленных[503]. Достаточно широко по кельтским областям бытовало и имя Моны (объясняется как благородный, стройный)[504]. Существенно также, что имя это известно и венетскому именослову[505].
Имя Адун (купец из договора Игоря) в конечном счете восходит к финикийскому именослову, где означает «господин». Но на Русь оно опять-таки проникло через кельтские языки, куда это слово вошло с тем же значением и где находятся многочисленные параллели. Примерно тот же путь прошло и имя договора Аминод. Это семитское по происхождению имя неоднократно встречается в династии галатских вождей (в форме Аминта).
Очень интересно имя Алдан, дважды названное в договоре и известное позднее в Новгородской земле. Прямой параллелью ему является имя знаменитого ирландского короля и поэта VIII в. Аеда Алдана. Имя в конечном счете восходит к племенному названию аланов, оставивших заметный след на территории от Бретани до Бельгии. Само имя Аллан обычно считается кельтским[506]. Это неточно: так назывались первоначально выходцы из рассеявшегося по северо-западу Европы племени алан. Специфически же кельтское заключено как раз в чередовании «лл» и «лд»[507] (то же чередование наблюдалось в компонентах «олл» - «олд», «хилда» - «гилла»). В Шотландии это имя встречалось и в форме Аллан, и в форме Алдан[508]. На Русь имя попало в специфической кельтской огласовке.
Таким образом, кельтское влияние отражается в древнерусских именах самым непосредственным образом. Трудность заключается в том, что на Русь эти имена шли двумя каналами: из Подунавья и из Прибалтики. Но оба эти пути засвидетельствованы и исторически как направления миграции ругов-русов.
Целый ряд имен тоже в конечном счете оказывается кельтическим, но имеет более широкую область распространения. Так, летопись упоминает во второй половине X в. имена: Лют, Блуд, Буды. Кельтская параллель для первого (значение «гневный») указывалась[509]. Кельтские и французские параллели имеются и для двух других имен[510]. Но, может быть, существенней, что все три имени были известны венетам[511]. Последнее имя известно также поморским славянам и болгарам[512]. Имя Лют в Поморье может связываться и с племенным названием лютичей, хотя само это название, возможно, дано было со стороны.
Остаются неясными в этимологическом отношении имена из договора Игоря Вузлев, Фудри, Шибрид и Стегги. Ближайшими параллелями к ним могут служить (также неясные) французские имена: Vouzailleau, Foudriat, Chibret, Steeg[513]. Первое А. Доза объясняет через топоним в департаменте Вьенна. Но происхождение топонима остается неопределенным. Заслуживает внимания и еще одна неясная параллель: болгарские имена Вузила и Вузилов[514]. Второе имя может сближаться с многочисленными двукоренными ирландскими именами, в которых второй компонент - «ри» - означает «король». Первый же компонент может быть производным от «туд». К этой же группе может относиться не имеющее параллелей имя Либиар. По крайней мере, французская антропонимия знает оба его компонента. В этом ряду, возможно, следует рассматривать и уникальное имя Слуды. Отдаленные параллели ему находятся на Балтийском Поморье[515.] Но по происхождению имя может быть и неиндоевропейское.
Без параллелей остаются имена Евлиск, Воист, Емиг. Суффикс «ст» часто указывает на иллирийскую принадлежность. Но возможны и иные решения, как это и предполагалось в отношении тоже уникального имени Гунастр.
Не имеют ясных параллелей и имена Актеву и Лидул из договора Олега. Ближайшей параллелью для первого является персонаж греческой мифологии - Актеон. Акте - древнее название Аттики, и имя означает просто выходца из этой области. Второе имя может восходить к легендарному Лиду, с которым связывались малоазиатские лидийцы и италийские этруски. Суффикс же «ул» имеет широкое распространение, встречаясь в Галлии, у венетов, иллирийцев, славян. Так или иначе оба эти имени, видимо, южного происхождения, хотя прийти на Русь могли и через Балтийское море: южное влияние, как отмечалось, сказывается в некоторых именах и топонимах, упоминаемых Саксоном Грамматиком, у восточнобалтийских рутенов, а также у венедских и балтских племен.
Поражает незначительное влияние на древнерусский именослов собственно германских языков. Правда, как было сказано, германский именослов тоже был мало разработан по сравнению с кельтским или венето-иллирийским. В эпоху военной демократии эти имена часто переосмысливались из германских языков, приобретая иногда причудливые формы (вроде указанного Моне переосмысления кельтского Риксдаг - «добрый король» в немецкое Регенстаг - «дождливый день»). Собственно германские имена чаще всего двусложные типа Вольфганг - «бегущий волк». Кстати, в германских именах часто фигурируют «волк» (скандинавское «ульф»), медведь («бэр» на континенте, «бьорн» в Скандинавии и Дании), лис («фукс»), В социальном плане часты также компоненты «хер» (господин) и «манн» (муж, человек). С германскими именами может сопоставляться имя купца из договора Игоря Адулб. Параллелью ему могло бы быть германское Адульф. Но конечное «б» свидетельствует, по крайней мере, о том, что имя уже не воспринималось сознательно как германское. Кроме того, известны кельтские имена, звучащие похоже (Адул, например), а Сент-Готард в области Ругиланда носил прежде название Адула.
Обычно из германских языков объясняются имена Берн, Туръберн, Шихьберн, известные по договору Игоря, а также Ждъберн - имя варяга из Жития Владимира. Предполагается, что в такой форме передается скандинавское «бьорн». Допускается и альтернативное решение: «берн» - значит «герой»[516]. Это действительно так, но не в германских, а в кельтских языках, где это слово означает «гора» в топонимах и «герой» в именах[517].
Само по себе отождествление понятий «камень» и «герой» восходит, видимо, к эпохе почитания камня, столь выразительно представленное в мегалитической культуре. Германцев это почитание тоже должно было захватить. В германских, в том числе в скандинавских именах компонент «берг» (бьерг) представлен весьма широко[518]. Но опять-таки древнерусский именослов знает не германский, а кельтический вариант имени. В этой связи может представить интерес и то обстоятельство, что в области бывшего Ругиланда сохраняются ряд топонимов «Берндорф», «Бернбах», то есть уже переосмысленное на германской почве «Горная деревня» и «Горный ручей». Но личные имена, вероятно, все-таки именно варяжские, прибалтийские. Так, имя Шихъберн - своеобразное произнесение старого кельтского имени Сигоберн. Замена звука «с» звуком «ш» - отличительная черта какой-то группы западных славян, проникшая, в частности, на Псковщину[519]. Германские языки звука «ш» первоначально вообще не знали, а звука «ж» не знают и поныне. На Балтийское Поморье указывает и имя Шимона - варяга, похороненного в Печерском монастыре, и отца Георгия Шимоновича - тысяцкого и воспитателя Юрия Долгорукого. Шимон вместо Симон и сейчас сказывается во многих польских фамилиях.
На первый взгляд кажется ясным германским имя Бруни из договора Игоря, поскольку оно легко объясняется от германского brun - «коричневый». Но имя встречается задолго до распространения его у германцев[520]. На севере оно популярно у фризов, где есть и славянская его форма - Брунко[521]. Известно оно и на Поморье, и в Швецию также попадает в типично славянской форме: Брунко и Брунков[522].
Имя договора Игоря Фрастен Находит аналогию в шведском именослове. Сходное с ним имя Фуръстен не имеет параллелей. Первый компонент в этих именах, видимо, тот же, что и во многих других, начинающихся с «фра», «фар», «фер» (Фредерик, у дунайских ругов в V в. Фердерух) и означающих «мужа», «человека» (ср. ирландское fer или fear). Второй компонент может восходить к северогерманскому «стен» (стейн, стан) - «камень». Такое смешение германского и негерманского более всего характерно для побережья Северного моря и Скандинавии.
Параллели в шведском именослове имеет также имя договора Игоря Ут или Уто (в тексте - посол Утин). Но параллели есть и на Поморье. В земле варинов-вагров был город и округ Утин. Известно также имя ободритского князя Удо. В X в. это имя (в том числе в варианте Ходо) было употребительно у саксов. Может быть, вариантом того же имени является и еще одно имя договора Игоря - Етон. Имя уходит в отдаленную древность, и исконное значение его (как и язык) неясно.
Остается рассмотреть имена трех легендарных братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора. Только норманистским ослеплением можно объяснить поиски аналогов для летописного Рюрика в Скандинавии. Об отсутствии этого имени в шведской истории, как отмечено выше, подчеркнуто разъясняла нашим норманистам в 1997 г. в Кирове шведская исследовательница Л. Грот. Дело в том, что имя это известно в Европе, по крайней мере с IV в. А. Хольдер приводит пять «Рюриков», известных до VII[523].12 «Рориков» отмечено на территории Франции IX-XII вв.[524] Имя это проще всего может быть понято как отражение племенного названия руриков, или рауриков (откуда французские «Рорики»), Название племени происходит, очевидно, от реки Рур или Руара.
В настоящее время это название имеют притоки Мааса и Рейна. В Средние века и у Одера был приток Рурика[525]. Во времена Юлия Цезаря рурики, не желая покориться римлянам, в большинстве покинули обжитые места и исчезли из поля зрения римских авторов. Но и позднее выходцы из поречья Руры получали прозвище Рурик[526]. В антинорманистской литературе имя сближается также с названием ободритов реригами или просто с вендским обозначением сокола - рарогом. Но имя на Русь попало именно в кельтской огласовке. К тому же рассеяние племени в первые века нашей эры предполагало довольно широкое распространение имени по континенту.
Для имени Синеус в Скандинавии нет даже приблизительных параллелей. Поэтому и появилась названная ранее версия, что Синеус и Трувор - вообще не имена, а неудачное осмысление скандинавского сказания. В кельтских именах параллели ему находятся и имя естественно объясняется от sinu - «старший»: Sinaues, Sinus, Sinicus[527]. Не исключено, что имя явилось славянским переосмыслением кельтического антропонима типа Беллоуес, где второй компонент - вариант от гаст в значении «господин».
Имени Трувор параллелью может служить широко распространенное и у современных кельтов имя Тревор[528]. В старофранцузском языке слово «трувор» означало поэта, трубадура, путешественника. Напрашивается также сопоставление с именем Труана из договора Игоря и Трояна из «Слова о полку Игореве». В кельтской традиции много имен от «три», и «третий» по рождению обычно означал не просто порядковый номер, а лучшего из рода[529].
Как было упомянуто в другом месте, по генеалогии Фридриха Хемница (XVII в.) Рюрик и его братьями считались сыновьями Готлейба - ободритского князя, плененного и затем убитого в 808 г. датским королем Готфридом. Правда, названы там братьями Рюрика Сивар и Триар. Но это отличие лишь подчеркивает независимость мекленбургских генеалогий от генеалогии Рюриковичей на Руси. Память о Рюрике, сыне Готлейба, жила здесь долго. Даже в середине XIX в. их записывал французский путешественник К. Мармье, о чем писал В.Чивилихин[530]. И.Хюбнер, однако, не включил эти данные в свою сводную генеалогию. В соответствии с русскими источниками он начинал династию русских князей именно с Рюрика. В этом сказался общий принцип автора - следовать официальным генеалогиям.
Генеалогии Хюбнера дают, однако, материал для прояснения загадочных и непонятных имен рутенов, упоминаемых в саге о Тидреке Бернском и в «Деяниях данов» Саксона Грамматика. Так, уникальные имена рутенских вождей из Роталии Онев и Олимар находят аналогию в генеалогии герулов, вандалов и венедов. После первого короля герулов Антырия следует Анавас и затем Алимер. В объединенной генеалогии трех племен, считавшихся, очевидно, родственными, перемешаны славянские и неславянские имена. Уже 6-ю и 7-ю степень, относимую к I в. н. э., занимают «короли» со славянскими именами:
Визилаус и Витислаус (то есть Всеслав и Вячеслав или Вышеслав). Имена эти будут далее повторяться. Есть в их числе также Мечислав, относимый к IV в., и неоднократно повторяющийся Радегаст. В связи с Радегастом (Радагаис) I сообщается, что в 388 г. при императоре Гонории герулы прошли в Италию. С герулами с острова Рюген в той же книге связываются и Одоакр - Оттокар, а с последним, в свою очередь, генеалогия маркграфов Штирии (то есть области Ругиланда), где имя Оттокар было излюбленным.
Одоакра, как отмечалось в другом месте, Иордан считал ругом. Гельмольд, в свою очередь, считал славянским племенем герулов, отождествляя их с гельведами-гаволянами (то есть племенем, жившим по реке Гавеле). В средневековой славянской эпической традиции Одоакра считали славянским или русским князем, противопоставляя его герою немецкого эпоса Теодориху-Дитриху остготскому.
Таким образом, русский именослов в целом подтверждает картину, рисуемую летописцами, а также древнейшими западными источниками. В Поднепровье действительно были выходцы из Подунавья, упомянутые в летописи. Движение северных русов и варягов начинается значительно позднее. Помимо славян и славянизированных варинов и русов, в переселениях заметна роль фризов. Судьбы фризов и русов на Балтике вообще часто пересекались, поскольку главным врагом тех и других долго оставались даны. В 786 г. фризы были разбиты датчанами при Бравалле, после чего многие из них покинули страну, переселяясь, в частности, и на восток, в славянские земли. Весьма вероятно, что имя князя Бравлина из «Жития Стефана Сурожского» воспроизводит топоним Бравалла (Бравлин принял крещение вскоре после смерти Стефана в 787 г.). Археологически фризский элемент с начала IX в. прослеживается едва ли не по всем балтийским городам.
Чисто германских имен в древнерусском именослове нет. Даже имена с компонентом свен не могут возникнуть у самих свевов, как, скажем, имя Рус не имеет смысла в Русской земле. Эти имена, в частности, издавна были у данов, ближайших соседей и долговременных антагонистов варинов и ругов-русов. У самих данов германские имена появляются сравнительно поздно, что указывает на сохранение на этой территории негерманского населения, может быть, родственного тем же варинам, ругам и вообще племенам венедо-вандальской группы.
Собственно, скандинавы попадают на Русь лишь с конца X в., причем обычно в составе смешанных варяжских дружин вроде дружины йомских витязей. Саги не знают русских князей ранее Владимира, да и во времена Владимира герои их действуют в Прибалтике, на побережье прежде всего Эстонии. Тесные связи со шведами устанавливает лишь Ярослав Мудрый, что и нашло отражение в переписке Ивана Грозного с Юханом III в XVI в. Ни один источник X-XIV вв. не смешивает русь ни со шведами, ни с каким иным германским племенем.
Примечания:
454. Роспонд С. Структура и классификация древневосточнославянских антропонимов (имена) // ВЯ, 1965, № 3. С. 3-4.
455. Егоров Д.Н. Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. Т. I. - М., 1915. С. 363. В отличие от православия, католичество не требовало замены языческого имени на имя какого-нибудь святого.
456. Гроздова И.Н. Кельтские народы Британских островов // Этнические процессы в странах зарубежной Европы. - М., 1970. С. 171, 191-192.
457. Решетов A.M. Антропонимические трансформации в инонациональной среде // Этнография имен. - М., 1971. С. 60-61.
458. Вайнштейн С.И. Личные имена, термины родства и прозвища у тувинцев // Ономастика. - М., 1969. С. 125-127.
459. Никонов В.А. Имя и общество. - М., 1974. С. 20.
460. Решетов A.M. Указ. соч. С. 60.
461. Иордан. Указ. соч. С. 77.
462. Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 47; Mone F.I. Die gallische Sprache und ihre Brauchkeit fur die Geschichte. - Karlsrue, 1851. S. 187-188.
463. Bach A. Deutsche Namenkunde. 1. Die deutsche Personennamen 1. - Heidelberg, 1952. S. 226.
464. Роспонд С. Указ. соч. С. 10.
465. Егоров Д.Н. Указ. соч. С. 366, примеч. 6.
466. Никонов В.А. Указ. соч. С. 12-13.
467. Егоров Д.Н. Указ. соч. С. 366.
468. Подольская Н.В. Антропонимикон берестяных грамот // Восточнославянская ономастика. - М., 1979. С. 204.
469. Mone F.I. Op. cit. S. 40.
470. Bahlow Н. Namenforschung als Wissenschaft. Deutschland Qrstnamen als Dankmaler Keltischer Vorzeit. - Neumunster, 1955.
471. Гельмольд. Указ. соч. С. 48-49, 253.
472. Shaw William A.M. Galic and english Distionary. V. I. - London, 1780 (Gorm в значении «кровь», «знатный», «блестящий» и т. п.).
473. Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины. - М., 1968. С. 276- 282.
474. Алексеева Т.Н. Славяне и германцы в свете антропологических данных // ВИ, 1974, № 3. С. 67.
475. Български етимологичен речник. Св. XIII-XIV. - София, 1977. С. 429-430.
476. Илчев С. Речник на личните и фамилии имена у българите. - София, 1969. С. 450-451.
477. Зализняк А.А. Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // ВСЯ. Вып. 6. М., 1962. С. 44.
478. Holder A. Op. cit. Т. 2. - Graz, 1961. S. 1041.
479. Krahe Н. Lexikon altillyrisher Personennamen. - Heidelberg, 1929. S. 43.
480. Holder A. Op. cit. T. 3. - Graz, 1962. S. 912; Jachnow H. Die slawischen Personennamen in Berlin bis zur tschechischen Einwanderung im 18 Jahrhundert. - Berlin, 1970. S. 91-92.
481. O'Rahilly Т. E. Early Irish History and Mythology. - Dublin, 1946. P. 60, 77.
482. Holder A. Op. cit. Т. 1. S. 31-33.
483. Krahe H. Op. cit. S. 45; Untermann J. Die venetischen Personennamen. - Wiesbaden, 1961. S. 188; Kakori T. Noms propres et noms de famille d'origin albanais dans la ville de Ljaskovec // Actes du XI-е congres international des sciences onomastiques. 1. - Sofia, 1974. P. 450.
484. Зутис Я. Русско-эстонские отношения в XI XIV вв. // «Историк-марксист», 1940, № 3. С. 40.
485. Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен. - М., 1973. С. 192-193.
486. LothJ. Les noms des saints Bretons. - Paris, 1910. P. 64-65; MorletM.T. Les noms de personne sur la territoire de l'annciene Gaule du VI-е au XII siecle. I. - Paris, 1968. P. 146.
487. Немиров Г.А. «Русь» и «варяги» (происхождение слов). Заметки для выяснения древнейшей истории Петербургского края. - СПб., 1898. С. 33-38. Автор имеет в виду Ингрию - русскую Ижору у побережья Финского залива, отличая ее от соседнего финского населения и по внешнему виду.
488. Рыбакин А.И. Указ. соч. С. 276; Anleifr - «Предок остается». Ближе было бы кельтское (уэльсское) olaf - «последний». См.: Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 231.
489. Кузьмин А.Г. Важный вклад в изучение древнерусской историографии // ВИ, 1974, № 4. С. 131; Morlet МЛ. Op. cit. Р. 74.
490. WinklerJ. Friesische Naamlijst. - Amsterdam, 1971. S. 136.
491. Dauzat A. Dictionnaire noms de famille et prenoms de Franc. - Paris, 1951. P. 88 (Garly).
492. Schmidt K.H. Die Komposition in gallischen Personennamen // ZCPH. B. 26. Tubingen, 1957. S. 63.
493. Pokomy J. Die Geographie Irlands bei Ptolemajos // ZCPH. B. 24. Tubingen, 1954. S. 115.
494. Weekley E. Surnames. - London, 1936. P. 283.
495. Loth J. Le nom de Gildae dans 1'ile de Bretagne, en Irlande et en Armorique // Revue Celtique. 46. Paris, 1929.
496. Шахматов А.А. К вопросу о древнейших славяно-кельтских отношениях. - Казань, 1912. С. 47.
497. O'Rahilly Т. Op. cit. Р. 34, 47, 97.
498. Loth J. Les noms., P. 122-123.
499. Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 33.
500. Рыбакин А.И. Указ. соч. С. 198.
501. Филип Ян. Указ. соч. С. 164.
502. Albenque A. Les Rutenes. - Rodes-Paris, 1948. P. 230, 237.
503. Weekley E. Op. cit. P. 280.
504. Рыбакин AM. Указ. соч. С. 262.
505. Untermann J. Op. cit. S. 77,173 (Moenius).
506. Рыбакин A.M. Указ. соч. С. 39.
507. Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 80.
508. Black G.F. The Surnames of Scotland. - New York, 1946. P. 15.
509. Lehr-Splawinski T. Kilka uwag о stosunkach Jezykowych celtiko-praslowiariskich // Rocznik Slawistyczny. R. XVIII. 1956. S. 6.
510. Whatmoug J. The dialects of ancient Gaul. - Cambridge, 1970. P. 203-204 (Blanda, Bouda); DauzatA. Op. cit. P. 47,55 (Bloud Boudy).
511. Untermann J. Op cit. S. 189,192,136.
512. Jachnow H. Op. cit. S. 93; Илчев С. Указ. соч. С. 91 (Буди).
513. DauzatA. Op. cit. P. 599, 264,126, 558.
514. Илчев С. Указ. соч. С. 117.
515. Jachnow Н. Op. cit. S. 185 (Sletko, Slottenik).
516. Schlaug W. Die altsachlichen Personennamen vor dem Jahre 1000 // Lunder ger manistische Forschungen, 1962. S. 75.
517. Льюис Г., Педерсен X. Указ. соч. С. 61; Holder A. Op. cit. Т. I. S. 406; Craigie W. A dictionary of the older Scottish tounge from the twelfth century. V. I. - London, 1931-37. P. 241
518. Modeer I. Svensca Personnamn. - Stockholm, 1964. S. 114-116,127-129.
519. Селищев A.M. Славянское языкознание. - M., 1941. С. 75, 329-331. Псковизм обычно усматривают в эпитете «шизый» вместо «сизый» в «Слове о полку Игореве».
520. Holder A. Op. cit. Т. I. S. 623; Т. III. S. 986-989.
521. Winkler J. Friesische Naamlijst. S. 53.
522. Bahlow H. Die stralsunder Burgernamen urn 1300. - Stettin, 1934. S. 5; SuidquistB. Deutsche und Niederlandische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. - Lund, 1957. S. 117-118.
523. Holder A. Op. cit. Т. II. S. 1248-1249
524. Morlet M.T. Op. cit. P. 191.
525. Rudnicki M. Die Slaven, Kelten und Germanen in Bassin des Baltischen Meers zu beginn der indoeuropaischen Are // SO. Т. XV. Poznan, 1936. S. 136.
526. D'Abrois de Jubainville. Les noms Gaulois. - Paris, 1891. P. 37-38, 96.
527. Holder A. Op. cit. Т. II. S. 1567-1575. Cp. также славянскую форму Синко в договоре Игоря.
528. Рыбакин А.И. Указ. соч. С. 339. Объяснение - «большой дом» вряд ли удовлетворительно.
529. Филип Ян. Указ. соч. С. 173-174
530. Чивилихин В. Память. - М., 1982. С. 475-479.
Глава третья. Внутреннее и внешнее положение руси в IX-X вв.
Образование древнерусского государства являет собой пример сложения новой цивилизации в результате взаимодействия различных этнических групп. В этом процессе участвуют остатки доскифского и ираноязычного населения, разные группы славян, иллиро-венедское и кельтическое население также нескольких потоков. Территория, на которой развертывался этот процесс, простиралась от Балтийского до Азовского и Черного морей. По всему великому пути «из варяг в греки» происходит смешение исконно славянского и «русского» в разных его вариантах. Это фиксируется самим фактом путаницы в источниках: то славяне и русь разделяются, то русь рассматривается как часть славян. Ибн Хордадбех в IX в. считал русских купцов «видом славян». Одна и та же река называлась то «русской», то «славянской»[531].
Сам этноним «русь», как отмечалось, не всегда означал одно и то же И реально в сложении древнерусской народности участвовали, по крайней мере, четыре ее вида. Это «русь» собственно поднепровская, входившая в состав еще Черняховской культуры, затем вместе с гуннами ушедшая на Дунай и вернувшаяся после развала державы Аттилы к Днепру и Крымскому побережью. Это «русь» из Норика-Ругиланда, откуда киевский летописец выводил и славян и русов, особо подчеркивая их славяноязычие. «Русь» Подунавья в легендах, записываемых с XIII в., окажется тесно связанной с проблемой происхождения славян (легенды о Чехе, Лехе и Русе, как бы об основателях трех крупнейших славянских государств). Стойкость этой легенды подчеркивается и тем, что на торговом пути от Днепра до верховьев Дуная будет в качестве основной денежной единицы держаться серебряная гривна весом в 168-170 г., ориентированная на денежную систему римского времени. В то же время на Волго-Балтийском пути, активную роль на котором играли славяне и русы-руги, на протяжении столетий будет удерживаться новгородская гривна ориентированная на фунт Карла Великого (409 г.), составляя ровно половину этого фунта. (На этот фунт ориентировалась и денежная система Волжской Болгарии - конечный пункт этого торгового пути, где встречались купцы запада и востока).
Центральная Европа в V-VI веках
Дунайско-иллирийские русы были ветвью русов-ругов балтийских, обосновавшихся здесь еще в IV в. и позднее смешавшиеся со славянами. На Балтике руги-русы также переходят на славянскую речь, поглощая и остатки дославянских племен «виндальской» группы, в числе которых были и варины-варанги-вэринги-варяги, просто поморяне. Вокруг них копья ломаются уже несколько столетий. Яркий кельтический след на этой территории явно связан с переселением сюда из Галлии после завоевания ее римлянами венетов и рутенов, которые и дали разные варианты названий племени, разбросанного от Балтики до Меотиды. Но на Балтике была и иная по истокам «русь», именно Русь аланская. Основной территорией ее была салтовская культура верховьев Дона, откуда также был выход на Волго-Балтийский путь, который еще и в XII в. представлялся Гельмольду главным, соединяющим Балтийское и Черное моря.
Темой будущих докторских диссертаций явится история контактов и противоборства двух этнически разных «Русий» - «Чермной» и «Белой», колонии которых перемешивались в районе Немана и Западной Двины. К сожалению, восточное побережье Балтики слабо исследовано в археологическом отношении еще и в то время, когда этот берег входил в состав одного государства. Теперь перспективы таких исследований стали еще более проблематичными. А собственно исторические данные указывают на то, что Рюрик с братьями действительно переселялись на восток по Балто-Волжскому пути (именно в Ладогу) после гибели их отца Готлейба в 808 г. Вполне вероятно, что именно с ним связано основание Новгорода в середине IX в. (Керамика южнобалтийского типа это удостоверяет.) Но Олег и Игорь явились явно из другой Руси и по крайней мере через поколение после братьев, вынужденных переселенцев с южного берега Балтики. Сами имена Олега и Игоря указывают именно на «Русию-тюрк», также подвергавшуюся интенсивной славянизации. Именно отсюда иранские и чудские-эстонские имена попадают в договоры Руси с греками, а славянские божества в пантеоне богов Владимира пополняются иранскими. И показательно, что «Олегов» и «Игорей» нет в западной части балтийского побережья. А традиционно Новгород будет тесно связан с южным берегом Балтики, Псков же - больше с Роталией, тесные связи с которой будут продолжаться вплоть до окончательного ее падения в ходе войны 1343-1345 гг. против Ливонского ордена.
Смешение двух разных по происхождению русов наблюдалось на протяжении почти тысячелетия и в Причерноморье. При этом как на Балтике, так и в Причерноморье русы часто ассимилировались без участия самих славян. Этим обстоятельством только и может быть объяснено существование славяно-русского Тмутараканского княжества в такое время, когда не приходится говорить о сколько-нибудь значительной славянской колонизационной волне в этом направлении.
На протяжении IX-X столетий границы нового этнополитического объединения неоднократно менялись и менялся характер отношений между разными районами, на территории которых происходили сходные, по существу, процессы. Летописи фиксируют разные границы Руси, чаще всего не давая точных хронологических определений: к какому времени относится та или иная политическая ситуация? Взимание дани Русью с прибрежных балтийских народов, по всей вероятности, не относится к Киеву и предполагает русов южно- и восточнобалтийских (т. е. в истоках разноэтничных). Но в представлении летописцев эти «Русии» уже сливались в Приднепровье, что в значительной степени, по крайней мере, в генеалогиях киевских князей, соответствовало действительности. В VIII—IX вв. устойчивые политические связи между Приднепровьем и Причерноморьем также едва ли существовали. Но в представлении греческих авторов и тут, и там жил один и тот же народ.
В самом Приднепровье ситуация была чрезвычайно сложной. Даже в X в. в числе племен, входивших (согласно «Сказанию о славянской грамоте») в состав Руси, нет смоленских кривичей. И похоже, что Гнездовский курганный могильник был оставлен несколькими поколениями воинов и купцов, не связанных непосредственно с Киевом: здесь было самостоятельное княжество. И еще в конце X в. Владимир шел на Киев через Полоцк, минуя Смоленск.
На протяжении IX-X вв. неоднократно менялся круг племен, плативших дань киевским князьям. В первой половине IX в., судя по «Сказанию о призвании варягов», племена полян, северян, вятичей были данниками хазар, тогда как древляне сохраняли полную самостоятельность. Олег прибыл, по летописи, из Новгорода, если только указание на Новгород не привнесено вместе с явно искусственным привязыванием ребенка Игоря к славимому в Новгороде (видимо, его основателю) Рюрику. Но под его властью оказались среднеднепровские
племена: поляне, древляне, северяне и радимичи, а главная борьба развертывалась с уличами и тиверцами, закрывавшими с юга путь «из варяг в греки».
Расселение восточных славян по данным летописи
Насколько непрочно было в это время политическое единство, можно судить по борьбе с древлянами, особенно обострившейся при Игоре (913-945). Древляне, хотя и сохраняли номинальную зависимость от «русских» князей, имели и своих князей, и свое управление. Согласно летописи, древлянские послы, сватая Ольгу за своего князя Мала, заявили: «Мужа твоего убихом, бяше бо мужь твой аки волк восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю»[532]. Противоборство полян и древлян уходит в глубину веков. Однако в ней не видно каких-либо следов этнической розни, несмотря на то, что у полян к этому времени, возможно, еще и не завершился процесс полной славянизации. На первом плане совершенно отчетливо стоят чисто социальные проблемы. У полян, несомненно, классовое расслоение зашло дальше, чем у древлян. Это хорошо прослеживается и на материалах захоронений. Подчинение Киеву в данном случае означало усиление уровня эксплуатации, тем более что, как и во всех других ранних государствах, основные тяготы возлагались на покоренные племена. Но древлянская знать охотно соглашалась остаться в составе нового государства, если ей гарантировали определенные привилегии, равные с привилегиями киевской знати.
У уличей традиции племенного строя были, видимо, прочнее. После упорной борьбы против киевских дружин, не примирившись с необходимостью платить дань, уличи покинули Южное Приднепровье и передвинулись к тиверцам на Днестр. Это было последнее переселение крупного славянского племени в полном составе. Но оно свидетельствует о том, что вплоть до X в. массовые переселения племен были явлением вполне обычным, нисколько не удивлявшим современников.
В низовьях Днепра не видно достаточно выразительных следов славянской материальной культуры. Однако и после ухода уличей здесь жило славяноязычное население. Святослав, возвращаясь в 972 г. из неудачного похода в Болгарию, зимовал «в Белобережье», ниже порогов, покупая у местного населения провиант, причем из-за голода стоила «по полугривне глава коняча»[533]. Здесь пересекается степной обычай употребления конины в пищу и славянская речь. Все это свидетельствует о том, что на юго-востоке распространение славянских языков было более широким, чем распространение славянской (традиционной) материальной культуры.
Сложные внутренние процессы происходили и на территории полян. Пожалуй, самое удивительное заключается в том, что с точки зрения соседей полян, да и их самих они мыслились как этнически однородное племя - поляне-русь. Между тем и погребальный обряд, и антропологические данные свидетельствуют о соединении в рамках этого племени групп, разных по происхождению. Здесь неизбежно должны были жить разные представления о происхождении, что и отразилось в этнографических и генеалогических преданиях. Но серьезной внутренней борьбы между, скажем, славянскими и неславянскими элементами не видно. Это может быть объяснено только совершенно одинаковым правовым положением тех и других, естественным процессом славянизации всего «русского» и вообще неславянского населения.
От середины X в. идут вроде бы взаимоисключающие версии. «Сказание о славянской грамоте», судя по всему уже знакомое христианской общине при Ильинской церкви, предполагало единый язык славян и руси Подунавья. Но к тому же времени относится и известный документ Константина Багрянородного, в котором Киев называется «Самбатас» и даются параллельные «русские» и славянские названия семи днепровских порогов. «Русские» названия порогов, как и имена дружинников, большинство антинорманистов «уступали» норманистам[534]. Норманистская литература об этих названиях огромна, и для ее разбора нужна по меньшей мере монография[535]. И тем не менее вопрос совсем не так ясен, как до недавнего времени представлялось многим специалистам.
В свое время Г. Эверс иронизировал по поводу норманистской интерпретации названий порогов, замечая, что Дурич столь же успешно, как Тунманн из скандинавского, объясняет из словенского, Болтин из венгерского, и кто- то может объяснить из мексиканского[536]. Это замечание не потеряло силы хотя бы потому, что скандинавские названия конструируются из языковых «отходов», не относящихся к основной лексике языка и довольно темных по своему происхождению. Кроме того, названиям даются длинные и нечеткие описания, расчленяя их по слогам. Для топонимов это невероятно.
Ближе всех к реалистической постановке вопроса подошел все-таки в упомянутой выше статье М.Ю.Брайчевский[537]. Особенно убедительно в его интерпретации объяснение «русского» названия порога «Эссупи», соответствующего славянскому «Не спи», из осетинского языка, где отрицание «не» передается звуком «э». Можно добавить к этому, что греческому «Варуфорос» близка иранская параллель баэруфород, означающая «горы и долы», «верх и низ», «подъем и спад». Русскому «Леанти» может соответствовать иранское «лаэнати», означающее «проклятый», «проклятущий» (славянская параллель - «Веручи», что означает «кипящий»).
Близость названий порогов именно к осетинскому языку может служить аргументом в концепции Д. Т. Березовца о салтовской природе Приднепровской Руси. М.Ю.Брайчевский допускал еще сарматскую эпоху Топонимы обычно переживают оставивших их этносов. Но в данном случае византийский император имел в виду русов, приходивших в Константинополь именно из «Внешней Руси», то есть из Прибалтики по Днепру (русы-аланы шли туда же Доном). И речь могла идти об аланской Руси на Балтике, той самой, выходцами из которой, по всей вероятности, являлись Олег и Игорь. Другое дело, что сами «русские» названия зародились, возможно, еще в Черняховскую эпоху.
В X в. завершается процесс сложения нового этноса и новой социальной организации в Приднепровье. В этом процессе участвовали реликты доскифского и ираноязычного населения, разные группы славян, венедо-кельтическое население тоже нескольких потоков. Сложный и смешанный состав населения Киевщины долгое время проявляется в религиозных верованиях и погребальных обрядах. Это, в частности, можно видеть на составе пантеона древнерусских богов. Самое слово «бог» сближает русское язычество с иранским («бага») и ведет, видимо, еще к скифским и даже доскифским временам. Славянским божеством, по-видимому, является Дажьбог, потомками которого автор «Слова о полку Игореве» признавал русичей. Обычно имя осмысливается как «податель блага». Примерно так его должны были воспринимать и кельтические племена (кельтское dag - добрый, хороший). Видимо, древнеевропейским божеством является Стрибог, судя по «Слову о полку Игореве», бог ветров и пространства (индоевропейское, точнее санскритское stri - «простираться» ).
Дажьбог в славянском язычестве осмысливался и как бог солнца, причем выше его ставился бог Сварог. Согласно комментарию, внесенному одним из летописцев (в составе Ипатьевской летописи), «Солнце царь сын Сварогов, еже есть Дажьбог»[538]. В позднейших поучениях против язычества обличению подвергались те, кто «огневе молятся, зовуще его Сварожичем». Бог «Сварожич» известен также балтийским славянам[539]. Самому же названию «Сварог» можно найти объяснение опять-таки в санскрите: одно из названий неба в нем - «сварга».
Славянское язычество, таким образом, может восходить к самым древним этапам существования индоевропейских групп. Но рядом с этим в киевском пантеоне оказываются и имена, явно чуждые славянскому миру. Так, наряду с «сыном Сварога» функции бога солнца выполняет и бог Хоре. Автор «Слова о полку Игореве», говоря о «вещих» свойствах Всеслава, отметил, что полоцкий князь «великому Хорсови путь прерыскаше» (по средневековому поверью солнечное затмение случалось из-за того, что оборотень-волк загораживал путь солнцу). Подобное божество имелось и у иранских народов[540]. Г.Ф.Турчанинов прочел имя божества (о, хре!) в надписи на горшочке из-под Умани, относящейся к V в. до н. э.[541] Если это прочтение верно, то мы получаем еще одно доказательство глубокой автохтонности пребывания здесь населения, причем написание имени отличается от предположительного скифского («хуаерс).
Остается не вполне ясным происхождение божеств Симаргла и Мокоши, представленных в пантеоне Владимира. Ясно только, что это тоже не славянские божества. Первому из них обычно ищут аналогии в тюрко-иранской, второму - в угро-финской среде. То и другое непосредственно соединялось в Восточной Прибалтике, в Роталии. Боги пантеона Владимира как бы указывают, где молодой княжич набирал дружину и с каким «заморьем» был связан.
Главное божество варяго-русской дружины Перун совершило почти полный круг от хеттов через Прибалтику в Приднепровье. Здесь, однако, его, видимо, не успели усвоить. После принятия христианства с культом Перуна приходилось бороться на севере, в Новгородской земле. В Приднепровье же у этого божества приверженцев было меньше. Тем не менее некоторые специфические «русские» обряды должны были быть связаны с этим божеством. Так, культу Перуна обычно сопутствовал культ дуба. Согласно Гельмольду, у вагров их божество Проне как бы жило в дубовой роще, и поклонение роще означало поклонение этому божеству. В имени Проне обычно без сомнений узнают Перуна. В этой связи может представить интерес и еще одна параллель: кельтское название дуба - pren, ргепп. Последнее обстоятельство тем более существенно, что кельтические черты проявляются в поклонении русов дубу на острове Хортица, описанном Константином Багрянородным. Русы, в частности, делали вокруг дуба своего рода ограждение из стрел, что было характерно для культовых мест у кельтов: дуб или просто столб обносился оградой[542].
В связи с договорами руси с греками упоминаются лишь два бога: Перун и Белее. Перун в данном случае аккумулировал древнейшие венедские, кельтические и балтославянские традиции в их как бы военном аспекте. Второе божество присутствует как покровитель торговли, поскольку это «скотий бог». В самом термине «скот» в значении имущество, деньги («скотница» как хранилище казны упоминается летописью под 996 г.) также сказывается кельтическое влияние, поскольку в кельтских языках scot, scotti - означает именно деньги, имущество[543].
Ни одного германского или скандинавского божества в древнерусском пантеоне нет. Это в полной мере соответствует и составу имен социальной верхушки древнерусского общества. В них отражались древние местные (иранские и доиранские), кельтические и венедо-балтийские традиции, цементируемые и преобразуемые на славянской основе.
Сложная история возникновения новой этнической общности проявилась и в оформлении отдельных социальных институтов древнерусского государства. Выше упоминалось наблюдение А. А. Шахматова: ряд терминов социального значения сближают Русь с кельтическими народами. В этом ряду выделяются, в частности, «бояре», прямая аналогия которым находится в Ирландии, а этимологически их можно связать с королевским племенем центрально- европейских бойев. С кельтским сближается и уже вполне славянизированное «владарь», «власть» и т. д. Возникновение этих институтов должно уводить в глубокую древность, к первым славяно-кельтским контактам, хотя еще и в X в. рядом с ними сохраняются чисто славянские «старци», равно как с кельтическим «слуги» сохраняется славянское «дружина».
Определенный вклад в социальную терминологию Руси вносили и тюрко-иранские ее предшественники и современники. Именно к современникам относился титул «каган», прилагавшийся, видимо, к правителям алано-росов на Дону и «острову русов» на Балтике. Иларион в качестве знака почета прилагал этот титул к Владимиру и Ярославу, а «Слово о полку Игореве» - к Олегу Святославичу, княжившему некоторое время в Тмутаракани. Из той же среды, видимо, происходит и термин «тиун», который весьма произвольно относят к германским. Параллель ему находится у автора X в. Моисея Калантакваци, написавшего историю Кавказской Албании. Говоря о нападении хазар на Албанию в VII в., автор упоминает в лагере нападавших «знатных мужей, называемых Тндиунами»[544]. Название это совсем необязательно возводить и к тюркским, тем более что в составе хазарского войска выявляется и как будто славянский элемент[545].
Глубокая традиция стоит, по-видимому, за как будто уникальным новгородским институтом: «300 золотых поясов» в качестве главного органа республики[546]. Кельтская Галатия в Малой Азии имела в качестве верховного органа совет из трехсот членов, собиравшихся в дубовой роще[547]. На острове Рюген верховная власть принадлежала жрецу, в распоряжении которого было триста всадников, с помощью которых он и осуществлял фактическое управление[548]. Во всех случаях цифра «300» появилась, по-видимому, независимо друг от друга, но в зависимости от давней традиции.
Поляно-древлянские войны первой половины X в. явились важным фактором, ускорившим процесс утверждения древнерусской государственности.
Ольга после смерти Игоря принимает ряд мер с целью унификации системы управления в разных землях и упорядочения сбора дани. И хотя не все ее установления прочно вошли в жизнь, основные тенденции позднейшего развития соответствуют этим мероприятиям. Тенденции эти заключаются в стремлении к консолидации социальной верхушки разных племен на новой основе, без противопоставления по этническим и религиозным признакам. Владимир, согласно летописи, «нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне, и поча нарубати муже лучыпие от словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сих насели грады»[549]. Вполне в духе этой политики и создание Владимиром пантеона языческих богов. Именно такая политика обеспечила поистине стремительную ассимиляцию балто-финских племен в Новгородской земле и в Волго-Окском междуречье.
Задаче укрепления именно государственного единства должно было служить и принятие христианства. Язычество - религия доклассового общества, и в качестве таковой оно не могло не тормозить процесса социальной дифференциации и его узаконения. Язычество в переходный период давало известное идеологическое оружие социальным низам, боровшимся против повышения норм эксплуатации. Вместе с тем язычество сохраняло и отжившие традиции родоплеменного строя. В этих условиях обращение к одной из «мировых» религий было неизбежно.
У причерноморских росов епархия константинопольского подчинения утверждается уже в 60-е годы IX века (при патриархе Фотии, ум. 867). В конце IX века принимают христианство русы на территории Болгарии. В Иллирии, откуда летописец выводил и славян, и русов, еще в IV в. нашли убежище и пристанище Арий и его последователи, распространявшие христианство среди варваров, служивших Риму или боровшихся с ним. Арианство привлекало варваров демократической формой организации церкви: епископы избирались общинами и не принимали притязаний Рима на утверждение системы господства и подчинения. Константинополь был более терпим к последователям Ария. Константин Великий в конце жизни и сам принял христианство в арианском прочтении. Арианином был и его сын Констанций. Но собор 381 г. осудил арианство, причем осуждалась не практика выборов епископов, а редакция «Символа веры». Еще в споре с Арием Афанасий Александрииский настаивал на «единосущии» Троицы - Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и восприятии этого положения «мистически», не обращаясь к здравому смыслу. Ариане считали Бога Сына «подобосущим» Отцу, поскольку он признавался рожденным. Но острота спора подогревалась, конечно, не разночтением «Символа», а практикой ариан, не признававших над собой внешней церковной власти.
Христианизация Руси и специфика русского христианства, - безусловно большая самостоятельная проблема. Свое видение проблемы автор изложил в книгах «Падение Перуна», «Крещение Руси в трудах русских и советских историков» (обе 1988 г.), в статьях и главах книг, посвященных христианизации Руси, а также в статьях и книгах по истории летописания как источника и первостепенного по значению памятника общественной мысли. Здесь необходимо остановиться на характере раннего русского христианства и его истоках. Летописная статья 944-945 гг., включившая текст договора Игоря с греками, содержит весьма важную информацию о раннем русском христианстве, до сих пор в должной мере не освоенную и даже освоенную в прямо противоположном летописному тексту осмыслении. В свое время Г. М. Барац, автор уникальной концепции о еврейских (или хазаро-иудейских) истоках Руси, советовал А. А. Шахматову в реконструкциях летописных текстов смелее переставлять строчки[550]. Рекомендацией воспользовался Д.С.Лихачев, переставив в популярном издании ПВЛ 1950 г. строчки именно в указанной принципиальной статье. В оригинале речь идет о местоположении «соборной» Ильинской церкви. В летописи читается, что при заключении договора с греками «хрестеяную русь водиша роте в церкви святаго Ильи, яже есть над Ручаем, конець Пасынче беседы и Козаре: се бо сборная церки, мнозие бо беша варязи хрестеяни». Д.С.Лихачев переставил строки. Получилось: «се бо сборная церки, мнози бо беша варязи хрестеяни и козаре»[551]. А в результате появилась «хазарская версия» Крещения Руси, которую особенно энергично отстаивал В. Кожинов. Пользуясь обычно выверенными академическими изданиями летописей, я долго не понимал, где находятся истоки этих неуемных фантазии, что отразилось и в специальной статье о хазаромании[552]. Но и указание летописи «мнози бо беша варязи хрестеяни» - комментарий позднейшего летописца, вводившего в текст договоры. (Вероятно, 20-е гг. XII в.) Христианство у варягов с южного берега Балтики распространялось уже с IX в., а в 983 г. произошло грандиозное восстание против засилья немецкого духовенства. Возможно, в Роталию тоже проникало христианство, причем с Дона: в 932 г. христианство принимает какая-то часть алан и утверждается аланская епархия. Но Ильинская церковь уже своим существованием (и даже названием) предполагала наличие христианской общины в Киеве. И в этой связи представляет огромный интерес небольшая, но чрезвычайно емкая и информативная статья С. С. Ширинского в сборнике, посвященном юбилею Б. А. Рыбакова[553].
Статья дает факты такого значения, которые объясняют не только место христианской общины Киева в середине X в., но и многие факты, связанные с историей христианства на Руси в течение ряда веков. В свое время выдающийся знаток древнерусской письменности и отраженной в ней идеологии Н. К. Никольский (все еще не вполне изданный и далеко не в полной мере оцененный) указал на связь ранней русской письменности и христианства с Великой Моравией[554]. Ученый подчеркивал светлый, оптимистический характер древнерусского христианства, не знавшего ни крайностей аскетизма («что ешь и пьешь - все во славу Божью», - скажет летописец со ссылкой на апостола Павла, особо чтимого в Иллирии), ни воинственного настроя по отношению к инаковерующим. Русское православие не знало военных орденов, а первые костры, которыми Рим веками разогревал всю Европу, появятся на Руси лишь в конце XV - начале XVI вв., не без влияния того же Рима, как бы сопровождавшего Зою-Софью Палеолог в жены овдовевшему Ивану III.
Великая Моравия была главным хранителем Кирилло-Мефодиевской традиции, и не случайно, что именно этих братьев в 60-е г. IX в. пригласили в Моравию для того, чтобы разобраться в разгоравшихся в стране спорах разных христианских общин и разных прочтений христианства («учат ны различь»), А ясно представлены были в Моравии три варианта прочтения христианства: воинственное римско-католическое, традиционное арианское и ирландское, оставившее заметный след в христианизации Европы после бурь Великого переселения. Достаточно сказать, что все монастыри Австрии были основаны ирландскими миссионерами. (Сами австрийцы об этом не знают.)
Ирландскую церковь сближал с арианством общинный дух. Здесь общины складывались как монастыри, насчитывавшие часто по много тысяч пострижеников (обязательно кратных двенадцати, по числу апостолов). В обязанности монахов непременно входило «рукоделие» и помощь окрестному крестьянскому населению. Жили в монастырях часто семьями, что более всего будет эксплуатироваться Римом, провозглашавшим обязательный целибат для всех священнослужителей (и, разумеется, смотревшим сквозь пальцы на нарушение его и в прошлом, и в настоящем, чем отличались и некоторые папы и в наше время едва ли не все католическое духовенство США, что вылилось в грандиозный скандал). В ирландской церкви общину возглавлял аббат монастыря или главного храма, а епископы исполняли хозяйственные функции.
Естественно, Рим резко осуждал по сути антиримское понимание христианства в Моравии, а обращение Святополка Моравского за «учителями» именно в Константинополь предполагало явное отвержение требований Рима, особенно агрессивно проводимого духовенством и правителями Франкской империи. Разные прочтения заповедей христианства постоянно приводили к вооруженному противостоянию, и наиболее радикальным приверженцам арианства и ирландской церкви нередко приходилось искать пристанища в отдалении от Рима и Германии. Одним из таких пристанищ станет Болгария (прежде всего область «Русии», где была самостоятельная митрополия константинопольского подчинения), другим - примыкающая к Моравии территория Польши, третьим окажется Киевская Русь. Гений Н.К.Никольского проявился более всего именно в том, что он увидел «переселенцев» из Моравии в специфическом прочтении заветов христианства при его распространении в X-XI вв. Материального подтверждения этого факта в его распоряжении не было. И мне уже приходилось называть «открытием века» упомянутую выше небольшую статью С. С. Ширинского: видимо, даже и не зная работ Н.К.Никольского (в данном случае это особенно ценно), он подвел под них как бы материальный фундамент.
В спорах о начале Руси до сих пор практически не используются богемские хроники, хотя еще в конце XVIII в. Хр. Фризе в «Истории польской церкви», написанной с антикатолических позиций, воспроизвел приводимые в них факты, относящиеся как раз ко времени функционирования специфической христианской общины во второй четверти X в. в Киеве. Автор воспроизвел сказания богемских хроник о деяниях сына Олега Вещего тоже Олега (или Александра в христианстве), бежавшего от двоюродного брата Игоря в Моравию, где он, благодаря успехам в борьбе против венгров, был провозглашен королем Моравии, пытался создать союз Моравии, Польши и Руси, но в конечном счете потерпел поражение и вернулся (уже после смерти Игоря) на Русь, где служил Ольге и скончался в 967 г.[555] (Могила Олега Вещего значилась на Щековице, другая «могила Олега» упоминалась у Западных ворот Киева). В свое время С. Гедеонов в доказательство нескандинавского происхождения имени «Олег» приводил данные о наличии его в чешской средневековой традиции. Указанные им параллели косвенно подтверждают достоверность самого приводимого в богемских хрониках предания. Примечательно также следование в ряде случаев специфической хронологии, не совпадающей с хронологией «Повести временных лет», но отразившейся в ряде чешских памятников.
Еще в XIX в. погребения с трупоположениями в Киеве пытались связать с распространением христианства. Но эта идея встречала возражения со стороны большинства специалистов: слишком очевидны следы языческого ритуала. Статья С. С. Ширинского снимает и эти возражения: по крайней мере, погребения с западной ориентацией находят полную аналогию в могильниках Моравии, христианство которой католическое духовенство клеймило, в частности, и за сохранение в ритуале элементов языческой традиции. (Кстати, одна черта, указывающая на западные истоки похороненных христиан, - руки не сложены на груди, а простерты вдоль тела.) Б. А. Рыбаков сослался на данные С. С. Ширинского для иллюстрации мысли о двоеверии на Руси[556]. Наблюдение весьма важное для понимания характера русского христианства на протяжении всего тысячелетия. Не менее важно сосредочить внимание на самом факте переселения значительного количества населения Моравии и каких-то смежных с ней областей (той же Иллирии, где борьба с притязаниями Рима была особенно острой), державшихся сходной трактовки христианского вероучения. Именно эти переселения помогают понять, откуда в дружине Игоря взялись христиане, мирно уживавшиеся с язычниками и явно не подчинявшиеся каким-либо внешним христианским центрам.
В рамках сведений Фризе и материалов Ширинского может найти подтверждение и специфическая киевская версия о том, что знаменитый былинный Илья вовсе не «Муромец», а «Муровлянин». И тогда понятны южногерманские сказания об «Илье русском», как и отражение этих вариантов сказаний в русских былинах.
Весьма вероятно, что именно с этой второй волной миграции из Подунавья связана летописная версия о выходе славян вообще и полян-руси, в частности, из Норика-Ругиланда. Летописец конца X в. мог что-то знать и от непосредственных переселенцев, и во всяком случае еще живы были старики, помнившие об этом «исходе». И византийские источники третьей четверти X в., производящие русов «от рода франков» и называющие их «дромитами», то есть «мигрирующими», фиксируют, возможно, именно этот факт переселения. А подтверждается этим переселением и реальное родство подунайских русов с ругами-русами, вернувшимися на Днепр после распада державы Аттилы в V в.
Как было отмечено, в дружине Игоря были и христиане. Ольга, согласно «Житию» и летописному фривольному рассказу о ее крещении, приняла крещение во время поездки в Константинополь. Но в ее свите был священник, и за помощью в распространении христианства на Руси она обратилась не к Константинополю, а к Оттону I, еще к королю, а затем первому императору Священной Римской империи (962), в зависимости от которой находилась теперь и Моравия. К «королеве ругов» (так германские источники обозначали Ольгу, идентифицируя киевских князей с ругами, а не с росами) будет направлен епископ Адальберт, который позднее станет архиепископом Магдебургским (968-981) и поставит епископом в Прагу верного католика Войтеха, перекрестив его в собственное имя Адальбертом. Миссия Адальберта закончилась полным провалом, о чем с раздражением писали немецкие хронисты, упрекая в непоследовательности княгиню. Но вероятнее всего сказались резкие антинемецкие настроения моравских эмигрантов, не согласившихся с приездом ставленника оккупантов. Не исключено, и даже вероятно, что и Олег-Александр не устранялся от подобной реакции на прибытие ставленника Империи, с которой ему незадолго до этого приходилось вести борьбу и военную и религиозную.
В связи с характеристикой идейной направленности христианской общины Киева в середине X в., имеет немаловажное значение указание И. И. Срезневского, что русский текст договора Игоря с греками был записан глаголицей: греческое «г» (как и в кириллице) означает цифру «3», а в глаголице - это «4» (звуки «б» и «в» в греческом языке и в кириллице сливались, а в глаголице были «разведены»). И договор, датированный в греческом противне третьим индиктом, в славянском оказался - ошибочно - в четвертом[557].
В литературе часто за переводчиками обращаются к Болгарии, где глаголица имела хождение рядом с кириллицей и где были ученики Кирилла и Мефодия. Но такой необходимости явно не было. В Ильинской церкви, естественно, имелись богослужебные книги, которые были записаны, по всей вероятности, именно глаголицей. Рим на протяжении ряда столетий клеймил Мефодия как «еретика», приписывая ему создание или возрождение «готского письма» - тайнописи ариан и запрещая пользоваться этой письменностью в богослужении. Это письмо называется также «русским», а самого Мефодия чешская Хроника Далимила начала XIV в. называла «русином», явно имея в виду то, что арианство в Подунавье удерживалось прежде всего, и традиционно, у русов-ругов. В 1248 г., после татаро-монгольского нашествия и на Центральную Европу, Рим «реабилитировал» «русское письмо», и оно приобретает второе дыхание. В XIV в. сам император Карл V увлечется глаголицей и будет поддерживать ее распространение. Но она все-таки возникала и сохранялась как тайнопись в течение веков.
Христианская община в Киеве в окружении язычества - факт сам по себе значительный: он указывает на такое язычество, которое было терпимо к другим верованиям. Именно это обстоятельство и позволило славянскому язычеству дожить до XX в. в силу их совместимости и даже определенной необходимости, поскольку славянское язычество регулировало отношения с природой, по существу не затрагивая социальные отношения, мало менявшиеся веками и тысячелетиями родового и общинного строя. Христианство же предстало как религия - именно регулятор социальных отношений. И разные течения в рамках христианства зависели в огромной степени от той социальной почвы, на которой оно распространялось.
В летописи есть упоминание о том, что Ольга уговаривала Святослава принять христианство, а он возражал, что дружина этого не поймет. И резон дружины очевиден: она кормится походами «за зипунами», сбором дани, полюдьем. По этой причине в Скандинавии христианство вообще будет распространяться лишь с конца XI в. Католичество сохранило рефлексы и инстинкты рабовладельцев, боровшихся ранее с христианами - поборниками равенства хотя бы перед Богом, организуя военизированные ордены, грабившие племена и народы якобы во имя «святой Троицы».
Старшего сына Святослава - Ярополка - обычно представляют в литературе как расположенного к христианству. В Никоновской летописи под 979 г. сообщается о прибытии к нему послов от папы римского. Это было первое посольство из Рима в числе целого ряда других, и не исключено, что в летописи отразилась какая-то папская булла XV в. Но конфликты братьев не укладываются в представления о новообращенных. Второй сын Святослава, Олег, посаженный на княжение у древлян, убил сына воеводы Свенельда, заехавшего в его охотничьи угодья. Ярополк, по настоянию Свенельда, убил Олега. А в 980 г. рожденный от рабыни Малуши Владимир прибыл из Новгорода с дядей по матери Добрыней и варягами, чтобы убить Ярополка и занять его место, тем более что гордая полоцкая княжна Рогнеда отвергла сватовство посланцев от имени Владимира, не хотела «розути робичича», а желала Ярополка даже и в качестве второй жены. (От жены Ярополка, которую заберет после его убийства в гарем Владимир, родится Святополк, а Рогнеда, судя по позднейшим преданиям, внесенным в летопись во времена Мстислава Владимировича (1125-1132), хотя и родила четырех сыновей и несколько дочерей, всегда тяготилась своим положением одной из многих.)
Судя по отмеченному преданию, юным Владимиром руководил и направлял его именно Добрыня - брат Малуши и прообраз легендарного Добрыни. И первые годы княжения Владимира - это беспрецедентное на Руси наступление язычества против христианства. В 983 г. в жертву языческим богам были принесены христиане - отец и сын варяги, по всей вероятности, с южного берега Балтики, где в том же году было восстание язычников против насаждения христианства (хотя летописец говорит, что этот варяг пришел «из грек»). Но стремление собрать под властью Киева постоянно рассыпавшиеся земли требовало и «единой веры и единой меры». Этой задаче отвечало создание пантеона языческих богов, причем явно разных по своему происхождению. Если главный бог дружины Перун импортировался явно с южного берега Балтики, где позднее четвертый день недели будет носить название «Перундан», то боги Хоре и Симаргл ведут к иранской традиции и могли быть привнесены из Роталии. Но такое «механическое» соединение не решало проблемы (каждый поклонялся своим богам), а необходимо было учитывать и внешний аспект: три мировые религии уже почти кольцом опоясывали земли Руси.
Летописное предание представляет акт замены языческих верований монотеистической религией как результат своеобразных «испытаний», предпринятых по инициативе Владимира. В Киев прибывают миссионеры христиан, мусульман и иудеев, и затем из Киева отправляются посольства для проверки истинности заверений миссионеров. Несомненно, что в летописном рассказе много легендарного (и анекдотического), и в законченном виде он появился, видимо, в третьей четверти XI в. в редакции, оформленной при Десятинной церкви и поднимавшей этот храм в противостоянии построенному при Ярославе Мудром Софийскому собору. Но представление о размахе, с которым обсуждался этот вопрос в киевских верхах, вполне может соответствовать действительности. Не исключены и посольства в разные страны, хотя представителей всех названных верований можно было найти и в самом Киеве.
Принятие Русью христианства было в целом подготовлено всем ходом предшествующего развития. И проблема скорее заключается не в том, почему было принято христианство, а в том, почему этот процесс затянулся. Естественно, что принятие христианства является одной из ведущих тем историографии и непосредственно ему посвящены многие сотни книг и статей. А поводом для широкого разброса мнений стал сам летописный текст, также неоднократно правленый летописцами разных ориентаций. В летописи повествование о «крещении Руси» рассредоточено между 6494-6496 (986-988) гг. и акт крещения князя Владимира отнесен к последнему, 988 г. Но, пересказав корсунскую версию крещения князя, летописец полемизирует с иными версиями: «Се же не сведуще право, глаголють, яко крестилъся есть в Киеве, инии же реша в Василеве, друзии же инако скажють». Таким образом, летописец, приверженец корсунской версии, оспаривает версии о крещении Владимира в Киеве и в Василеве. Были ему известны и иные версии, о которых он предпочел не упоминать. Как бы забытыми, в частности, оказались христиане киевской общины при Ильинской церкви.
Такая путаница, вызванная заинтересованностью разных территориальных и идейных центров, тем более примечательна, что в рассказе о печерских подвижниках под 1074 г. в летописи упоминается монах «именем Еремия, иже помняше крещенье земли Русьския». С другой стороны, от XI в. дошел один памятник - «Память и похвала Владимиру» Иакова мниха, в котором крещение Владимира отнесено ко времени за два года до похода на Корсунь[558].
Соединение в летописи заведомо разных версий о «крещении Руси», вытеснение позднейшими каких-то более ранних само по себе предопределяло расхождения в мнениях специалистов о том, где и когда и от кого было принято христианство Владимиром и откуда шли проповедники на Русь. Византийская версия господствовала долгое время как аксиома, но теперь потребовались доказательства ее оправданности. Эти доказательства попытался найти В. Г. Васильевский (1838-1899) - замечательный византинист, многие работы которого не потеряли значения до сего времени благодаря огромной эрудиции, общей широте кругозора и чувству меры, помогавшим избегать как легковерия, так и гиперкритицизма. Основной труд ученого, посвященный «крещению Руси», был опубликован им еще в 1876 г., т. е. до юбилейной даты, обычно так или иначе влияющей на содержание публикуемого материала[559].
Достоинством исследования Васильевского является четкая градация фактов: достоверные, вероятные, возможные. К первой категории может быть отнесен вывод о заключении в 986-989 гг. договора о союзе между Русью и Византией, скрепленного браком русского князя с сестрой императоров. Но автор отметил и то, что ни русские, ни византийские источники не говорят ни об этом союзе, ни о крещении Владимира именно византийскими миссионерами, хотя, скажем, Лев Диакон был современником событий, а Пселл отстоял от них совсем недалеко.
Васильевский указал и на противоречивость русских источников, он, в частности, отдавал явное предпочтение «Памяти о похвале» Иакова перед летописью, т. е. признавал, что Корсунь Владимир брал будучи уже крещеным. Но летописный рассказ воспринимался им как относительно цельное произведение летописца XII в.: сводному характеру русских летописей он должного значения не придавал, а потому поиски иных объяснений становились неизбежными.
На вероятность болгарской версии косвенно указывал А. А. Шахматов, отвергавший корсунскую легенду как тенденциозную византийскую версию и считавший летописную «Речь философа», вставленную в текст с сохранением ее специфической (антиохийской) хронологией, определявшей время до Рождения Христа в 5500 (а не в 5508, как в Византии этого времени) лет, болгарским памятником IX в.[560] На болгарской версии особенно настаивал М. Д. Приселков[561]. А. А. Шахматов поддержал концепцию, но осудил своего последователя за некритическое отношение к «рабочим гипотезам» - реконструкциям летописных текстов, заменивших тексты реальные[562]. Еще более решительно поддержал основную идею А.Е. Пресняков[563].
Западнославянскую версию отстаивал, как отмечено выше, во многих работах Н.К. Никольский. Современник и коллега Шахматова, он расходился с ним кардинально по вопросу о взаимоотношении летописных и внелетописных текстов. Шахматов считал близкие к летописям внелетописные тексты извлечениями из летописей. Никольский, напротив, считал их источниками летописных сводов. Он ближе всех своих современников подошел к пониманию механизма взаимодействия бытия и сознания, к пониманию того, что письменные памятники являются отражением определенных общественных идей, природа и происхождение которых могут быть выявлены.
У западнославянской версии относительно меньше последователей, чем у византийской и болгарской. Но она «моложе», а потому резервы ее далеко не исчерпаны. В числе последователей Н. К. Никольского можно назвать Н.Н. Ильина, рассматривавшего, правда, лишь частный (хотя и весьма важный) сюжет: происхождение летописной статьи 6523 (1015) г.[564] Мысль о связи древнерусского христианства с кирилло-мефодиевской традицией развивал в ряде статей Ю. К. Бегунов[565]. В самой «Речи философа» выявились черты не только болгарские, но и моравские[566].
Западнославянская версия подчас и отпугивала исследователей. Моравская церковь подвергалась гонениям со стороны Рима, а утвержденный архиепископом Мефодий был даже ввергнут в темницу воинственным немецким духовенством. Мефодия, как было отмечено выше, равно как и «русское письмо», связывали с арианской ересью. А в ПВЛ сохранился именно арианский символ веры. Арианские черты явственно прослеживаются в следующих ее фразах: «Отець, Бог отець, присно сый пребываеть во отчьстве, нерожен, безначален, начало и вина всем, единем нероженьем старей сый сыну и духови... Сын подобосущен отцю, роженьем точью разньствуя Отцю и Духу. Дух есть пресвятый, Отцю и Сыну подобносущен и присносущен»[567].
О том, что цитированный текст содержит арианские черты, так или иначе говорилось в работах по истории русской церкви еще в XIX в. Но обычно все сводили к ошибкам переписчиков. Лишь в самом начале XX в. П. Заболотский специально подчеркнул эту проблему. Он сопоставил летописный символ веры с «исповеданием веры» Михаила Синкелла, помещенным в «Изборнике Святослава»[568], и пришел к выводу, что перед летописцем находился не греческий оригинал и не «Изборник». «В таком важном произведении, как «Исповедание веры», где каждое слово имеет значение, - заключал автор, - разумеется, можно бы еще было допустить неважные изменения в способе выражения сравнительно с оригиналом, но допустить такие характерные для известного направления искажения, как вместо различения Бога Отца от Сына и Духа - старейшинство Бога Отца, вместо единосущия Сына и Духа с Отцом - подобосущие, или, наконец, последовательный пропуск свидетельства об антипостасности (нерасчлененности. - Л.К.) лиц пр(есвятой) Троицы - всего этого нельзя допустить, как выражения лишь более или менее свободного отношения летописца к оригиналу»[569].
Публикация П.Заболотского привлекла внимание и А.А.Шахматова, и Н.К. Никольского. Но первому она ничего не давала, так как не укладывалась в его концепцию. Второму давала очень много, поскольку практически решала спорную проблему истоков русского христианства в пользу западнославянской, моравской традиции. Но в летописи было явно позднейшее добавление о семи соборах, на первом из которых осуждалось арианство. Н. К. Никольскому вскоре удалось найти параллель для летописного текста в сборнике XII в.[570] Здесь также имеется сообщение о семи соборах, но имя Ария не упоминается. Развивать этот сюжет Н.К.Никольский не стал, видимо, опасаясь реакции поборников византийской ортодоксии. А окрик вскоре последовал. П. И. Потапов, резко осудив публикацию П. Заболотского, списав «еретические выражения» на «малообразованного автора», вынес «частное определение» и в адрес А.А.Шахматова и Н.К.Никольского[571]. И Н.К.Никольский отреагировал на окрик. Упрекая коллег за невнимание к идейному содержанию рукописей, за ограничение исследований «анализом языка, литературными параллелями и вопросами литературной истории», прямой вызов бросал он и духовным академиям, в которых история церкви превращалась в схоластику и само обсуждение изменений в церковной идеологии, а тем более возможности сосуществования разных вариантов вероучения исключались. «Ив летописях, и в житиях, и в былинах, - подчеркивал он, - христианство Владимира одинаково обрисовывается как вера, свободная от аскетического ригоризма»[572]. Владимир, по Никольскому, принимал то, что не стесняло жизнерадостности и не отличалось блеском ритуала. И «следы такого же религиозного оптимизма» он находил у западных славян[573].
Последователи у Потапова находятся и в наши дни. Известный филолог В.М. Верещагин провозглашает Владимира «прямым преемником Кирилла и Мефодия»[574]. Но он гневно восстает против тех, кто связывает Мефодия и Владимира с ариаиской «ересью». В книге, посвященной Кирилло-Мефодиевской традиции, автор умудрился не заметить, в чем Рим почти четыре столетия обвинял Мефодия (Кирилла в приверженности к арианству не обвиняли), как не понял он и сути арианства. Ссылаясь на книгу В. А. Бильбасова («Кирилл и Мефодий по документальным источникам»), автор не увидел главного. В послании папы Николая II (1059-1061) церковному собору в Сплите напоминалось: «Говорят, готские письмена были вновь открыты неким еретиком Мефодием, который написал множество измышлений против догматов вселенской веры, за что по Божьему соизволению он внезапно принял смерть»[575]. Автор, вопреки ясному чтению летописи, по существу, защищает католицизм, компрометировавший христианство кострами и грабительскими походами «псов-рыцарей», как их вполне обоснованно характеризовали русские летописцы. И суть христианства для него в мистической формуле Афанасия Александрийского, завещавшего единосущие трех ипостасей воспринимать «мистически» (в смысле «оккультно»), не задумываясь над тем, как Бог Отец мог сам себя породить. Не знает автор и о том, почему кампания за канонизацию Владимира во второй половине XI в. не дала результата. (Владимир будет канонизирован после монгольского разорения Руси в числе когорты князей, борцов за Землю Русскую.) Совершенно не представляет автор и идейное содержание русских летописей, вплоть до XV в. сохранявших арианский символ веры. Похоже, не знает он и о том, что «равноапостольный» Константин Великий, будучи язычником, дал равноправие христианству и перед кончиной принял крещение, причем в последние годы он явно поддерживал арианство. Арианином был и его сын Констанций. И после собора 381 г., осудившего, по инициативе Рима, арианство, Константинополь был более терпим к нему, нежели Рим. А ариане были намного гуманнее поборников мистики и не устраивали костров из оппонентов. На веротерпимость ариан указывал даже ревностный католик Григорий Туровский[576].
Западнославянской версии постоянно «мешала» и накладывавшаяся на нее римская, католическая, поскольку питали ее в основном те же источники, да еще норманская концепция начала Руси[577]. В известной мере сказалось это и на концепции Е.Е. Голубинского. Он резонно полагал, что Владимира крестили «домашние» христиане. Но он полагал, что христианами были только варяги, упоминавшиеся в договоре 944 г., а варягами он считал скандинавов. О ведущей роли норманнов в христианизации Руси специально писал Н. Коробка[578]. Но В. А. Пархоменко показал, что христианство у норманнов-шведов распространяется намного позднее, нежели на Руси, именно в XI-XII вв.[579] Концом XI—XII столетия датирует этот процесс и шведский автор Л. Грот[580].
В литературе до сих пор продолжают искать имя греческого митрополита, возглавлявшего русскую церковь. В поздних летописях таковым назовут Фотия, который был на полтора столетия старше Владимира. (Позднейшие летописцы смешивали Причерноморскую и Приднепровскую Русь.) Но в эталонных (Лаврентьевской, Ипатьевской и близких им) летописях первым митрополитом-греком правильно указан Феопемпт, которого принял в конце 30-х гг. XI в. Ярослав. Ярослав боролся с отцом и при жизни, и после его смерти. Но очень скоро наступил разрыв с Византией, и на Константинополь было отправлено в 1043 г. войско во главе с сыном Ярослава Владимиром, которое потерпело тяжелое поражение. Снова вернулись к старой форме организации церкви, как она зафиксирована в заключительной летописной статье о княжении Владимира под 6504 (996?) г. Традиционно императоры советовались с патриархами и папами, короли и великие князья - с митрополитами или архиепископами. Владимир советовался с епископами во множественном числе. А фактически возглавлял церковь Анастас Корсунянин, настоятель Десятинной церкви. Епископы во множественном числе - выборные арианских общин, настоятель главного храма во главе церкви - традиция ирландского христианства. В Моравии оба эти направления смешивались, и, обращаясь в Константинополь за учителями, моравский князь сетовал: «Учат нас различь». (Рим он явно не принимал.) Мефодию же в противостоянии немецкому духовенству неизбежно приходилось опираться на эти общины. По существу, та же ситуация сложилась и в Киеве после крещения Владимира. Поначалу епископы советовали князю казнить разбойников, а не налагать на них штрафы, как было принято по «русскому» обычаю. На сомнения князя - «греха боюсь» - епископы настаивали: князь для того и поставлен. Но более убедительным оказался другой аргумент: «Володимер же отверг виры, нача казнити разбойникы, и реша епископи и старци: «рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди». И рече Володимер: «тако буди». И живяше Володимер по устроенью отьню и дедню». А «устроенье отьне и дедне» - это нормы языческого общежития. Отсюда, собственно, и начинается двоеверие, которое будет веками накладывать отпечаток на всю общественную жизнь и верхов, и низов.
Примечательно, что Анастас Корсунянин после смерти Владимира и вокняжении Ярослава ушел с князем Болеславом в Польшу, где еще в южных пределах сохранялись общины арианского и ирландского толка. С другой стороны, после разрыва Ярослава с Константинополем, в 1044 г. в Десятинной церкви крестили останки погибших в усобицах Олега и Ярополка Святославичей. В 1051 г. советом епископов митрополитом будет избран Иларион, «Слово о Законе и Благодати» которого также проникнуто идеями двоеверия[581]. После примирения Ярослава с Константинополем (Всеволод женился на дочери Мономаха) Иларион сходит с исторической арены и Киев снова получает митрополитов из Византии. Но идея избрания будет жить постоянно, пока не восторжествует окончательно в середине XV в.
Примечания:
531. Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 368-371, 384-385.
532. ЛЛ. С. 54.
533. Там же. С. 72.
534. Тихомиров М.Н. Происхождение названий «Русь»... С. 76; Мавродин В.В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. - Л., 1971. С. 176-177; Толкачев А.И. Указ. соч.
535. Шаскольский ИЛ. Норманская теория.. С. 46-49.
536. Эверс Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 138.
537. Извлечение из нее и комментарий см.: Славяне и Русь: Проблемы и идеи. С. 398-403, 472-475.
538. ПСРЛ. Т. II. Стб. 278-279.
539. Тихонравов Н.С. Слова и поучения, направленные против языческих верований и обрядов // Летописи русской литературы и древностей. Т. IV. - М., 1862. С. 89, 92; Thietmari Merseburgensis episcopi. Op. cit. S. 268.
540. Обнорский СЛ. Прилагательное «хороший» и его производные в русском языке // Язык и литература. Т. 3. - Л., 1929; Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. - М.-Л., 1949. С. 595; его же. Скифо-европейские изоглоссы. - М., 1965. С. 115-116.
54126. Турчанинов Г.Ф. Указ. соч. С. 54-55. Русское божество может восходить и к доскифским временам. В Индии слово «хара» (хари) употребляется в значении огня и при обращении к высшему божеству (типа: о, Боже!). Ср.: Гусева Н.Р. Индуизм: мифология и ее корни // ВИ, 1973, № 3. С. 141-142.
542. Известия византийских писателей о Северном Причерноморье. С. 9-10; Филип Ян. Указ. соч. С. 96, 162-165, 173-174; Гельмольд. Указ соч. С. 185-186.
543. Holder A. Op. cit. Т. II. S. 1406, ect.
544. Тебеньков М.М. Указ. соч. С. 40. У хазар соответствующая должность называлась «тудун».
545. Марр Н.Я. Указ. соч. С. 73 (При описании тех же событий употребляется славянское слово «сало»)
546. Янин В.Л. Проблемы социальной организации Новгородской республики // «История СССР», 1970, № 1. С. 49.
547. Ранович А. Восточные провинции Римской империи в I—III вв. - М.-Л., 1949. С. 105.
548. Фаминцын А.С. Указ. соч. С. 23-24 (Из описания Саксоном Грамматиком взятия Арконы).
549. ЛЛ. С. 119.
550. Г.М. Барац полагал, что «для успешной разработки произведений отечественной литературы и особенно юридических памятников необходимо предварительно исправлять испорченный до последней крайности текст их, посредством применения всех способов историко-филологической и, в частности, дивинаторной критики и, главным образом, путем перестановки предложений и словосочетаний с одних мест на другие». То же рекомендовано и в отношении летописей. См. его: Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древнееврейской письменности. Т. I. Отд. второй. - Париж, 1927. С. 468-469. (Воспроизводится статья 1907 года). Давалась эта рекомендация и в статье 1913 года, обращенная в основном к А. А. Шахматову.
551. ПВЛ. Ч. 1. С. 39.
552. Кузьмин А.Г. Хазарские страдания.
553. Ширинский С. Указ. соч. С. 203-206.
554. Никольский Н.К. О древнерусском христианстве // Русская мысль. Кн. 6. СПб., 1913; его же. Повесть временных лет..; его же. К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках домонгольской эпохи // Вестник АН СССР, 1933, № 8-9
555. Фризе Хр.Ф. История польской церкви. Т. I. - Варшава, 1895 (пер. с немецкого
издания 1786 г.). С. 33-46.
556. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М., 1987. С. 394-395.
557. Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка. (X-XIV века). Общее повременное обозрение. - СПб., 1882. С. 2, примеч. 5. См. также: Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 239-240.
558. См. текст в кн.: «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков / Авт. вступ. ст. А.Г. Кузьмин; сост., авт. примеч. и указат. А.Г.Кузьмин, В.И.Вышегородцев, В.В.Фомин. - М., 1988. С. 286-291.
559. Васильевский В.Г. «Крещение Руси» по византийским и арабским источникам // Его же. Труды. Т. II. Вып. 1. - СПб., 1909. С. 56-124. Воспроизведена также с некоторыми сокращениями в упомянутом выше издании. С. 72-106.
560. Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира. - СПб., 1906. Ученый считал «Речь» сказанием о крещении царя Бориса в IX веке.
561. Приселков М.Д. О болгарских истоках христианства на Руси. Глава в кн.: Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. - СПб., 1913. С. 16-55.
562. Шахматов А.А. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни // Научный исторический журнал. Т. II. №4. 1914. С. 30-61.
563. Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. I. - М., 1938. С. 98-115.
564. Ильин Н.Л. Летописная статья 6523 года и ее источник (опыт анализа). - М., 1957.
565. Бегунов Ю.К. Русское Слово о чуде св. Климента Римского и кирилло-мефодиевская традиция // Slavia. R. XLIII. № 1. Praha, 1974.
566. Львов А.С. Исследование Речи философа // Памятники древнерусской письменности: язык и текстология. - М., 1968. С. 393.
567. ЛЛ. С. 109-110.
568. Изборник Святослава 1073 г. - копия болгарского сборника, составленного еще в начале X в. для болгарского царя Симеона. На Руси «Изборник» был переписан для киевского князя Изяслава, а после его изгнания в 1073 г. имя князя было выскоблено и заменено именем Святослава.
569. Заболотский П. К вопросу об иноземных письменных источниках Начальной летописи // РФВ. Т. XLV. № 1-2. Варшава, 1901. С. 28-29.
570. Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. - СПб., 1907. С. 21-24. Текст воспроизведен также в кн.: Кузьмин А.Т. Русские летописи... С. 222-225.
571. Потапов П.И. К вопросу о литературном составе летописи // РФВ. Т. LXIII. № 1. Варшава, 1910. С. 7-12.
572. Никольский Н.К. О древнерусском христианстве. С. 11.
573. Там же. С. 13.
574. Верещагин В.М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. - М., 1997. С. 117.
575. Билъбасов В.А. Указ. соч. Т. I. - СПб., 1868. С. 156-157.
576. См.: Стасюлевич М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. I. - СПб., 1913. С. 373. В середине 80-х, когда все явственнее выходили на свет теневые фигуры подпольных криминальных авторитетов - мультимиллионеров, а принцип официально провозглашаемой социальной справедливости явно трещал по швам, мы с руководством Института атеизма ратовали перед ЦК за изменение отношения к христианству и русской церкви, конечно, не ради поистине еретической мистики, а принимая социальные аспекты идеологии Евангелия и отвергая идеологию рабовладельческого Ветхого Завета. (От достижений науки, установившей, что человечеству не шесть-семь тысяч лет, как представлялось создателям Священного Писания, а столько же миллионов, мы не отказывались.) Институт за дерзость закрыли. Но мне посчастливилось участвовать в первых международных церковных конференциях, посвященных тысячелетию Крещения Руси, и убедиться, что в борьбе за торжество идей социальной справедливости русское православие могло быть надежным союзником социалистов-материалистов.
577. Обзор литературы этого направления см.: Рамм БЯ. Указ. соч.
578. Коробка Н.И. К вопросу об источнике русского христианства // ИОРЯС. Т. XI. Кн. I. СПб., 1906. С. 367-385.
579. Пархоменко В.А. Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. - Полтава, 1913.
580. Грот Л. Указ. соч. С. 152-160. Автор отмечает, что имени Рюрик шведская история вообще не знает, а имя Олег не может выводиться от шведского helig - святой, поскольку христианство в стране распространялось спустя два века.
581. На это обстоятельство в ряде работ обращает внимание В.В. Мильков. См. его: Осмысление истории в Древней Руси. - М., 1997. С. 99-116; а также статьи в сб.: Древняя Русь. Пересечение традиций. - М., 1997.
Сахаров А.Н. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности
Печатается по изданию: Сборник РИО. Т.8 (156). Антинорманизм. - М., 2003
1140-летие со времени призвания варягов вновь обострило внимание к этому событию, к Рюрику, к значению варягов в древнейшей истории, к этническому происхождению варягов. В 862 г., согласно Повести временных лет, приильменские славяне, местные угро-финские племена пригласили на княжение варягов Рюрика и его братьев, которые и прибыли в земли восточных славян «с роды своими».
К этому шагу местные племенные конфедерации побудила нескончаемая междоусобица («въста родъ на родъ»), возникшая после того, как они прогнали варягов за море и перестали им платить дань, то есть встали на путь независимого политического существования. «Поищемъ собе князя иже бы володелъ нами и судилъ по праву», якобы решили они. Послы из восточнославянских земель, согласно летописи, заявили варягам: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет. Да пойдете княжитъ и володети нами». Текст предельно ясен: для прекращения раздоров, междоусобиц соперничавшие политические структуры приглашали нейтрального правителя, который бы установил «наряд», то есть власть (а не порядок, как почему-то трактуют это понятие), и судил бы по справедливости. Такая практика приглашения князя-правителя-арбитра, военного вождя со стороны была весьма распространенной в Европе; эта практика на долгие десятилетия стала традиционной и для Новгородской Руси - вспомним хотя бы Александра Невского, приглашаемого в этот стольный город для защиты его от натиска немцев, шведов, литовцев.
Летописец не только рассказал о факте «призвания варягов», которое сегодня историческая наука признает соответствующим политическим реалиям того времени, но и точно определил, кто такие были варяги Рюрика, откуда они явились, в каком отношении к восточным славянам они находились. Он отмечает, что варяги живут «за морем», что они зовутся «русь», причем летописец - осведомленный и внимательный автор - подчеркивает их этническое отличие от шведов, норманнов, англов, готландцев. Этническую принадлежность варягов-руси к славянскому миру летописец определяет одной фразой: «А словеньскый языкъ и рускый одно есть».
Общность варягов-руси и новгородских словен автор летописи также определяет достаточно четко: «Ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска преже бо беша словене»[1]. Как видим, не верхушка, не дружина, а именно «людье» - все новгородское население родственно варягам-руси.
Летопись многократно упоминает и об отношениях восточных славян с варягами-русью в IX в., все они ведут в одном направлении - на южный берег Балтики. Так древний автор, говоря о расселении народов, помещает варягов среди тех, кто обитает на южнобалтийском берегу, на севере Европы. Упоминая о варягах «из заморья», он имеет в виду не противоположный северный берег Балтики, а южный. Так, описывая расселение народов Европы, летописец сообщает, что «ляхове же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому» (т. е. Балтийскому). Здесь имеется в виду южный берег Балтики, так как именно там располагались ляхи и прусы. Они-то и стали ориентирами для обозначения места расселения варягов. «По сему же морю седять варязи семо ко въстоку... по тому же морю седять къ западу до земле Агнянски и до Волошьски». И далее: «Афетово бо и то колено: варязи, свей, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии, ти же приседять отъ запада къ полуденыо...». И здесь шведы и норвежцы отделены от варягов. Варягов же и русь автор понимает как отдельные этнические группы, между тем как в другом случае мыслит их как единое целое. Так очерчен ареал расселения варягов, и еще раз подчеркнута их этническая принадлежность. Этот ареал полностью захватывает земли южнобалтийских славян[2].
Кажется все, что можно было сказать о Рюрике и его пришествии с «родами» в землю восточных славян, об этнической природе варягов, о месте их расселения сказано, подчеркнута их славянская принадлежность в IX - нач. X вв., позволившая пришельцам быстро адаптироваться в иной среде и восточным славянам без особых трудностей установить контакты с варягами.
Рюрик выполнил предначертанную ему историческую миссию. Он стал княжить в Новгороде, его братья - в других городах, варяги положили конец междоусобицам, объединили страну. Позднее, после смерти братьев, Рюрик объединил под своей властью все северо-западные восточнославянские земли, создал здесь сильное государство, повел наступление на юг. Его преемники подчинили себе другие восточнославянские земли, в том числе Поднепровье с центром в Киеве. На европейской арене появилось мощное восточнославянское государство Русь, охватившее огромную территорию - от польской границы и Карпат до междуречья Волги, Оки, Клязьмы, от северного Причерноморья и Таманского полуострова до побережья Балтийского и Белого морей. Оно сыграло выдающуюся роль в становлении российской цивилизации, в развитии российской государственности, в формировании средневековых социальных, экономических, культурных, религиозных, этнических процессов на Восточно-Европейской равнине. Государство Русь послужило основой для последующего развития русской, украинской и белорусской наций, формирования их государственных начал. Рюриковичи стояли во главе всех этих процессов. Они же, уже в новых исторических условиях, стали символами политического распада Руси, безудержной амбициозной и эгоистической борьбы за первенство в русских землях, они же позднее жертвенно прошли через пламя татаро-монгольского нашествия, насилие и позор татаро-монгольского ига, через отчаянную борьбу с агрессивными западными соседями за выживание российской самобытности и российской национальной государственности в XIII-XV вв. Именно Рюриковичи приступили на северо-востоке славянских земель с центрами во Владимире, Твери и Москве к собиранию храмины развалившегося было российского государственного устройства, чтобы вывести его через муки и тернии к мощи Русского централизованного государства.
Таким образом, в российской истории судьба Рюрика и Рюриковичей сплелась воедино с судьбами народов Восточно-Европейской равнины. Поэтому верное понимание сути, исторической масштабности, цивилизационных последствий появления в восточнославянских землях первой долговременной правящей княжеской, а позднее и царской, династии помогает не только объективному воссозданию исторического пути российского, украинского, белорусского народов, а также проживавших здесь других - балтских, угро-финских, тюркских - народов, но и позволяет идентифицировать их национальное самосознание, их место в системе общемировых и европейских цивилизационных процессов, взаимосвязи и взаимоотношения с окружающим внешним миром.
Поэтому с такой чуткой внимательностью историки, российская общественность относятся ко всему, что связано с пониманием факта «призвания варягов» и трактовки этого события в масштабах всей российской истории.
Думается, что определенная чуткость, а возможно, и настороженность в этом вопросе связана с тем, что уже столетия назад были сделаны первые попытки пересмотреть концепцию летописи, заподозрить нашего замечательного летописца Нестора в невежестве, бросить тень на древний источник, выведя проблему «призвания варягов» за научные рамки, придать ей политическую, пропагандистскую окраску с целью фальсификации российских национальных и государственных приоритетов.
Еще в начале XVII в. в агрессивных экспансионистских кругах Швеции, боровшейся за отторжение у России ее северо-западных земель с Новгородом, Рюрик и варяги были объявлены скандинавами, шведами, привнесшими государственность в дикие восточнославянские земли. Это был период, когда
Россия в период Смуты и послесмутного времени вела отчаянную борьбу за выживание и национальную независимость. В этой борьбе историческая идентификация первой русской династии играла определенную роль. Так стала формироваться «норманская теория» возникновения Русского государства. Позднее эту теорию оживили и придали ей законченный характер немецкие историки XVIII в. Одни из них жили и работали в России, другие - у себя на родине. С тех пор «норманизм», питаемый в основном политическими импульсами и амбициями из-за рубежа, прочно свил себе гнездо и на русской почве. Норманистские писания расцветали в истории всякий раз, как обострялись внешнеполитические отношения России с окружающими странами. Так было накануне нашествия Наполеона на Россию в 1812 г., так было в период Первой мировой войны и во время немецкой агрессии против нашей страны в 1941-1945 гг. Норманизм в течение десятилетий стал прочной политической базой противостояния России.
Однако уже в давние времена российские ученые, а позднее и объективные исследователи на Западе стремились перевести разного рода политические спекуляции на этот счет в научную плоскость. Уместно здесь вспомнить имена В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова, С.А.Гедеонова, советских ученых академиков Б.Д. Грекова, М.Н.Тихомирова, а также современных исследователей А.Г.Кузьмина, В.Б.Вилинбахова, выдающегося польского русиста Х.Ловмяньского, ряд русских историков-эмигрантов и многих других. Именно их усилиями одна из составных частей норманизма - утверждение о том, что «призвание варягов» положило начало российской государственности, привнесенное на восточнославянские земли извне, - была полностью опровергнута, и сегодня лишь фанатики-дилетанты возвращаются к этим мыслям. В работах большинства этих авторов был убедительно аргументирован и тесно связанный с общей проблемой норманизма вопрос об этнической природе варягов IX - первой половины X вв. как южнобалтийского славянства[3].
В последние десятилетия отечественными и зарубежными историками, археологами, лингвистами, антропологами, специалистами по нумизматике было неопровержимо доказано, что Российская государственность проделала многовековой путь развития. Ее истоки зарождались по мере эволюции восточнославянского общества, перехода от родоплеменных отношений к началам раннефеодального развития, складывания института частной собственности, появления социального неравенства, зарождения военной организации, перерастания власти племенных вождей в княжескую власть. Этот процесс протекал особенно быстро во второй половине I тысячелетия н. э. на огромных пространствах Восточно-Европейской равнины и был связан с общественной эволюцией всего славянского мира: восточного славянства, южных и западных славян, южнобалтийского славянства. В этом обширном ареале от берегов Балтики и Приильменья до Карпат и Северного Причерноморья, от Вислы до междуречья Волги, Оки, Клязьмы шли мощные миграционные процессы, нарастали положительные демографические сдвиги наблюдался определенный прогресс в социально-экономической, политической культурной сферах. Восточное славянство было частью этого движения славянского мира который активно взаимодействовал с окружающими народами. Особенно быстро это развитие происходило в относительно мирные периоды истории восточного славянства VIII-IX вв., в отсутствие мощных иноземных нашествий, во время постепенного освобождения части восточных славян от власти Хазарского каганата. Именно в этот период происходит формирование племенных конфедераций - переходного этапа к государственности и наступает время рождения двух первых государственных центров в истории восточных славян - на Северо-Западе с будущими центрами в Ладоге, Новгороде и южного - с центром в Киеве.
КIX в. относится несколько исторически четких упоминаний о наличии на Руси государственных образований. Это нападение русских войск на Византию в начале и в 30-е гг. IX в., посольство Руси в Византию и Франкское государство в 838-839 гг. Однако наиболее впечатляющим фактом русской восточнославянской государственности стало нападение войска руссов-славян 18 июня 860 г. на столицу Византии, заключение договора «мира и любви» между Византией и Русью 25 июня 860 г., официальное признание тем самым Руси могучей Византийской империей. День 25 июня 860 г. может стать официальной датой исторического возникновения Российской государственности. Это было за два года до «призвания варягов».
«Призвание варягов», появление Рюрика и его дружины в землях приильменских славян и местных балтских и угро-финских племен, помеченное в летописи под 862 г., стало определенным этапом в становлении древнерусской государственности. Оно стало отражением определенной общественной зрелости восточнославянского общества, идущего к централизации, знания им государственных традиций Восточной Европы.
Власть Рюрика, его братьев и их «родов» наложилась на уже существующие государственные тенденции и традиции восточнославянских земель Она отразила уже существовавший уровень государственности в этих землях и на сопредельных славянских территориях, входящих в общеславянский ареал, содействовала дальнейшему прогрессу русской государственности, так как ускорила формирование государственной власти и государственной территории на северо-западе восточнославянских земель.
Но продолжала существовать другая часть норманской версии - теория < том, что варяги - это скандинавы, что Рюрик - это выходец из германских либо шведских земель. По своей сути эта сторона норманизма мало чем отличается от своей первой ипостаси. Приоритеты на этом этапе российской истории искусственно подгоняются под иностранные модели, славянский мир оказывается разорванным, что противоречит исторической правде. Историческая логика развития славянских земель искусственно разрушается.
В последние двадцать с лишним лет эта сторона норманизма яростно и агрессивно отстаивается в основном небольшой группой вчерашних филологов-переводчиков, работавших долгие годы со шведскими, норвежскими, немецкими, исландскими, восточными источниками и сделавших эти источники, по существу, наиболее важными свидетельствами по истории древних славян. Их поддерживают некоторые археологи и историки, специализирующиеся на изучении других стран и регионов, в первую очередь, Скандинавии. Солидарность и конъюнктурный расчет лежит в основе этого опасного единства, покрывающего душным туманом русскую науку, внедряемого беззастенчиво в учебники, научно-популярную литературу, в СМИ и даже в краеведение. Построившие на весьма шаткой и субъективной, в основном филологической, порой глубоко тенденциозной, основе, свои исторические конструкции, эти «специалисты» стремятся монополизировать историю Древней Руси, всячески дискредитировать своих научных оппонентов. Слабо разбирающиеся в русских источниках, в первую очередь, в летописных текстах, не знающие древнерусского языка, замалчивающие работы, в которых утверждается славянское происхождение варягов IX - начала X вв., Рюрика и его соратников, они требуют вывести антинорманизм вообще за рамки науки, приклеивают своим оппонентам, всем, кто покушается на эту монополию, ярлыки псевдопатриотов, шовинистов и даже сталинистов, активно сплачивают соратников, борются за захват организационных рычагов науки, научной прессы. Вновь раздаются голоса и о привнесении скандинаво-германскими элементами в славянские земли мощного социально-политического начала. Историография как бы поворачивается вспять.
Для сомневающихся и противников нового норманизма припасены и угрозы и даже политические ярлыки. Так, в книге «специалиста в области истории и этнокультурной истории Восточной и Северной Европы» В.Я. Петрухина и «специалиста по истории скифов и Закавказья» Д.С.Раевского борьба с норманизмом отождествляется с известной сталинской компанией против космополитизма и с возрождением «автохтонистских мифов»[4]. Сегодня все они - специалисты по истории скандинавских и других стран - считают себя единственными «правильными» толкователями истории Древней Руси. Такая ситуация могла сложиться лишь в условиях тоталитарного строя, отсутствия широких, гласных дискуссий, клановой замкнутости и солидарности при опоре на влиятельные партийные, государственные и научные структуры. Отзвуки этой порочной для науки практики слышны и поныне (апелляция к научным авторитетам, к зарубежным соратникам и даже намеки на поддержку этого направления президентскими структурами). Все это мы уже проходили в 70-80-е гг. XX в.
Определенную поддержку новейшие норманисты имеют среди некоторых ученых Запада и, в первую очередь, в научных кругах, а также в некоторых государственных структурах Скандинавских стран. Не случайно в Швеции стоит памятник, посвященный «шведскому» Рюрику, - основателю русской правящей династии. Не случайно труды норманистов активно поддерживаются зарубежными грантами.
Наиболее яростным и наиболее невежественным защитником норманистских концепций выступает специалист по истории Швеции Е. А. Мельникова. Не знаю, как по части истории Швеции, но в области истории Древней Руси наша историография со времени отпетых норманистов XIX в. не знала ничего подобного. Мы снова возвращаемся в эпоху норманистских мифов, затасканных клише прошлого, отсутствия научных аргументов и амбициозной наглости. Именно Е. А. Мельниковой принадлежит такая галиматья, как утверждение, будто древний летописец «противопоставлял «русь» и «варягов» как разновременные волны скандинавских мигрантов», что все заметные исторические фигуры Древней Руси IX-X вв. - это скандинавы. Именно этот автор тиражирует сегодня давно забытые формалистические рассуждения об общности шведского понятия «руотси» (гребцы) и этнонима Русь; причем утверждает, что вначале пресловутые «руотси» имели «профессиональное» значение, а уж потом «развились» «в политоним (Русь, Русская земля) и этноним (русский)». Именно Е.А.Мельникова договорилась до того, что скандинавы позднее (поначалу в небольшом числе) осели на юге в Поднепровье, и вот они-то и сделали своей целью захват Константинополя. Пересказывать все эти перлы не имеет смысла. Наиболее концентрированно они выражены в ее статье, опубликованной в журнале «Родина»[5]. В качестве одного из наиболее весомых аргументов у этого и других авторов-норманистов выдвигается факт находок «скандинавских» вещей в восточнославянских землях и в первую очередь в их северо-западной части, что на деле свидетельствует, в первую очередь, о широких контактах восточного славянства с окружающим миром, их широких торговых связях и не более того. С таким же успехом можно принимать многочисленное и разнообразное появление иностранных товаров в российских землях, в первую очередь, в российских городах, в разные периоды отечественной истории за непререкаемое свидетельство доминирования, скажем, французов, англичан, немцев и т. д. среди российского населения.
Под стать этим домыслам находятся и рассуждения некоторых других авторов о том, что слово «Русь» происходит от германского корня, что древнерусское государство - это «держава скандинавских конунгов».
Применительно к посольству Руси в Константинополь и во Франкскую империю в 838-839 гг. создаются какие-то ходульные фантасмагории вроде того, что это было посольство некоего каганата Русь (поскольку посольство представляло своего государя как кагана), где послы были шведами (франки определили их как свеонов). Итак, каганат с послами шведами. Между тем речь идет о том, что освобожденная от ига хазар южная Русь присвоила своему вождю титул кагана, как свидетельствующий о ее свободе и суверенитете от Хазарского каганата. Этот титул на Руси бытует и в дальнейшем как подтверждение мощи и международного престижа древнерусского государства, о чем неоднократно говорилось в научной литературе. Что касается «свеонов», то ведь это характеристика франков, и не более того, хотя в составе посольства государства «Русь» могли быть и бывалые выходцы с берегов Балтики - кстати, те же варяги[6].
Замечу, что объективная научная истина не имеет никакого отношения к патриотическим или антипатриотическим настроениям того или иного автора. Так русское сердце равнодушно относится к фактам происхождения первых князей Северо-Восточной Руси от половчанок, к бракам московских князей с ордынскими княжнами или к тому, что первой русской императрицей была литовская крестьянка Екатерина I - она же Марта Скавронская. Точно так же исследователей мало трогают факты полунемецкого происхождения Петра III или чисто немецкого - Екатерины II. Хотя, конечно же, происхождение первых лиц государства как в этих случаях, так и в случае, скажем, с Александром I имело большое значение для внутри- и внешнеполитических судеб страны. Однако к этому времени государственная российская машина либо далеко продвинулась в своем оформлении, либо уже окончательно сложилась, и здесь разного рода «норманистские» домыслы были бы просто неуместны и даже смешны. Другое дело, когда на полотно российской истории наносились первые династические узоры, когда определялись дальнейшие цивилизационные, в том числе и государственные приоритеты России. Это и заставляет «норманистов» биться до конца. Между тем с XVIII в., со времен Татищева и Ломоносова и до наших дней существует и в этом вопросе, в вопросе этнического происхождения Рюрика и его соратников обширная научная историческая, археологическая, лингвистическая литература, защищающая позиции южнобалтийского, славянского происхождения варягов в IX - первой половине X вв., то есть позиции, которые были выдвинуты еще нашим знаменитым летописцем.
В основе этой концепции сегодня лежит, во-первых, анализ политических и этнических тенденций в славянском восточноевропейском мире, во-вторых, впечатляющие и неопровержимые данные русских летописей и других отечественных источников.
Российские и зарубежные ученые многократно отмечали широкое доминирование славянского этнического элемента на обширных пространствах Восточной Европы от южного берега Балтики до Подунавья, Карпат и Балканского полуострова. Восточной границей распространения славянства в I тысячелетии н.э. стало междуречье Волги-Оки-Клязьмы. На этих пространствах сравнительно рано, намного раньше, чем в Скандинавии, возникли первые государственные образования. И здесь на первый план выходит великолепное исследование А. Гильфердинга «История балтийских славян» (М., 1855), которое полностью замалчивается норманистами и которого они боятся, как черт ладана. А. Гильфердинг показал ареал расселения многочисленных племен южнобалтийских славян, выявил, что их государственные образования располагались в Поморье от низовьев Вислы до низовьев Одера. Это были вагры (которые, по мнению ряда ученых, и дали начало русскому понятию «варяги»), ране (или руяне, жившие на острове Ран-Рюген), лютичи, ободриты, брежане, бодричи, рароги (рарог - славянское «сокол», вероятней всего, и могло стать именем варяжского вождя Рюрика), полабцы, глиняне и др. На западе южнобалтийские славяне граничили с германцами и данами, на юго-востоке - с сербо-лужичанами, чехами, на юго-востоке с ляхами. Таким образом, южнобалтийское славянство представляло собой северную часть славянского мира, раскинувшегося от Балкан до Балтики и от границ с германцами до междуречья Оки-Волги-Клязьмы.
Именно отсюда, как и из районов Повисленья, а также из Подунавья и Прикарпатья тремя основными потоками расселялись славяне на Восток: с южных берегов Балтики в район Приильменья, из Подунавья и Карпат, а также из Повисленья в районы Среднего Поднепровья[7].
Важную цивилизационную роль играли на южном берегу Балтики государственные конгломераты, созданные южнобалтийскими поморскими славянами - лютичами, ободритами, ваграми, ранами, которые имели сложившуюся государственную, княжескую власть, дружинный строй, высокоразвитое для того времени хозяйство, стройные религиозные представления. Эти княжества-государства поморских славян существовали не одно столетие, пока они не подверглись в конце I тысячелетия и в начале II-го мощному натиску со стороны немецких завоевателей. А. Гильфердинг подчеркнул, что как и другие ранние балтийские государственные образования, южнобалтийские славяне отличались воинственностью, предприимчивостью, смелостью (скажем, этноним вагры происходил от индоевропейского «вагора» - храбрый, удалой). Их походы были проникнуты «дружинным духом», а главным средством передвижения являлись огромные боевые ладьи, могущие нести десятки людей и даже боевых коней.
От устья Одера до восточнославянских земель было 14 дней пути. Южнобалтийские славяне имели обширные торговые контакты с окружающим в том числе и с восточнославянским, миром. Между южнобалтийскими славянами и Русью располагались племена пруссов, которые также были составной частью южнобалтийского балтославянского мира. Этот обширный славянский ареал, его постоянные контакты с восточным славянством, в первую
очередь, со славянским, балтским, угро-финским Приильменьем полностью замалчиваются современными норманистами, что дает искаженную картину развития всего славянского мира.
Повсюду в Восточной Европе, на этих обширных пространствах существовали этнонимы «русь», «русины», «рутены», «руссы», «руги» и другие близкие им, которыми характеризовались (в том числе германскими источниками) различные славянские племена, племенные конфедерации и славянские государственные образования, часть их была географически связана с южнобалтийским Поморьем. Не случайно, восточный автор IX в. Ибн Хордадбех писал о том, что купцы «ар-Рус» - «это одна из разновидностей славян»[8]. Не случайно также в Раффелынтеттенском уставе начала X в. русские купцы, которые приходят из Ругов (из Руси) на Дунай, отождествляются со славянами[9]. Но этих этнонимов как и этнонима «русь» не знает Скандинавия.
Таким образом, «русь» как этническое понятие одновременно возникает как на юге будущего единого государства, в Поднепровье, так и на севере, в Южной Прибалтике, позднее, с приходом варягов - в районе Приильменья.
При определении этнической принадлежности Рюрика и варягов следует иметь в виду и постоянные миграционные процессы славянского элемента как из Южной Европы в Поднепровье, что также отмечено в наших летописях, так и из Южной Прибалтики на Восток, особенно под натиском немецкой агрессии. Не случайно лингвисты отмечают, что новгородский диалект древнерусского языка во многом сходен с наречиями прибалтийских славян. Не случайно X. Ловмяньский обратил внимание на то, что Рюрик взял с собой в земли восточных славян «всю Русь», то есть не только дружинников, но и жителей того славянского района, откуда он вышел. Заметим, что по данным А. Гильфердинга в рамках государства ранов существовало несколько десятков знатных родов, возглавлявшихся родовыми вождями. Так что понятие «с роды своими» прямо накладывается на раннеполитическую систему южнобалтийских славян.
В рамках постоянных миграционных контактов, древних связей славян Восточно-Еевропейского региона, мирных, в том числе торговых, отношений и военных конфликтов и состоялся этот впечатляющий выход.
Одним из фактов, говорящим о том, что варяги-русь - это славянский государственный анклав на южном берегу Балтики, является упоминаемый в летописи факт заключения на исходе IX в. Олегом, утвердившимся в Новгороде после смерти Рюрика, а потом захватившим и Киев и создавшим единое государство Русь, с варягами договора о мире на русских северо-западных границах за 300 гривен с Новгорода, который по свидетельству летописи действовал более 150 лет («еже до смерти Ярославле даяше варягомъ»)[10]. В Скандинавии в то время не было таких государственных образований, тем более способных существовать более сотни лет. Этот регион по своему развитию в то время намного отставал от южнобалтийских земель. Зато такие государственные долговременные образования были у поморских славян. Важно подчеркнуть, что и для летописца варяги - это постоянная, долговременная этническая и политическая величина. Они упоминаются повсюду, где речь идет о расселении народов, в том числе народов Северной Европы. И если мы повнимательнее вглядимся в эти упоминания, то сразу же обнаружим, что среди них отсутствуют поморские славяне, многочисленные племена, племенные конфедерации, раннефеодальные государства южнобалтийских славян. Но могло ли быть так, чтобы летописец - прекрасно осведомленный автор, хорошо владеющий сведениями буквально о всех народах Европы, упустил из виду южнобалтийскую ветвь славянства? С другой стороны, в тексте летописи постоянно присутствуют таинственные варяги, размещенные им на южных берегах Балтики. Не лежит ли подход к сложному вопросу на поверхности. Все указывает на то, что варяги - это и есть хорошо известное летописцу южнобалтийское славянство, которое в силу своего разнообразного этнополитического состава и объединяется одним общим этнонимом варяги. В той своеобразной таблице народов, которую сконструировал летописец и которая отражает реальное положение с расселением народов Европы, лишь одна клетка оказалась свободной - это поморские славяне. И лишь один этноним оказался под вопросом, ответ на который находится сам собой.
В размышлениях об этнической природе варягов необходимо обратить внимание и на ту государственную практику, которую привнес на Русь Владимир Святославич после того как он сокрушил своего соперника Ярополка и утвердился в Киеве.
Согласно летописи, в начале противоборства с Ярополком Владимир «убоявся бежа за море», а оттуда через два с лишним года «приде... съ варяги Ноугороду»[11]. Итак, Владимир долгое время провел в землях дружественных Новгороду варягов: естественно, что он был признателен им за ту неоценимую помощь, которую они ему оказали в борьбе за великокняжеский престол, как об этом свидетельствует летопись. Естественно также, что некоторые его первые шаги, особенно в сфере религиозной, носят во многом «проваряжский», языческий характер. Поэтому ту практику усиления язычества, которую зачастую называют «языческой реакцией», следует рассматривать лишь как временную уступку своим всесильным союзникам - варягам. Характер этой временности выявился очень быстро, и Владимир осуществил крутой цивилизационный поворот, обратившись в сторону христианства и начав реформирование всей русской жизни. Но сейчас речь идет о другом. Начав свою «неоязыческую» реформу, Владимир обратился к практике, которая была распространенной в обществах южнобалтийских славян. По образу и подобию ранов и некоторых других государственных объединений южнобалтийских славян, где была сильна теократическая власть и где высоко почитался культ бога Святовита и приносились в честь богов человеческие жертвы по жребию,
Владимир ввел человеческие жертвоприношения так же по жребию и на Руси. Он выдвинул на первый план в пантеоне богов культ дружинного бога Перуна, бывшего главным богом у воинственных вагров.
Любопытно, что позднее, после обращения Руси в христианство и организации русской церкви, Владимир ввел в практику отчисления в пользу церкви десятой части княжеских доходов, так называемой десятины. Подобная же практика отчисления части средств в пользу жрецов, в том числе в пользу храма Святовита в Арконе на Рюгене, существовала и в южнобалтийских славянских землях.
В. Н. Татищев, который располагал в XVIII в. неизвестными нам летописными материалами, непосредственно выводит династию Рюрика из славянских южнобалтийских земель. Итогом его исследования на этот счет были слова: «и потому русские единородных себе князей вагров или варягов избрали»[12].
В последнее время в нашей исторической литературе появилась серия статей ряда ученых, убедительно доказывающих славянскую общность Рюрика, варягов IX - нач. X вв. и восточных славян, мифический характер отождествления этого славянского князя с неким Рориком Фрисландским, против чего возражали и ученые прошлых лет, и отсутствие в Швеции вообще имя «Рюрик» и, напротив, его широкое бытование в землях поморских славян. Грустно говорить, но сегодня - это новый подход к истории Древней Руси, десятилетиями замороченной норманистами. Но это еще раз показывает, что истинную науку остановить невозможно[13].
Ярким подтверждением исторической реальности славянского происхождения варягов IX - нач. X вв. стали последние находки калининградских археологов. Именно на этой древней славянской земле, поглощенной затем немецким нашествием, возникали первые государственные образования, именно здесь появлялись первые южнобалтийские князья, одним из которых был знаменитый в нашей истории Рюрик.
Наивно было бы думать, что все абсолютно ясно с этнонимом варяги. В полиэтническом Балтийском регионе он десятилетиями наполнялся новым смыслом в связи с бурными переменами, происходившими как в Южной Прибалтике, так и в Скандинавии. Сходили с исторической арены поморские славянские государства, набирали силу скандинавские государственные образования. Заметим, что этноним «варяги» еще существовал на Руси в XIV в. Так он появился в одном источнике рубежа XV в. при перечислении состава войска Дмитрия Донского на Куликовом поле. Конечно же, никакого отношения к скандинавам этот факт иметь не может. Между тем какая-то часть южнобалтийских славян, какой-то осколок варяжского мира могли появиться в качестве вооруженной силы на Руси, в пору ее противостояния с Ордой, как, кстати, и отряды «литовской Руси» во главе с братьями Ольгердовичами.
Но все это уже не имело никакого отношения к такому единичному, скажем, «разовому» политическому акту, каким стало «призвание варягов», появление Рюрика в восточнославянских землях, определившему новый этап в развитии восточнославянской и российской государственности.
Примечания:
1. ПВЛ. Ч. 1. С. 18, 23
2. Там же. С. 10.
3. См., например: Тихомиров МЛ. Происхождение названий «Русь» и «Русская земля» // СЭ. Вып. VI-VII. - М.-Л., 1947; Вилинбахов В.Б. Балтийские славяне и Русь // SO. Т. 22. Poznan, 1962; Ловмяньский Г. Руссы и руги // ВИ, 1971, №9; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь» на Балтийском море // ВИ, 1970, № 10; его же. Об этнической природе варягов // ВИ, 1974, № И; Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки. - Париж, 1955; и другие.
4. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки по истории народов России в древности и раннем средневековье. - М., 1998. С. 257.
5. Мельникова Е. Варяжская доля. Скандинавы в Восточной Европе: Хронологические и региональные особенности // «Родина», 2002, № 11-12. С. 30-32.
6. См. об этом подробнее: Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси. IX - начало X в. - М., 1980. С. 36-46.
7. Гильфердинг А. История балтийских славян. - М., 1855; Седов В.В. Славяне в древности. - М., 1994. С. 293-318.
8. Хордадбех Ибн. Книга путей и стран. - Баку, 1986. С. 124.
9. Васильевский В.Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом // ЖМНП, 1888, июль. С. 123.
10. ПВЛ. Ч. 1. С. 20.
11. Там же. С. 54.
12. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. I. - М.-Л., 1962. С. 290.
13. Фомин В.В. Русские летописи и варяжская легенда. - Липецк, 1999; Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // ВИ, 2000, № 3; Яманов В.Е. Рорик Ютландский и лето-писный Рюрик // ВИ, 2002, № 4; и др.
Грот Л.П. Утопические истоки норманизма: мифы о гипербореях и рудбекианизм
От внимания современной науки ускользнул тот факт, что основой норманистских концепций явились античные мифы о гипербореях в истолковании шведских историков XVI-XVII вв., стремившихся доказать, что Гиперборея находилась на территории современной Швеции, а под именем гипербореев выступали прямые предки шведов. Такой взгляд позволял шведам рассматривать себя как основоположников древнегреческой цивилизации, образовавшей фундамент европейской культуры, а заодно и как основателей крупнейшего восточноевропейского государства - Древней Руси. Не отмечен и вклад в распространении шведской «гипербореады» французских просветителей XVIII в. Рассмотрению именно этих двух вопросов и посвящена данная статья.
Связь современного норманизма с политической историей Швеции XVI в. продемонстрирована в работах А.Н. Сахарова, А. Г. Кузьмина, В. В. Фомина[1].
В работах В.В.Фомина впервые представлена развернутая аргументация, опровергающая укоренившееся в науке представление о Г. 3. Байере как родоначальнике норманизма, и рассматривается вопрос о его предшественниках. Историк показывает, что истоки норманизма уводят нас в Смутное время, а купелью его была не Германия XVIII в. и «"немецкий патриотизм", свысока взиравший на "варварскую Русь"», а Швеция XVI-XVII вв. и политическая мысль шведских придворных кругов, связанных с завоевательной политикой Швеции того периода. Одним из представителей этих кругов был дипломат и историк-любитель П. Петрей (1570-1622)[2]. Его сочинение «История о великом княжестве Московском» («Regni muschovitici sciographia»), опубликованное в 1614-1615 гг. на шведском языке в Стокгольме, а в 1620 г. также и на немецком языке в Лейпциге, характеризуется как краеугольный камень норманизма. Здесь, в рассказе о первых русских правителях, впервые в историографии была высказана мысль, что варяги русских летописей были выходцами из Швеции: «...оттого кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции». И если в шведском издании мысль о том, что варяги были шведы, была выражена со всей определенностью, то в немецкой версии ему была придана некая альтернативная форма: «...aus dem Konigreich Schweden, oder dero incorporirten Landern, Finland und Lieffland...»[3].
Исследователь варяжской проблемы из Финляндии А. Латвакангас отмечает неожиданность появления в «Истории о великом княжестве Московском» мысли о шведском происхождении варягов. Буквально за два года до этого сочинения П. Петрей опубликовал трактат по истории Швеции «Краткая и благодетельная хроника обо всех свеярикских и гётских конунгах» («Ееп kort och nyttigh chronica om alia Swerikis och Gothis konungar»). Здесь он постарался обрисовать, в духе времени, подвиги древних шведских конунгов и утверждал, что они завоевали полмира, достигнув пределов Азии, и собирали дань со всех земель к востоку и югу от Балтийского моря. Затрагиваются и отношения с русскими, но ни слова не говорится о шведском происхождении/ русских князей. Более того, в 1614 г., когда уже начала выходить из печати шведская версия «Regni muschovitici sciografia», было опубликовано второе издание названной хроники, в котором П. Петрей указал, что «не нашел i? русских хрониках каких-либо сведений о завоеваниях шведских конунгов, но это и понятно, поскольку хроники начинают рассказ с прихода Рюрика, Синеуса и Трувора из Пруссии в 562 г.»[4]. Тем самым П. Петрей фактически воспроизвел так называемую «августианскую» легенду, перепутав только дату призвания Рюрика.
Таким образом, создается впечатление, что рассуждения о шведском происхождении Рюрика и варягов П. Петрей внес в готовый текст «Regni muschovitici...», не успев согласовать их со своими прежними публикациями. Спрашивается, что же побудило П. Петрея в кратчайший срок между двумя публикациями перенести и варягов, и Рюрика в Швецию?
В науке долго преобладало представление, будто на переговорах в Выборге 28 августа 1613 г. новгородские послы сами заявили о том, что когда-то у них был князь шведского происхождения, по имени Рюрик. В официальным отчете шведской делегации о переговорах в Выборге, хранящемся в Государственном архиве Швеции, имеется запись, что руководитель новгородского посольства архимандрит Киприан отметил, что «новгородцы по летописям могут доказать, что был у них великий князь из Швеции по имени Рюрик» («De Nougardiske kunde bewijsa af sijne Historier, at the hafwe hafft ifran Swerige en Storfurste benamndh Rurich»)[5]. Но со временем выяснилось, что «речь Киприана» - подлог, совершенный сановниками Густава II Адольфа, которые сфальсифицировали часть данных в отчете о переговорах, добавив от себя Фразу, будто был в Новгороде «великий князь из Швеции по имени Рюрик». Сличение протокола с неофициальными записями, которые также велись при встрече в Выборге и которые также сохранились в Государственном архиве Швеции, позволило восстановить подлинные слова Киприана: «...В старинных хрониках есть сведения о том, что у новгородцев исстари были свои собственные великие князья... так из вышеупомянутых был у них собственный великий князь по имени Родорикус, родом из Римской империи» («...uti gamble Cronikor befinnes att det Nogordesche herskap hafuer af alder haft deres eigen Storfurste for sig sielfue... den sidste deres egen Storfurste hafuer uarit udaf det Romerske Rikedt benemd Rodoricus»)[6]. Следовательно, архимандрит представил ту же самую «августианскую» легенду, подчеркивая древность родословия новгородских князей.
В чем же дело, каким образом одна и та же мысль вдруг и почти одновременно поразила воображение шведского дипломата и высокопоставленных сановников шведского королевского двора? Чей замысел и чье влияние подтолкнули к подлогу в официальном дипломатическом протоколе? Вопрос далеко не второстепенный, поскольку именно этот протокол и стал важнейшим источником, на который впоследствии ссылались шведские историки, уверяя, что сами новгородцы «помнили» о своем князе Рюрике «родом из Швеции».
Взгляд современной исторической мысли прошел мимо того факта, что скрытым источником вдохновения для этой фальсификации явились мифы о гипербореях, которые оказались в поле зрения ренессансной мысли Западной Европы в общем русле возрождения интереса к античным авторам. Мифами о гипербореях и вызванным ими возбуждением в ученых кругах заинтересовался первый шведский языковед и собиратель памятников рунического письма Юхан Буре (1568-1652). По предположению шведского историка Юхана Нордстрэма (1891-1967), внимание Ю. Буре привлекло сочинение нидерландского географа Иоанна Горопиуса (1527-1598) под названием «Origines Antwerpianae», опубликованное в 1569 г. Это сочинение И. Горопиус посвятил происхождению кимвров, с которыми он связывал основание Антверпена, полагая, что античные мифы о гипербореях повествуют об историческом прошлом кимвров, величайшего европейского народа, внесшего фундаментальный вклад в греко-римскую цивилизацию[7].
В Упсальской библиотеке Ю. Нордстрэм нашел экземпляр «Origines Antwerpianae», принадлежавший Ю. Буре. Книга испещрена его заметками, свидетельствующими о внимательном ее изучении. В числе прочих заключение: «Надо быть безумцем, чтобы не понять, что Гиперборея - это Скандия»[8]. Озаренный этой мыслью, Ю. Буре «восстанавливает» древнюю историю свеев, опираясь на мифы о гипербореях.
Главным культом гипербореев был культ Аполлона. Соответственно храм Аполлона усматривается в языческом храме Упсалы, о котором упоминает Адам Бременский. Отсюда делается вывод, что древнегреческие культы имеют скандинавское происхождение. С восторгом Ю.Буре отмечает, что гиперборейский мудрец Абарис, которого упоминает Геродот, поразил своей ученостью самого Пифагора. Описание морских походов гипербореев из Греции по Черному морю, затем в Скифию и далее на север оценивается как изложение великих деяний свеев, обогативших человечество, при посредстве греков, ценнейшими изобретениями[9]. Эти заметки Ю. Буре не опубликовал под собственным именем, поскольку историей как таковой не занимался. Но есть множество свидетельств тому, что его увлечение гипербореями и его трактовка гиперборейских мифов быстро получили распространение в шведском обществе. Ю. Буре был весьма влиятельной фигурой как в придворных, так и в ученых кругах Швеции. Рано начав свою придворную службу, он добился высокого положения при Карле IX и был приставлен в качестве учителя к наследнику престола Густаву Адольфу, который на всю жизнь сохранил уважение и симпатию к Ю. Буре и, взойдя на престол, постоянно осыпал его своими милостями и почетными должностями. Ю. Буре увлекался историей письменности и литературы, был инициатором перевода на шведский язык исландских саг и увековечил свое имя множеством реальных заслуг на поприще шведской словесности[10]. Можно сказать, что он был подлинным властителем дум образованных слоев шведского общества.
Поэтому вполне естественно, что под влиянием Ю. Буре мифами о гипербореях увлекся его современник и почитатель шведский философ и поэт Георг Штэрнъельм (1598-1672)[11]. После смерти Г. Штэрнъельма был издан в 1685 г. его трактат о гипербореях под названием «De Hyperboreis Dissertatio», развивавший идеи Ю. Буре о том, что Скандинавский полуостров - это страна гипербореев, описанная в древнегреческих мифах, а свеи - это гипербореи, от которых греки получили своих самых древних богов. Следовательно, древнегреческие культы имеют скандинавские истоки, а храм в Упсале - храм Аполлона. Влияние «гипербориады» Ю. Буре на ход мыслей Г. Штэрнъельма вполне очевидно. Вместе с тем в его трактате идеи Ю. Буре получили дальнейшее развитие. Продолжая рассуждения Ю. Буре о культе Аполлона у гипербореев, он отождествил Аполлона с Одином, а сына Одина Ньёрда - с Нордом, который в греческом переводе стал Бореем. В географических названиях греческих мифов Г. Штэрнъельм усмотрел искаженные скандинавские топонимы: в частности, в Эликсии или острове гипербореев он опознал Helsingor или Heligsond в Западной Норвегии. Соответственно и в собственных именах гипербореев он выявил искаженные скандинавские имена. Например, имя гиперборейского мудреца Абариса из сказания, упоминаемого Геродотом, оказалось искаженным Ewart или Iwart[12]. По-видимому, в егобознапии не возникал вопрос, что может быть общего между Одином, косматым и кривым стариком, как запечатлен этот образ в скандинавской мифологии, и стройным златокудрым красавцем Аполлоном из греческих мифов. Фантазия - великая сила, позволяющая человеку «видеть» то, во что ему хочется верить.
Следует учесть, что духовное развитие скандинавского общества описываемого периода отмечено интенсивным осмыслением своих национальных корней. Начинаются поиски рукописей исландских саг, их исследования, переводы и публикации. Ученик Г. Штэрнъельма Олаус Верелий (1618-1682), первый профессор (1662) Упсальского университета в области изучения древностей отечественной истории, положил начало сравнительному анализу исландских саг с целью обоснования выводов своего учителя о скандинавском происхождении гипербореев. И он не преминул обнаружить в сагах множество «доказательств» в пользу теории своего учителя, а его опыт получил развитие в трудах его последователей. В частности, на основе изысканий О. Верелия был сделан вывод, что античные авторы, особенно Диодор Сицилийский, - неоценимый источник сведений по древней истории Швеции[13].
Приняв во внимание приведенные примеры, естественно предположить, что именно Ю. Буре и стоит в истоках «гипербориады», захватившей как научную мысль, так и более широкие круги шведского общества XVII в. В связи с э/гим особый интерес представляет вопрос о том, когда же именно Ю. Буре Обратился к мифам о гипербореях и отождествил их со свеями. Ю. Нордстрэм приводит пометку Ю. Буре на первой странице: «Эта книга более всего способствовала тому, что в 1613 г. я узнал сокровенную истину, которая не открывалась до меня ни одному автору». На этом основании Ю. Нордстрэм полагает, что увлечение Ю. Буре гиперборейскими мифами восходит к 1610 г.[14]
По всей вероятности, Ю. Буре занимался изучением гиперборейских мифов в период с 1610 г. по 1613 г., когда ему «открылась истина», что свеи - это гипербореи, заложившие основы европейской культуры. В 1614-1615 гг. дипломат П. Петрей публикует свое историческое сочинение, в котором родоначальник древнерусской княжеской династии Рюрик неожиданно объявляется выходцем из Швеции. Как отмечалось выше, в немецком его издании о шведском происхождении Рюрика говорилось более осторожно: либо с южного побережья Балтики, либо с северного. Это нетрудно понять, если принять во внимание распространенность во времена П. Петрея немецкоязычной историографической традиции, выводившей варягов из Вагрии. Примером может служить историко-географический труд немецкого гуманиста С. Мюнстера «Космография», вышедший в Базеле в 1544 г. и содержавший обзор европейских правителей и династий. В числе прочих был упомянут и князь Рюрик, призванный в Новгород из народа вагров или варягов, главным городом которых был Любек («...aus den Folckern Wagrii oder Waregi genannt, deren Hauptstatt war Ltibeck»)[15]. Важно подчеркнуть, что одним из вдохновителей труда С. Мюнстера был шведский король Густав Ваза (ум. 1560), который через своего дипломатического советника Георга Нормана передал С. Мюнстеру пожелание, чтобы в его труде новым блеском засияло великое прошлое готов. С. Мюнстер постарался выполнить это пожелание и посвятил свой труд Густаву Вазе[16]. Естественно, П. Петрею надо было проявить дипломатическую ловкость, предлагая свою «альтернативу» столь респектабельному сочинению.
Далее рассуждения П. Петрея о летописных именах русских князей разительно напоминают рассуждения Г. Штэрнъельма о древнегреческих именах как искаженных шведских. Так, если, согласно Г. Штэрнъельму, имя гиперборейского мудреца Абариса - это искаженное шведское Эварт или Ивэрт, то, согласно П. Петрею, имена древнерусских князей Рюрика, Трувора и Синеуса - это искаженные шведские имена Эрик, Сигге и Туре[17]. Отличие по существу сводится к тому, что работы Г. Штэрнъельма давно никем всерьез не принимаются, а домыслы П. Петрея о княжеских именах, «от шведского языка испорченных», по-прежнему тиражируются в науке.
Влиянием Ю.Буре, по всей вероятности, можно объяснить и дерзость шведских сановников, сфальсифицировавших отчет о переговорах: едва ли они решились бы на заведомый подлог без поддержки влиятельных лиц. И этот подлог имел существенный резонанс. «Сведения» из сфальсифицированного отчета, равно как и из книги П. Петрея, стали распространяться в ученых кругах Европы, постепенно вытесняя немецкоязычную историографическую традицию, выводившую варягов из Вагрии. В 1671 г. шведский королевский историограф Юхан Видекинд опубликовал «Историю десятилетней шведско-московитской войны» с описанием событий Смутного времени, где привел слова архимандрита Киприана из этого отчета с собственными комментариями: «Из древней истории видно, что за несколько сот лет до подчинения Новгорода господству Москвы его население с радостью приняло из Швеции князя Рюрика»[18]. Работа Ю. Видекинда неизменно пользовалась доверием: ведь придворный историограф имел доступ к королевскому архиву и опирался на подлинные архивные материалы. В частности, в восприятии А. Л. Шлёцера сведения Ю. Видекинда неопровержимо свидетельствовали о том, что в Смутное время новгородцы верили в шведское происхождение Рюрика[19].
Из приведенных фактов явствует, что со второго десятилетия XVII в. младшие коллеги Ю. Буре по изучению шведской словесности увлеченно разрабатывают тему основополагающей роли свеев в древнегреческой культуре, почти дословно цитируя записки Ю. Буре. Практически синхронно с этим процессом, в условиях военного присутствия Швеции в Новгородской земле, официальными представителями шведского королевского двора распространяются представления о свеях как родоначальниках русской великокняжеской династии. При этом аргументация обеих сторон чрезвычайно сходна: как в древнегреческой, так и в древнерусской традициях отыскиваются «испорченные» шведские имена в качестве доказательств фундаментальной роли шведских предков в том и другом случае.
И наконец, мифотворческие усилия в обоих этих направлениях слились воедино в творчестве шведского писателя и профессора медицины Олофа Рудбека (1630-1702), в частности, в главном его произведении «Атлантида» («Atland eller Manheim»). С именем этого автора оказался связан особый феномен шведской историографии, «рудбекианизм». Обычно творчество О. Рудбека связывают с готицизмом, модным в то время течением западноевропейской историософии, восходившим своими корнями к раннему средневековью, но получившим развитие с XVI в., сфокусировав внимание на великом прошлом готов как завоевателей мира и героических предков германских народов. Колыбелью готов был объявлен шведский юг, Гёталандия. Готицизм льстил шведскому самосознанию, но при этом создавал и некоторый дискомфорт, невольно отодвигая в тень другого предка шведов и притом более именитого, по понятиям того времени, а именно свеев, от которых вели происхождение и королевская династия Швеции, и само ее имя Sverige, т. е. Svearike, Свейское королевство. Поэтому предложенное Ю. Буре отождествление свеев с гипербореями как нельзя лучше вписалось в общее русло культурных исканий шведского общества. При таком сочетании каждый получал свое: готы / гёты закладывали фундамент германской культуры, а свеи, под именем гипербореев, выступали основоположниками греко-римской цивилизации, фундамента всей европейской культуры, включая и древнерусскую ее ветвь. Именно такая двойная перспектива и получила развитие в творчестве О. Рудбека.
Поэтому рудбекианизм не вполне идентичен готицизму, хотя и вобрал многие его черты. В данном же случае на это следует обратить внимание по той простой причине, что именно «гипербореада» О. Рудбека и сыграла решающую роль в развитии древнерусской историографии.
О. Рудбек принадлежал к упсальскому ученому сообществу, лично знал Олауса Верелия и разделял его взгляды как относительно скандинавского происхождения гипербореев, так и в части отождествления страны гипербореев со Скандинавией. Поэтому в «Атлантиде» О. Рудбека красной нитью проходила идея основополагающей роли шведов во все времена и для всех народов, а Швеция выступала колыбелью всей европейской культуры, в том числе и греко-римской, и древнерусской[20].
В своей «Атлантиде» О. Рудбек проповедует мысль о том, что за именами многих народов и стран у античных авторов скрываются прямые предки шведов. Поэтому он отождествляет со Швецией как платоновскую Атлантиду, так и вслед за Буре и его учениками остров гипербореев. При этом О. Рудбек, опираясь на Диодора Сицилийского, в частности, на его рассказ о правителях типербореев, потомках Борея, уверяет, что имя Борея обнаруживается у предков шведских Конунгов! Так, один из них носил имя Поре / Боре (Роге / Воге), которое греки произносили как Борей. От него, согласно Рудбеку, и пошло выражение «род Борея».
Свои доказательства О. Рудбек основывает на филологических рассуждениях, которые заслуживают более подробной характеристики, разительно напоминая «этимологический метод» современной науки. Выражение «род Борея» (Bores att), по мнению О. Рудбека, у скальдов древности варьировалось как borne (урожденный), atteborne (по происхождению, по рождению), bordig (происходящий). Исходным для всех этих слов, указывал О. Рудбек, служил глагол barn, «рождать», откуда и barn (ребенок), и barnbam (потомок). Отсюда пошли, согласно О. Рудбеку, выражения bord fodsel (благородного происхождения) и bore fader[21]. Последнее выражение как таковое смысла не имеет, но в общем русле рассуждений О. Рудбека фактически наделяется значением «урожденный по отцу», ибо далее Рудбек мыслит следующим образом. Слово «дети или потомки», ungar, стало произноситься как Yngiar или Ynglingar, эквивалентно имени Инглингов, легендарной династии шведских конунгов из «Круга земного» Снорри Стурлусона, и постепенно стало использоваться для обозначения королевской династии. Почва для этого была подготовлена прежними обозначениями королевских потомков, такими как borne, baarne, baroner. Последнее слово О. Рудбек также относит к «скандинавским» по происхождению[22].
Постепенно слово borne стало варьироваться и использоваться с приставкой över, «высокий», чтобы подчеркнуть благородство происхождения. Именно такая форма, överboren, «высший среди borne», и закрепилась за династией конунгов. Это слово, согласно О. Рудбеку, было подхвачено древними писателями, чтобы отметить особо выдающихся потомков рода borne, поэтому слово överborne утвердилось в значении «благороднейший». Название Överbornes о (У О. Рудбека Yfwerbornes Öö) закрепилось в свою очередь за Скандинавским полуостровом в качестве места проживания Упсальской династии как самой высокородной. Соответственно, считает О. Рудбек, и северный ветер стал называться Boreas в классической традиции. Но греческие писатели, вероятно, не знали древнескандинавских реалий, в силу чего Диодор Сицилийский взял из скандинавского слова yfwerbornes приставку över- и перевел ее на греческий как hyper, откуда и получилось слово hyperboreas, породив ошибочное мнение, будто слово «гипербореи» - греческое. Нет, убежден О. Рудбек, это природное скандинавское имя, заимствованное греками и переделанное на свой лад[23].
С помощью такой «этимологии» - или «филологической герменевтики» - О. Рудбек доказал скандинавское происхождение Гипербореи, продемонстрировав, что Диодор не опознал в греческом Борее доброе старое шведское имя Поре/Боре. Такую же «герменевтику» О. Рудбек использовал для доказательства скандинавского происхождения и ряда других топонимов греческих мифов. Например, в главе «О наименовании Швеции Heligs Öja или остров Блаженных» Рудбек постулировал, что в древности Швеция называлась также и Эликсией, или островом Блаженных. Это рассуждение стоит воспроизвести: «Из всех имен, которыми Швеция была почтена и которые были услышаны греками и записаны ими в несколько неверном виде, было и такое как Helixoia... которое произносилось также как Elixoia, остров, где жили yfwerborne». Если бы греки понимали наш язык, - продолжает О. Рудбек, - они бы не стали писать, что Elixoia - остров, поскольку шведское слово «ö», «остров», уже входит в название Elixoia. Но отсюда и явствует, что за греческим названием Эликсия скрывается шведское Heligsö, что и означает, по О. Рудбеку, «остров Блаженных»[24].
Этих примеров, по-видимому, достаточно, чтобы проиллюстрировать эпистемологию шведской «гипербориады», существо которой сводится к тому, что материал чужой истории подгоняется к своей собственной и осваивается на ее территории. Задерживаться на этом едва ли стоит, поскольку творческая деятельность О. Рудбека уже получила оценку в шведской историографии. По заключению Ю. Свеннунга, шовинистические причуды человеческой фантазии Олаус Рудбек довел до вершин нелепости[25].
Тем не менее приведенные выдержки из работы О. Рудбека получают поразительные соответствия в историографии Древней Руси. Так же как О. Рудбек упрекал Диодора, современные норманисты упрекают древнерусских летописцев в незнании скандинавского языка и неверной передаче непонятных им «скандинавских» слов, существующих порой лишь в воображении современных наследников шведской «гипербориады». В их трудах легко узнаваемы и вера в скандинавское происхождение древнерусских топонимов, этнонимов и антропонимов, и метод «доказательства» их скандинавской этимологии[26].
И это сходство неслучайно, ибо обусловлено прямой генетической зависимостью от взглядов О. Рудбека. Как уже отмечалось выше, «причудами фантазии» О. Рудбека предкам шведов, готам и свеям, была приписана основополагающая роль и в греко-римской, и в русской истории. Имя свеев с равной легкостью переносилось и на древних гипербореев, и в русскую историю. Толкуя Геродота, О. Рудбек писал, что шведы - это скифы, которые покоряли славян и обращали их в рабство. Согласно О. Рудбеку, при жизни Александра Македонского Один и его потомки властвовали над большинством земель вокруг Черного моря, а впоследствии власть перешла к готско-шведскому королю Германариху. Уже тогда «шведские волки» беспрепятственно бороздили Балтийское, Черное и Средиземное моря вплоть до Спарты[27].
Вспоминать об этом приходится постольку, поскольку именно к О. Рудбеку и восходят многие постулируемые нынешними норманистами идеи, в частности, отстаиваемое ими толкование происхождения имени варягов, которое традиционно возводится к Г. 3. Байеру. Стараясь доказать шведское происхождение варягов, Г. 3. Байер утверждал, что «Скандия от некоторых называется Вергион» и «оное значит остров волков... что в древнем языке не всегда значит волка, но разбойника и неприятеля... Скандинавцы бо почти в беспрестанном морском разбое упражнялись, отчего варгами и отечество их Варгион, или Варггем, могло называться»[28]. Эту фантазию Г. 3. Байер дословно позаимствовал у О. Рудбека. Так, в «Атлантиде» Рудбек писал: «Ю. Магнус в своей «Истории» неоднократно говорит, что некоторые называли остров Швеция как Вергион. П. Классон называет ее «Варгэён» (Wargöön). Шведское море, «Эстершён» (Östersjön, т. е. «Восточное море». - Л.Г.), русские называют «Варгехавет» (Wargehafwet), как видно из русских записок Герберштейна, а шведов - «варьар» (Wargar), что показывает, что великокняжеское имя русской династии явилось из Швеции, когда мы туда пришли: Почему Швеция получила это имя, хорошо разъясняется О. Верелиусом в его примечании к Гервардовой саге: от великого разбоя на море, поскольку волки (Wargur) - это те, кто грабят и опустошают и на суше, и на море»[29].
В чем же дело? Почему «причуды фантазии» О. Рудбека, давно получившие адекватную оценку и породившие понятие «рудбекианизм» в качестве обозначения мифотворчества в исторической науке, так прочно обосновались в русской истории?
Здесь следует принять во внимание, что в западной науке негативная оценка творчества Рудбека распространяется только на его попытки доказать основополагающую роль шведов в греко-римской цивилизации. Эта часть рудбековской «Атлантиды» под обстрелом критики давно погрузилась на дно истории, причем под обстрелом критики не только научной.
В рамках дискуссий о германских корнях постепенно стал развиваться немецкий германоцентризм, который в XIX в. приобрел форму индогерманистики, поместившей в центр европейской истории современную Германию[30]. Поиски исторических корней в этом направлении, как известно, породили в Германии идею праарийской «колыбели», от которой стали отпочковываться гипотезы о решающей роли «нордической расы» практически во всей человеческой истории. Центр «нордического самосознания» сместился на Рейн[31].
Что же касается «причуд фантазии» О. Рудбека относительно варягов и других сюжетов древнерусской истории, то им выпала иная судьба. И в ней заметную негативную роль сыграли западноевропейские мыслители эпохи Просвещения, точнее их увлечение рудбекианизмом и особенно готицизмом, которому многие их них отдали обильную дань.
Видную роль в развитии готицизма опять-таки сыграли представители шведской общественной мысли. Крупными апологетами готицизма явились шведские историки XVI в. Юханнес Магнус (1488-1544) и Олаус Магнус (1490-1557). В их сочинениях мысль о приоритете германцев в европейской истории связывалась с образом Швеции как прародины готов, с обоснованием готского происхождения шведских королей и описанием их героических деяний на протяжении тысячелетий, с рассказами о их победоносных походах и т. д. Особую поддержку готицизм получил в Швеции в XVII столетии, в период правления Густава II Адольфа, на фоне громких побед шведской армии в Тридцатилетней войне (1618-1648). На основе готицизма того времени, с одной стороны, начинается серьезное изучение скандинавскими историками прошлого своих стран, а с другой, развивается склонность к романтической идеализации этого прошлого. При короле Густаве II Адольфе (1611-1632) представление о древнем величии шведских королей и грандиозных масштабах их завоеваний достигло апогея своего развития и легло в основу шведской историографии.
В русле готицизма понятия «готское» и «германское» постепенно слились в одно целое. На определенном этапе к ним добавился третий синоним, «норманское», и в итоге сложился историографический штамп: «готский период» в европейской истории стал отождествляться с «норманским периодом». Этим мы обязаны также шведскому готицизму, в частности, работам шведского религиозного деятеля Олауса Петри (1493-1552), который впервые в шведской историографии затронул тему походов и завоеваний скандинавских викингов. О. Петри утверждал, что в иностранных хрониках часто упоминаются погтаппогит или nordmen и вполне очевидно, что они могли происходить только из трех скандинавских стран[32]. Почему это очевидно, не разъяснялось. Одной из таких «иностранных хроник», вероятно, были ставшие затем знаменитыми свидетельства итальянского историка и дипломата X в. Лиудпранда, который отметил, что итальянцы называли русов нордманами и объяснил, почему: от тевтонского nord - север, и man - человек, откуда и получаются северные люди, северяне. Вот этих самых северян средневековых хроник представители шведского готицизма и стали поселять исключительно на Скандинавском полуострове, открыв путь для произвольных толкований сообщений средневековых хронистов.
Идеи шведского готицизма использовались представителями общеевропейского готицизма, прежде всего немецкого и английского. Сначала посредническую роль сыграла немецкоязычная литература. Затем готицизм стал популярен и в Англии XVI-XVII вв. В сочинениях по английской истории стали использоваться представления шведских авторов о готах как выходцах из Скандинавии и общем готском происхождении всех германских народов. Англосаксы связывались по происхождению с древними германцами, саксы рассматривались как ветвь готов, целые рои которых вылетали из северного улья и под руководством Одина завладевали всеми землями Балтийского региона. Соответственно и «Атлантида» О. Рудбека, со всеми ее «причудами фантазии», была встречена в Англии с энтузиазмом[33].
Фимиам, который курили О. Рудбеку в Англии, не прошел мимо внимания также и французских просветителей, особенно Ш. Л. Монтескье. В своем сочинении «О духе законов» (1748) он писал о О. Рудбеке в самых лестных тонах[34]. Норвежский историк Й. П. Нильсен отметил, что именно у «Монтескье мы находим представление о скандинавах как основопожниках монархии»[35]. Аналогичные идеи встречаются и у Вольтера в его «Истории Карла XII»[36].
Таким образом, в 1735 г., когда Г. 3. Байер опубликовал свою статью «О варягах», слава «Атлантиды» О.Рудбека была в самом зените, а сам О.Рудбек пользовался признанием ведущих авторитетов западноевропейской общественной мысли. В сущности, родившись в конце XVII в., Г. 3. Байер вырос и сформировался как мыслитель в условиях безраздельного господства рудбекианизма, продолжавшего свое триумфальное шествие вплоть до середины XVIII в. Поэтому в 1726 г., когда Байер прибыл в Петербург, он имел уже вполне сложившийся взгляд на русскую историю. Мифы о гипербореях обеспечили теоретическую базу, сомневаться в респектабельности которой было бы просто провинциализмом. Не было места для сомнений в том, что летописные варяги - это скандинавские волки, бесстрашные и удачливые бродяги и разбойники. Опираясь на готицизм и рудбекианизм, Г. 3. Байер увидел в Вертинских анналах - источнике, который он и ввел впервые в научный оборот - неопровержимое доказательство истинности теорий, на которых сам же был воспитан. Рассказ Вертинских анналов о посольстве византийского императора Феофила к императору франков Людовику I в 839 г. и появлении в Ингельгейме в составе посольства представителей народа «рос» (Rhos), правитель которого носил титул хакана (Chacanus), сообщение об их принадлежности к свеонам - все это было увязано в один узел байеровским переводом слов «eos gentis esse Sueonum» как «от поколения шведы были»[37].
А это явилось грубой модернизацией содержания источника, поскольку шведского народа в IX в. не существовало. На территории нынешней Швеции в то время располагались два конунгства, свеев и гётов. Поэтому на Скандинавском полуострове gens Sueonum можно было бы связать только со свеями, но на этом пути возникало препятствие в Повести временных лет (далее ПВЛ), утверждающей, что в Балтийском регионе свеи представляют собою особый народ, не идентичный варягам и руси. Из этого мог последовать вывод, что свеоны Вертинских анналов и свеи из Свеярике - два разных народа, хотя и со сходными именами. Феномен в науке известный: этнонимы кочуют, как и люди, которые, переселяясь, берут с собой имена своих предков и называют ими новые земли и, по существу, новые народы. В качестве примера можно напомнить аргументы В.Я. Петрухина и Д.С.Раевского, критиковавших А. В. Назаренко за ассоциацию руси с народом ruzzi Баварского географа конца IX в. и отмечавших, что он не учитывает возможность такого положения вещей, «когда схожие этниконы обозначают разные этносы»[38].
Сообщение Вертинских анналов явилось тем решающим аргументом для Г. 3. Байера, который позволил ему огульно отрицать свидетельства всех источников, протииворечивших его концепции «народ Rhos - от поколения шведы». В угоду этому «открытию» были ошельмованы, например, составители немецких генеалогий, отстаивавшие происхождение Рюрика из Вагрии. Бертинские анналы стали главным открытием Г. 3. Байера, его звездным часом, поэтому он объявил войну любому Рюрику, который не был «от поколения шведом». И позиция Г. 3. Байера получила поддержку со стороны авторитетов эпохи Просвещения, в русле идей которых отрицалось существование институтов наследственной власти архаической эпохи, и рудбекианизм со всеми его «причудами фантазии» занял прочное место в русской исторической мысли.
Из представленного материала вытекает ряд предварительных выводов, проясняющих истоки норманизма.
1. Рассмотрение мифотворчества шведских литераторов и политических деятелей XVI-XVII вв. обнаруживает несомненную связь между их фантастическими реконструкциями великого прошлого предков шведского народа и современным норманизмом.
2. Основой современного норманизма по существу остаются мифы о гипербореях, приспособленные учениками и последователями Ю.Буре к истории Швеции. И если сама шведская «гипербориада» осталась феноменом шведской культуры XVI-XVII веков, то методы ее творцов продолжают применяться норманистами.
Какими доказательствами оперировали шведские писатели XVI-XVII вв.? В первую очередь, личными именами, этнонимами и географическими названиями, этимология которых путем произвольных умозаключений выводилась из шведского языка. Какими аргументами оперируют современные норманисты? Также утверждениями о скандинавской этимологии этнонима Русь и древнерусских княжеских имен. Чем же их аргументация отличается от аргументации П. Петрея, Г. Штэрнъельма, О. Рудбека? Из приведенных примеров видно, что по существу ничем: тот же «этимологический» метод, хотя и в наукообразной форме, с учетом достижений исторического языкознания.
Между тем утверждение Г. Штэрнъельма о том, что имя гиперборейского мудреца Абариса - результат искажения шведского имени Эварта или Ивэрта, равно как и «этимологические» опыты О. Рудбека по поводу древнешведского происхождения имени Борея, давно никем не принимаются всерьез. Почему же по существу идентичные им утверждения норманистов о том, что княжеское имя Рюрик - это древнескандинавское Hrorekr, в силу чего постулируется скандинавское происхождение также и самого носителя этого имени, по-прежнему находят себе место в академической науке? Такая система «доказательств» - тоже детище историософских утопий XVI-XVII вв., а утопии могут порождать только утопии. Рассуждения норманистов о происхождении имени Русь от древних шведских названий Рослагена при посредстве финского Руотси по существу эквивалентны умозаключениям Рудбека о происхождении греческой Гипербореи от древнешведского Yfwerbomes Öö, Острова высокородных. И это не повод для насмешек: если вспомнить, сколько времени и сил образованных и трудолюбивых людей израсходовано на обоснование такой этимологии Руси, то эта эпопея приобретает трагический колорит. Особенно, если оказывается, что эта беззаветная приверженность к Рослагену - области, принадлежавшей свеям, происходит, в сущности, оттого, что Ю. Буре когда-то воскликнул: «А гипербореи - это свеи!» и породил мысль об основоположничестве свеев. И сие возымело большую власть над умами, нежели данные ПВЛ о том, что свеи - другой народ относительно варягов-руси.
3. Свидетельством утопической природы норманизма служит неспособность его сторонников выйти за пределы методологии XVI-XVII вв. Утопия не обладает способностью саморазвития, обеспечивающего движение от старого к новому, а лишь воспроизводит саму себя. Примеры с антропонимами и топонимами - одно из подтверждений справедливости такого заключения. Но такую же сохранность в современной науке обнаруживают и другие «открытия» рудбекианизма. Например, идея исходно скандинавского происхождения древнегреческих культов, в частности, культа Аполлона, обрела новую жизнь в попытках норманистов отождествить культы Перуна и Волоса с культами Тора и Одина (или, по крайней мере, доказать наличие последних на Руси). Стремление рудбекианцев увидеть в древнегреческих источниках от Геродота до Диодора Сицилийского пересказ древнешведской устной традиции получило продолжение в попытках вывести происхождение ПВЛ из древнешведского дружинного эпоса или исландских саг.
4. Рудбекианизм едва ли получил бы общеевропейскую популярность, если бы не попал в струю такого влиятельного течения общественной мысли, как готицизм, и не был подкреплен авторитетами английского готицизма и французского Просвещения. Работы О. Рудбека и его предшественников ждало такое же забвение, какое выпало на долю сочинения И. Горопиуса, связавшего мифы о гипербореях с кимврами и не задевшего таким образом интересы ни одного из преобладавших в Западной Европе XVI-XVII вв. направлений общественной мысли.
Первым из них был спор о славянском и германском начале, чьи предки древнее и славнее, начавшийся в XVI в. в немецко- и славяноязычной среде Западной Европы, в условиях становления национальных государств. Вторым явился готицизм, зародившийся под влиянием антинемецкой пропаганды в Италии XVI в., как реакция на выступления вождей Реформации против Римско-католической церкви. Под обстрел этой пропаганды попала и роль готов в истории, которая стала представляться в сугубо негативных тонах, как олицетворение всего грубого, варварского, разрушившего Рим - цитадель классической культуры[39]. Развивался такой взгляд постепенно, на основе ренессансных поисков античных истоков европейской культуры. Уже Петрарка (1304-1374) расценивал последовавший за античностью готский период европейской истории как период беспросветного варварства[40]. Именно в этой насыщенной идеологическими испарениями среде и расплодились историко- пропагандистские сочинения ответного характера, прославлявшие готов и их деяния, отождествлявшие готов с германцами и обнаруживавшие готские корни едва ли не во всех европейских культурах. Первоначально защитный характер этого историко-литературного направления воодушевлял его представителей пафосом несправедливо гонимых страдальцев. Апофеозом готицизма и рудбекиианства в первой половине XVIII в. стали работы таких видных мыслителей как Монтескье и Вольтер.
Все это следует иметь в виду, чтобы осознать, что во взглядах Г. 3. Байера, Г. Ф. Миллера и А. Л. Шлёцера не было ничего самостоятельного. Они привезли в Россию модные новинки идейной жизни Западной Европы. Г. 3. Байеру русская наука «обязана» рудбекианизмом. Г.Ф. Миллер и А. Л. Шлёцер выступили эпигонами теории Общественного договора, объединившей идейно-политические и историософские взгляды философов-просветителей, согласно которым государственности с наследственной властью предшествовал период свободы и народоправства с выборными правителями. Достаточно напомнить, что работа Ш. Л. Монтескье «О духе законов» была опубликована в 1748 г., т. е. за год до диссертации Г. Ф. Миллера «О происхождении имени и народа российского» (1749), в которой утверждалось, что до призвания варягов «правление было демократическое» и «новгородцы были без владетелей». Под влиянием этих идей Рюрик потерял права наследного князя и превратился в безродного наемника. Во второй половине XVIII века Ф. М. Вольтер, ставший наиболее влиятельным представителем французского Просвещения, выдвинул новый лозунг. В своих исторических работах, особенно в многотомном труде «Опыт о нравах и духе народов» (1756-1769), он выступил с резкой критикой официальной исторической науки и обосновал так называемый метод исторической критики, опираясь на который в массе собранных фактов следовало отделять достоверное от вымысла и тем самым очищать историю от всего «чудесного и фантастического». И пожалуйста, уже в 1762-1769 гг. А. Л. Шлёцер с энтузиазмом неофита приступает к «очищению» Нестора с целью предоставить пример, «каким образом можно и должно исправить самого Нестора с помощью прочих исторических знаний... Очистить еще мало обработанную историю от басней, ошибок и вздорных мнений»[41].
5. Влияние собственно готицизма также прослеживается во взглядах норманистов. Из готицизма, в частности, перекочевала идея о возможном приоритете экзогенного фактора в становлении государственности, при условии, разумеется, что в роли экзогенного фактора выступает готско-германское начало. Эта идея выросла из идеализации прошлого готов, якобы создавших государственность во Франции и Англии в результате своих завоеваний и соответственно давших свои имена вновь образованным государствам. Аналогичная же аргументация при доказательстве скандинавского происхождения имени Руси прослеживается и у Г. Ф. Миллера, ссылавшегося на то, что «подобным почти образом... галлы франками и британцы агличанами именованы»[42]. Применяется она и сегодня.
Нельзя не отметить, что укоренению среди советских исследователей идеи приоритета внешнего фактора при образовании государств на примере гото- германских или норманских завоеваний весьма содействовала статья К. Маркса «Тайная дипломатия XVIII в.», написанная в конце 50-х годов XIX в., а в полном виде опубликованная лишь после его смерти, в 1899 г., но так и не включенная ни в одно из собраний сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, изданных в советское время[43]. В этой статье К. Маркс предпринял краткий экскурс в историческое прошлое России, и единственным автором, на работы которого он при этом опирался, был A. Л. Шлёцер. Вслед за ним К. Маркс рассматривал начало русской истории как «естественный результат примитивной организации норманского завоевания, вассалитет без ленов или лены, представленные только данью, где необходимость новых завоеваний поддерживалась постоянным притоком новых варяжских искателей приключений, которые жаждали почестей и добычи. Если предводители пытались приостановиться, то их верные сподвижники вынуждали их двигаться дальше. И как в России, так и во французской Нормандии наступал такой момент, когда предводители посылали своих распущенных и ненасытных соратников на новые завоевания уже с одной-единственной целью, только чтобы избавиться от них. Завоевательные походы первых Рюриковичей и их завоевательская организация ни в чем не отличались от норманнов в других частях Европы. Можно было бы возразить, что победители и побежденные слились воедино в России быстрее, нежели в других областях, завоеванных скандинавскими варварами, что предводители очень скоро смешались со славянами, каковое видно из их браков и их имен. Но надо помнить, что сподвижники этих предводителей, которые составляли как их охрану, так и их совет, продолжали состоять исключительно из варягов, что и Владимир, олицетворявший собой пик развития готской России, и Ярослав, олицетворявший начало ее конца, сидели на ее троне силой варяжского оружия.... В период правления Ярослава господство варягов было подорвано, одновременно с чем исчезают завоевательские устремления первого периода и начинается закат готской России. История этого заката показывает еще более отчетливо, что завоевание и образование государства в империи Рюриковичей носило исключительно готский характер»[44].
Из этого отрывка видно, что значительная часть положений норманизма советского времени - это простое тиражирование высказываний К. Маркса. Естественно, его статья была хорошо известна российским историкам марксистского направления уже в дореволюционный период. И вряд ли кто может усомниться в том, что она, сделавшись неотъемлемой частью марксистской догматики, оказала значительное влияние как на историков-марксистов дореволюционного периода, так и на развитие советской исторической науки. Так, М.Н.Покровский (1868-1932), представитель социалистического направления русской исторической науки начала XX в., в своих работах, написанных с позиций марксизма, не только повторил слова К. Маркса о норманском завоевании, но и использовал аргументацию К. Маркса о готском / норманском завоевании как решающем факторе европейского политогенеза. Отсюда и исходят рассуждения М.Н. Покровского о том, что Киевская Русь не была результатом «внутреннего местного развития», а явилась следствием «внешнего толчка, данного движением на юг норманнов»[45]. Этот ход рассуждений о ведущей роли внешнего фактора в становлении древнерусского государства сохраняет свой наступательный заряд и в работах современных авторов, отстаивающих приоритет экзогенных факторов на ранних этапах становления русской государственности[46]. Но Маркс не был историком, собственных исследований русской истории он не предпринимал. Он просто повторил слова A. Л. Шлёцера, подкрепив их германоцентристской аргументацией, выработанной «индогерманистикой» ко второй половине XIX в. Но и A. Л. Шлёцер не основывал своих выводов о норманском завоевании Восточной Европы на реальных свидетельствах источников: его взгляды восходили к рудбекианизму и утопизму эпохи Просвещения.
Примечания:
1. Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. Кн. I. - М., 2003. С. 71-72; Сахаров АН. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности // Сб. РИО. Т. 8 (156). Антинорманизм. - М., 2003. С. 11-13 (см. данную статью в настоящем сборнике. - Ред.); Фомин В.В. «За море», «за рубеж», «заграница» русских источников // Там же. С. 146-147; его же. Варяги и варяжская русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. - М., 2005. С. 8-57.
2. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 13-17.
3. Там же. С. 18-20; Latvakangas A. Riksgrundarna. Varjagproblemet i Sverige fran runinskrifter till enhetlig tolkning. - Turku, 1995. S. 132-135.
4. Ibid. S. 136-137.
5. Фомин B.B. Варяги и варяжская русь. С. 24.
6. Там же. С. 24, 52; Latvakangas A. Op. cit. S. 130.
7. Nordstrom J. De yverbornes 6. - Stockholm, 1934. S. 111-112.
8. Ibid. S. 115.
9. Ibid. S. 116-121.
10. Latvakangas A. Op. cit. S. 145.
11. Ibid. S. 140; Svennung J. Zur Geschichte des Goticismus. - Stockholm, 1967. S. 89.
12. Nordstrom J. Op. cit. S. 121-122.
13. Ibid. S. 123-132.
14. Ibid. S. 183-184.
15. Miinster S. Cosmographia. Basel, 1628. Faksimile-Druck nach dem Original von 1628. - Lindau, 1978. S. 1420.
16. Latvakangas A. Op. cit. S. 117.
17. Ibid. S. 134.
18. Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны XVII века. - М., 2000. С. 280.
19. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 23.
20. Rudbek О. Atland eller Manheim. - Uppsala, 1937.
21. Ibid. 4.1. S. 228-231.
22. Ibid. S. 231.
23. Ibid. S. 231-237.
24. Ibid. S. 293-301.
25. SvennungJ. Op. cit. S. 91.
26. Эта тенденция столь сильна, что проявляется, в той или иной мере, в работах даже наиболее серьезных исследователей русско-скандинавских связей раннего Средневековья: Глазырина Г.В. А1аborg «Саги о Хальвдане, сыне Эйстена». К истории Русского Севера // ДГ. 1983 г. М., 1984. С. 200-208; Древнерусские города в древнескандинавской письменности: (тексты, перев., коммент.) / Сост. Г. В. Глазырина и Т. Н. Джаксон. - М., 1987; Мельникова Е.А. Скандинавские антропонимы в Древней Руси // ВЕДС. С. 23-24; ее же. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // ДГВЕ. 1998 г. М., 2000. С. 143-159; Мельникова Е.Л., Петрухин В.Я. Название «Русь» в этнокультурной истории Древнерусского государства (IX-X вв.) // ВИ, 1989, № 8. С. 24-38; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. - М., 2004. С. 285-286; Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей IX - начала XI в. - М., 2001. С. 68-96; Свердлов М.Б. Rorik (Hrorikr) i Gordum // ВЕДС. С. 36-37; Скрынников Р.Г. Русь IX-XVII века. - СПб., 1999. С. 14-27; Успенский Ф.Б. Варяжское имя в русском языковом обиходе (К этимологии слова «олух») // ДГВЕ. 1999 г. М., 2001. С. 263-280; Успенский Ф.Б., Литвина А.Ф. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая история через призму антропонимики. - М., 2007.
27. Rudbek О. Op. cit. Ч. III. S. 194-199, 347-349.
28. Байер Г.З. О варягах,// Фомин В.В. Ломоносов: Гений русской истории. - М., 2006. С. 353-354.
29. Rudbek О. Op. cit. Ч. I. S. 324-325.
30. Кузьмин А.Г. Указ. соч. С. 81.
31. Лурье С.Я. История Греции. - СПб., 1993. С. 43.
32. Latvakangas A. Op. cit. S. 97.
33. SvennungJ. Op. cit. S. 64-65.
34. Montesquieu Ch.L. Om lagarnas anda. - Stockholm, 1990. S. 165.
35. Нильсен Й.П. Рюрик и его дом. Опыт идейно-историографического подхода к норманскому вопросу в русской и советской историографии. - Архангельск, 1992. С. 17-18.
36. Voltaire. Karl XII.- Stockholm, 1993. S. 12.
37. Фомин B.B. Ломоносов. С. 347.
38. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 272.
39. Latvakangas A. Op. cit. S. 95; Nordstrom J. Op. cit. S. 98-99.
40. Svennung J. Op. cit. S. 56.
41. Шлёцер АЛ. Нестор. 4.1. - СПб., 1809. С. XIX-XXVII.
42. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 99.
43. Marx Karl. 1700 - talets hemliga diplomati. - Varnamo, 1990. S. 6.
44. Ibid. S. 131-133.
45. Покровский M.H. Русская история с древнейших времен. Т. I. - М., 1910. С. 58-59.
46. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 325.
Фомин В.В. Варяго-русский вопрос и некоторые аспекты его историографии
Глава первая. Фальшивый старт норманской теории
Деятельность варягов и варяжской руси явилась одной из причин образования крупнейшего государства раннего Средневековья, именуемого в древнейшей русской летописи - Повести временных лет (далее ПВЛ) - исключительно как Русь, Русская земля, Русская страна, и в котором жили наши предки, называвшие себя русь, русские, русины, говорившие на русском языке и жившие по «закону русскому»[1]. Но при этом летопись нигде прямо не указывает ни на их этническую принадлежность, ни на их родину. Такая ситуация, естественно, вызвала большое число предположений, и варягов, и русь выдавали за норманнов, славян, финнов, литовцев, венгров, хазар, готов, грузин, иранцев, кельтов, евреев и т. д. В связи же с политической значимостью варяго-русского вопроса в его трактовке не обошлось без псевдонаучных спекуляций. Более того, он и был рожден политикой, и начало ему положили представители шведской донаучной историографии XVII века.
Именно они, обслуживая великодержавные устремления своих правителей, начали в массовом порядке проводить мысль, что варяги были шведами, а в подтверждение этой посылки выдвинули доказательства, обычно приписываемые Г. 3. Байеру, Ю.Тунманну и А. Л. Шлецеру, труды которых по варяго-русской тематике выходили в 1735-1809 годах. Так, именно они отождествили варягов с византийскими «варангами» и «верингами» исландских саг, слово «варяг» объявили древнескандинавским, за скандинавские выдали имена русских князей и т. д. В целом, как подводил черту крупнейший норманист XIX в. А. А. Куник, «в период времени, начиная со второй половины 17 столетия до 1734 г. (в 1735 г. в «Комментариях Петербургской Академии наук» была опубликована на латинском языке статья Байера «De Varagis»[2], с которой несколько столетий ошибочно связывалось начало норманизма. - В. Ф.) шведы постепенно открыли и определили все главные источники, служившие до XIX в. основою учения о норманском происхождении варягов-руси»[3].
И эта «основа учения о норманском происхождении варягов-руси» представляет собой смесь домыслов и самых буйных фантазий, порожденных ярко выраженным у шведов XVII в. комплексом национального самолюбования и национального самовосхваления, а также чувством самого крайнего неприятия русских. Первым, кто вообще озвучил мысль, что летописные варяги есть шведы, был П. Петрей, в 1601-1605 гг. выполнявший в России роль политического агента Швеции и осуществлявший сбор всевозможных сведений о прошлом и настоящем Российского государства. Итогом пристального интереса Петрея к нашему Отечеству стала его «История о великом княжестве Московском», опубликованная в 1614-1615 гг. в Стокгольме на шведском языке и в 1620 г. с дополнениями и исправлениями переизданная на немецком языке в Лейпциге. И в ней он сказал, что «от того кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции»[4].
Тезис о шведском происхождении варягов активно затем внедряли в умы западноевропейцев соотечественники Петрея, работы которых выходили в Швеции и Германии на шведском и латинском языках: Ю. Видекинд (1671, 1672 гг.)[5], О.Верелий (1672 г.), О.Рудбек (1689, 1698 гг.)[6]. Шведская природа варягов утверждалась в диссертациях Р. Штрауха и Э.Рунштейна, защищенных соответственно в 1639 и 1675 гг. в Дерптском и Лундском университетах[7]. В 1734 г. А.Скарин выпустил в Або «Историческую диссертацию о начале древнего народа варягов», т. е. шведов[8]. При этом все названные лица, начиная с Петрея, за основу своих рассуждений брали сфальсифицированную шведскими политиками, желавшими любой ценой удержать захваченные в годы Смуты русские земли, речь новгородских послов, произнесенную 28 августа 1613 г. в Выборге перед братом шведского короля Густава II герцогом Карлом-Филиппом, в которой те якобы сказали, что «новгородцы по летописям могут доказать, что был у них великий князь из Швеции по имени Рюрик».
Эта фальшивка и легла в фундамент норманской теории, ставшей острием широких захватнических планов Швеции. Еще в 70-х гг. XVI в. начала вырисовываться конечная цель ее внешней политики - превращение в великую державу, достижение господства на Балтике и на всем севере Европы. И цель эта была достигнута в результате Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), когда Швеция захватила экономические и стратегические позиции в Северной Германии (с переходом в руки шведов южного берега Балтийского моря само это море воспринималось ими как «шведское озеро»). Столь же успешно действовала Швеция и в восточном направлении, при этом опираясь на специально разработанную в 1580 г. развернутую программу территориальных приобретений за счет нашей страны (именуемую в зарубежной историографии «Великой восточной программой»), И согласно которой планировалось захватить все русское побережье Финского залива, города Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Корелу с уездами, большую часть русского побережья Баренцева и Белого морей, Кольского полуострова, северной Карелии и устье Северной Двины с Холмогорским острогом, установить контроль над Новгородом, Псковом, ливонскими городами, провести шведскую границу по Онеге, Ладоге, через Нарову[9].
«Великая восточная программа» и активные действия по ее претворению в жизнь (к 1621 г. Восточная Прибалтика была захвачена Швецией) резко усилили антирусские настроения высшего шведского общества, накал которых очень емко выразил в 1615 г. король Густав II Адольф: «Русские - наш давний наследственный враг»[10]. Эти антирусские настроения также способствовали возникновению норманской теории. Наконец, ее возникновению способствовал своеобразный менталитет шведов, давно и искренне убежденных в исключительности собственной роли в мировой истории.
В связи с чем они с упоением и огромным размахом занимались мифологизаций своего прошлого, постоянно украшая его новыми и новыми мифами планетарного масштаба. Так, в «Прозаической хронике», составленной в 50-х гг. XV в., фантастически возвеличена история Швеции от всемирного потопа до времени создания хроники. В «Истории всех готских и шведских королей» Ю.Магнуса (1554 г.) Швеция представлена матерью-прародительницей многих народов, а сын Иафета Магог зачислен в праотцы и в первые короли готов. В генеалогических таблицах Э.Е.Тегеля (ум. 1636 г.) этот же библейский персонаж выступает в качестве «праотца» и первого шведского и готского короля. Вместе с тем в Швеции идет активная пропаганда «гетицистских» идей о происхождении шведов от древних завоевателей мира - готов и о превосходстве шведов над другими народами.
Но ветхозаветной истории и истории готов оказалось мало для беспредельных националистических амбиций шведов. И они обильно были сдобрены классикой - древнегреческой историей. Шведский философ и поэт Г. Штэрнъельм (ум. 1672 г.) популяризирует мысль соотечественника Ю.Буре (ум. 1652 г.), очень быстро овладевшую умами многих, что Скандинавский полуостров является страной гипербореев древнегреческих мифов, «а гипербореи, от которых древние греки получили самых древних богов - это свей, и следовательно, древнегреческие культы - скандинавского происхождения» (Аполлон и его сын Ньёрд - искаженные шведские Один и Норд, а греческие топонимы и имена гипербореев - искаженные скандинавские). Ученик Штэрнъельма О. Верелий, используя саги для доказательства скандинавского происхождения гипербореев, утверждал, что античные сочинения представляют собой «неоценимый источник по изучению древней шведской истории».
В 1675-1698 гг. профессор медицины О. Рудбек в трехтомной «Atlantica» не только отождествил древнюю Швецию с Атлантидой Платона (а атлантидовский акрополь со Старой Упсалой), но и отвел ей центральное место в древнегреческой и древнерусской истории, при этом незамысловато переиначивая древнегреческие и русские слова в скандинавские. Как предельно точно охарактеризовал в 1802 г. А. Л. Шлецер такой взгляд шведов на свое прошлое, в XVII в. «в Швеции почти помешались на том, чтобы распространять глупые выдумки, доказывающие глубокую древность сего государства и покрывающие его мнимою славою, что называлось любовию к отечеству», и, ведя речь об этимологическом произволе прежде всего Рудбека, заметил, что «сходство в именах, страсть к словопроизводству - две плодовитейшие матери догадок, систем и глупостей» (слово «поднимают на этимологическую дыбу и мучают до тех пор, пока оно как будто от боли не издаст из себя стона или крика такого, какого хочет жестокий словопроизводитель»).
По словам шведского ученого Ю. Свеннунга, произнесенным в 1967 г., один из самых главных апологетов этой «мнимой славы» Швеции Рудбек «довел шовинистические причуды фантазии до вершин нелепости»[11].
Посылка шведских авторов XVII в., что варяги - это шведы, была донесена в 1732 и 1735 гг. до русского читателя работавшими в Петербургской Академии наук Г. Ф. Миллером и Г. 3. Байером. И норманская теория была принята этими учеными и их соплеменниками по той причине, что, как заметил А. Г. Кузьмин, рассматривая методологические основы воззрений немецких исследователей XVIII в. на историю Руси, «немецкая ученость» вместо сколько-нибудь обоснованной теории брала за основу наивный германоцентризм, через призму которого рассматривались и все явления истории славян и руси».
Этот «наивный германоцентризм» был во много крат усилен в 1748 г. французским просветителем Монтескье. «Я не знаю, - говорил он в сочинении «О духе законов», не скрывая скептического отношения к Рудбеку, но, по сути, следуя за ним, - указал ли пресловутый Рудбек, столь восхвалявший в своей Атлантике Скандинавию, на то великое преимущество, которое ставит народы, населяющие эту страну, выше всех народов в мире: именно на то, что они были источником свободы Европы, т. е. им мы обязаны почти всей той свободой, которой пользуются в настоящее время люди. Гот Иордан назвал север Европы фабрикой человеческого рода. Я бы скорее назвал его фабрикой орудий, которыми сокрушают выкованные на юге цепи. Здесь образуются те мощные народы, которые выступают из своей страны для того, чтобы уничтожить тиранов и рабов и заявить людям, что поскольку природа создала их равными, то разум может побудить их стать зависимыми только ради их собственного благополучия»[12].
В 1774 г. швед Ю.Тунманн, воодушевленный словами Монтескье и основываясь на выводах своих соотечественников, т. е., говоря словами Шлецера и Свеннунга, на «глупых выдумках» и «шовинистических причудах фантазии», заявил, что Русское государство создали его предки. Это мнение закрепил в науке в 1802-1809 гг. А.Л. Шлецер, убежденный в том, что германцам было предназначено сеять «первые семена просвещения» в Европе, что на Руси до прихода скандинавов «все было покрыто мраком» и что там «полудикие» люди («получеловеки») жили «без правления... подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса»[13]. В 1931 г. норманист В.АМошин отмечал, что идея Шлецера «о особой роли германцев, в частности, норманнов в развитии правовой и политической культуры в Европе» была основополагающей идеей немецкой историографии. Высказанная впервые Тацитом, противопоставлявшим здоровые «начала германского быта римской испорченности», она была доведена до абсолюта в XVIII веке. И особую популярность она приобрела с тех пор, как в 1748 г. Монтескье провозгласил германское народное вече времени Тацита «зародышем», из которого развилось сословное представительство, при этом превознося «скандинавов за то, что своими походами они разнесли благодетельные начала демократии вне границ прежней Германии»[14].
Такую интерпретацию русско-германских и вместе с тем русско-шведских взаимоотношений еще более закрепили в западноевропейской науке (разумеется, и в нашей) представители классической немецкой философии Фихте и Гегель. Первый в 1800 и 1806 гг. в работах «Замкнутое торговое государство» и «Основные черты современной эпохи» абсолютизировал роль германцев в европейской истории, утверждая перед слушателями и в печати, что они привили народам «иного происхождения» основную германскую систему «обычаев и понятий», христианство и культуру, что «независимость, свобода и равенство благодаря тысячелетней привычке вошли у них в характер». Германцы, по убеждению Фихте, были «нормальным народом», «который сам по себе, без всякой науки или искусства» находился, по сравнению с окружающими его «пугливыми земнорожденными дикарями, лишенными всякого развития», «в состоянии совершенной разумной культуры», и что именно они создали «истинное государственное устройство».
С особой силой рассуждения об «исторических» и «неисторических» народах, способных и неспособных создавать государства, из которых к первым были отнесены германцы, а ко вторым славяне, зазвучали в устах Гегеля. Так, в «Философии истории», представлявшей собой курс лекций по философии всемирной истории, читаемый в Берлинском университете в 1822-1831 гг. и дважды изданный в Германии в 1837 и 1840 гг., он был неумолим в заключении, что «Польша, Россия, славянские государства... лишь поздно вступают в ряд исторических государств и постоянно поддерживают связь с Азией», что «в Восточной Европе мы находим огромную славянскую[15] нацию, обитавшую на западе вдоль Эльбы до Дуная... Однако вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире».
Параллельно с тем он говорил, что на германцев «была возложена задача не только принимать понятие истинной свободы за религиозную субстанцию при служении мировому духу, но и свободно творить в мире, исходя из субъективного самосознания», что в них «жил совершенно новый дух, благодаря которому должен был возродиться мир, а именно свободный, самостоятельный, абсолютное своенравие субъективности». И, характеризуя скандинавов как «рыцарей в чужих странах», Гегель, обращаясь к широкой аудитории, с огромным вниманием ловившей его слова, а затем тысячами голосами разносившей их по всему свету, резюмировал: «Часть их направилась в Россию и основала там русское государство»[16].
Концепция начальной истории Руси Шлецера, которую в 1836 г. антинорманист Ю.И. Венелин охарактеризовал как «скандинавомания», а в 1931 г.
норманист В. А. Мошин как «ультранорманизм» шлецеровского типа»[17], была практически беспрекословна принята российскими учеными. Более того, в норманизации своей родной истории они пошли намного дальше своего кумира. Так, в 1829 г. Н.А.Полевой утверждал, что немногочисленными скандинавами - «но эти немногие, закаленные в бурях и битвах, были ужасны» - «начинается История русского народа». И, открывая ее скандинавской историей и описанием Скандинавского полуострова, нашел в прошлом Руси «норманскую феодальную систему», завершившуюся смертью Ярослава Мудрого и определившую собой «особый характер русской истории, кончающийся нашествием монголов».
В 1834 г. О.И.Сенковский уверял, что «эпоха варягов есть настоящий период Славянской Скандинавии», в который восточные славяне утратили «свою народность», сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях», а их язык образовался из скандинавского (Шлецер, стоит заметить, упорно ища следы пребывания норманнов на Руси, в конечном итоге вынужден был признать, что славянский язык «нимало» не повредился норманским и что из смешения славянского и скандинавского языков «не произошло никакого нового наречия»),
В 1841-1859 гг. М.П. Погодин, убеждая, что в 862-1054 гг. скандинавы на Руси «образовали государство», тогда как сами «славяне платили дань, работали - и только, а в прочем жили по-прежнему», что «действие, приемы, осанка, походка наших варягов-руси... суть норманские», ввел в оборот понятие «норманский период русской истории», обнимавшее собой историю Руси до середины XI в., в ходе которого «удалые норманны... раскинули планы будущего государства, наметили его пределы, нарезали ему земли без циркуля, без линейки, без астролябии, с плеча, куда хватала размашистая рука»[18].
Такого рода «размашистые» рассуждения в духе шведов XVII в. вызывали недоумение и протест даже у норманистов. В 1877 г. И. И. Первольф, характеризуя состояние разработки варяжского вопроса в российской науке, не без сарказма констатировал: «Все делали на Руси скандинавские норманны: они воевали, грабили, издавали законы, а те несчастные словене, кривичи, северяне, вятичи, поляне, древляне только и делали, что платили дань, умыкали себе жен, играли на гуслях, плясали и с пением ходили за плугом, если не жили совсем по-скотски»[19].
Не знавшие границ видения об «удалых норманнах» и «по-скотски» живущих восточных славянах, вопреки источникам и здравому смыслу выдаваемые за исторические реалии, стали просто навязчивыми для большинства российских исследователей. И тому есть несколько причин. Во-первых, наши специалисты видели себя лишь в качестве учеников западноевропейской науки, отчего на свою историю смотрели исключительно только ее глазами. Как выразил в 1836 г. этот практически общий настрой Н. Г. Устрялов, «русские ученые еще юные атлеты на поприще образованности» (подобный комплекс «пигмеев» неизбежно вел к абсолютизации построений западноевропейских ученых, возводя их в ранг «небожителей», а их выводы превознося в качестве наивысшей истины). Поэтому, уточнял в 1876 г. И.Е. Забелин, «кто хотел носить мундир исследователя европейски-ученого», тот должен был быть норманистом[20].
Во-вторых, в российской науке был создан абсолютно непогрешимый культ немецких ученых-норманистов. Так, например, великий Н. М. Карамзин подчеркивал, что ученым мужам Германии «наша история обязана многими удовлетворительными объяснениями и счастливыми мыслями. Имена Баера, Миллера, Шлецера, незабвенны»[21]. В связи с чем, как заметил в 1884 г. М. О. Коялович, в нашем обществе безраздельно воцарилась идея, что признавать норманизм - «дело науки, не признавать - ненаучно». По причине чего, отмечал в 1899 г. Н. П. Загоскин, вплоть до второй половины XIX в. поднимать голос против норманизма «считалось дерзостью, признаком невежественности и отсутствия эрудиции, объявлялось почти святотатством. Насмешки и упреки в вандализме устремлялись на головы лиц, которые позволили себе протестовать против учения норманизма. Это был какой-то научный террор, с которым было очень трудно бороться»[22]. В-третьих, российское образованное общество, по словам Забелина, никак не могло себе вообразить, чтобы начало их родной истории произошло как-то иначе, без содействия иноземного племени. У русских образованных людей, пояснял он, в глубине их национального сознания лежало «неотразимое решение», что «все хорошее русское непременно заимствовано где-либо у иностранцев»[23].
И воздействие этого «неотразимого решения», помноженного на авторитет европейской учености в лице Миллера, Байера и Шлецера, было настолько велико, что невольно заставляло норманистов в угодном для них духе «поправлять» источники. Так, Карамзин «поправил» или, точнее будет сказать, сфальсифицировал письмо Ивана Грозного шведскому королю Юхану III от 11 января 1573 г., в котором царь говорит, обосновывая права России на Восточную Прибалтику, что с Ярославом Мудрым (а именно он заложил главный город этого края Юрьев-Дерпт, следовательно, изначально был владетелем Ливонии) «на многих битвах бывали варяги, а варяги - немцы» (в ту пору «немцами» именовали практически всех выходцев из Западной Европы, и этот термин был совершенно равнозначен по смыслу сегодняшнему «западноевропеец»), У Карамзина слова Грозного зазвучали иначе: «а варяги были шведы»[24]. И в такой вот редакции их затем множили своими трудами в качестве доказательства выхода варягов из пределов Швеции, а заодно и «норманистских настроений» русского общества вообще, авторитетнейшие представители отечественной и зарубежной науки С. М. Соловьев, А. А. Куник, В. Томсен.
При этом в силу своих норманистских убеждений, даже не задумываясь над тем, что царь никак не мог летописных варягов, положивших начало его династии и помогавших его предку покорять земли, захваченные затем немцами, отнести к шведам в самый канун начала борьбы России со Швецией за Ливонию, что могло дать противнику очень важный исторический аргумент в обосновании притязаний на последнюю, аргумент, способный доставить ему самые серьезные издержки. Сегодня Р. Г. Скрынников также в угодном для норманизма духе «поправляет» летописца, повествующего, как новгородцы, прося в 970 г. у киевского князя Святослава одного из его сыновей на княжение, сказали ему, что «если не пойдете к нам, то сами найдем себе князя». Под пером профессионального историка эти слова уже звучат - в учебном пособии «для абитуриентов гуманитарных вузов и учащихся старших классов» - с ярко выраженным скандинавским акцентом: «Найдут себе князя (конунга) по своему усмотрению»[25].
В 1876 г. И. Е. Забелин справедливо заметил, что норманская теория «просуществует еще долго, до тех пор, пока русское общество не износит в себе всех начал своего отрицанья и своего сомненья в достоинствах собственной своей природы»[26]. Несомненно, что преодоление этих застаревших комплексов, чреватых, как демонстрирует наш собственный опыт и опыт других народов, многочисленными и весьма опасными социальными недугами, позволит обществу и науке отказаться от мифа о норманстве варягов, рожденного «шовинистическими причудами фантазии» шведской донаучной историографии XVII в. и не позволяющего нам увидеть истинную историю своей страны.
1К этой Руси, получившей в научной среде условное наименование Киевская, эт-нические украинцы не имеют никакого отношения. Не имеют потому, что русское население Киевской земли, к генетическим наследникам которого современная украинская историография, уже сделавшая ряд «чудесных открытий» (типа того, что украинская мова есть «допотопный язык Ноя, самый древний язык в мире»), относит исключительно только украинцев, было уничтожено монголо-татарами. На данный факт указывают многие источники. Так, папский посол Плано Карпини, проезжая через Южную Русь в 1246 г., насчитал в Киеве менее двухсот домов (по подсчетам ученых, до разорения Киева в декабре 1240 г. в нем проживало порядка пятидесяти тысяч человек). «Бесчисленные головы и кости мертвых людей», которые видел Карпини на пути своего следования, оставались неубранными на территории даже бывшей столицы Руси, т. е. огромные пространства просто обезлюдели и некому было хоронить мертвых (археология дополняет эту жуткую картину).
Русские люди, спасаясь от смерти (в том числе от неминуемой эпидемии), уходили на север. Вот почему былины т. н. киевского цикла, в которых фигурируют князья Владимир Святославич, креститель Руси, Владимир Мономах, сберегатель Руси, и знаменитые русские богатыри, защищавшие Святую Русь, со-хранились на Русском Севере (на территории Карелии и Архангельской области). Собственно украинский фольклор не только не знает эти былины, но и вообще не помнит о событиях ранее XVI столетия. Специалисты также подчеркивают, во-первых, что ни один из антропологических типов сегодняшней Украины не соответствует древнерусскому антропологическому типу, и во-вторых, что абсолютно нет никакой преемственности между археологическими культурами Киевщины домонгольского и послемонгольского времени, а это означает, что они принадлежат разным носителям.
Наш современник А. Г. Кузьмин напомнил факт, выбивающий из рук украинских националистов, до абсурда комплексующих на идее преемственности от Древней Руси только Украины, главный их козырь: историк М.П. Погодин, «сопоставляя язык летописей Киева, Новгорода, Владимира и Ростова, пришел к выводу, что в домонгольский период язык основных центров Руси был единым... Этот вывод был подтвержден всеми крупными русскими лингвистами, указавшими в то же время на расхождение наречий. Расхождение же наречий сам Погодин объяснял тем, что коренное население Киевщины было смыто или уничтожено монголо-татарами в XIII в., а позднее из Прикарпатья пришло население, говорившее на ином диалекте», ставшем основой языка «малороссов». Вывод Погодина, отмечал Кузьмин, встретил «яростное противодействие идеологов нарождавшегося украинского национализма», стремившихся доказать, а точно так поступают сегодня их последователи, что «Киев не был центром единой древнерусской народности, а только центром малороссов-украинцев» (Кузьмин А.Г. Ухабы на «русском направлении» // МГ, 1992, № 3-4. С. 5; его же // Мародеры на дорогах истории. - М., 2005. С. 72-73; его же. История России с древнейших времен до 1618 г. Кн. 1. - М., 2003. С. 319- 320, 339-341; Меркулов В.И. Мифы украинской политики // Сб. РИО. Т. 10 (158). Россия и Крым,- М., 2006. С. 507-510). Реалии современной Украины обнажили одну закономерность: чем больше тот или иной деятель - политик, ученый и пр. - заявляет свое монопольное право на русь как на своего якобы кровного и духовного предка и при этом категорично исключает из числа ее потомков русских, то тем меньше он связан с русской народностью эпохи от Рюрика до Владимира Мономаха,ибо человек, если он действительно истинный потомок руси, не может противопоставлять себя, за исключением каких-то особых клинических случаев, русским и в конечном итоге становиться русофобом (и русинофобом).
Примечания:
2. Bayer G.S. De Varagis // Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Т. IV. - Petropoli, 1735. P. 275-310; Байер Г.З. О варягах // Фомин В.В. Ломоносов: Гений русской истории. - М., 2006. С. 344-362.
3. Куник АЛ. Известия ал-Бекри и других авторов о руси и славянах. Ч. 2. - СПб., 1903. С. 031, 039, 047, 054-055, 057; Замечания А. Куника (По поводу критики г. Фортинского.) - СПб., 1878. С. 2,4,6,8.
4. Petrejus P. Regni Muschovitici Sciographia. Thet ar: Een wiss och egenteligh Beskriffning om Rudzland. - Stockholm, 1614-1615. S. 2-6; idem. Historien und Bericht von dem Grossfiirstenthumb Muschkow. - Lipsiae, Anno, 1620. S. 139-144; Петрей П. История о великом княжестве Московском. - М., 1867. С. VIII-IX, 85, 90-92, 312.
5. WidekindiJ. Thet svenska i Russland tijo ahrs krijgz-historie. - Stockholm, 1671. S. 511; idem. Historia belli sveco-moscovitici decennalis. - Holmiae, 1672. P. 403.
6. Verelius O. Hervarar Saga. - Upsala, 1672. P. 19, anm. 192; Rudbeck O. Atlantica sive Manheim. Т. II. - Upsalae, 1689. P. 518; ibid. Т. III. - Upsalae, 1698. P. 184-185.
7. Мыльников A.C. Славяне в представлении шведских ученых XVI-XVII вв. // Первые скандинавские чтения. Этнографические и культурно-исторические аспекты. - СПб., 1997. С. 148-149; его же. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представление об этнической номинации и этничности XVI - начала XVIII века. - СПб, 1999. С. 56.
8. Scarin A. Dissertatio historica de originibus priscae gentis varegorum. - Aboae, 1734. P. 73-76.
9. История Швеции. - М., 1974. С. 166-168, 188-192, 202-205, 237-238.
10. Мыльников А.С. Славяне... С. 149; его же. Картина славянского мира. С. 137.
11. Шлецер АЛ. Нестор. Ч. I. - СПб, 1809. С. 390; Фомин В.В. Варяги и варяжская русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. - М., 2005. С. 8-57; Грот Л.П. Начальный период российской истории и западноевропейские утопии // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы научных конференций 2006-2007 годов. - Великий Новгород, 2007. С. 12-22.
12. Монтескье. Избранные произведения. - М, 1955. С. 391; Кузьмин А.Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. - М., 2003. С. 36.
13. Thunmann J. Untersuchungen tiber die Geschichte der ostlichen europaischen Volker. Theil 1. - Leipzig, 1774. S. 371-372; Шлецер АЛ. Указ. соч. Ч. I. С. нд- не, 325, 418-420; то же. Ч. И. - СПб, 1816. С. 168, 178-180.
14. Шлецер АЛ. Указ. соч. Ч. I. С. нд-не, род, 325, 388-390, 419-420, примеч. ** на с. 325; то же. Ч. II. С. 168, 178-180; Мошин В.А. Варяго-русский вопрос // Slavia. Casopis pro slovanskou filologii. Rocnik X. Sesit 1-3,- Praze, 1931. C. 128-129.
15. Здесь и далее курсив и разрядка принадлежат авторам.
16. Фихте. Сочинения в двух томах. Т. II. - СПб, 1993. С. 291-292, 492-494, 498, 533-534, 554-563; Гегель. Сочинения. Т. VIII. - М.-Л, 1935. С. 97, 323-324, 329-330; Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции, рожденные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г.Кузьмин. - М, 1998. С. 3.
17. Венелин Ю.И. Скандинавомания и ее поклонники, или столетния изыскания о варягах. - М., 1842; Мошин В.А. Варяго-русский вопрос. С. 130, 347, 350, 364, 533.
18. Шлецер АЛ. Указ. соч. Ч. I. С. 342, примеч. *; Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. - М, 1997. С. 34,59,91, примеч. 51 к кн. I; Сенковский О.И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения. Т. I. Отд. II. - СПб, 1834. С. 18, 22-23,26-27,30-40; его же. Эймундова сага // То же. Т. И. Отд. III. - СПб, 1834. С. 53; Погодин М.П. Откуда идет Русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другим писателям русским, сочинение М. Максимовича. Киев, 1837 // Москвитянин. Ч. II. № 3. М, 1841. С. 231; его же. Происхождение Русского государства // То же. М, 1842. № 1. С. 212; его же. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 3. - М., 1846. С. 545; его же. Норманский период русской истории. - М, 1859. С. 70, 76, 105,107,139, 144,150.
19. Первольф И.И. Варяги-Русь и балтийские славяне // ЖМНП. Ч. 192. СПб., 1877. С. 39.
20. Устрялов Н.Г. О системе прагматической русской истории. - СПб, 1836. С. 1; Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1. - М, 1876. С. 88.
21. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I. - М., 1989. С. 320.
22. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. - Минск, 1997. С. 529; Загоскин Н.П. История права русского народа. Лекции и исследования по истории русского права. Т. 1. - Казань, 1899. С. 336.
23Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 65.
24. Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. IX. - СПб, 1821. С. 219; Фомин В.В. Варяги в переписке Ивана Грозного с шведским королем Юханом III // ОИ, 2004, № 5. С. 121-133; его же. Варяги и варяжская русь. С. 127-129, 336-376.
25. Соловьев С.М. Скандинавомания и ее поклонники, или столетния изыскания о варягах. Историческое рассуждение Ю.Венелина // Москвитянин. М, 1842. № 8. С. 396-399; Kunik Е. Die Berufimg der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen. Bd. I.- SPb., 1844. S. 113-115; Дополнения A.A. Куника // Дорн Б. Каспий. - СПб., 1875. С. 430; Замечания А. Куника. (По поводу критики г. Фортинского). С. 2-3; Томсен В. Начало Русского государства. - М, 1891. С. 101; Скрынников Р.Г. Русь IX- XVII века. - СПб., 1999. С. 48.
26. Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 132.
Глава вторая. Как норманисты-«словопроизводители» дискредитировали лингвистику
В 1877-1878 гг. А. А. Куник, говоря, что шведам «принадлежит честь заложения первых камней в здании норманизма», и характеризуя время с 1614 по 1734 гг. как период «первоначального образования норманской системы», констатировал: «В течение того же XVII ст. убеждение в призвании первых русских князей утвердилось в Швеции, причем шведы обратили внимание... на собирательное Rotsi финнов»[27]. Так, родоначальники норманской теории шведские авторы XVII в. «изобрели», помимо других ее аргументов, главный ее аргумент, увидев в финском названии Швецию Ruotsi основу имени «Русь». Параллельно с тем они начали вести разговор о якобы существующей лингвистической связи между именем «Русь» и Рослагеном (частью береговой полосы шведской области Упланда напротив Финского залива, жители которой во время войны должны были поставлять корабли для морского ополчения). Ю.Буре (ум. 1652 г.), первым увидевший в древних гипербореях шведов, выводил финское слово ruotsolainen - «швед» - от древних названий Рослагена Rohden и Rodhzlagen, считая, что название Рослаген произошло от ro - «грести» и rodher - «гребец», а И. Л. Локцений (ум. 1677 г.) переименовал гребцов и корабельщиков Рослагена в роксолан, т. е. русских[28].
В российскую науку идею о родстве названий Русь и Ruotsi, рожденную торжеством в Швеции «рудбекианизма», ставшего в науке синонимом баснеплетства и околонаучных фантазий, попытался перенести в 1749 г. Г.Ф. Миллер, но его диссертации «О происхождении имени и народа российского», предназначенной для прочтения на первой в истории Петербургской Академии наук «ассамблее публичной», его коллеги практически единодушно отказали в научности. Диссертация Миллера, к работе над которой он приступил весной 1749 г., в начале сентября была отдана, согласно академическим правилам, на рецензию профессорам (академикам) И.Э. Фишеру, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, В.К.Тредиаковскому, М.В.Ломоносову, адъюнктам С.П. Крашенинникову и Н. И. Попову. И все названные лица (за исключением Тредиаковского) в один голос сказали, что она «предосудительна России».
Штрубе де Пирмонт, например, отмечал, что Академия справедливую причину имеет сомневаться, «пристойно ли чести ее помянутую диссертацию публично читать и напечатавши в народ издать». То же самое говорил Ломоносов: она, поставленная на «зыблющихся основаниях», «весьма недостойна, а российским слушателям и смешна, и досадительна». После того как Миллер обвинил оппонентов в пристрастном отношении к своему труду, разгорелась острая дискуссия, в ходе которой он был забракован окончательно (Тредиаковский в отзыве 1750 г. уже подчеркивал, что финны «некоторый соседний народ называют россалейнами. Много сходства; онакож сходство сие врассуждении чужаго, и не сих земель народа: а притом, такия сходства весьма недостоверны и обманчивы»).
Факт, что диссертацию не приняли коллеги Ломоносова немцы Фишер и Штрубе де Пирмонт, что позже точно так же поступили немцы А. Л. Шлецер и А.А.Куник, отметает все норманистские домыслы об отсутствии в критике русских ученых и прежде всего Ломоносова каких-либо серьезных оснований, кроме, как только патриотических (начало такому мнению положил Шлецер, стремившийся выставить Ломоносова перед просвещенной Европой, которой очень хорошо были знакомы его исторические труды, в самом неприглядном виде и тем самым нейтрализовать его критику норманской теории). Остается добавить, что устроитель «ассамблеи публичной» немец И. Д. Шумахер назвал диссертацию Миллера «галиматьей» и что сам Миллер в 1773 г., говоря о выходе этого сочинения в Геттингене «уже вторым тиснением» без его участия, с нескрываемым сожалением признал: «Много сделал бы еще в оном перемены».
Такие слова ученый произнес потому, что к тому времени понял, на каком ложном основании он почти четверть века назад возводил русскую историю, выстраивая ее по «Деяниям данов» Саксона Грамматика (1140 - ок. 1208 гг.), повествующим о многовековых войнах датчан с балтийскими русами, проживавшими в западной часть нынешней Эстонии - провинции Роталия-Русия и Вик с островами Эзель и Даго. И все эти события, имевшие место быть в глубокой древности на Балтийском море и его берегах, Миллер перенес в историю Киевской Руси, в связи с чем в ней появились «российские цари» Олимар, Онев, Даг, Радбард, которых взял под свою защиту датский король Фротон III, живший в третьем веке после рождества Христова, и сын которого Фридлев «в России воспитан... и в России царствовал», утверждалось, что датские и шведские короли часто предпринимали походы «в Россию», что потомки «российского царя» Радбарьда (Рандбарда), женатого на дочери датского короля Ивара Видфадмия, умершего в 600 г., «с отменной храбростию» участвовали в Бравалльской битве и т. д.
И выведя затем разговор на варяжских князей Рюрика и его братьев, Миллер подытоживал, что они «имели над новгородцами владение, не по просьбе, но войною», и что такое завоевание дело обычное: новгородцы «часто были под норвежским и датским владением», «силою и военною рукою в подданстве удержаны», норманны жили в Новгородской земле и имели там свои гарнизоны. При этом ученый убеждал, что нет никакого бесчестья русским в том, что еще до учреждения российского государства новгородцы были покорены норманнами, ибо именно от этого подлинная слава происходит фамилии великих князей, царей и императоров, «преидущей от Рюрика», т. к. «его прадеды за много прежде сим лет часть России в своем владении содержали и потому Рурик имел над новгородцами владение». Миллер также утверждал, что своим именем Русь обязана скандинавам: «Новгородские славяне услышав имя россов от финнов, оным всех из северных стран пришельцов нарицали, почему и варяги от славян россиянами названы. А потом и сами славяне будучи под владением варягов имя россиян приняли, подобным почти образом, как галлы франками и британцы агличанами именованы»[29].
Особенное внимание Ломоносова привлек последний тезис Миллера. И, проанализировав источники, он показал его совершенную надуманность, следовательно, принципиальную ущербность норманской теории, изначально лишающую ее всякой основы: «Имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано». Он также отметил и другой ее изъян, столь же принципиального свойства, что «едва можно чуднее что представить, как то, что господин Миллер думает, якобы чухонцы (финны. - В.Ф.) варягам и славянам имя дали»: как это «два народа, славяне и варяги, бросив свои прежние имена, назвались новым, не от них происшедшим, но взятым от чухонцев». И, говоря об исторических примерах перехода имени победителей на побежденных, на которые ссылался Миллер, Ломоносов заключил: «Пример агличан и франков... не в подтверждение его вымысла, но в опровержение служит: ибо там побежденные от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но все от чухонцев!»[30]. (Действительно, как то демонстрирует мировая история, «имя страны может восходить либо к победителям, либо к побежденным, а никак не к названиям третьей стороны»[31].)
Правомерная критика Ломоносовым норманской теории была проигнорирована шведскими, немецкими, а за ними, естественно, и российскими исследователями. Более того, непреклонная вера в норманство варягов заставляла их постоянно подпитывать эту теорию новыми домыслами и возрождать давно забытые. Так, в 1774 г. швед Ю.Тунманн, констатируя, что шведы никогда не именовали себя русами, выводил из финского названия Швеции Ruotsi форму «русь», уверяя, что шведов восточные славяне стали именовать «русью» посредством финнов, т. к. у славян, отдаленных от моря, были затруднительны отношения со шведами, в связи с чем их настоящее имя не скоро сделалось им известным.
А. Л. Шлецер в «Несторе» вдохнул новую жизнь в другой аргумент шведских авторов XVII в. - в Рослаген, считая, что из этого названия образовались финское «Ruotsi» и славянская «Русь» и что из этого прибрежного округа вышли варяги-русь, давшие славянам свое имя (но при этом он отметил тот факт, который не «замечают» современные норманисты, что летопись различает шведов и руссов). Преподнося свою гипотезу в качестве непреложной истины, Шлецер встал на путь категоричного отрицания исторического бытия черноморской (понтийской) руси, нападавшей на Византию задолго до призвания варягов и их прихода в Киев, многочисленные известия о которой сокрушали норманскую теорию, и отнес ее к «неизвестной орде варваров», не принадлежавшей к русской истории. Н.М. Карамзин своей «Историей государства Российского» закрепил в сознании русского и зарубежного читателя идею Шлецера, что в Швеции «одна приморская область издавна именуется Росскою, Roslagen» и что она была родиной шведской руси. И. Кайданов, в 1829 г. указывая на Рослаген, твердо и с пафосом сказал: «Здесь начало нынешнего государства Российского», ибо это родина отрасли скандинавов - варяго-руссов, «коим отечество наше одолжено и именем своим и главным своим счастием - монархическою властию»[32].
Параллельно с тем в науке, в том числе и среди норманистов, начала нарастать волна несогласия с доводами, которые уже ассоциировались только с именами Тунманна и Шлецера. В 1814 г. ученик последнего, Г. Эверс, указал на очень позднее появление названия Рослаген (а оно стало прилагаться к прибрежной части Упланда Роден лишь к XVI в.), после чего сказал: «И потому ничего не может доставить для объяснения русского имени в 9 столетии». К этим словам он добавил, что «беспримерным и неестественным мне кажется, чтоб завоевывающий народ переменил собственное имя на другое, употребляющееся у соседа, и сообщил сие принятое имя основанному им государству».
Говоря, что Тунманн «придавал великую важность» этимологии, Эверс резонно заметил, что, во-первых, «при исследованиях исторических давно уже признано за правило, что этимология некоторых слов порознь может служить только к подтверждению доказанного положения, а основания истины должны быть гораздо прочнее», во-вторых, «мы видим только сходство звука, но самое величайшее сходство не предохраняет от заблуждения. В самых далеких между собою странах звуки по одному случаю часто бывают разительно сходны», в-третьих, кто-то может «писать историю, которой никогда не бывало, и даже может надеяться из труднейших словопроизводств извлечь величайшую пользу, смотря по своим намерениям»[33].
В 1816 г. немецкий ученый ГФ. Голлман, ведя речь о «натяжках» Шлецера, подчеркнул, что слово Ruotsi «столь не сходно со словом руссы, что на нем никак нельзя основаться». В 1825 г. М.П. Погодин, абсолютно уверенный в том, что варяги-русь - это одно из норманских племен, так же, как и Шлецер, констатировал, что ПВЛ различает шведов и русь, что Рослаген «ничего не доказывает» в пользу шведского происхождения руси и что «в Швеции неизвестно было название руссов»[34].
В 1827-1828 и 1839 гг. Г.А.Розенкампф, отмечая, что берега Упландии в старину именовались Seeland (поморская земля), установил, что слова Ruotsi и Рослаген «не доказывают ни происхождения, ни отечества руссов». Rodslagen (т. е. корабельный стан), продолжал он далее, производно от rodhsi-гребцы, причем буква d в произношении слова Rodslagen «почти не слышна», а затем ее вовсе выпустили, так что оно стало звучать как Roslagen. Розенкампф, обращая внимание, во-первых, на то, что в Упландском своде законов 1296 г. нет понятия Rodslagen, во-вторых, что термин rodhsi употребляется там в смысле профессии, а не в значении имени народа, в-третьих, что в том же значении он используется как в общем Земском уложении середины XIV в., составленном из областных сводов (Ландслаге, и его редакции 1442 г.), так и в уложении 1733 г., заключил: вооруженные упландские гребцы-«ротси» не могли сообщить «свое имя России». В связи с чем, искренне поражался ученый, «еще удивительнее, что Шлецер мог так ошибиться и принимать название
военного ремесла за имя народа»[35].
В 1837 г. Н. А. Иванов, констатируя, что «нынешний Рослаген не назывался так в древности», а именовался Роден, заметил, что буква с входит в название Родлагена «только по грамматической форме германских языков для обозначения родительного падежа» и «что росс или русс не означает гребца по-шведски». На следующий год «ультранорманист» О. И. Сенковский с нескрываемым недоумением восклицал: «Если только другие народы давали им название руссов, то очень странно, что нордманны, покорив славянские земли, приняли имя, чуждое своему языку и себе, и основали империю под иностранным и, конечно, обидным для себя прозвищем!»[36].
В 1842 г. Н.В. Савельев-Ростиславич, говоря, что шведы никогда не называли себя русами и что в слове «Rod'slagen» буква 5 не принадлежит корню «Rod», а есть знак родительного падежа, резюмировал: Rod'slagen не мог сообщить своего имени Руси (эти же слова ученый повторил в 1845 г.). В 1842 г. С. А. Бурачек заметил, что скандинавы «ни телом, ни душой не виноваты ни в начале, ни в продолжении Русского государства; что скандинавы никогда не назывались русъю, не знали даже этого имени, то и подавно не могли его сообщить нам». Вместе с тем он, как и многие его современники, обращал внимание на то существенное обстоятельство, что слово Род'слаген, «во-первых, не древнее, во-вторых, значит не место сборищ руссов, а пристанище гребцов или корабельный стан. Буква 5 тут в слове Rod's знак родит, падежа: гребца», что византийцы до Рюрика называли Черное море «Русским морем» и что «Нестор очень различает свеев (шведов), урман (норвежцев), англян (англосаксов датских) от варягов».
В 1844 г. норманист А.А. Куник, осознав полнейшую бесперспективность дальнейшего увязывания имени «Русь» с Рослагеном, стал убеждать, неправомерно перенося решение чисто исторического вопроса в область лингвистики, что посредством финского названия Швеции Ruotsi имя «Русь» якобы восходит к шведскому слову rodsen-«гребцы», которое прилагалось к жителям «общины гребцов» Рослагену, и что население этой части береговой полосы могло называться, как он предположил, «Rodhsin» (от Rodhs), «Rookarlar», «Rudermanner». В 1847 г. М.П. Погодин, заключая, что «результаты Шлёцеровы теперь уже ничего не значат», публично отпустил ему, так сказать, научные грехи: «А за шведов с руотси и Рослагеном, за его понятия о вставках, за понтийских руссов, и пр. и пр. - прости его Господи!»[37].
Слова Погодина свидетельствовали о глубочайшем кризисе норманской теории, и этот кризис заставил пойти на кардинальную ревизию ее основных положений. Прежде всего это коснулось судьбы черноморской (понтийской) руси, которую Шлецер в большой досаде вычеркнул из русской истории. Но тенденциозность его вывода очень скоро продемонстрировал Г. Эверс, доказавший существование южной Руси в дорюриково время. И этот факт начали учитывать норманисты, хотя «скандинавский догмат», априори принятый ими за абсолютную истину, неудержимо толкал их смотреть на русскую историю только через его призму, а значит, продолжать порождать эфемерные конструкции. Так, в 1821-1823 гг. немецкий востоковед И.С.Фатер, обращая внимание на «столь очевидно бытие росов» на юге, предложил понимать под ними остатки готов, проживавших на северных берегах Черного моря, среди которых разместились значительные колонии варягов-норманнов, ставших прозываться русью. При этом он заметил, что Нестор «сказал весьма ясно, что сии варяги зовутся русью, как другие шведами, англянами: следственно, русь у него отнюдь не шведы».
Н.А.Иванов в 1837 г., также доказывая, апеллируя к византийским и арабским известиям, что черноморская русь - это готы, заключил: руссы обитали по берегам Азовского и Черного морей до Кавказских гор с древности и «были коренные жители княжества Тмутараканского» (в последних десятилетиях XIX в. Е. Е. Голубинский и В. Г. Васильевский возродят готскую теорию, являющуюся разновидностью норманской теории). В 1850-х-1860-х гг. С.М. Соловьев на основе показаний арабских и византийских источников подытоживал, что «название «русь» гораздо более распространено на юге, чем на севере, и что, по всей вероятности, русь на берегах Черного моря была известна прежде половины IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями»[38].
В 1859 г. В.И.Ламанский показал, что слово «Русь» своею формою не обличает финского происхождения от Ruotsi, ибо имеются греческие, литовские и славянские слова, также оканчивающиеся на ъ (например, скифь, корсь, жмудь, сербь, волынь). Сказав, что славяне познакомились со шведами не через финнов, а непосредственно, он отметил, что летопись отделяет русь и от шведов, и от других норманских племен. А также подчеркнул, что нет названия народа, происшедшего «от его рода занятий или промысла». И весьма, разумеется, сомнительно, чтобы шведы в 839 г. перед Людовиком Благочестивым «на вопрос кто они? что за люди? и какого роду? стали бы отвечать Rodsin - гребцы».
К тому же это слово в IX в. было понятно каждому немцу (как оно понятно ему и сегодня), и Вертинские анналы не преминули бы перевести и объяснить его, «если бы Rhos было бы все одно, что Rodsin». И «если бы русь были Rodsin - гребцы, - задавался Ламанский уместным вопросом, - стали бы немцы называть нас ругами?». Вместе с тем исследователь констатировал наличие в пределах Карпатской Руси до 30 поселений, которые, иронизировал он, «стоят в известном сродстве со шведскими Rodsin (гребцами). Вероятно, в подтверждение этого положения г. Куник указал на деревню Русин, в нынешней Галиции, которая может быть населена норманнами», непонятно каким образом обратившимися «в чистых русаков, которых еще в настоящее время легко поймет русский с Байкала»[39].
В 1860 г. Н. И. Костомаров привел заключение шведа Линдстрема, который доказал, что название Русь не было свойственно в древности скандинавам. В 1860-х - 1870-х гг. С. А. Гедеонов, говоря, что норманизм основан на мнении о скандинавском начале имени «Русь», доказал «случайное сходство между финским Ruotsi, шведским Рослагеном и славянским русь». А свое отношение к «этимологическим случайностям и созвучиям», на которых возводят русскую историю, он выразил глубокой мыслью, что «лингвистический вопрос не может быть отделен от исторического; филолог от историка». Справедливо
заметив, разве могли варяги, если их считать шведами, переменить свое настоящее имя «свей» на финское прозвище Ruotsi, Гедеонов показал, что шведское русь не встречается как народное или племенное, ни в шведских памятниках, ни в западноевропейских источниках, так много и так часто говорящих о шведах и о норманнах.
При этом он подчеркнул, что норманисты не могут объяснить ни перенесения на славяно-шведскую державу финского имени шведов, ни неведения летописца о тождестве имен свей и русь, ни почему славяне, понимающие шведов под именем руси, перестают называть шведов русью после призвания, ни почему свеоны Вертинских анналов отличают себя «тем названием, под которым они известны у чуди», ни почему принявшие от шведов русское имя финские племена зовут русских не русью, а вендами. По причине чего, отмечал ученый, им следует отказаться от изобретенного «Rodhs, да и то еще под несуществующею у норманнов грамматической формой». И как резюмировал Гедеонов, «беспримерному», «этническому несклоняемому» греческому *Рщ «соответствует только одна собирательная, славянская форма русь», одинаковая в единственном и множественном числе, что не характерно для германо-скандинавских языков, а это означает, что греки заимствовали Тюд только из языка славян[40].
В 1862 г. А.А.Куник, назвав опровержение Гедеоновым связи Рослагена с русской историей «совершенно справедливым», добавил, что имя «Ropr», «Roden» (вместо чего сейчас употребляется Roslagen) шведы в XVII в. приняли за имя роксолан (русских) по плохому знанию своего древнего языка, что ввело в заблуждение самого Куника. В 1864 г. он сделал показательное признание, что норманская школа «обанкротилась» со своим Рослагеном, в связи с чем должна позаботиться, как Куник, не скрывая своей тенденциозности, прямо ставил четкую задачу перед ее сторонниками, «вновь открыть «природных шведских россов» (в 1878 г. ученый еще раз повторил, желая предостеречь молодых исследователей от этой ошибки, в плену которой пребывало несколько поколений их предшественников, что «сопоставление слов Roslag и Русь, Ros является делом невозможным уже с лингвистической стороны»). В 1864 г. М.П. Погодин признавал, что Гедеонов «судит очень основательно, доводы его убедительны и по большой части с ним не согласиться нельзя: Ruotsi, Rodhsin, есть случайное созвучие с Русью».
Под воздействием все более нарастающей конструктивной критики Куник в 1875 г. аннулировал свое объяснение Руси от rodsen-«гре6цы», выдвинутое в 1844 году. Ибо, уже сам перечислял он признаки его научной несостоятельности, «в 17-м столетии следующее место в Упландском законнике: «Rodhs-ins utskyldir» шведы перевели неправильно: tributa Roxolanorum (русских) вместо Roslagiae, и этим долго вводили других в обман», и что «в Rodhs-ins буква s не основная согласная... а только знак родительного падежа». Следовательно, подводил черту Куник, «по грамматическим причинам необходимо отказаться от всякой мысли о генетической связи между формой множ. ч. Roskarla, Rodsmaen, Ruodspiggana, Rospiggar... и формой 'Pῶς (да финским собирательным именем Rots-i)» (в 1899 г. языковед-норманист Ф.А.Браун, говоря о попытке Куника связать имя «Русь» с rodsen-«гребцы» посредством финского Ruotsi, сказал, что против этой догадки говорит «столько соображений, как по существу, так и с формальной точки зрения, что сам автор ее впоследствии отказался от нее»)[41].
В том же 1875 г. Куник, подводя безрадостный итог изысканиям норманистов, а значит, и собственным, пришел к выводу, что невозможно «разрешить варяго-русский вопрос чисто историческим путем» и что «решение его выпадает на долю лингвистики, в области которой, так же как в математике, не могут играть роли ни софизмы, ни сентиментальности». Как ему вторил в 1892 г. Браун, «центр тяжести норманской теории лежит» не в показаниях источников (тем самым невольно для себя и в полном согласии с антинорманистами прямо признавая, что она не имеет в них совершенно никакой опоры), а в данных лингвистики, причем ее «лучшие» доказательства ученый видел в норманистской интерпретации летописных личных имен и «русских» названий днепровских порогов. Хотя, как он тут же подчеркивал, вопрос о происхождении имени «Русь» является одним из «слабейших пунктов норманской позиции»[42].
В 1876 г. И.Е.Забелин, напротив, сказал, что в вопросе начала Руси лингвистика «может служить только опорою, иногда вполне надежною, иногда весьма сомнительною». Но, предупреждал далее историк, «поставленное на первое место пред всеми другими средствами добывать историческую истину, это великое орудие становится великим препятствием к познанию истины, ибо оно по самым свойствам своей исследовательности всегда очень способно унесть нашу мысль в облака, переселить ее в область фантасмагорий». И в справедливости слов Забелина убеждает пример самого Куника. Когда в 1875 г. он предложил, отказавшись от выдуманной им же конструкции rodsen- «Русь», другую фантасмагорию: вывод «Руси» от эпического прозвища черноморских готов II—III вв. Hreidhgotar (в древнейшей форме Hrothigutans - «славные готы», где основной первоначальной формой «могла быть Hrodhs», якобы слышимой и в финском Ruotsi и в славянском русь), то Гедеонов не без иронии подчеркнул, что исследователь «является ныне с новооткрытым (пятым или шестым, по порядку старшинства) мнимонародным, у шведов IX века именем русь», и заключил: «С лингвистической точки зрения, догадка г. Куника замечательна по ученой замысловатости своих выводов; требованиям истории она не удовлетворяет».
В 1880 г. Д. И. Иловайский, напомнив, что филологические толкования - это «самый скользкий путь для всех толкователей», заметил по поводу конструкции Ruotsi-Русь: «Можно ли придумать комбинацию более наивную и менее серьезную! Тут не выходит главного: как же сами-то русские славяне стали называть себя русью? Откуда, из каких источников видно, что новгородцы познакомились с норманнами через финнов?». В 1892 г. В.З.Завитневич также указал, что филологические данные представляют в объяснении происхождения слова «Русь» «весьма шаткую почву» и что оно может быть объяснено «только на почве строго исторической». Касаясь «догадки», что имя это образовалось от гребцов-radhsi, он подчеркнул: «только мысль, совершенно потерявшая веру в возможность отыскать хотя сколько-нибудь серьезное решение данного вопроса, может найти успокоение в подобной аргументации», т. к. «между фактом призвания варягов и памятниками, в которых упоминаются названные гребцы, лежит промежуток времени почти в 400 лет»[43].
Но западноевропейские и российские ученые, ведомые норманизмом, «почве строго исторической» в конечном итоге предпочли «весьма шаткую почву» филологических исскуственных построений и сделали это под влиянием датского лингвиста В. Томсена. В 1876 г. он прочитал в Оксфорде лекции, посвященные происхождению Русского государства, которые в виде отдельной книги были изданы в 1877-1919 гг. в Англии, Германии, Швеции, России, Дании. Томсен, с одной стороны признавая, что скандинавы «не называли себя русью» и что нет «никакой прямой генетической связи» между Рослагеном и Ruotsi-Русью (к тому же название Roslagen появляется слишком поздно, «чтобы быть принятым в соображение», и в древности эта часть местности именовалась Roper, Ropin), с другой - возродил версию Куника 1844 г. о скандинавской этимологии имени «Русь», отвергнутую автором в 1875 г., убеждая, что название Русь образовалось от Ruotsi (а эта форма, в свою очередь, от Roper).
По его предположению, надуманность которого он и не думал скрывать, шведы, ездившие к финнам, «могли назвать себя - не в смысле определения народности, а по своим занятиям и образу жизни - rops-menn или rops-karlar, или как-нибудь в этом роде, т. е. гребцами, мореплавателями». Со временем в Швеции это слово обратилось в имя собственное, которое финны - в первой его части - приняли за название народа. Восточные славяне, познакомившись со шведами через посредство финнов, дали скандинавам то имя, которое узнали от соседей[44].
В 1915 г. швед Р.Экблом выявил несостоятельность версии Томсена о происхождении имени «Русь» от древнего названия Рослагена Roper, т. к. его предположение, что в составных словах с начальным rops- содержится форма родительного падежа rop(er)s, не соответствует действительности. По Экблому, основой Ruotsi стало существительное roper («дорога, или путь, где можно грести на веслах», «морской проход с небольшой глубиной») в родительном падеже rop(er)s, от которого возникла форма rop(r)s, давшая начало составным словам с rops-, означавшим не «гребцов» и «лодочников», как считал Томсен, а прибрежное население, жителей roprar, в связи с чем термин Rop(r)in означал место поселения ropsmaen и ropsbyggiar (как заметил в 1947 г. соотечественник Экблома лингвист и историк Е. Хьерне, трудно предположить, чтобы название какой-то части суши, а также людей, там живущих, могло возникнуть от слова, имевшего значение «пролив», «фарватер». В 1958 г. шведский языковед С. Экбу сказал в отношении составных слов, будто бы происшедших из формы родительного падежа rops от слова roper, что «мы были достаточно долго в трясине гипотез. Нам неизвестно, существовали ли подобные составные слова в VII или VIII вв., и мы не можем решительно утверждать, что подобные составные слова в это время могли быть переданы через прибалтийско-финское "rotsi")[45].
Сочинение Томсена было восторженно принято российскими норманистами. Возобладала в их кругах и его интерпретация происхождения имени «Русь». И в придании этой интерпретации статуса бесспорного научного факта огромную роль сыграл академик А.А.Шахматов. Причем «главный» и «решающий», по его характеристике, довод в пользу того, что русь - это якобы древнейший слой шведов, заключался в ссылке на Томсена, что до сих пор западные финны называют Скандинавию «Русью-Ruotsi» (но, коснувшись мнения немецкого исследователя Й. Маркварта от 1903 г., что финское Ruotsi было бы передано в русском языке скорее через Ручь, чем через Русь, ученый признал, что «диалектически могла быть известна передача Ruotsi и через Ручь»).
В послеоктябрьский период авторитетнейшие российские ученые СССР и эмиграции, будучи совершенно уверенными в достоверности норманской теории, ее «незыблемость» подтверждали в первую очередь лингвистическими данными, при этом каждый раз демонстрируя, что с их помощью можно, по примеру О. Рудбека, без затруднений создать любую конструкцию. По причине чего они стали навязывать науке аргументы, от которых отказались их кумиры, крупнейшие историки и лингвисты А. А. Куник, М. П. Погодин и даже В. Томсен, и параллельно с тем создавать новые.
Так, например, в 1923 г. В. А. Брим выступил с окончательно оформленной теорией о независимом существовании на севере и на юге сходных названий «русь» и «рос». Придерживаясь гипотезы, что русью назывались варяжские дружины вообще, а не какое-то скандинавское племя, он поставил имя «Русь» в прямую связь с древнешведским drat (толпа, дружина), которое, по его оценке, «строго» отвечает славянскому «Русь» и финскому «Ruotsi» (как заметил годом ранее археолог А. А. Спицын, версию Брима нельзя принимать «без колебания. Представляется не вполне вероятным, что имя норманнов-руси и литве, и болгарам, и хозарам, и славянам, и грекам стало известным только в произношении суми, маленького невлиятельного племени», и что «Куник не решился выступить с теорией, принятой Бримом и корень drat объединял с «друг»).
В 1925 г. А. Л. Погодин предположил, исходя из другого своего предположения о наличии в Швеции родсов, с которыми были знакомы славяне, возможность или непосредственного перехода древнешведского rods в Русь (с выпадением d перед с), или через промежуточную форму Рудсь. Отрицая в том финское участие, он здраво, кстати, подчеркивал, что «древнефинская среда представляется настолько малокультурной, что трудно себе представить, что название народа, создавшего государственность среди северных славян, к этим последним перешло от финнов»[46].
В 1929 г. Н.Т.Беляев, убедившись в справедливости заключения С.А.Гедеонова о полнейшем отсутствии у шведов имени Рюрик, отчего норманская теория зависала в воздухе, возобновил в науке разговор, начатый в 1830-х гг. дерптским профессором Ф.Крузе, о тождестве летописного Рюрика с Рориком Ютландским, якобы приглашенным новгородцами для отражения набегов викингов. С этим датчанином в Новгород прибыли фризы, проживавшие многочисленной колонией в шведской Бирке, самоназвание которых - «fresa» или «fresen» - перешло, посредством финнов, в язык восточных славян как имя «Русь».
В том же 1929 г. В. А. Мошин в отношении идеи о происхождении Ruotsi от Roslagena, в основе которого лежит, как принято считать, древнешведское roper-гребля, напомнил вывод Г.А.Розенкампфа, «что слово rodhsin-гребцы даже в XVIII-м веке имело значение профессии и никогда не употреблялось в значении племенного термина, который мог бы вызвать образование финского и русского термина Ruotsi - Русь». К крайним формам норманизма неумолимо скатывалась и советская историография. Так, в 1930 г. Ю.В. Готье утверждал, что русь в своем наиболее древнем смысле обозначала одно из шведских племен (историческое бытие которого отрицал даже В. Томсен). Б. Д. Греков в 1936 и 1939 гг. растиражировал своей популярной монографией «Киевская Русь» мнение, что северная русь вышла из «Рослагена» и что «эта гипотеза кажется мне наиболее вероятной»[47].
Несмотря на тотальное господство норманизма в умах представителей советской и эмигрантской науки в их рядах все же раздавались голоса, протестующие против версии о скандинавской природе имени «Русь». Так, в 1924 г. В. А. Пархоменко заострял внимание на том, что, во-первых, «ни исторически, ни географически имя «Русь» не имеет никакой связи с территорией постоянного поселения скандинавов», во-вторых, нам неизвестны момент и обстоятельства возникновения названия у финнов шведов «руотси» и что оно могло возникнуть, например, в XI веке.
В 1934 г. Е. А. Рыдзевская напомнила коллегам, «что название Русь с норманнами эпохи викингов генетически не связано и что они у себя на родине так не назывались». Через пять лет она подчеркнула, что «Русь» из «Ruotsi» небезупречно в фонетическом отношении».
В 1943 г. крупнейший представитель эмиграции Г.В.Вернадский, говоря, что «никакого племени русов не было известно в Скандинавии и не упоминается в скандинавских сагах», усомнился, что в соответствии с законами лингвистики возможна «трансмутация» ruotsi в Rus». «Возможно ли в действительности, - задавался он резонным вопросом, - что скандинавы, пришедшие на Русь, взяли себе имя в той форме, которая была искажена финнами, встретившимися им на пути?». И если имя «русь» произошло от искаженного финского ruotsi, то как объяснить, завершал Вернадский свои рассуждения, что это название - в форме «рось» - «было известно византийцам задолго до прихода варягов в Новгород?».
В 1955 г. Н.Н. Ильина также напомнила, «что грамматическая форма имени «Русь», одинаковая в единственном и во множественном числе, неизвестна в племенных именах Скандинавии», что общины родсов-гребцов Рослагена не имели никакого отношения ни к имени, ни к племени русов. При этом она, справедливо заметив, что ценность любого «лингвистического вывода для исторического исследования может быть и должна быть проверена сопоставлением его с явлениями жизни», подытожила: «Допущение однозначности Русь и Руотси превращает жизнь IX века, поскольку она связана с русским именем, в цепь невозможностей, несообразных ни с психикой народов, уважающих свои имена, ни с существом исторических событий»[48].
Приоритет в корне ошибочного филологического подхода к разрешению важнейшего вопроса нашей истории - варяго-русского вопроса - окончательно закрепил в науке датский лингвист А. Стендер-Петерсен. В своих многочисленных работах 1920-х - 1960-х гг., выходивших на разных языках, он убеждал, что считает «вопрос о происхождении термина Русь окончательно решенным». И это решение ученый видел в «особенном достижении» норманизма - теории А. А. Куника, усовершенствованной В. Томсеном и покоящейся на двух, как он сам же подчеркнул, «предположениях». Во-первых, «термин Русь так или иначе восходит к названию шведского поморского краяi Roslagen, или, вернее, к более древней форме этого названия, а именно Roper». Во-вторых, от этого названия возникло старинное наименование гребцов (моряков) «rops-karlar, rops-mæn, rops-buggiar», от первой части которого финны образовали краткую форму Rotsi (нынешнее Ruotsi), передав ее затем «русским славянам».
Но, говорил Стендер-Петерсен, в данной теории «есть, однако, один серьезный недочет», для ликвидации которого необходимо принять гипотезу шведа Р. Экблома: «Что термины типа rops-buggiar образованы от род. падежа rop(er)s имени существительного, roper, обозначавшего «пролив между островами, защищенное место для плавания», и что первые шведы, встретившись с финнами, «называли себя в отличие от других свеев жителями проливов», rods-karl. После чего заключил, не скрывая гипотетического характера своих утверждений, что «получившееся из этих предпосылок финское *Rotsi приняло среди славян форму имени собирательного женского рода Русь»[49].
Надо сказать, что советские ученые, видя в варягах скандинавов, но при этом считая себя антинорманистами, очень хорошо понимали важность неразрывной связи этимологии имени «Русь» с вопросом о происхождении государства и русского народа. Эту же связь прекрасно осознавали и их западноевропейские коллеги, т. к., доказывая связь имени «Русь»,со скандинавами, они стремились, акцентировал внимание И. П. Шаскольский, «сделать неизбежным вывод, что Древнерусское государство было названо по имени норманнов, так как оно было создано норманнами». По этой причине советские исследователи не могли оставить без внимания скандинавскую трактовку имени «Русь», при этом в основном воспроизводя аргументы антинорманистов прошлого и прежде всего С. А. Гедеонова. Так, например, А.Н. Насонов подчеркивал, «что мы не знаем», называли ли финны скандинавов в IX-X вв. «Ruotsi». П.Я.Черных говорил, что непонятно, «каким образом из ст. финского о на древнерусской почве получилось у; неясно, как могло получиться с из тс», т. к. «надо было ожидать ц: ч». В. П. Шушарин отмечал наличие «огромного числа названий с корнем «Рус в Трансильвании, Словакии и Закарпатье», т. е. там, где шведов не было.
И. П. Шаскольский констатировал, что норманисты не могут объяснить «ряд недоуменных вопросов»: почему имя «русь» как название народа присутствует в начале IX в. на юге Восточной Европы и что в данном районе нет следов пребывания норманнов? Почему «при переходе из финского в славянские языки возникли две различные формы - Русь и Росъ - с двумя разными гласными»? Почему «шведы, придя в Восточную Европу, стали сами называть себя там не собственным именем... а именем, подхваченным по дороге» у финнов и почему это имя приняли восточные славяне, знавшие собственное имя шведов «свей»? Почему государство, якобы созданное ими, приняло не «имя шведов и не имя восточных славян, а имя, которым шведов называли прибалтийские финны»? Почему в венгерском языке существует слово orosz - «русский», возникшее «из славянского этнического названия рось-русь ранее, чем могли появиться норманны в Южной Руси»?
Отмечая, что в скандинавских странах термин «Русь» совершенно неизвестен до XIII в., Шаскольский идею о его связи с названием «Рослаген» охарактеризовал как «примитивное построение», от которого давно отказались сами же норманисты, ибо «образование такой области со специальной военной функцией могло произойти только после создания и упрочения государства в Швеции, т. е. не раньше X-XI вв.».
Вместе с тем он подчеркнул, что «ни в одном скандинавском письменном источнике не встречается форма *Rods (Rodhs) как имя жителей Рослагена», что «наибольшую трудность представляет объяснение перехода ts слова *rotsi в славянское с», ибо оно «скорее дало бы звуки ц или ч, а не с, т. е. Руць или Ручь, а не Русь», и что слово Ruotsi точно зафиксировано лишь начиная с XVI-XVII веков. И как в целом заключал Шаскольский, происхождение Руси от Ruotsi из языка собственно финских племен суми и еми представляется «наименее возможным, поскольку северная группа восточных славян позднее всего (не раньше X в.) вступила в контакт с жившей в Финляндии емью (и еще позднее - с сумью)»[50].
Но гипнотическая сила норманизма была настолько велика, что советские исследователи, протестуя против официального, марксистского «антинорманизма», который им навязывался, не прислушивались к этим резонным доводам. И их отход от идеологически обветшавшего «советского антинорманизма» был ускорен работами археологов, выдававших варяго-русские древности за норманские, и статьей И. П. Шаскольского «Антинорманизм и его судьбы», опубликованной в 1983 г., в которой автор отказал истинному антинорманизму в научности. После этой статьи археологи Д. А. Мачинский, Г. С. Лебедев, А. Н. Кирпичников, И.В. Дубов, В.Я. Петрухин и филолог Е.А. Мельникова тотчас принялись убеждать коллег в том, что «Русь» производно от финского наименования Швеции Ruotsi (примечательно, что к вопросам чисто лингвистического свойства в основном обратились не имеющие к лингвистике отношения специалисты).
В связи же с тем, что ни в Швеции, ни в Скандинавии вообще не существовало народа «русь» или «рос», то названные лица, пытаясь как-то заполнить эту лакуну, стали утверждать, что имя «Русь» является «этносоциальным термином с доминирующим этническим значением» и что это имя изначально было самоназванием приплывших на землю западных финнов скандинавов, ставшим исходным для западнофинского ruotsi/ruootsi, в славянской среде перешедшего в «русь» (по Мачинскому, Ruotsi восходит либо к древнегерманскому drott-«дружи па, вождь», либо к древнескандинавскому roods-«гребцы», либо к Roslagen). Возводя «Русь» к древнескандинавской основе гор, производной от германского глагола *rowan - «грести, плавать на весельном корабле», и говоря, что слово *гоР(е)г означало «гребец, участник похода на гребных судах» (а также и сам поход), они заключают, прямо признавая всю условность своих построений: «Так, предполагается, называли себя скандинавы, совершавшие в VII— VIII вв. плавания в Восточную Прибалтику и в глубь Восточной Европы, в Приладожье, населенные финскими племенами», которые, первыми познакомившись со скандинавами, «усвоили их самоназвание в форме ruotsi, поняв его как этноним», и уже от них восточные славяне заимствовали это имя, которое приобрело в их «языке форму русь»[51].
Весьма показательно, что Мачинский, Лебедев, Кирпичников, Дубов, Петрухин, Мельникова начали активно утверждать в науке мысль о скандинавской этимологии имени «Русь», тем самым подготовив ее сегодняшнее, по словам И. В. Ведюшкиной, «триумфальное шествие», тогда, когда выдающиеся лингвисты Запада, убежденные норманисты, разуверились в ней совершенно. Так, в 1973 г. Ю.Мягисте (Швеция), столкнувшись с «непреодолимыми» историко-фонетическими трудностями, отказался от мысли о скандинавской основе названия «Русь». В 1982 г. Г. Шрамм (ФРГ) предложил выбросить скандинавскую этимологию как слишком обременительный для «норманизма» балласт» и сказал, что он «от такой операции только выиграет». В 2002 г. этот же ученый, охарактеризовав идею происхождения имени «Русь» от Ruotsi как «ахиллесову пяту», т. к. не доказана возможность перехода ts в с, с нажимом подчеркнул: «Сегодня я еще более решительно, чем в 1982 г. заявляю: уберите вопрос о происхождении слова Ruotsi из игры! Только в этом случае читатель заметит, что Ruotsi никогда не значило гребцов и людей из Рослагена, что ему так навязчиво пытаются доказать»[52].
В унисон со своими западноевропейскими коллегами говорили и наши лингвисты, также не сомневающиеся, надлежит сказать, в истинности норманской теории. Так, в 1980-2002 гг. А. В. Назаренко показал на основе данных верхненемецкой языковой традиции, что этноним «русь» появляется в южнонемецких диалектах не позже рубежа VIII—IX вв., «а возможно, и много ранее». А этот факт, как специально он заостряет внимание, усугубляет трудности в объяснении имени «Русь» от финского Ruotsi. Вместе с тем Назаренко, опираясь на византийские свидетельства, констатирует, что «какая-то Русь была известна в Северном Причерноморье на рубеже VIII и IX вв.», т. е. до появления на Среднем Днепре варягов. В 1997 г. О. Н. Трубачев, подытоживая, что «затрачено немало труда, но племени Ros, современного и сопоставимого преданию Нестора, в Скандинавии найти не удалось», подчеркнул: «Разумнее будет согласиться... скандинавская этимология для нашего Русь или хотя бы для финского Ruotsi не найдена».
Напомнив мнение польского ученого Я. Отрембского, высказанное в 1960 г., что норманская этимология названия «Русь» «является одной из величайших ошибок, когда-либо совершавшихся наукой», Трубачев заключил: «Сказано сильно, но чем больше и дальше мы вглядываемся к этому «скандинавскому узлу», тем восприимчивее мы делаемся и к этому горькому суждению». И свое научное неприятие этой версии он завершал словами: нас долгое время пытаются уверить, «что и название какой-то части Швеции или шведов (?), и свое собственное имя (?) мы получили от финнов, как-то при этом даже не дают себе труда задуматься над социологическим и социолингвистическим правдоподобием этого ответственного акта. Ведь к заимствованию побуждает престиж дающей стороны, а был ли он тогда (более тысячи лет назад!) в нужном размере у небольших и вынужденно малочисленных и небогатых во всех отношениях племен примитивных охотников и рыболовов, которыми были на памяти истории (и археологии) так и не поднявшиеся до уровня собственной государственности финны (XX век - не в счет)»[53].
В 2006 г. К.А.Максимович пришел к выводу, что скандинавская версия совершенно не обоснованна лингвистически и «остается не более чем догадкой - причем прямых лингвистических аргументов в ее пользу нет, а косвенные нейтрализуются таким же (или даже большим) количеством контраргументов». Так, во-первых, «северная» этимология Руси в интерпретации Томсена в настоящее время отвергнута германистами, поскольку в скандинавских источниках сложные rodsmaen и rodsbyggiar не встречаются вообще, а термин rodskarlar 'жители Рослагена' засвидетельствован лишь с XV в. - при этом данный тип сложения, содержащий s, по соображениям исторической фонетики, не может быть древнее XIII в.». Следовательно, справедливо подытоживает Максимович, «даже если фин. Ruotsi было заимствовано от шведов, это не могло произойти ранее XIV в., когда этноним Русь уже насчитывал как минимум пять веков письменной истории».
Во-вторых, помимо того, что гипотетическая праформа rop(e)R («гребля») Экбу, якобы существовавшая в VI-VII вв. и к которой якобы восходит финское Ruotsi, «экстраполирует в глубокую прагерманскую древность ситуацию современного финского языка, настораживает обилие разного рода допущений и насилий над логикой, которые при этом приходится делать». Отмечая, что такое объяснение наталкивается «на трудности историко-фонетического характера», Максимович констатирует, что оно «маловероятно и по соображениям семантики, поскольку это привело бы к системному смешению сигнификатов», т. е. «к отождествлению в речи действия (гребля) с названием народа или социальной группы» (при этом автор обращает внимание на то обстоятельство, что отсутствуют типологические параллели «для семантического перехода занятие (или предмет)' —> 'название народа'»). В целом, как подводит он черту, гипотеза Экбу «представляет собой очевидный продукт кабинетной этимологии - иными словами, лексический фантом, не оставивший следов ни в одном скандинавском языке».
В-третьих, скандинавская версия происхождения имени Русь не объясняет, почему древнейшие варианты ее названия «в немецких источниках, начиная с IX в. (Ruzara, Ruzzi, Ruzi)», происходят с юга Германии и, «как показывает наличие в корне и, заимствованы из славянского (древнерусского) языка, хотя более естественным было бы заимствование данного слова на севере Германии непосредственно из древнешведского (но тогда с корневым о, как в *rdps)». В-четвертых, она не объясняет то «странное обстоятельство», «что восточные славяне, имевшие непосредственные контакты со скандинавами, почему-то заимствовали основу *rods- опосредованно, через финнов». В-пятых, в рамках этой версии не находят удовлетворительного ответа вопросы, поставленные еще С. А. Гедеоновым, и ей противоречат многочисленные сообщения византийских и арабских авторов о «русах», локализующие ее в Северном Причерноморье. Указал исследователь и на тот факт, что обозначение шведов как ruotsi наблюдается в центре финского ареала (территории чуди, веси, суми), тогда как на его периферии (территории саамов, волжских и пермских народов) так именовали русских. А согласно, заключает Максимович, «языковому закону «инновационного центра», именно значения 'шведы' и 'финны' в центре ареала должны считаться поздними и вторичными, тогда как периферийное значение 'славяне, русские' - исконным»[54].
К словам норманистов-лингвистов Ю. Мягисте, Г. Шрамма, А. В. Назаренко, О. Н. Трубачева и К. А. Максимовича, закрывающим все лазейки для лингвистических выдумок норманистов-нелингвистов, дискредитирующих самою лингвистику, и показывающим, как очень далеко от науки отстоит норманская теория, следует добавить заключение крупнейшего английского скандинависта П. Сойера. В 1962 г. он, говоря, что историками «была сфабрикована эпоха викингов», непреднамеренно показал всю нелепость главного «лингвистического аргумента» норманизма о связи имени «Русь» со шведскими «гребцами». Рассматривая знаменитый гокстадский корабль, сохранившийся до наших дней в своем первозданном виде, в качестве типового морского корабля викингов IX-X вв., Сойер констатировал: «Судно могло двигаться на веслах. ... Скамеек для гребцов не существовало, и у последних могли быть какие-то съемные сидения, которыми, очень возможно, служили их морские сундуки. Эта особенность подсказывает, что основным способом передвижения гребля не являлась (здесь и далее выделено мною. - В.Ф.). Разумеется, весла использовались в критические моменты, когда корабль попадал в полосу штиля или когда ему приходилось маневрировать в узких водных пространствах, например, фьордах или гаванях, но, как правило, судно двигалось под парусом: оно и задумано было как парусное судно»[55].
Несостоятельность главного аргумента норманистов демонстрируют многочисленные памятники (Иордан, Псевдо-Захарий, Бал'ами, Ибн Хордадбех, жития святых Стефана Сурожского, Георгия Амастридского, Кирилла и др.), фиксирующие присутствие руси в Прикаспийско-Черноморском регионе в IV-IX вв., т. е. до призвания варягов и варяжской руси в 862 г. племенами Северо-Западного региона Восточной Европы. О давнем пребывании руси на берегах Черного моря свидетельствует и такой не задействованный в науке источник, хотя он и был опубликован более ста лет назад, как схолия к сочинению Аристотеля «О небе», где констатируется, что «мы, говорят, заселяем среднее пространство между арктическим поясом, близким к северному полюсу, и летним тропическим, причем скифы-русь и другие иперборейские народы живут ближе к арктическому поясу...». И все эти известия преимущественно связаны с Русью Прикаспийской и с Русью Приазовской (Черноморской), которые были (как, кстати сказать, две Болгарии - Дунайская и Волжская) реальными политическими образованиями, оставившими яркий след в памяти византийского и арабо-персидского мира, в археологии и лингвистике. И существование которых доказали антинорманисты и норманисты Л.В.Падалко, В.А. Пархоменко, Д.Л.Талис, О.Н.Трубачев, А.Г.Кузьмин.
Но таковыми были и другие Русии: несколько Русий на южном и восточном побережьях Балтийского моря (из числа которых собственно и прибыли варяги и варяжская русь в 862 г.), Русь Прикарпатская, Русь Подунайская (Ругиланд-Русия-Русская марка), Русь Пургасова. К этим этнически неоднородным Русиям самое непосредственное отношение имели аланы-русь, связанные с иранским миром, и руги, имя которых почти повсюду было вытеснено именем «русь». Кузьмин отмечает, что руги-русь не были связаны ни со славянами, ни с германцами (Иордан, противопоставляя готов и ругов, не считает последних германцами[56]), и относит их к вендо-герульским племенам, ассимилированным славянами примерно в VI-IX веках[57]. И своим бытием в истории аланы-русь, руги-русь и все названные Русии говорят как об отсутствии связи имени «Русь» со скандинавами и о полнейшей несостоятельности норманистов доказать обратное, так и о том, что, как точно обрисовал эту безрадостную ситуацию в 1876 г. С. А. Гедеонов, «полуторастолетний опыт доказал, что при догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немыслима»[58].
В столь горестно памятном для России 1837 г. Н. И. Надеждин, предложив на суд читателей свой «Опыт исторической географии русского мира», подчеркнул одно очень важное обстоятельство, которое необходимо напомнить современным любителям объяснять начало Руси, исходя не из исторических источников, а из фантастических лингвистических допусков. Говоря о важности изучения географических названий, он, заметив, что «так естественно чувство, что земля есть книга, где история человеческая записывается в географической номенклатуре», вместе с тем подчеркнул: «Но это чувство также естественно подало повод к злоупотреблениям. Нигде не может быть столько раздолья произволу, мечтательности, натяжкам, как при звуках. Слово в нашей власти. Оно беззащитно. Из него можно вымучить всякий смысл этимологическою пыткою. Это заметили давно умы строгие и взыскательные. Еще блаженный Августин ставил этимологию имен наравне с толкованием снов... в новейшие времена, когда критика вступила во все свои права, этимология испытала всю тяжесть ее разрушительных ударов. Она объявлена фокус-покусом, которым можно только тешить легковерие детей. И в школьных учебниках первым правилом критической осторожности предписывается избегать этимологии как огня, не давать географическим именам никакого исторического весу».
Надеждин, объясняя причины «справедливой недоверчивости к этимологии» («здравомысленные критики объявили этимологию недостойным, жалким шарлатанством»), указал на то, что она «брала на себя слишком много, отыскивала не то, чего должна была искать, находила больше, нежели сколько можно находить в географической номенклатуре. В каждом названии предполагался не только определенный смысл, но и смысл в собственном смысле исторический, - память лица, намек на происшествие. Это давало обширное поле изобретательности». И что в конец этимология осрамилась тем, что «по малейшему, ничтожному созвучию, часто еще основанном на искаженных звуках, она соединяла самые несовместимые факты, мешала времена, скакала через расстояния»[59]. Как с нынешнего дня списано! И особенный пример тому, как осрамилась современная этимология, дают «конструкции» филолога-скандинависта Е.А.Мельниковой, с легкостью фантазера шведа О.Рудбека переиначивающей русские слова в шведские и также, как он, уносящей русскую историю «в область фантасмагорий».
Примечания:
27. Куник АЛ. Известия ал-Бекри... С. 039, 047, 054; Замечания А. Куника. (По поводу критики г. Фортинского). С. 4.
28. Розенкампф Г.Л. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. Изд. 2-е. - СПб, 1839. С. 259; Шаскольский И.П. Вопрос о происхождении имени Русь в современной буржуазной науке // Критика новейшей буржуазной историографии. Вып. 10. Л., 1967. С. 132, примеч. 13.
29. См. подробнее о диссертации Миллера и его полемике с Ломоносовым: Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 79-108; его же. Ломоносов. С. 226-337, 366-440.
30. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.Ф.Миллера «О происхождении имени и народа российского» // Фомин В.В. Ломоносов. С. 401,408,410-411,414.
31. Кузьмин А.Г. История... С. 73.
32. Thunmann J. Op. cit. S. 374-377; Шлецер А. Л. Указ. соч. Ч. I. С. XXVIII, 258, 315-317, 327-328, 330, 342-343, примеч. *; то же. Ч. И. С. 86, 107, 109-110, 114, 172; Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. I. С. 57; Кайданов И. Начертание истории государства Российского. 2-е изд. - СПб, 1830. С. VI-VII.
33. Эверс Г. Предварительные критические исследования для российской истории. Кн. 1-2. - М., 1826. С. 18, 71, 105-106, 111, 133, 140-141,148-153.
34. Голлман Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его. - М., 1819. С. 17, 28-29; Погодин М.П. О происхождении Руси. - М, 1825. С. 97, 110-116,118-119, 177.
35. Розенкампф ГЛ. Объяснение некоторых мест в Нестеровой летописи. - СПб, 1827. С. 11-22; его же. Объяснение некоторых мест в Нестеровой летописи в рассуждении вопроса о происхождении древних руссов // ТЛОИДР. Ч. IV. Кн. 1. - М., 1828. С. 145-155,166; его же. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. С. 249-259.
36. [Иванов Н.А.] Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ч. 3. - СПб, 1837. С. 8-10, примеч. * на с. 8; Сенковский О.И. О происхождении имени руссов // Его же. Собрание сочинений. Т. VI. - СПб, 1859. С. 152.
37. Савельев-Ростиславич Н.В. Варяжская русь по Нестору и чужеземным писателям. - СПб, 1845. С. 19, 27, 53, 55; Славянский сборник Н.В.Савельева-Ростиславича. - СПб, 1845. С. XXIII, XLII, примеч. 54; Бурачек СЛ. История государства Российского Н.М.Карамзина. История русского народа. Сочинение Н. Полевого // Маяк. Т. 5. № 9-10. СПб, 1842. С. 85, 87, 89-90, 126; Kunik Е. Ор. cit. Bd. I. S. 163-167; Погодин М.П. О трудах гг. Беляева, Бычкова, Калачева, Лопова, Кавелина и Соловьева по части русской истории // Москвитянин. Ч. 1. М., 1847. С. 169-170.
38. Фатер И.С. О происхождении русского языка и о бывших с ним переменах // BE, № 2. М., 1823. С. 113-128; там же. № 3-4. С. 252-261; там же. № 5. С. 39-51; [Иванов Н.А.] Россия в историческом... С. 23-29, 31, 322-335; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1. Т. 1-2. - М., 1993. С. 87-88, 100, 198, 248, 250-253, 276, примеч. 142,147,148, 150,173 к т. 1.
39. Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. - СПб, 1859. С. 38-83.
40. Костомаров Н.И. Заметка на возражения о происхождении Руси // Современник. Т. LXXX. № 4. СПб., 1860. С. 415; его же. Последнее слово г. Погодину о жмудском происхождении первых русских князей // То же. № 5. С. 78; Гедеонов СЛ. Варяги и Русь. В 2-х частях / Автор предисловия, комментариев, биографического очерка В.В.Фомин. - М, 2004. С. 168, 288-305, 345-346,383- 384, 393, примеч. 22.
41. Предисловие А. Куника к «Отрывкам из исследований о варяжском вопросе С.Гедеонова» // ЗАН. Т. I. Кн. II. Приложение № 3. СПб, 1862. С. IV; Замечания А. Куника к «Отрывкам из исследований о варяжском вопросе С. Гедеонова» // Там же. С. 122; Замечания А. Куника // Погодин М.П. Г. Гедеонов и его система происхождения варягов и руси. - СПб, 1864. С. 64; Замечания А. Куника. (По поводу критики г. Фортинского). С. 6; Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 6-8, 30; Браун Ф.А. Русь (происхождение имени) // Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А, Ефрон И.А. Т. XXVII. - СПб, 1899. С. 366-367.
42. Дополнения А. А. Куника. С. 452, 457, 460; Браун Ф.А. Варяжский вопрос // Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А, Ефрон И.А. Т. Vа. - СПб, 1892. С. 573.
43. Гедеонов С.Л. Указ. соч. С. 290; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 44-45, 192- 193; Иловайский Д.И. Начало Руси. - М, 2006. С. 364, 381; Завитневич В.З. Происхождение и первоначальная история имени Русь // Труды Киевской духовной академии. - Киев, 1892. № 12. С. 553-554, 570, 582.
44. Томсен В. Указ. соч. С. 3-5, 18-20, 80, 82-90, 115.
45. Ekblom R. Ruset varegdans les noms de lieux de la region de Novgorod. - Stockholm, 1915. P. 8-10; Шаскольский И.П. Вопрос о происхождении имени Русь... С. 140,143.
46. Спицын А.А. Археология в темах начальной русской истории // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф.Платонову. - Пг, 1922. С. 2, примеч. 1; Брим В Л. Происхождение термина «Русь» // Россия и Запад. Вып. 1. - Пг, 1923. С. 5-10; Погодин АЛ. Вопрос о происхождении имени Русь // Сборникъ въ честь на Василь Н. Златарски. - София, 1925. С. 269-275.
47. Беляев Н.Т. Рорик Ютландский и Рюрик Начальной летописи // Seminarium Kondakovianum recueil d'etudes archeologie, histoire de l'art, etudes Byzantines. Т. III. - Prague, 1929. C. 225, 233, 242-243, 245-253, 261; Мошин B.A. Главные направления в изучении варяжского вопроса за последние годы // Sbornik praci I sjezdu slovankych filologu v Praze 1929. Svarek II. - Praha, 1931. C. 610-625; Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе. - М., 1930. С. 248, 258-262; Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. - М., Л., 1936. С. 169-170; его же. Киевская Русь. - М, Л, 1939. С. 226-227.
48. Пархоменко В.А. У истоков русской государственности (VIII—XI вв.). - Л, 1924. С. 54-56; его же. Норманизм и антинорманизм // ИОРЯС. Т. XXVIII. Л., 1924. С. 71-74; Рыдзевская Е.А. К варяжскому вопросу. (Местные названия скандинавского происхождения в связи с вопросом о варягах на Руси) // И АН СССР. Отделение общественных наук. VII серия. № 8. - Л, 1934. С. 609-610, 614, 616, 618, 626, 629-630, примеч. 1 на с. 628; ее же. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. // ДГ. 1978 г. М., 1978. С. 140-141; Вернадский Г.В. Древняя Русь. - Тверь-М, 1996. С. 126-127, 267-271, 275-286, 289, 340; Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки. - Париж, 1955. С. 44-46, 56, 58.
49. Stender-Petersen A. Die Varagersage als Quelle der altrussischen Chronik. - Aarhus, 1934. S. 48-49, 52-53, 56, 62; idem. Varangica. - Aarhus, 1953. S. 67, 79-81, 91, 242-245, 255-256; idem. Anthology of Old Russian Literature. - New York, 1954. P. 9, note c; idem. Varaegersporgsmalet // Viking. Bd. XXIII. - Oslo, 1959. S. 43-55; idem. Der alteste russische Staat // Historische Zeitschrift. Bd. 191. H. 1. - Munchen, 1960. S. 11-13; Стендер-Петерсен А. Ответ на замечания В. В. Похлебкина и В. Б. Вилинбахова // Kuml. 1960. - Aarhus, 1960. S. 151.
50. Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. - М, 1951. С. 39; Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. - М, 1956. С. 110; Шушарин В.П. Современная буржуазная историография Древней Руси. - М., 1964. С. 249, 251-252, 262; Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной историографии // «История СССР», 1960, № 1. С. 234-235; его же. Современные норманисты о русской летописи // Критика новейшей буржуазной историографии. Вып. 3. - M.-Л, 1961. С. 349; его же. Норманская теория в современной буржуазной науке. - М., Л., 1965. С. 51-54, 64; его же. Вопрос о происхождении имени Русь... С. 128-176, примеч. 11, 15, 114,168.
51. Шаскольскш И.П. Антинорманизм и его судьбы // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Генезис и развитие феодализма в России. Вып. 7. - Л, 1983; Мачинский Д.А. О месте Северной Руси в процессе сложения Древнерусского государства и европейской культурной общности // Археологическое исследование Новгородской земли. - Л, 1984. С. 10, 15-20; его же. Этносоциальные и этнокультурные процессы в Северной Руси (период зарождения древнерусской народности) // Русский Север. Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. - Л, 1986. С. 24-26; Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. - Л., 1985. С. 189-190, 195-197, 224-227; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г. С. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. - М., 1986. С. 202-205; Петрухин В.Я. Комментарии // Ловмяньский X. Русь и норманны. - М, 1985. Коммент. * к с 179 на с. 279, коммент. * к с 180 на с. 280; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Славяно-финно-скандинавские этноязыковые контакты в раннее средневековье // X Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч. 1. - М., 1986. С. 129; тс лев. Название «Русь» в этно-культурной истории Древнерусского государства (IX-X вв.) // ВИ, 1989, № 8. С. 24-38; иос лее. Скандинавы на Руси и в Византии в X-XI веках: к истории названия «варяг» // «Славяноведение», 1994, № 2. С. 56-68; Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. - Смоленск-М, 1995. С. 109, 242-243; его же. Скандинавия и Русь на путях мировой цивилизации // Путь из варяг в греки и из грек... - М., 1996. С. 9, 12; его же. «Из варяг в греки»: начало исторического пути России // Славянский альманах. - М, 1997. С. 64-65; его же. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). - М., 2000. С. 79-80, 86,106-107,116, 120; Петрухин В. Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. - М, 1998. С. 252, 271, 283; Мельникова Е.А. Зарубежные источники по истории Руси как предмет исследования // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.А. Мельниковой. - М., 1999. С. 12-13; ее же. Варяжская доля // «Родина», 2002, № 11-12. С. 30-32; Константин Багрянородный. Об управлении империей (Текст, перевод, комментарий). – М., 1989. С. 295, 297-299, 300, 305-307.
52. Назаренко А.В. Goehrke С. Friihzeit des Ostslaventums // Unter Mitwirkung von U.Kalin. Darmstadt, «Wissenschaftlche Buchgesellschaft», 1992 (=Ertrage der Forschung. Bd. 277) // Средневековая Русь. Вып. I.- M, 1996. С. 177; Schramm G. Altrusslands Anfang. Histo- rische Schliisse aus Namen, Wortern und Texten zum 9. und 10. Jahrhundert. - Freiburg, 2002. S. 101,107.
53. Назаренко А.В. Об имени «Русь» в немецких источниках IX-XI вв. // ВЯ, 1980, № 5. С. 46, 50, 54-57; его же. Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX-XIV вв.): Бавария-Австрия // ДГ. 1982 г. М., 1984. С. 88, 93, 96, 104-106; его же. Докиев- ский период истории Восточной Европы в «Handbuch der Geschichte Russlands» (ФРГ) // To же. 1983 r. M., 1984. С. 241; его же. Происхождение др.-русск. «Русь»: состояние проблемы и возможности лингвистической ретроспективы // X Всесоюзная конференция... С. 127- 128; его же. Немецкие латиноязычные источники IX-XI веков (тексты, перевод, комментарий). - М, 1993. Коммент. 48 на с. 41, коммент. 38 на с. 83; его же. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. - М., 2001. С. 49; его же. Две Руси IX века // «Родина», 2002, № 11- 12. С. 20; Nazarenko A. Rus' // Lexikon des Mittelalters. Bd. VII. - Munchen, 1995. S. 1112-1113; Трубачев O.H. В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. - М., 1997. С. 241-243.
54. Максимович К.А. Происхождение этнонима Русь в свете исторической лингвистики и древнейших письменных источников // KANIΣKION. Юбилейный сборник в честь 60-летия проф. И.С.Чичурова. - М., 2006. С. 14-56.
55. Сойер П. Эпоха викингов. - СПб., 2002. С. 110.
56. Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о скифах и Кавказе. Т. I. Греческие писатели. - СПб., 1890. С. 385; Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica). - СПб., 1997. С. 65.
57. Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь» на Балтийском море // ВИ, 1970, № 10. С. 28- 55; его же. Об этнической природе варягов (к постановке проблемы) // ВП, 1974, № И. С. 54-83; его же. Одоакр и Теодорих // Дорогами тысячелетий. Сборник исторических очерков и статей. Кн. 1. - М., 1987. С. 103-129; его же. Падение Перуна: (Становление христианства на Руси). - М., 1988. С. 4-5, 12, 129-138; его же. Руги и русы на Дунае// Средневековая и новая Россия. - СПб., 1996. С. 130-147; его же. От моря до моря // «Мир истории». М., 2002. № 4/5. С. 32-47; его же. Два вида русов в юго-восточной Прибалтике // Сб. РИО. Т. 8 (156). Антинорманпзм. - М., 2003. С. 192-213; его же. История... С. 77, 93 106,163-165; его же. Начало Руси. С. 93 - 94, 160-161, 242-313, 333-335; Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 430- 431, 438; его же. Пургасова Русь // ВИ, 2007, № 9. С. 3-17; его же. Народ и власть в эпоху формирования государственности у восточных славян // ОИ, 2008, № 2. С. 170-189; Королев А.С. Можно ли ставить точку в изучении проблемы Приазовской Руси? // Сб. РИО. Т. 10 (158). С. 88-102; Откуда есть пошла Русская земля. Века VI-X / Сост., предисл., введ. к документ., коммент. А.Г.Кузьмина. Кн. 1. - М., 1986. С. 16-17,477, 546-552, 664-682; то же. Кн. 2. - М., 1986. С. 545-548; Славяне и Русь. С. 12-13, 209-481.
58. Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 56.
59. Надеждин Н.И. Опыт исторической географии русского мира // Библиотека для чтения. Т. 22. - СПб., 1837. С. 28-29, 31, 33-34.
Глава третья. Почему норманисты изгоняют Синеуса и Трувора из русской истории?
Этимологическая дыба, действие которой так живо изобразил А. Л. Шлецер, является универсальным способом сторонников норманства варягов доказывать недоказуемое. Причем с ее помощью они не только самым чудесным способом создают небывалое, но и с той же легкостью переводят в состояние небытия реальное, но не укладывающееся в ложе их теории. Показателен в этом плане пример с братьями Рюрика Синеусом и Трувором, которые в конечном итоге были записаны в разряд небылиц. Эта мысль вызревала давно, и ее первыми, видимо, выдвинули норманисты. Еще Н.М. Карамзин, обратив внимание на летописные известия об основании Киева тремя братьями, о двух братьях-родоначальниках радимичей и вятичей, о прибытии на Русь трех братьев-варягов, сказал: «Сие братство может показаться сомнительным». В 1829 г. Н. А. Полевой, не отвергая существование братьев Рюрика, вместе с тем не только подчеркивал, что «оно весьма подозрительно» и что их «тройство... явно походит на миф», коими полна всемирная история, но и называл Рюрика «мифическим».
Антинорманист С.А.Гедеонов, возражая антинорманисту Д.И. Иловайскому, относившему Рюрика, Синеуса и Трувора к изобретению летописца, утверждал противоположное: «Тройственное число призванных варяжских братьев-князей имело бы, при других доказательствах их легендарности, более уважительное значение. При своей уединенности, оно остается случайным историческим явлением. Около эпохи призвания нам известны три князя у моравлян: Святополк, Ростислав и Коцел. Или они тоже мифические личности?». С этими словами полностью соглашался И.Е. Забелин, говоря при этом, что «качеством легенды может быть отмечена братская троица с ее именами», хотя эти имена не представляют собой поздний вымысел. Вероятно, заключал он, летопись передает древнюю запись. Наконец, в 1887 г. антинорманист Ф. И. Свистун выдвинул мнение, что Рюрик - это лицо реальное, но его братья «кажутся вымыслом летописца»[60].
В русле данных рассуждений в дореволюционное время прозвучала идея, не принятая, надлежит заметить, даже норманистами, что имена Синеуса и Трувора представляют собой неверно понятые при переводе слова «Rurik und sine getruwen» (в 1877 г. И. И. Первольф привел данное толкование лишь как научный курьез: требуя научного объяснения древнерусских имен, произвольно трактуемых в науке, он произнес: «А то, пожалуй, будут еще правы те господа, которые объясняют троицу Рюрик, Синеус, Трувор по-немецки: Rurik und sine getruwen»[61]). Но совершенно иная судьба выпала этой идее в трудах русских ученых-норманистов, оказавшихся в эмиграции, в трудах советских ученых, называвших себя истинными антинорманистами, но при этом верующих в норманство варягов, и в трудах современных российских ученых, выступающих с позиций, как они сами ее презентуют, «взвешенного и объективного», «научного, т. е. умеренного» норманизма[62].
В 1929 г. Н.Т.Беляев убеждал, что у летописца был «малопонятный ему скандинавский текст», в результате чего прилагательные, окружавшие имя Рюрик, «Sig-niotr»-«победоносный» и «Thruwar» - «верный», превратились в имена Синеус и Трувор (к такому заключению исследователя подтолкнула гипотеза А. А. Куника, который, видя в братьях Рюрика реальных лиц, но не найдя в сагах именам Синеус и Трувор предлагаемых им скандинавских аналогий, сказал в 1845 г., что «Sig-niotr» и «Thruwar» являются прилагательными, означавшими, прежде всего, «победоносный» и «верный»). И этот «малопонятный» скандинавский текст (сага) кончался, по предположению Беляева (повторенному затем Г. В. Вернадским), «припевом-строфой, вроде: «Рюрик, Победоносный и Верный (Roerik, Sig-niotr ok Thruwar)». В 1931 г. В. А. Мошин сообщил о наличии в науке мнения, что летописец пользовался скандинавским источником, повествующим о прибытии «Рюрика со своим домом и верной дружиной» - «sin hous trej wory» («tru varing»)[63].
В советскую науку данную версию перенес в 1956 г. Б. А. Рыбаков с целью показать отсутствие каких-либо реалий в Сказании о призвании варягов (а в отрицании его историзма тогда видели один из путей борьбы с норманизмом, духом и содержанием которого была пропитана вся советская историко-филологическая наука[64]): если Рюрик - это историческое лицо, то «анекдотические «братья» Рюрика только подтверждают легендарность «призвания» и его источник - устный скандинавский рассказ».
Спустя два года ученый несколько уточнил свою позицию, указав, что «источником сведений о Рюрике и его «братьях», вероятнее всего, был устный рассказ какого-нибудь варяга или готландца, плохо знавшего русский язык» (параллельно с тем он вел речь о том, что в основе Сказания могло лежать широко распространенное в Северной Европе - в Ирландии и Англии - эпическое сказание о трех братьях - основателей королевств). В конечном итоге всю вину в появлении в повествовании о призвании варягов, следовательно, в русской истории Синеуса и Трувора Рыбаков возложил на летописца: имена братьев Рюрика он объяснил как результат «чудовищного недоразумения, происшедшего при переводе скандинавской легенды», когда новгородец, плохо зная шведский язык, «принял традиционное окружение конунга за имена его братьев»: sine hus («свой род») - Синеус и thru varing («верная дружина») - Трувор[65].
В 1989 г., когда советский «антинорманизм» (с его шумными марксистскими заклинаниями о возникновении Древнерусского государства только в силу внутренних причин на деле являвшийся разновидностью норманской теории, порожденной советской спецификой) практически отошел в прошлое, а на смену ему шел «объективный» и «научный» норманизм, т. е. норманизм истинный, не прикрывающийся марксистской фразеологией, ибо в том необходимость отпала, Н.Н. Гринев обоснованию такого толкования происхождения имен братьев Рюрика посвятил специальную статью.
По его словам, включение в ПВЛ русской транскрипции древнешведской фразы (sine hus - «свой род» и thru varing - «верная дружина») показывает, что в руках летописцев второй половины XI в. оказался извлеченный из архива написанный старшими рунами документ, имевший характер договора с приглашенным княжеским родом, а сама эта фраза, на его взгляд, «производит впечатление устойчивой формулы, связанной с поименованием князя при официальном к нему обращении». Ныне идею, что договор («ряд»), заключенный на старошведском языке Рюриком с призвавшими его славянскими и финскими старейшинами, «был использован в начале XII в. летописцем, не понявшим некоторых его выражений», проводит известный археолог А. Н. Кирпичников[66], несколько десятилетий руководящий раскопками Старой Ладоги.
Утверждение об ошибке летописца, якобы и приведшей к «рождению» никогда несуществовавших братьев Рюрика, прекрасно прижилось в советской и современной науке, давно и прочно обосновалось в справочниках, школьных и вузовских учебниках, в периодической печати, стало, что вполне закономерно, основой для создания новых исторических мифов, которыми и так сверхбогата норманская теория. Так, например, в 1995 г. Л.А.Кацва и А. Л. Юрганов объясняли учащимся седьмого класса, что «Рюрик сине хус трувор» означает в переводе с древнешведского «Рюрик с домом и дружиной», по причине чего он «обзавелся» двумя братьями, и что варяжский конунг Рюрик «известен в IX в. по скандинавским источникам»[67]. Но ни один скандинавский источник, что очень хорошо известно, не говорит о «варяжском конунге» по имени Рюрик. Как констатировал еще в 1836 г. - т. е. более 170 лет тому назад - норманист Ф. Крузе, имя Рюрика «не упомянуто в многоречивых скандинавских сагах»[68] (вероятно, авторы учебника имели в виду Рорика Ютландского, но речь о нем идет лишь во франкских хрониках, причем без всякой связи с Русью).
Тезис о Синеусе и Труворе как о шведских словах звучит из уст наших авторитетных специалистов на весьма представительных форумах, задавая тому соответствующую тональность, сквозь которую трудно пробиться иным мнениям. Так, он был озвучен в сентябре 2002 г. на проходившей в Калининграде международной конференции «Рюриковичи и российская государственность», посвященной важнейшему событию нашей истории - 1140-летию призвания варягов на Русь, директором Института истории материальной культуры РАН Е.Н. Носовым, выступавшим на пленарном заседании с докладом «Легенда о призвании варягов на фоне данных современной археологии»[69].
И этот тезис, принимаемый учеными в силу норманистских убеждений без критики, исключительно только на веру и многоголосо доносимый ими до массового читателя и слушателя в виде непреложной истины, вот уже полвека формирует историческое сознание наших соотечественников (и будущих деятелей науки в том числе), несмотря на то что он страдает явным и существенным изъяном, не позволяющим принимать его даже в качестве рабочей версии. Во-первых, Б.А.Рыбаков, Н.Н. Гринев и А.Н. Кирпичников не объяснили, хотя именно с этого и должны были, вообще-то, начать свой разговор, каким образом наши летописцы могли работать с материалом, звучащем на ирландском, английском, шведском (старошведском) языках. В силу подобной небрежности, уносящей, если вспомнить слова И.Е. Забелина, мысль «в область фантасмагорий», Гринев оставил совершенно открытым вопрос, как они во второй половине XI в. сумели прочитать текст, написанный «старшими рунами», которые давно уже были забыты в самой Швеции (где старшерунический алфавит использовался до конца VIII в. и был вытеснен новым руническим алфавитом - «младшими рунами»[70]).
К тому же руническое письмо по своему характеру не могло применяться, указывают специалисты в области скандинавской письменности, «для записи сколько-нибудь пространных текстов. Краткие магические заклинания, имена (владельческие надписи), наконец, формулярные эпитафии на мемориальных стелах - основные виды текстов, записывавшихся руническим письмом»[71]. Во-вторых, рассуждения Рыбакова, Гринева и Кирпичникова вступают в полнейшее противоречие с летописью, со Сказанием о призвании варягов, где четко говорится, что Рюрик и его братья пришли на Русь не одни, а «с роды своими»: «И изъбрашася 3 братья с роды своими (курсив мой. - В.Ф.), и пояша по собе всю русь, и придоша; старейший, Рюрик, седе Новегороде, а другий, Синеус, на Беле-озере, а третий Изборьсте, Трувор», в связи с чем имя Синеус не может, конечно, обозначать то, во главе чего он стоял (в конце той же статьи под 862 г. читается, что по смерти Синеуса и Трувора Аскольд и Дир отпросились у Рюрика «ко Царюгороду с родом своим», а все же не с покойным Синеусом)[72].
В-третьих, о несостоятельности этого тезиса неоднократно вели речь ученые, не сомневающиеся, надлежит подчеркнуть, в скандинавской природе варягов. Как верно заметил в 1961 г. И. П. Шаскольский, рассматриваемая трактовка имен Синеуса и Трувора зиждется только на одном - на «невероятном» предположении о норманском происхождении Сказания о призвании варягов, к тому же она, заострял внимание исследователь, «неубедительна и с филологической стороны; ее не приняли крупнейшие филологи-норманисты В.Томсен, А. Стендер-Петерсен и др., на авторитет которых в данном вопросе вполне можно положиться»[73]. Ее не принимал, следует добавить и такой столп норманизма, как историк А. А. Куник, изучавший в Бреславском университете сравнительное языкознание и историческую грамматику[74].
В 1934 г. прекрасный знаток истории и культуры скандинавских народов Е. А. Рыдзевская, указывая на принципиально важный факт, что в сагах Сказание о призвании варягов не отразилось, резюмировала: против его скандинавского происхождения, против его «оформления непосредственно на почве скандинавских преданий, говорит, между прочим, и то обстоятельство, что имена Рюрика, Синеуса и Трувора не образуют аллитерации, обычной для имен героев в древнескандинавских сказаниях». Отвергала Рыдзевская скандинавский элемент в памятнике и позже, опять же отмечая, что достаточно богатая северная литература «не содержит ни одного хотя бы отдаленного намека» на призвание варяжских князей[75].
В 1980-х - 1990-х гг. В.Я. Петрухин и Е. А. Мельникова справедливо подчеркивали, что текст Сказания не несет никаких следов, позволивших бы заподозрить в нем перевод. Оперируя лингвистическими данными и прямо называя имена Б. А. Рыбакова и Н. Н. Гринева, они констатировали, что «необоснованны и не соответствуют морфологии и синтаксису древнешведского языка попытки истолковать имена Синеус и Трувор как осмысленные летописцем в качестве личных имен древнешведские фразы «со своим домом и верной дружиной», подразумевающие восхождение легенды к прототипу на древнешведском языке» (слова hus и vaeringi, поясняет филолог Мельникова, «никогда не имели значение «род, родичи» и «дружина»), что летописец имел дело с памятником, изложенным на древнерусском языке, и что Сказание о призвании варягов «соотносится со сказаниями других народов о переселении части (обычно) трети племени во главе с тремя (или двумя) братьями в далекую страну»[76].
В-четвертых, С.Н. Азбелев в 1994 г. правомерно отметил, что интерпретации имен братьев Рюрика как «sine hus» и «thru varing» противостоит русский фольклор о князьях Синеусе и Труворе[77]. В-пятых, средневековые немецкие генеалогии, уходящие в древности южнобалтийских славян, и предания онемеченных потомков последних сообщают не только о Рюрике, потомке вендо-ободритских королей, но и о его братьях Синаусе (Сиваре) и Труворе, вместе с ним прибывших на Русь около 840 года[78]. Наконец, миф о легендарности братьев Рюрика, следовательно, миф о скандинавской основе Сказания о призвании варягов разрушает одно только свидетельство Пискаревского летописца, зафиксировавшего многовековую традицию, по крайней мере, с IX по XVI столетие включительно, бытования имени Синеус: в известии под 1586 г. об опале на князя А. И. Шуйского сказано, что «казнили гостей Нагая да Русина Синеуса с товарищи»[79].
В приведенном взгляде на Сказание о призвании варягов и на природу имен Синеуса и Трувора как в капле воды отражается отношение подавляющего большинства наших ученых к ПВЛ, пытающихся представить ее как памятник, якобы вобравший в себя сюжеты скандинавского эпоса (описание «Афетовой части» и пути «из варяг в греки», перечень «Афетова колена», Сказание о призвании варягов, известия о колесах кораблей Олега, его смерти, сожжении Ольгой Искоростеня и другие). Почин тому положили в 20-х - 40-х гг. XIX в. М.П. Погодин, Н.А.Полевой и О.И.Сенковский, горячо убеждавшие, что летописец значительную часть своего труда составил из саг, рассказанных ему шведами (вопрос, резонно заданный в таком случае С.А.Гедеоновым Погодину: «Но тогда значит Нестор понимал и читал по-шведски?» - был оставлен, разумеется, без ответа)[80].
Чтобы еще больше закрепить в историографии такой взгляд на древнейшую русскую летопись, ее составителям приписывают ошибки, которые затем исправляют в соответствующем духе (говорят, например, о «легендарности» древлянского князя Мала и объясняют его появление в ПВЛ неверным переводом обращенной к Ольге слов древлянских послов по-шведски «Giptas таф mund ok таф maeli», означающих «брак с обеспечением приданного и заключением торжественного договора», и что летописец принял слово «maeli» за имя собственное Mai; или упоминаемых в Киево-Печерском патерике варягов Африкана, Фрианда и Шимона выводят из шведских слов «frianda Simon Afrek^son»)[81].
Отрицание исторического бытия Синеуса и Трувора объясняется довольно просто, и оно связано с двумя фактами, противоречащими норманистским воззрениям. Так, А.Н. Кирпичников дополнительные доводы в пользу того, что «эпизод с двумя братьями вызывает сомнение в его достоверности и, возможно, основан на каком-то языковом недоразумении, порожденном не устной, а письменной традицией», видит в следующем: во-первых, поиски имен Синеус и Трувор «в древнескандинавской ономастике не привели к обнадеживающим результатам» (Н.Н. Гринев, надо заметить, сказал более точно: «имен Синеус и Трувор нет в Скандинавии»), во-вторых, «само присутствие скандинавов в Белоозерской округе, судя по археологическим находкам, не только в IX, но и в X в. прослеживается слабо», «а в Изборске не обнаружено характерного комплекса скандинавских изделий - поэтому вряд ли там появлялся знатный скандинав»[82].
Эти доводы, очень рельефно демонстрирующие тенденциозность исследователей, придерживающихся норманской теории, к науке не имеют никакого отношения, ибо метод подгона решения задачи под нужный кому-то ответ ей чужд. А объяснение русских древностей не может быть, конечно, ограничено какими-то рамками и априорными стереотипами, к сожалению, играющими для ученых роль путеводных нитей.
Более же широкий взгляд на них позволил историку А. Г. Кузьмину найти именам Синеус и Трувор (а также другим именам ПВЛ) «ясные и естественные параллели» в кельтских языках. Так, в последних встречается большое количество имен, восходящих к sini - «старший». Первоначальное кельтское звучание этого важного для эпохи образования государственности понятия - sinjos - практически совпадает с именем Синеус, который, вероятно, является уже славянским переосмыслением кельтического антропонима типа «Беллоуес», где второй компонент вариант от «гаст» в значении «господин». А имя Трувор сопоставимо с многочисленными производными от племени треверов (у современных кельтов существует имя Тревор), а в древнефранцузском языке имелось «прямо совпадающее с именем» слово trouveur, означавшее «поэт», «трубадур», «путешественник». «В кельтской традиции, - добавлял ученый, - много имен от «три», и «третий» по рождению обычно означал не просто порядковый номер, а лучшего из рода»[83].
Не принадлежит к скандинавскому миру и имя Рюрик. Еще С. А. Гедеонов указывал, что имя Hraerekr (Hrorekr), в котором видят имя Рюрик, шведам неизвестно. «Для шведского конунга имя Hraerekr, - акцентировал он внимание, - также странно и необычайно, как для русского князя имена Казимира и Прибислава; вследствие чего норманская школа должна... отказаться от шведского происхождения нашего Рюрика». В 1929 г. норманист Н.Т. Беляев не только подтвердил факт отсутствия этого имени у шведов, но вместе с тем указал, что оно необычно и в Дании.
В наши дни шведская исследовательница Л. П. Грот вновь напомнила, что в Швеции не считают имя «Рюрик» шведским и что оно не встречается «в шведских именословах». А именно этот факт и заставил дерптского историка Ф. Крузе в 1830-х - 1840-х гг. обратиться к личности Рорика Ютландского и выдавать его за летописного Рюрика. Именно этот факт и сегодня многих ученых заставляет говорить то же самое (например, археологов Д. А. Мачинского, АН. Кирпичникова, И.В. Дубова, Г.С.Лебедева). Но, как справедливо заметил лингвист О.Н.Трубачев, принявший, надлежит сказать, данное тождество, «курьезно то, что датчанин Рёрик не имел ничего общего как раз со Швецией...
Так что датчанство Рёрика-Рюрика сильно колеблет весь шведский комплекс вопроса о Руси»[84].
Имя Rauric, Ruric, Roric имело, как показал Кузьмин, широкое распространение в Европе уже «с первых веков нашей эры» (до VII в. известно пять таких имен, а на территории Франции для IX - начала XII вв. зафиксировано 12 «Рориков»), И в нем он видел отражение названия племени руриков (рауриков-raurici, отсюда французские «Рорики»), имя которых происходит от р. Рур или Раура (сейчас так именуют притоки Мааса и Рейна). В средние века, констатировал ученый, у Одера был приток Рурика (Rurica, Rorece). В целом Кузьмин, отметив весьма сложный, полиэтничный состав древнерусского именослова, особенно масштабно представленного в договорах Олега и Игоря с Византией, - славянский, иранский, иллиро-венетский, подунайский, восточнобалтийский, кельтский, фризский, финский и другие компоненты, пришел к выводу, что в нем «германизмы единичны и не бесспорны», а норманская интерпретация, которая сводится лишь к отысканию приблизительных параллелей, а не к их объяснению, противоречит материалам, «характеризующим облик и верования социальных верхов Киева и указывающим на разноэтничность населения Поднепровья»[85].
Имена первых русских князей и их окружения («особенно в договорах с греками 911 и 944 гг.») составляют, по мнению Ф. А. Брауна, «наиболее веское доказательство норманистов»[86]. Каким способом превращались эти имена, даже чисто славянские, в «наиболее веское доказательство норманистов» демонстрирует несколько примеров. Так, немец Ю.Г. Шоттелий (ум. 1676 г.) увидел в имени Владимир перевод, означающий «лесной надзиратель» (от немецкого «wald» - «лес»). В 1735 г. Г. 3. Байер, не сомневаясь, что «все имена варягов в русских летописях» суть «шведского, норвежского и датского» языков и найдя им, исходя, как и О. Рудбек, лишь из созвучия, соответствующие объяснения, уверял, что первая часть имени Владимир когда-то означала «поле битвы» и что имя Святослав «с началом норманским (Свен. - В.Ф.) и окончанием славенским»[87].
Этимологические «открытия» Байера в равной степени одинаково оценили - а подобное совпадение не случайно - и антинорманист М.В.Ломоносов, и норманист В.О.Ключевский. Согласно замечанию первого, Байер, «последуя своей фантазии», имена русских князей «перевертывал весьма смешным и непозволительным образом, чтобы из них сделать имена скандинавские». По словам Ключевского, «впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но самый прием доказательства держится доселе». Держится он, к сожалению, и «доселе»: в 2004 г. археолог Л.С.Клейн внушал читателю, что имена Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь «легко раскрываются из скандинавских» корней. А годом позже филолог Е. А. Мельникова, впадая в противоречие с хорошо известными фактами, говорила, что «этимология имени первого русского князя никогда не вызывала сомнений: др.-рус. Олгъ/Олъгъ > Олегъ восходит к древнескандинавскому антропониму Helgi»[88].
Но, несмотря на чудеса изобретательности, благодаря которым под рукой норманистов «легко раскрываются из скандинавских» корней, как и когда-то перед Рудбеком, русские слова и имена, имена Олег, Ольга, Игорь не являются скандинавскими. Так, в 1997 г. Л. П. Грот продемонстрировала, что шведское имя «Helge», означающее «святой» и появившееся в Швеции в ходе распространения христианства в XII в., и русское имя «Олег» IX в. «никакой связи между собой не имеют». Вымощен, по ее словам, «несуществующий мост между именем «Олег» и именем «Helge», да еще уверяют, что имя «Helge», которое на 200 лет моложе имени «Олег», послужило прототипом последнего».
При этом исследовательница справедливо заостряет внимание на том обстоятельстве, что «распространение имени «Олег» не ограничивается только древнерусским обществом, но встречается и у западных славян (сравни чешское Олек, Олька), и в родовом имени литовских князей Ольгердовичей и пр.». Сказанное полностью относится и к имени Ольга (к тому же оно существовало у чехов, среди которых норманнов не было). А тот факт, что саги называют княгиню Олыу не «Helga», как того следовало бы ожидать согласно логике норманистов, a «Allogia», говорит об отсутствии тождества между этими именами, следовательно, об отсутствии связи как имени, так и самой Ольги со Скандинавией. В 1901 г. И.М. Ивакин доказал, что в древности имена Игорь и Ингвар различались и не смешивались[89].
Современные активные норманисты, будучи в основной своей массе археологами и филологами, и в силу чего очень слабо зная богатейшую историю разработки варяго-русского вопроса (они, как правило, ограничиваются современными работами, причем только из круга «своих») и его многообразную источниковую базу, не ведают давно установленной истины, что вопрос об этнической принадлежности имен совершенно не имеет того принципиального значения, какой им придается в норманистике. Ибо сами по себе имена не могут указывать ни на язык, ни на этнос их носителей. «Почти все россияне имеют ныне, - задавал в 1749 г. М.В.Ломоносов Г.Ф. Миллеру вопрос, оставленный без ответа, - имена греческие и еврейские, однако следует ли из того, чтобы они были греки или евреи и говорили бы по-гречески или по-еврейски?»[90].
В справедливости слов Ломоносова убеждает готский историк Иордан, отметивший в VI в., в какой-то мере подводя итоги Великого переселения народов, что «ведь все знают и обращали внимание, насколько в обычае племен перенимать по большей части имена: у римлян - македонские, у греков - римские, у сарматов - германские. Готы же преимущественно заимствуют имена гуннские». Великое переселение народов, охватившее огромные пространства Азии, Европы и Северной Африки и вовлекшее в себя массы народов, перемешало не только именословы, но и антропологические типы[91], что абсолютно не учитывается норманистами, выдающими всю эту «мешанину» за чисто германский «продукт».
Примечания:
60. Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. I. Примеч. 277; Полевой Н.А. История... С. 83, примеч. 38 к кн. I, примеч. 1 к кн. II; Гедеонов СЛ. Указ. соч. С. 387, примеч. 1; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 2. - М., 1912. С. 87-88; Свистун Ф.И. Спор о варягах и начале Руси. Историко-критическое исследование. - Львов, 1887. С. 150.
61. Первольф И.И. Варяги-Русь и балтийские славяне. С. 52.
62. Хлевов АА. Норманская проблема в отечественной исторической науке. - СПб., 1997. С. 91; Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. - М., 1999. С. 50.
63. Kunik Е. Op. cit. Bd. II. - SPb., 1845. S. 132-133, 136-138; Беляев H.T. Указ. соч. С. 244-245, примеч. 143; Мошин В.А. Начало Руси. Норманны в Восточной Европе // Byzantinoslavika. Rocnik III. Svarek 2. Praha, 1931. C. 299; Вернадский Г.В. Указ. соч. С. 342-343, 367- 369.
64. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 151-154; его же. Ломоносов. С. 120— 124.
65. Рыбаков Б.А. Остромирова летопись // ВИ, 1956, № 10. С. 52; его же. Предпосылки образования Древнерусского государства // Очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР. III-IX вв. - М., 1958. С. 781-784; его же. Спорные вопросы образования Киевской Руси // ВИ, 1960, № 10. С. 19-20; его же. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. - М., 1963. С. 293; его же. Киевская Русь // История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Т. 1. - М., 1966. С. 568; его же. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII веков. Изд. 2-е. - М., 1993. С. 298; его же. Мир истории. Начальные века русской истории. - М., 1984. С. 49.
66. Гринев Н.Н. Легенда о призвании варяжских князей (об источниках и редакциях в Новгородской первой летописи) //История и культура древнерусского города. - М., 1989. С. 31-43; Кирпичников А.Н., Сарабъянов В Д. Старая Ладога - древняя столица Руси. - СПб., 1996. С. 84-87; их же. Старая Ладога. Древняя столица Руси. - СПб., 2003. С. 76-78; Кирпичников А.Н. «Сказание о призвании варягов». Анализ и возможности источника // Первые скандинавские чтения. Этнографические и культурно-исторические аспекты. - СПб., 1997. С. 10; его же. Сказание о призвании варягов. Легенды и действительность // Викинги и славяне. Ученые, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях. - СПб., 1998. С. 33, 38-40.
67. Лебедев Г.С. Указ. соч. С. 212; Толочко П.П. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси // Славяне и Русь (в зарубежной историографии). - Киев, 1990. С. 110;Думж С.В., Турилов А.А. «Откуда есть пошла Русская земля?» // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX - начала XX века. - М., 1991. С. 12; Никитин АЛ. Первый Рюрик - миф или реальность// «Наука и религия», 1991, № 4. С. 34; его же. Основание русской истории. Мифологемы и факты. - М., 2001. С. 149; Свердлов М.Б. RORIK (HR0RIKR) I GQRDUM // ВЕДС. С. 37-39; его же. Дополнения // Повесть временных лет. Подготовка текста, перевод, статьи и коммент. Д.С.Лихачева. Изд. 2-е исправленное и дополненное. - СПб., 1996. С. 596; Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. - М., 1997. С. 15; его же. Русь IX-XVII века. С. 21; его же. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX-XVII вв. - СПб., 2000. С. 9; Пятецкий Л.М. История России для абитуриентов и старшеклассников. Восточные славяне в древности. Киевская Русь. Период феодальной раздробленности. Россия в XIII-XVII веках. Изд. 3-е. - М., 1996. С. 47, 59; Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник. - М., 1994. С. 236; Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII-XV вв. - М., 1995. С. 21; и др.
68. Крузе Ф. О происхождении Рюрика (преимущественно по французским и немецким летописям) // ЖМНП. Ч. IX. № 1. СПб., 1836. С. 47.
69. См. об этом подробнее: Фомин В.В. Варяжский вопрос: его состояние и пути разрешения на современном этапе // Сб. РИО. Т. 8 (156). С. 258.
70. Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи. Новые находки и интерпретации. Тексты, перевод, комментарий. - М., 2001. С. 7.
71. Стеблин-Каменский М.И. Древнескандинавская литература. - М., 1979. С. 10-11,13-14; Мельникова ЕА. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // ДГВЕ. 1998 г. М., 2000. С. 157-158.
72. ЛЛ. С. 19-20.
73. Томсен В. Указ. соч. С. 127-128; Шаскольский И.П. Современные норманисты о русской летописи. С. 371, примеч. 121.
74. Kunik Е. Op. cit. Bd. II. S. 131-138; Лаппо-Данилевский А.С. Арист Аристович Куник. - СПб., 1914. С. 1453.
75. Рыдзевская Е.А. К варяжскому вопросу. С. 620, примеч. 1; ее же. Древняя Русь... С. 167.
76. Петрухин В.Я. Комментарии. С. 275, коммент. ххххк с. 167; его же. Начало этнокультурной истории Руси... С. 120, 125; его же. Рюрик, Синеус и Трувор // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - М., 1995. С. 342; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Легенда о «призвании варягов» и становление древнерусской историографии // В И, 1995, № 2. С. 54; Мельникова Е.А. Рюрик... С. 158, примеч. 50 на с. 157.
77. Азбелев СЛ. К вопросу о происхождении Рюрика // Герменевтика древне-русской литературы. Сб. 7. Ч. II. - М , 1994. С. 363.
78. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 431-436.
79. ПСРЛ. Т. 34. - М., 1978. С. 39; Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 225-246.
80. Погодин М.П. О происхождении Руси. С. 14; его же. Нестор, историко-критическое рассуждение о начале русских летописей. - М., 1839. С. 102-103, 159, 161, 175-179; его же. Исследования... Т. 1. - М., 1846. С. 102-103,285,294,298, 491; то же. Т. 2. - М., 1846. С. 9-10; его же. Г. Гедеонов... С. 13-14; Полевой Н.А. История... С. 281-282, 285-286, примеч. 276, 279-281, 285-287 к кн. II; Сенковский О.И. Скандинавские саги. С. 17, 30-31, 38-41, 58, 75; его же. Эймундова сага. С. 64; Гедеонов СЛ. Указ. соч. С. 439, примеч. 233.
81. См. об этом подробнее: Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 229-231.
82. Гринев Н.Н. Указ. соч. С. 36; Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога - древняя столица Руси. С. 84-87; их же. Старая Ладога. Древняя столица Руси. С. 77-78; Кирпичников А.Н. «Сказание о призвании варягов». С. 10-11; его же. Сказание о призвании варягов. С. 38-40.
83. Кузьмин А.Г. Об этнической природе... С. 76-78; его же. Начало Руси. С. 330; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 653.
84. Гедеонов СЛ. Указ. соч. С. 173; Беляев Н.Т. Указ. соч. С. 242-243; Трубачев О.Н. В поисках единства. С. 242; Грот Л.П. Мифологические и реальные шведы на севере России: взгляд из шведской истории // Сб. РИО Т 8 (156). С. 179.
85. Кузьмин А.Г. Об этнической природе... С. 75-76; его же. Два вида русов... С. 209; его же. Облик современного норманизма // Сб. РИО. Т. 8 (156). С. 231; его же. Начало Руси. С. 36, 313-332; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 639-654; Славяне и Русь. С. 415, примеч. 65.
86. Браун Ф.А. Варяжский вопрос. С. 573.
87. Bayer G.S. Op. cit. P. 281, 285-286; Байер Г.З. Указ. соч. С. 347, 349.
88. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию... С. 407; Ключевский В.О. Лекции по русской историографии // Его же. Сочинения в восьми томах. Т. VIII. - М., 1959. С. 398; Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. - СПб., 2004. С. 140; Мельникова Е.А. Олгъ / Олъгъ / Олегъ Вещий: К истории имени и прозвища первого русского князя //Ad fontem / У ис-точника: Сборник статей в честь С.М.Каштанова. - М., 2005. С. 138.
89. вакин ИМ. Князь Владимир Мономах и его поучение. Ч. 1. - М., 1901. С. 54, примеч.хх; Грот Л.П. Мифологические и реальные шведы... С. 179-182.
90. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию... С. 407.
91. Иордан. Указ. соч. С. 72; Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого пере-селения народов. - М., 2000. С. 13-15, 41,83, 96-99, 115-116.
Глава четвёртая. «Откуда есть пошла Русская земля»
Приход в северо-западные пределы Восточной Европы варяжских князей Рюрика, Синеуса, Трувора, а вместе с ними варяжской руси - исторический факт. Но, повествуя об этом событии, переломном в истории восточных славян, летопись нигде прямо не говорит, откуда они прибыли и к какому роду-племени они принадлежали, что и заставляет специалистов предлагать разные версии по поводу их родины и этноса. И как-то очень далеко в стороне от спора оказалась та очень простая истина, что ключом в определении этноса варягов и варяжской руси, следовательно, правильного решения варяго-русского вопроса, является установление языка, на котором они говорили. Причем его установление не составляет никаких проблем, если, конечно, при этом руководствоваться не умозрительными концепциями, подверстанными под известную идею, а показаниями ПВЛ.
В нашей древнейшей летописи, в которой содержится не только явная, но и скрытая информация о варягах, в комментарии к Сказанию о славянской грамоте, привлеченному киевским летописцем конца X в.[92] и помещенному под 6406 г., подчеркнуто, что «словеньскый язык и рускый одно есть». Славянский характер варяжской руси отмечает и Новгородская первая летопись младшего извода, в которой под 854 г. читается, что «новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска», т. е. «от рода варяжьска» происходит, справедливо заключает А.Н.Сахаров, «не верхушка, не дружина, а именно «людье» - все новгородское население родственно варягам-руси»[93]. Новгородцы середины XI в. (а именно к этому времени ведут, по оценке А.А.Шахматова, слова летописца «до днешняго дни») либо начала XII в., либо второй четверти XIII в. (как полагал А. Г. Кузьмин)[94], относя себя к потомкам варягов Рюрика, тем самым считали их славяноязычными[95]. Несмотря на свои неславянские имена, славяноязычными предстают, согласно договорам с византийцами 911 и 945 гг., варяго-русские дружинники Олега и Игоря[96].
Вывод о славяноязычии варягов вытекает также из того, что города, которые они основали по своему приходу в Северо-Западную Русь, носят, на чем правомерно акцентировал внимание А. Г. Кузьмин, исключительно славянские названия, например, Новгород, Изборск, Белоозеро (последнее к тому же было расположено в землях угро-финского племени веси, куда еще не проникли славяне). Согласно чтениям Ипатьевской летописи, дающей неиспорченный текст Сказания о призвании варягов[97], Рюрик, Синеус и Трувор «пояша по собе всю русь, и придоша к словеном первее, и срубиша город Ладогу. И седе старейшин в Ладозе Рюрик, а другии Синеус на Белеозере, а третей Трувор в Изборьсце». После смерти братьев Рюрик, рассказывает далее летопись, «прия... власть всю один, и пришед к Ильмерю, и сруби город над Волховом, и прозваша и Новъгород, и седе ту княжа раздан волости и городы рубити»[98].
Возводят варяги города и в Южной Руси. Так, под 882 г. летопись сообщает, что Олег, захватив Киев, «нача городы ставити», под 988 г., что Владимир, стремясь защитить юго-восточных границы Руси от печенегов, «нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне»[99]. Но, несмотря на такое бурное градостроительство варягов, «во всей древней Руси, - отмечал в 1962 г. историк М.Н.Тихомиров, - не было ни одного города, который бы восходил бы ко временам первых русских князей и носил бы скандинавское название» (по его словам, «даже название Ладога не может быть без натяжки выведено из скандинавских корней»). Этот вывод затем подтвердил польский лингвист С. Роспонд, указав на совершенное отсутствие среди названий древнерусских городов IX-X вв. «скандинавских названий»[100].
Согласно летописи, варяги прибыли на Русь из Балтийского Поморья. Откуда конкретно, уточняет факт их славяноязычия, т. к. славяне и ассимилированные ими народы жили на южных берегах Балтийского моря. На данную территорию дополнительно указывает недатированная часть ПВЛ, где четко очерчена граница расселения варягов на западе. Они сидят, пояснял киевский летописец конца X в.[101], по Варяжскому морю «к западу до земле Агнянски». Земля «Агнянска» - это не Англия, как это ошибочно считают норманисты (собственно Англия именуется в летописи «Вротанией», «Вретанией», «Британией» - Британией), а южная часть Ютландского полуострова, на что в 40-х - 70-х гг. XIX в. обращали внимание антинорманисты С. А. Бурачек, Н. В. Савельев-Ростиславич, И. Е. Забелин[102].
И в юго-восточной части Ютландского полуострова обитали до своего переселения в середине V в. в Британию англо-саксы (отсюда «земля Агнянска» летописи, сохранившаяся в названии нынешней провинция Angeln земли Шлезвиг-Голштейн ФРГ), с которыми на Балтике долго ассоциировались датчане: даже во времена английского короля Эдуарда Исповедника (1042— 1066 гг.) названия «англы» и «даны» смешивались, считались чуть ли не тождественными, а мифологическими родоначальниками датчан являются братья Дан и Ангул[103]. С англо-саксами на востоке соседили «варины», «вары», «вагры», населявшие Вагрию, т. е. собственно варяги (с течением времени этот термин на Руси будет прилагаться ко многим западноевропейцам и станет синонимом словам «римляне», «латины», «немцы»; по этой причине летописец второго десятилетия XII в., повествуя о призвании варягов, специально выделил русь из числа других варяжских, как бы сейчас сказали, западноевропейских народов, назвав ее в качестве особого, самостоятельного племени, вроде шведов, норвежцев, готов, англян-датчан, тем самым не смешивая ее с ними)[104].
На Южную Балтику как родину варягов указывает Перун, бог варяго-русской дружины (при утверждении договора 911г. византийцы «целовавше сами крест, а Олга водивше на роту, и мужи его по рускому закону кляшася оружьем своим и Перуном, богом своим»). Западноевропейский хронист XII в. Гельмольд называет главного бога земли вагров - Прове, в котором видят искаженное имя славянского Перуна[105]. И. И. Первольф констатировал, что четверг у люнебургских славян (нижняя Эльба) еще на рубеже XVII-XVIII вв. именовался «Перундан» (Perendan, Perandan), т. е. день Перуна, олицетворявшего в их языческих верованиях огонь небесный, молнию, и этот факт, подчеркивал А. Г. Кузьмин, предполагает широкое распространение культа Перуна и признание его значимости. А.Ф.Гильфердинг отмечал, что Перуну поклонялись на всем славянском Поморье[106].
На Южную Балтику в поисках родины варягов выводит и характер изображения божеств, установленных Владимиром в 980 г. (а несколько лет до этого он пробыл «за морем» у варягов): «Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат» (южнобалтийские божества имели серебряные усы - Черноглав на Рюгене, или были сделаны из золота: Триглав, Радигаст). Вместе с тем культ Перуна, которому поклонялись варяго-русская дружина и ее предводитель - русский князь, был совершенно не известен германцам[107]. Также показательно, что одна из ранних староладожских «больших построек» аналогична святилищам южнобалтийских славян в Гросс-Радене (под Шверином, VII-VIII вв.) и Арконе (о. Рюген)[108], а в захоронениях староладожского Плакуна представлены сосуды южнобалтийского типа[109].
Версия ПВЛ о южнобалтийском происхождении варягов (варяжской руси), получившая отражение в позднейших русских памятниках, имеет, что свидетельствует в пользу ее исторической основы, параллели в западноевропейской историографической традиции, уходящей в глубь веков. В 1544 г. вышла знаменитая «Cosmographia» С. Мюнстера, где подчеркнуто, что Рюрек (Rureck), в 861 г. приглашенный на княжение на Русь, был из народа «вагров» или «варягов» («Wagrii oder Waregi»), главным городом которых являлся Любек. Подобная подача информации говорит о ее самом широком хождении в европейском мире. Это, во-первых. Во-вторых, одним из вдохновителей труда Мюнстера, пояснял в 1995 г. финский историк А.Латвакангас, был шведский король Густав Ваза, обратившийся к автору с просьбой воспеть славу древних готских королей, и тем самым придать величие ранней истории Швеции. Мюнстер, выполняя заказ, тщательно проследил историю шведских правителей и посвятил свою работу Густаву Вазе[110], но при этом не связал варягов русских летописей со шведами, да и сам король не выразил ему пожелания сделать это.
В 1549 г. С. Герберштейн, в качестве посла Священной Римской империи побывавший в 1516-1517,1526 гг. и в Вагрии, и в России, был непреклонен в заключении, основанном в том числе и на устной традиции потомков вагров, что родиной варягов является Вагрия, «область вандалов», которые «не только отличались могуществом, но и имели общие с русскими язык, обычаи и веру» («вандалами» и «венедами» германские источники называют южнобалтийских и полабских славян). На тот же район указывал в 1582 г. польский историк М.Стрыйковский. В 1607-1649 гг. французы Ж.Маржерет, К.Дюре и Ф. Брие утверждали то же самое, но при этом вместо Вагрии оперируя названиями Вандалия и Дания (последняя, включив в 1460 г. в свой состав Вагрию, стала вытеснять ее из памяти европейцев, и такая «подмена» впоследствии ввела в заблуждение многих)[111].
В 1657 г. неизвестный итальянский писатель говорил, что «призван был Рурех, или Рутиков из вагров, который пришел в 861 г. и был избран князем новгородским». А. Майерберг, глава посольства Священной Римской империи в России в 1661-1662 гг., сообщал, что варяжские князья были «родом из варягов или вагров, князей славянского народа». В 1688 г. прусский историк М. Преторий настаивал на том, что русские призвали себе князей «от народа своей крови» «из Пруссии и с ними сообщенных народов», но только не из Дании или Швеции. В 1710 г. Г. В.Лейбниц вел речь о Вагрии как родине варягов, при этом уже предположив, под влиянием французской историографии, что «Рюрик, по моему мнению, был датского происхождения, но пришел из Вагрии или из окрестных областей». В «Зерцале историческом государей Российских», написанном проживавшим в России с 1722 г. датчанином А. Селлием, хорошо знавшим предания Южной Балтики и труды своих предшественников, Рюрик с братьями также выводится из Вагрии[112].
Варяги и русь по русским и иностранным источникам.
(публ. по: Откуда есть пошла Русская земля. Века VI-X / Сост., предисл. введ. к документ., коммент. А.Г. Кузьмина. Кн. 2. М., 1986)
В уточнении деталей биографии Рюрика очень большую роль сыграли немецкие ученые XVII - первой половины XVIII века. И среди них прежде всего надлежит назвать Б. Латома (1560-1613 гг.) и Ф.Хемница (1611-1687 гг.), которые установили, что Рюрик жил около 840 г. и был сыном ободритского князя Годлиба (по другим вариантам, Годелайва, Готлиба), убитого датчанами в 808 г. при взятии их главного города Рарога[113] (ободриты-бодричи-рериги - одно из самых могущественнейших славянских племен Южной Балтики). Затем И. Хюбнер в 1708 г., Ф. Томас в 1717 г., М.И. Бэр в 1741 г., С. Бухгольц в 1753 г. и другие ввели в научный оборот разнообразный материал, согласно которому Рюрик вышел из пределов Южной Балтики и являлся потомком вендо-ободритских королей[114].
Важно подчеркнуть, что предания о выходе варягов с южного побережья Балтики очень долго бытовали на этих землях. Так, в 1840 г. француз К. Мармье опубликовал легенду, записанную им в Мекленбурге среди давно онемеченных потомков южнобалтийских славян и повествующую, что у короля ободритов Годлава были три сына - Рюрик, Сивар и Трувор, которые вокняжили на Руси[115]. О славянской природе варягов ведут речь и арабские историки. Так, ад-Димашки (1256-1327 гг.), повествуя о «море Варенгском» (Варяжском) и используя не дошедшее до нас какое-то древнее известие, поясняет, что варяги «суть славяне славян (т.е. знаменитейшие из славян)»[116]. И подобное единство мнений русской, западноевропейской и арабской традиций по поводу этноса и родины варягов, конечно, не случайно.
Эти мнения подтверждает массовый археологический, нумизматический, антропологический и лингвистический материал, показывающий, что у восточных славян из всех балтийских народов именно с южнобалтийскими славянами существовали самые древние и самые широкие связи. Керамика южнобалтийского типа (фельдбергская и фрезендорфская), например, распространена на огромной территории Восточной Европы (она доходила до Верхней Волги и Гнездова на Днепре, т. е. бытовала в тех областях, обращает внимание А. Г. Кузьмин, где киевский летописец помещал варягов; в Киеве ее не обнаружено) и фиксируется в древнейших горизонтах культурного слоя многих памятников Северо-Западной Руси (Старой Ладоги, Изборска, Рюрикова городища, Новгорода, Луки, Городка на Ловати, Городка под Лугой, неукрепленных поселений - селища Золотое Колено, Новые Дубовики, сопки на Средней Мете, Белоозера и других).
Так, на посаде Пскова она составляет более 81%, в Городке на Ловати около 30%, в Городке под Лугой ее выявлено 50% из всей достоверно славянской, в Изборске (Труворово городище) основу керамического набора лепных сосудов VIII—IX вв. (более 60 %) «составляют сосуды, находящие себе соответствие в славянских древностях южного побережья Балтийского моря». В целом для времени X-XI вв. в Пскове, Изборске, Новгороде, Старой Ладоге, Великих Луках отложения, насыщенные южнобалтийскими формами, представлены, по оценке С.В.Белецкого, «мощным слоем». На основании чего ряд археологов говорит о переселении в северо-западные земли Руси жителей Южной Балтики (В.Д.Белецкий, В.В.Седов, Г.П.Смирнова, В.М.Горюнова, С. В. Белецкий, К.М. Плоткин).
Антропологи Т.И.Алексеева и Н.Н. Гончарова установили генетическое родство балтийских славян с новгородскими словенами и видят в последних переселенцев с южного побережья Балтийского моря. С выводами археологов и антропологов о теснейших связях Южной Балтики и Северо-Западной Руси и о переселении на территорию последней какой-то части южнобалтийского населения полностью совпадают заключения лингвистов (Н.М. Петровский, Д.К.Зеленин, А.А.Зализняк). И как ныне констатирует крупнейший знаток русских древностей В. Л. Янин, «поиски аналогов особенностям древнего новгородского диалекта привели к пониманию того, что импульс передвижения основной массы славян на земли русского Северо-Запада исходил с южного побережья Балтики, откуда славяне были потеснены немецкой экспансией». Эти наблюдения, обращает внимание академик, «совпали с выводами, полученными разными исследователями на материале курганных древностей, антропологии, истории древнерусских денежно-весовых систем и т. д.».
Генетическая близость населения Северо-Западной Руси и Балтийского Поморья находит дополнительное подтверждение в характере металлических, деревянных и костяных изделий, в характере домостроительства и в конструктивных особенностях (решетчатая деревянная конструкция) оборонительного вала (Старая Ладога, Новгород, Псков, Городец под Лугой), распространенных в конце I тысячелетия н. э. только в указанных регионах. На Рюриковом городище и в Ладоге открыты хлебные печи, сходные с печами городов нынешнего польского Поморья. С этим же районом связаны и втульчатые двушипные наконечники стрел (более трети из всего числа найденных), обнаруженных на городище. «Кончанская система Новгорода - добавляет А. Г. Кузьмин, - близка аналогичному территориальному делению Штеттина. Даже необычайно важную роль архиепископа Новгорода мы поймем лишь в сравнении с той ролью, которую играли жрецы в жизни балтийских славян, по крайней мере, некоторых из них».
Давнее существование самых широких связей Руси с Южной Балтикой объясняется несколькими причинами, в том числе и тем, что с VIII в. последняя представляла собой наиболее развитую часть Поморья, где процветала торговля и имелось большое число торговых городов, размерами и численностью населения поражавших воображение немцев и датчан (именно на них, к слову сказать, и взрастет Ганзейский союз, носящий, что показательно, славянское название). Проложив в VII-IX вв. морские торговые пути по Балтийскому морю и за его пределы, южнобалтийские славяне задавали тон в торговле (о чем свидетельствует заимствование скандинавами славянских слов, связанных с торговой деятельностью: «lodhia» - лодья (грузовое судно), «torg» - торг, рынок, торговая площадь, «besman» - безмен и др.[117]). И прежде всего они вели торговлю со своими восточноевропейскими сородичами, результатом чего стало открытие Балто-Волжского и Балто-Днепровского торговых путей.
И эта торговля характеризуется не только ранним временем, но и своей масштабностью: до середины IX в. основная группа кладов арабского серебра найдена на землях балтийских славян. Причем там обнаружены самые древние из них - конец VIII в., тогда как на Готланде и в Швеции эти клады датируются соответственно началом и серединой IX века. А из того факта, что начало дирхемной торговли относится к 50-м - 60-м гг. VIII в., следует, что долгое время эта торговля не затрагивала собственно шведов. Возникнув как чисто славянское явление, она лишь со временем втянула в свою орбиту какую-то часть скандинавов, преимущественно, как вытекает из показаний нумизматики, жителей островов Борнхольма и Готланда[118].
По мере втягивания шведов в балтийскую торговлю и, естественно, политические связи как с южнобалтийскими славянами (так, отцом Ингигерды, жены Ярослава Мудрого, был, сообщает Адам Бременский, шведский конунг Олав Шётконунг, а матерью Эстрид, дочь ободритского князя[119]), так и Русью, какая-то их часть появляется в ее землях. Причем время этого события довольно точно называют скандинавские саги, согласно которым шведы стали приходить на Русь лишь в конце X - начале XI вв., т. к. первый русский князь, который им известен, это Владимир Святославич. А то обстоятельство, что они не знают никого из его предшественников (Ольга фигурирует в сагах лишь по припоминаниям самих русских, а не как современница скандинавов, бывавших на Руси), имеет силу принципиально важного исторического факта[120].
О непричастности норманнов к русской истории IX - конца X вв. говорит и антропологический материал (Т.И.Алексеева, ведя речь о киевских погребениях с трупоположением X в., подчеркнула, что «оценка суммарной краниологической серии из Киева... показала разительное отличие древних киевлян от германцев»[121]), и языческий пантеон Владимира, созданный в 980 (или 978) г., т. е. тогда, когда, как уверяют сторонники норманства варягов, скандинавы «в социальных верхах численно преобладали». Сам же факт наличия в пантеоне неславянских богов (Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла, Мокоши) указывает «на широкий допуск: каждая этническая группа может молиться своим богам». Но при этом ни одному германскому или скандинавскому богу в нем места не нашлось, хотя «обычно главные боги, - правомерно подчеркивал А. Г. Кузьмин, - это боги победителей, преобладающего в политическом или культурном отношении племени»[122].
Мнение о выходе варягов из пределов Южной Балтики, где проживали славяне и ассимилированные ими народы, следовательно, мнение о южнобалтийских истоках русской государственности, подтверждает и сходство в политическом устройстве Южной Балтики и Северной Руси. Как заметил в 1876 г. И.А.Лебедев, «новгородская республика в малом виде без князя и посадника, управляемая боярами, - вот подобие лютицкого союза». В 1955 г. Я. П. Зинчук пришел к выводу, что южнобалтийские Волин, Штеттин, Колобрег, будучи крупными экономическими центрами, в XI в. превратились в феодальные республики[123].
В наше время А. Г. Кузьмин указывал, что у балтийских славян государственность сложилась в виде городов-полисов, сохранявших большую самостоятельность по отношению к княжеской власти. И прибывшие на Русь варяги привнесли сюда свой тип социально-политического устройства, «что-то вроде афинского полиса. Древнейшие города севера, включая Поволжье, управлялись примерно так же, как и города балтийских славян». Как подытоживал ученый, это в конечном счете тот же славянский тип, «основанный полностью на территориальном принципе, на вечевых традициях и совершенно не предусматривающий возможность централизации». Именно для этого типа характерна большая роль городов и торгово-ремесленного сословия, в связи с чем на Севере была создана полисная система. А высокий уровень материальной культуры и отлаженность общественного управления обеспечили преобладание переселенцев на обширных пространствах севера России, а также быструю ассимиляцию местного неславянского населения[124].
С переселением народов память о них не может полностью исчезнуть в местах их былого проживания. Выше говорилось, что следы пребывания англо-саксов на Ютландском полуострове сохранились в названии провинции Angeln земли Шлезвиг-Голштейн. Имени «русь», обращал внимание еще М.В.Ломоносов, «в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано»[125]. Этот факт признают, начиная с В.Томсена, и норманисты. Вместе с тем на южном и восточном берегах Балтийского моря существовало, согласно показаниям многочисленных иностранных и отечественных источников, несколько Русий: Любек с окрестностями, о. Рюген (Русия, Ругия, Рутения, Руйяна), район устья Немана, побережье Рижского залива (устье Западной Двины), западная часть Эстонии (Роталия-Руссия)[126].
Колонизационный поток с южного побережья Балтики на восток, вобравший в себя как славянские, так и неславянские народы (в частности, фризов), как собственно варягов, так и выходцев из балтийских Русий (отсюда, пояснял А. Г. Кузьмин, «двойное наименование переселенцев - варяги-русь»), двинулся под давлением Франкской империи в конце VIII в. (о первых попытках проникновения славян Южной Балтики в район Северо-Западной Руси говорит уникальная каменно-земляная крепость в устье Любши, в 2 км севернее Старой Ладоги, возведение которой археологи связывают с появлением здесь в конце VII - первой половине VIII вв. нового населения[127)].
Этот поток захватил собой Скандинавский полуостров (так, фельдбергская керамика известна в большом количестве вплоть до Средней Швеции, а в X в. она преобладала в Бирке[128]) и вовлек в свою орбиту какую-то ча;сть его жителей, что дополнительно объясняет неславянский налет на варяго-русских древностях. Вторая волна миграции южнобалтийских славян по Волго-Балтийскому пути датируется археологическим материалом серединой IX века[129]. Беря во внимание заключения специалистов, отметивших появление керамики южнобалтийского типа и южнобалтийских славян в ряде центров Северо-Западной Руси в X в.[130], надлежит вести речь еще о нескольких волнах их переселения на данную территорию. В целом, как констатировал в 2007 г. Академик В.Л. Янин, «наши пращуры» призвали Рюрика из пределов Южной Балтики, «откуда многие из них и сами были родом. Можно сказать, они обратились за помощью к дальним родственникам»[131].
Вывод о южнобалтийской природе варягов - это не «малоубедительная гипотеза», как говорил в советское время И. П. Шаскольский, и не «историографический казус», как говорят ныне, даже не пытаясь вникнуть в аргументацию оппонентов, Е.А.Мельникова и В.Я. Петрухин[132]. Этот вывод опирается на три, совершенно независимые друг от друга историографические традиции - русскую, западноевропейскую и арабскую, которые подкреплены огромным аутентичным материалом (археологическим, нумизматическим, антропологическим, лингвистическим). И этот вывод позволяет действительно совершенно иными глазами взглянуть на наше прошлое, теснейшим образом связанное со славянскими и славяноязычными народами Южной Балтики.
Само же многовековое заблуждение в норманстве варягов, основанное на прямых натяжках и явных фальсификациях, на которые особенно щедра современная наука, вступает в полное противоречие с ПВЛ. Выше указывалось, что согласно ее показаниям, шведы появляются на Руси лишь в конце X в., а это означает, что они не имеют никакого отношения к русской истории предшествующего времени. В недатированной части летописи содержится перечень «Афетова колена», где варяги и русь названы в качестве самостоятельных народов, не связанных ни со шведами, ни со скандинавами вообще: «варязи, свей, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии».
В 1875 г. А. А. Куник, в отличие от своих последователей хорошо понимавшии цену ПВЛ как источника, сказал, что антинорманисты «в полном праве требовать отчета, почему в этнографическо-историческом введении к русской летописи заморские предки призванных руссов названы отдельно от шведов. Немудреным ответом, что это был бы только вопрос исторического любопытства, никто, конечно, не хочет довольствоваться». Ответ же здесь только один и он заключается в том, что, как отмечал в 1970 г. А. Г. Кузьмин, «скандинавское происхождение «варягов» не может быть обосновано данными русских летописей. А это в корне подрывает и филологические построения норманистов»[133], которые являются главными в их системе доказательств.
Примечания:
92. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древне-русского летописания. - М, 1977. С. 282-284, 309-326; его же. История... С. 93, 300-301; его же. Начало Руси. С. 276; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 1. С. 650-651, 698, коммент. к с. 655; то же. Кн. 2. С. 478, 484-485; Се Повести временных лет (Лаврентьевская летопись) / Сост., авторы примеч. и указат. А.Г.Кузьмин, В.В.Фомин; вступит. статья и перевод А. Г. Кузьмина. - Арзамас, 1993. С. 35-36.
93. ЛЛ. С. 28; НПЛ. С. 106; Сахаров А.Н. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности // Сб. РИО. Т. 8 (156). С. 9.
94. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - СПб., 1908. С. 302-304,315; Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 110.
95. Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 190; Кузьмин А.Г. История... С. 88; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 681.
96. Кузьмин А.Г. История... С. 103, 120; его же. Начало Руси. С. 211.
97. Кузьмин А.Г. К вопросу о происхождении варяжской легенды // Новое о прошлом нашей страны. - М., 1967. С. 42-53; его же. Русские летописи как источник по истории Древней Руси. - Рязань, 1969. С. 64-67, 157.
98. ПСРЛ. Т. 2. - М., 1962. Стб. 14; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 29-31; его же. Об этнической природе... С. 82; его же. Заметки историка об одной лингвистической монографии // ВЯ, 1980, № 4. С. 56; его же. Падение Перуна. С. 156; его же. История... С. 92; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 27, 590.
99. ЛЛ. С. 23,119.
100. Тихомиров М.Н. Исторические труды М.В.Ломоносова // ВИ, 1962, № 5. С. 70; Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // Восточно-славянская ономастика. - М., 1972. С. 62.
101. Кузьмин А.Г. Русь в современной исторической науке // Тысячелетие крещения Руси. Международная церковно-историческая конференция. Киев, 21-28 июля 1986 года. Материалы. - М., 1988. С. 90; его же. Падение Перуна. С. 155; его же. Начало Руси. С. 207-208; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 1. С. 651-652; то же. Кн. 2. С. 26; «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков / Авт. вступ. ст. А. Г. Кузьмин; сост., авт. примеч. и указат. А.Г. Кузьмин, В.И. Вышегородцев, В.В.Фомин.- М, 1988. С. 27-28.
102. ЛЛ. С. 3-4, 15; Бурачек С.А. Указ. соч. С. 87; Савельев-Ростиславич Н.В. Указ. соч. С. 5-6, 10, 12, 25, 34, 51-52; Славянский сборник Н.В.Савельева-Ростиславича. С. LX, LXXXIX, примеч. 170; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 135-136, 142-143, 189, 193.
103. Сугорский И.Н. В туманах седой старины. К варяжскому вопросу. Англо-русская связь в давние века. - СПб., 1907. С. 29, примеч. * и примеч. **.
104. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 336-376.
105. ЛЛ. С. 31; Гельмольд. Славянская хроника. - М., 1963. С. 129, 185-186; Лебедев И.А. Последняя борьба балтийских славян против онемечения. Ч. 1. - М., 1876. С. 45, 154.
106. Гильфердинг А.Ф. История балтийских славян // Его же. Собрание сочинений. Т. 4. - СПб., 1874. С. 172, 189-190; Пер- волъф И.И. Германизация балтийских славян. - СПб., 1876. С. 12, 64; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 53; его же. Начало Руси. С. 211, 309, 338-339; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 689, примеч. к с. 605.
107. ЛЛ. С. 77; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 260-263; Фаминцын А.С. Божества древних славян. - СПб., 1995. С. 25, 29- 30, 210-211; Кузьмин А.Г. Начальные этапы... С. 350; его же. История... С. 124; его же. Начало Руси. С. 211, 213, 309, 318, 338-339, 347.
108. Лебедев Г.С. Указ. соч. С. 211-212; Петренко В.П. Раскоп на Варяжской улице (постройки и планировка) // Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования. - Л., 1985. С. 105-112; Дубов И.В. Культура Руси накануне крещении // Славяно-русские древности. Проблемы истории Северо-Запада Руси. Вып. 3. - СПб., 1995. С. 95.
109. Смирнова Т.П. К вопросу о датировке древнейшего слоя Неревского раскопа // Древняя Русь и славяне. - М., 1978. С. 166; Петренко В.П. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII-X вв. Сопки Северного Поволховья. - СПб., 1994. С. 110.
110. Miinster S. Cosmographia. Т. IV. - Basel, 1628. S. 1420; Latvakangas A. Riksgrundarna. Varjagproblemet i Sverige fran runinskrifter till enhetlig historisk tolk- ning. - Turku, 1995. S. 117.
111. Герберштейн С. Записки о Московии. - М., 1988. С. 60; Stryjkowski М. Kronika Polska, Litewska, Zmodzka i wszystkiej Rusi. - Warszawa, 1846. S. 11З; Маржеpeт Ж. Состояние Российской державы и великого княжества Московского // Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. III. - СПб., 1832. С. 16; Duret С. Thresor de l'Histoire des langues de cest Univers. - Uverdon, 1619. P. 846; BrietP. Parallela geographiae veteris et novae. T. 2. P. 1. - Parisiis, 1649. P. 229.
112. Бумаги Флорентийского центрального архива, касающиеся до России. Ч. I. - М., 1871. С. 327-328; Майерберг А. Путешествие в Московию. - М., 1874. С. 105; Praethorius М. Orbis Gothicus. - Oliva, 1688. Liber II. Caput 2. § VI. P. 17; Гeрье В.И. Лейбниц и его век. Отношения Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. - СПб., 1871. С. 102; Зерцало историческое государей Российских // Древняя Российская Вивлиофика. - СПб., 1891. С. 29.
113. Bayer G.S. Op. cit. P. 278-279; Байер Г.З. Указ. соч. С. 346.
114. HUbnerJ. Genealogische Tabellen, nebst denen darzu Gehorigen genealogischen Fragen. Bd. I. - Leipzig, 1725. S. 281. Die 112 Tab. (четвертое издание); Thomas F. Avitae Russorum atque Meklenburgensium principum propinquitatis seu consangvinitatis monstrata ac demonstrata vestica. - Anno, 1717. S. 9-14; Beer M.I. Rerum Mecleburgicarum. - Lipsiae, 1741. P. 30-35; Buchholtz S. Versuch in der Geschichte des Herzogthums Meklenburg. - Rostock, 1753. II Stammtafel.
115. MarmierX. Lettres sur le Nord. Т. I. - Paris, 1840. P. 30-31.
116. Венелин Ю.И. Известия о варягах арабских писателей и злоупотребление в истолковании оных // ЧОИДР. Кн. 4. - М., 1870. С. 10.
117. Falk H.S. Altnordisches Seewesen // Worter und Sachen. Kulturhistosche zeitschrift fiir sprachund sachforschung.
Bd. IV. - Heidelberg, 1912. S. 88-89, 94; Falk H.S., Torp A. Norwegisch-Danisches etymologisches Worterbuch. Teil 1. - Oslo-Bergen, 1960. S. 429, 652; ibid. Teil 2. - Oslo-Bergen, 1960. S. 1173,1269; Русско-шведский словарь. - M., 1948. С. 16,208; Русско-датский словарь. - М., 1968. С. 30, 454; Мельникова Е.А. Древнерусские лексические заимствования в шведском языке // ДГ. 1982 г. М., 1984. С. 68-74; Русско-норвежский словарь. - М., 1987. С. 50, 303, 488, 750.
118. См. об этом подробнее: Фомин В.В. Южнобалтийское происхождение варяжской руси // ВИ, 2004, № 8. С. 151-154; его же. Варяги и варяжская русь. С. 439-461.
119. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. / Под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезенцева. - М., 2004. С. 150.
120. Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 376-380.
121. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян. - М., 1973. С. 267; ее же. Антропологическая дифференциация славян и германцев в эпоху средневековья и отдельные вопросы этнической истории Восточной Европы // Расогенетические процессы в этнической истории. - М., 1974. С. 80-82; ее же. Славяне и германцы в свете антропологических данных // ВИ, 1974, № 3. С. 67.
122. Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 53; его же. Об этнической природе... С. 81; его же. История... С. 103, 120-121; его же. Начало Руси. С. 213, 318, 339, 347; Кудрякова Е.Б. «Варяжская проблема» и культ Бориса и Глеба // ВИ, 1980, № 4. С. 166.
123. Лебедев И.А. Указ. соч. С. 5; ЗинчукЯ.П. Борьба западных славян с наступлением немецко-датских феодалов на южное побережье Балтийского моря в X-XII вв. Автореф... дис... канд. наук. - М., 1955. С. 6, 8-9.
124. Кузьмин А.Г. История... С. 135-137; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 28-29.
125. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию... С. 408.
126. Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 1. С. 664-682; Фомин В.В. Варяги и варяжская русь. С. 100-101, 422-461.
127. У истоков Северной Руси. Новые открытия. - СПб., 2003. С. 17.
128. Ковалевский С Д. Образование классового общества и государства в Швеции. - М., 1977. С. 39; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я., Пушкина Т.А. Древнерусские влияния в культуре Скандинавии раннего средневековья (К постановке проблемы) // «История СССР», 1984, № 3. С. 52; Херманн Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скандинавы. С. 26, 32, 52, 119, 368, примеч. 39.
129. Кузьмин А.Г. История... С. 90-91.
130. Белецкий С.В. Керамика Псковской земли второй половины I - начала II тысячелетия н. э. как исторический источник (культурная стратиграфия региона). Автореф... дис... канд. наук. - М., 1979. С. 13; его же. Культурная стратиграфия Пскова (археологические данные к проблеме происхождения города) // КСИА. Вып. 160. М., 1980. С. 16; Носов Е.Н. Волховский водный путь и поселения конца I тысячелетия н. э. // То же. Вып. 164. М., 1981. С. 22-23; его же. Новгородское (Рюриково) городище. - Л., 1990. С. 133-137, 164, 166; Сениченкова Т.Б. О раннегончарной керамики из Старой Ладоги (по материалам Земляного городища и раскопа на Варяжской улице) // Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси. - СПб., 2002. С. 38-49.
131. Бабиченко Д. Фундамент империи // Итоги. 2007. № 38 (588). С. 24; Максимов Н., Кравченко С., Кузнец Д. Операция «чистые Рюрики» // «Русский Newsweek», 2007, № 52-2008. № 2 (176). С. 58.
132. Шаскольский И.П. "Скандинавский сборник". V, VI, VII // ВИ, 1964, N11, С.127; его же. Норманская теория в современной буржуазной науке. С. 195-196; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Скандинавы на Руси и в Византии...С.56
133. ЛЛ. С. 4; Дополнения А.А. Куника. С. 452; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь»... С. 33.
Глава пятая. Зачем историку нужно знать историографию?
Варяго-русский (варяжский) вопрос по причине своей нерасторжимой связи с процессами, приведшими к образованию первого в истории восточных славян государства, находится в центре самого пристального внимания сторонников разных взглядов на этнос варягов и варяжской руси, традиционно именуемых норманистами и антинорманистами, накопивших богатейший материал, позволяющий прийти к конкретным выводам. Но тому мешают многие факторы - политика, эмоции, историографические, источниковедческие и исторические стереотипы, весьма вольное обращение с источниками, прежде всего летописями, оперирование аргументами, от которых наука отказалась еще в позапрошлом столетии. Преодолеть названные серьезные препятствия можно, но при одном лишь только условии, четко выраженном в 1931 г. норманистом В. А. Мошиным: «Но, конечно, главным условием на право исследования вопроса о начале русского государства должно быть знакомство со всем тем, что уже сделано в этой области»[134].
Особенная актуальность этой простейшей истины видна при обращении к истокам норманской теории, на протяжении нескольких веков ошибочно трактуемым (в том числе и в плане их мотиваций) в отечественной и зарубежной науке, что отрицательно сказывается на разрешении самой проблемы этноса варягов (варяжской руси), ибо ложная посылка неизбежно порождает ложные заключения. И совершенно в ином свете выглядят многие стороны варяго-русского вопроса, если смотреть на него и на историю его разработки через призму того факта, что истинными родоначальниками норманской теории являются шведские историки XVII века. С ними же связаны и первые попытки (с определенными, конечно, оговорками) историографических обзоров по варяго-русскому вопросу. Так, в 1614-1615 гг. П. Петрей опротестовал мнения безымянных «многих», которые полагают, будто «варяги были родом из Энгерна (Engern), в Саксонии, или из Вагерланда (Wagerland), в Голштинии». О. Рудбек в 1698 г. в труде «Атлантика» привел заключения немца С. Герберштейна, уроженца Померании П. Одерборна и итальянца А. Гваньини (сочинения которых вышли соответственно в 1549,1585,1600 гг.), указывающих в качестве местожительства варягов Южную Балтику[135].
С перенесением центра изучения варяжского вопроса из Западной Европы в Россию главные исследования по этой теме создаются теперь в ее пределах, в связи с чем основные историографические обзоры также выходят из-под пера российских ученых. На протяжении длительного времени они таковыми в полной мере, конечно, не были и представляли собой небольшие справки и очень краткие характеристики, причем весьма ценные по своей сути, но, к сожалению, обойденные вниманием в науке. А этот факт требует обращения прежде всего к ним, в целом ко всем публикациям дореволюционной эпохи, в той или иной степени касающимся истории изучения данной проблемы и содержащим важные мысли, без усвоения которых невозможно достичь позитивных результатов в ее разработке.
В 1732 г. Г.Ф.Миллер в пояснении к издаваемым им в «Sammlung russischer Geschichte» извлечений из списка Радзивиловской летописи, содержащей ПВЛ, не принял точку зрения, не назвав ее сторонников, что имя «варяг» происходит от древнеготского Warg (волк)[136]. В статье «De Varagis» («О варягах»), опубликованной в 1735 г., Г. 3. Байер отверг сообщения П. Одерборна и прусского историка М. Претория (1688 г.) о выходе варягов из Пруссии, объявил несостоятельными вывод С. Герберштейна, утверждая, что «имел он сходство имяни, дело весьма легкое, токмо бы оное крепкими доводами утверждено было», и его единоплеменников Б. Латома и Ф. Хемница о славянской Вагрии на Южной Балтике как родине варягов.
Говоря без каких-либо уточнений, что «сказывают же, что варяги у руских писателей были из Скандинавии и Дании», шведское происхождение варягов Байер доказывал ссылками на шведских авторов XVI-XVII вв. Ю. Магнуса, О. Верелия, О. Рудбека, а скальда Снорри Стурлусона (XIII в.) наделил титулом самого «достойнейшаго и справедливейшаго» из всех сочинителей вообще. Не найдя имя варягов в скандинавской истории и заключив, что оно «более есть поетическое», ученый рассмотрел этимологические опыты Верелия и Рудбека, полагавших/что слово «варяг» на скандинавском языке означает «разбойник», немца Г.В.Лейбница, в начале XVIII в. согласившегося с ними, и шведа А. Моллера, в труде «De Varegia» (1731 г.) объяснявшего его из языка эстов и финнов, как «вор» и «грабитель»[137].
В.Н.Татищев, ведя в «Истории Российской с самых древнейших времен» речь о выходе варягов из Финляндии, отрицал иные мнения на сей счет: С. Герберштейна, поляка М. Стрыйковского (1582 г.), француза К.Дюре (1613 г. )о Вагрии, русских летописей о Пруссии, шведских авторов о Швеции. Историк, очень высоко ставя труды Байера, которые ему, по его же собственному признанию, «многое неизвестное открыли», в тоже время указал на ярко выраженную тенденциозность этого немецкого ученого, ибо «он же со избытком ко умножению пруских, а уничижению руских древних владеней пристрастным себя показал», и что «пристрастное доброхотство Беерово к отечеству» привело его к «неправым» натяжкам.
Другую причину его ошибок Татищев видел в том, что «ему руского языка, следственно руской истории, недоставало», т. к. он не читал летописи, «а что ему переводили, то неполно и неправо», поэтому, «хотя в древностях иностранных весьма был сведом, но в руских много погрешал» (недоставало ему, как при этом было еще подчеркнуто, и «географии разных времен»), Татищев также заметил, что заключение Байера о скандинавской природе имен «Святослава, Владимира и пр. неправо», а на его слова, что письменность на Руси появилась лишь в связи с ее крещением, твердо ответил, указав на причину данного заблуждения: «Ложь от неведения, якобы в Руси письма до Владимира не было»[138].
В 1749 г. Г.Ф.Миллер в диссертации-речи «О происхождении имени и народа российского» («De origine gentis russicae») отвергал уже не только производство термина «варяги» от скандинавского варг-волк, но и «от чухонскаго и естляндскаго» вараг-вор, от южнобалтийских вагров, а также широко распространенный тогда вывод «о происхождении россиян от роксолан». Принимая произвольную интерпретацию Байером летописных имен как скандинавские, Миллер вместе с тем обратил внимание на его ошибки лингвистического свойства и причину их возникновения: он, утверждаясь «токмо на малом имян сходстве, которое в таком деле за доказательство принять не прилично», «Кия почел за готфскаго царя Книву» и «рассуждает, взирая на одно сходство имян (Полоцка и половцы. - В. Ф.), что половцы бывший в России народ, которой в XII веке после рождества Христова жил в степях между Доном и Днепром, в сих странах имел свое жилище».
А по поводу суждения шведа О. Рудбека о Ладоге Миллер сказал, что он «погрешил... полагавши Алдейгиабург у реки Волхова близ Ладожскаго озера, а для утверждения того назвал он сие озеро Алдеск, будто между именами Алдейгиабург и Алдеск имеется какое сходство. Байер, последуя может быть сему Рудбекову мнению, почел без основания старую Ладогу, город нами довольно известной, за Алдейгабург, утверждаясь на российских летописцах, по которым Ладога была первая столица великих князей российских»[139].
При обсуждении в 1749-1750 гг. диссертации Миллера М.В.Ломоносов указал на его несколько непростительных для историка, занимающегося русскими древностями, ошибок, перечеркивающих выводы любого исследования: на тенденциозность в отборе источников (только иностранные, причем они произвольно объявляются либо достоверными, либо недостоверными), на абсолютизацию исландских саг (этих «нелепых сказок о богатырях и колдунах», в связи с чем весьма странно, «что славнейший автор, признавший лживость этих рассказов, тем не менее рассматривает их как истинные», при этом демонстрируя «презрение российских писателей, как преподобного Нестора»), на незнание им русского языка и русских памятников, на его «пристрастие к своим неосновательным догадкам, полагая за основание оных такие вымыслы, которые чуть могут кому во сне привидеться».
Ломоносов также отметил, что оппонент допускает, под воздействием своих норманистских взглядов, элементарный лингвистический произвол (искушение которым Миллер все же не избежал, хотя совершенно справедливо критиковал за него Байера): ибо «толкует имен сходства в согласие своему мнению». Так, «весьма смешна, - указывал историк, - перемена города Изборска на Иссабург». А в отношении его утверждения, которому он так и остался верен до конца своей жизни, что название г. Холмогор произошло «от Голмгардии», Ломоносов разъяснил ему совершенно прозрачную этимологию этого слова: «Имя Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его лежат холмы, а на матерой земли горы, по которым и деревни близ оного называются, напр., Матигоры, Верхние и Нижние, Каскова Гора, Загорье и проч.».
Возражая Миллеру, Ломоносов справедливо подчеркнул, что если бы русь была скандинавской, то «должен бы российский язык иметь в себе великое множество слов скандинавских», и была бы учинена «знатная в славенском языке перемена» (татары, проводил он уместную параллель, «хотя никогда в россииских городах столицы не имели... но токмо посылали баскак или сборщиков, однако и поныне имеем мы в своем языке великое множество слов татарских»). Говоря в целом, что Миллер стремится «покрыть истину мраком», ученый заключил: многое в «дурной» и «вздорной» диссертации, служа «только к славе скандинавцев или шведов... к изъяснению нашей истории почти ничего не служит» (т.е. фактически не имеет никакого отношения к русской истории), в связи с чем надо «опустить историю скандинавов в России» (окончательный его приговор, совпавший с мнением других академиков, хорошо известен: «Оной диссертации никоим образом в свет выпустить не надлежит», ибо она может составить «бесславие» Академии).
Ведя речь о «превеликих и смешных погрешностях» Байера, Ломоносов абсолютно правомерно заострил особое внимание на той из них, на котором и поныне держится норманская теория, - на его «лингвистических» аргументах и на способах их элементарного «создания»: он, «последуя своей фантазии имена великих князей российских перевертывал весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы из них сделать имена скандинавские; так что из Владимира вышел у него Валдамар, Валтмар и Валмар, из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур и проч.». Возражая Ломоносову, Миллер отмечал «божественный талант и редчайшую ученость» Байера, за которые его любили «первые лица в церкви и в государстве» (тогда же он поведал, каким «научным» путем Байер пришел к выводу о неславянской природе «русских» названий днепровских порогов: «не зная ничего по-славянски», он воспользовался объяснением «одного астраханского приятеля, весьма в славянском языке ученого», видимо, В.К.Тредиаковского и пастора Богемской церкви).
В ходе дискуссии Ломоносов установил теснейшую связь между воззрениями этих ученых: доводы Миллера «у Бейера занятые». А в 1761 г. он следующим образом охарактеризовал их труды: «Миллер в помянутую заклятую диссертацию все выкрал из Бейера; и ту ложь, что за много лет напечатана в «Комментариях», хотел возобновить в ученом свете». В 1764 г. Ломоносов объяснил причину фиаско автора диссертации тем, что он «избрал материю, весьма для него трудную, - о имени и начале российского народа», по причине чего академики у него «тотчас усмотрели немало неисправностей и сверх того несколько насмешливых выражений в рассуждении российского народа»[140] (на более чем серьезные ошибки Миллера одновременно с Ломоносовым и независимо от него указали, тем самым зафиксировав предельно низкии уровень предложенного для прочтения на торжественном заседании Академии наук сочинения, И.Э.Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, причем последний так же, как и Ломоносов, констатировал факт чрезмерной абсолютизации Миллером свидетельств северных авторов[141]. Не увидел в диссертации никакого «предосуждения России» лишь В.К.Тредиаковский, что объясняется, как подмечено в литературе, его «недружбой» с Ломоносовым[142]).
В 1758 г. В.К.Тредиаковский в «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских», наряду с мнениями С. Герберштейна, югослава М. Орбини (1601 г.), М. Претория, Б. Латома и Ф. Хемница, придерживающихся южнобалтийской версии происхождения варягов, привел заключения француза Ф.Брие, связавшего в 1649 г. Рюрика с Данией, Г. 3. Байера, шведов О. Рудбека и Г. Валлина (1743 г.), выводивших его из Скандинавии. На этот раз Тредиаковский резюмировал, ведя речь о диссертации Миллера, что она, «освидетельствованная всеми членами академическими нашлась, что как исполнена неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге». Важно также подчеркнуть, что ученый, увидев чем грозит науке подмена свидетельств исторических источников лингвистическими домыслами, довел последние до совершенного абсурда, специально высмеивая и тем самым дискредитируя эту широко распространенную ложную практику[143].
В 1761 г. Миллер в «Кратком известии о начале Новагорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших онаго города случаях» заметил в адрес шведа О. Далина, перу которого принадлежит многотомный труд «История шведского государства» (40-е гг. XVIII в., вскоре был переиздан в Германии), что он был неправ, «когда немалую часть российской истории внес в шведскую свою историю» (во время дискуссии 1749-1750 гг. ученый, следует сказать, был очень высокого мнения об этом произведении)[144]. На нелепые «погрешности» Байера было указано в 1767 г. издателями Кенигсбергского списка: приняв в какой-то летописи слово «ковгородци» «за наименование народа, начал искать онаго в истории. По многим догадкам попал он на Кабарду, а того не рассудил, что писец ошибся и что надлежит читать новгородци»[145].
В 1764 г. в своем плане работы над русской историей А. Л. Шлецер, обязуясь начать «сокращение исторических сочинений покойнаго Татищева на немецком языке», отметил: «Отец русской истории заслуживает того, чтобы ему отдали эту справедливость; и правила методы требуют такого сокращения. Нужно иметь связную систему прежде, чем желать усовершенствовать ея части». На следующий год он предложил И.И.Тауберту издать «Историю Российскую» ученого, при этом подчеркнув, в какой-то мере предвидя то, мягко сказать, недоброжелательство, какое будут демонстрировать по отношению к нему его же соотечественники, что Татищев - «отец русской истории, и мир должен знать, что русский, а не немец явился первым творцом полного курса русской истории»[146].
В 1767 г. Ф.Эмин, в «Российской истории» во многом дискутируя с М.В.Ломоносовым, признал, что он «лучше и основательнее описал нашу древность, нежели многие чужестранные историки», а также заключил, что мнения норманистов «не имеют никаких доказательств», ибо никто из древних авторов не причислял варягов к шведам. При этом он очень тонко спародировал A. Л. Шлецера, старавшегося вывести многие русские слова из германских языков (что должно было, по его замыслу, лишний раз подтвердить правоту норманской теории), заметив, что сходство слов Knecht и князь равно тому, если немецкое Konig, «у вестфальцев произносимое коиюнг», сопоставить с русским «конюх»[147].
В 1768 г. Шлецер в книге «Probe russischer Annalen» («Опыт анализа русских летописей»), оставшейся, что не позволяло воспользоваться всем наследием историка в варяго-русском вопросе, незнакомой большинству ученых России, значительное внимание уделил критике прошлой и современной ему историографии русской истории. И, характеризуя большую часть ее представителей как «фантазеров» и «высокомерных невежд», которые «дерзко блуждают... в сумрачных дебрях по ту сторону летописей» («фантазируйте, придумывайте, мечтайте, пишите романы, но и называйте это романами! Имя Истории свято - не оскверняйте его!»), заключил, что еще «не существует русской истории».
С особенной силой эта критика звучала в адрес шведов и в первую очередь О. Рудбека, выводы которого называются «снами» и «галлюцинациями», а их автор «шутником», «начитанным дикарем» (в полной мере досталось и другим: что «в попытке выяснить происхождение финской нации и языка шведский граф Бонде переплюнул даже Рудбека» и что книга Ф. И. Страленберга «История северной и восточной части Европы и Азии», вышедшая в 1730 г. в Германии и переведенная на английский, французский и испанский языки, «совершенно убогая и невероятно неправдоподобная, привнесла в историю России огромное количество ошибок, неточностей и бессмысленных утверждений, которые не исправить за долгие годы, и стала классической в Германии, Франции и Англии»).
Ведя речь о накале фантастических представлений шведского общества о собственном прошлом даже в середине просвещенного XVIII в., ученый пояснил, что когда О. Далии «позволил себе усомниться в утверждении своих предшественников, что уже Гомер и Орфей воспевали шведов, то группа священников пришла 12 ноября 1747 г. в риксдаг, выразив недовольствие новшествами Далина и предложив среди прочего исправить его книгу. На роль корректора предлагался г-н Гиоранссон, чья шведская история... начинается с 1951 года от сотворения мира». Шлецер, сказав об «усилиях», которые прилагал Далин, чтобы вписать историю Руси в «Историю шведского государства», отметил, что ни он, ни его соотечественники, утверждая о шведской природе варягов, не приводят тому доказательств. И, конечно, достойно внимания его мнение о «двойном заблуждении», которое привело к такому заключению Далина и с которого, как уже говорилось, началась норманская теория: «Сначала он предположил, что варяги были шведами, а затем, исходя из этого, посчитал, что Русь в ту эпоху да и потом еще долгое время находилась под господством Швеции. Вот так логика!».
Констатируя, что слово «варяг» «давно стало крестом для исследователей древней истории северных народов» и что «Моллер, Байер, Скарин и Биорнер написали подробные, полные учености труды об одном и том же», резюмировал: «Недоказуемым остается, что варяги Нестора были именно шведами» (по словам Шлецера, только Ире «удачно проследил этимологию слова «варяг»... согласно ему оно является буквальным переводом слова «Foederati»). Рассуждая на тему происхождения названия русского народа, он заметил как по поводу известной тенденциозности, так и по поводу того, чему она так кардинально противоречит: «Те, кто считает Рюрика шведом, находят этот народ без особых трудностей. Ruotzi, - говорят они, именно так и сегодня называется Швеция на финском языке, а швед - Ruotzalainen: лишь слепой не увидит здесь русских! И только Нестор четко отличает русских от шведов. Более того, у нас есть много средневековых известий о шведах, а также тщательно составленный список всех их названий: ни одно из них не указывает, что когда-то какой-либо народ называл шведов русскими. Почему финны называют их Ruotzi, я, честно признаться, не знаю».
Говоря так, Шлецер специально подчеркнул один принципиально важный момент, который затем независимо от него будут подчеркивать другие специалисты: «...Мне кажется невероятным, что целый народ заимствовал для собственного обозначения иностранное название другого народа, только потому, что его князья принадлежали к последнему» (отрицая также мысль, что русские - это роксоланы, он связал их с югом Восточной Европы и сблизил с румынами, хазарами, болгарами, аланами и лезгинами, поясняя при этом, что русские не «были ни славянами, ни готами» и что греки «называли их скифами, таврами, тавро-скифами»).
Труды Байера, заключал Шлецер, делают «ему чести больше, чем самой Академии», и которые могли бы использоваться «новыми авторами российской истории в большем объеме, чем это происходит сейчас». Но вместе с тем было указано, что «русский язык он понимал не достаточно хорошо и потому не допускал даже идеи написания критики русских источников!» и что «собранные без проверки и осмотрительности фрагменты (русских летописей. - В.Ф.) он понимал и переводил часто неверно».
Еще неизданная «История» Татищева, на взгляд Шлецера, сослужит «хорошую службу тем, кто довольствуется лишь общими знаниями о древней русской истории. Однако добросовестному, критичному или, как еще говорят, педантичному историку, который не принимает на веру ни одной строчки и к каждому слову требует свидетельств и доказательств, от нее нет никакого проку. Татищев собрал все известия в одну кучу, не сообщив, из какого манускрипта взято то или иное известие» (к тому же «иностранные источники, очень ценные для исследователя русской истории, у него отсутствуют полностью»). По словам Шлецера, которые проливают для непредвзятого исследователя достаточно света на проблему научной состоятельности как диссертации Миллера, так и ее критики оппонентами, в первую очередь Ломоносовым, «Миллер поначалу также посвятил себя древней российской истории, как следует из объявления, где он в 1732 году анонсирует выход Saml. Russ. Gesch. Однако, как известно, затем последовало его десятилетнее путешествие по Сибири, вернувшись из которого он занялся другими темами».
Давая оценки наблюдениям Татищева и Миллера над летописями, историк больше склонялся к признанию заслуг в этой области именно последнего (но при этом говоря в адрес изданного им на немецком языке в «Sammlung russischer Geschichte» отрывка из Радзивиловской летописи, что, «к несчастью, он кишел ошибками и получился плохим и столь же непригодным для исторической науки, как труды Герберштейна и Петрея»), Говоря о современных западноевропейских ученых, продолжавших засорять науку многочисленными «лингвистическими открытиями», Шлецер с возмущением указал на причину их ошибок и на последствия этих ошибок: «Неужто даже после всей той разрухи, которую рудбекианизм учинил, пройдясь по древним векам, они все еще не устали творить из этимологий историю, а на простом, может быть, случайном совпадении слов выстраивать целые теории?». Независимо от Ломоносова он четко определил свое отношение как к русским летописям, именуя их «бесценными сокровищами», так и к сагам, называя их «исландскими» сказками. «Чем больше я о них узнаю, - откровенно делился Шлецер своими мыслями, - тем вернее кажутся суждения Лейбница о пресловутых сагах, высказанные им неоднократно», и что «с каждым днем они (кроме Снорри) становятся все подозрительнее»[148].
В 1773 г. в работе «О народах издревле в России обитавших» Миллер, вновь говоря, что Далин «употребил в свою пользу епоху варяжскую, дабы тем блистательнее учинить шведскую историю, чего, однако, оная не требует, и что историк всегда не кстати делает, если он повести своей не основывает на точной истине и неоспоримых доказательствах», резюмировал, что его выводы основываются «на одних только вымыслах, или скромнее сказать, на одних только недоказанных догадках». Тогда же он озвучил суждение «некоторых ученых шведов», считавших, что имя «варяг» произошло «от воровства и грабительства мореходов», от того, что «их называли варгурами», т. е. «волками». Выразил Миллер основательные сомнения по поводу «произвождения варяг от варингар, древнего шведского слова, которым означали военных людей, собственно особу княжескую охранявшую» (напомнив, что от этого, как считали Г. 3. Байер и швед Ю. Ире, произошли варанги при византийских императорах). В отношении способа шведа Рудбека, с помощью которого повелось так легко «открывается» скандинавское в русской истории, исследователь многозначительно заметил, что тот «умел тотчас сделать» из Ладоги Алдогу, после чего и Аллдейгаборг.
И если в ходе полемики по поводу своей диссертации Миллер категорично возражал Ломоносову: «Неверно, что варяги жили у устья реки Немана», и решительно оспаривал его мнение, что варягами «назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря», то сейчас уже сам вел речь о варяжской руси на Южной Балтике, а именно в «Пруссии около Вислы на морском берегу» (варяги жили, полагал Ломоносов, «между реками Вислою и Двиною»), и убеждал, что под варягами следует разуметь мореплавателей, воинов, которые «могли состоять из всех северных народов и из каждого состояния людей» (в диссертации и в ходе ее обсуждения он настаивал, что первые варяги «отчасти были датчане, отчасти норвежцы и редко из шведов»). И вместе с тем подчеркивал, а на этих фактах почти четверть века тому назад также заострял внимание Ломоносов, что «россы были и прежде Рурика» и что имя россов не было в середине IX в. «известно в Швеции» (хотя в диссертации Миллер признавал, что в Скандинавии не находим «никаких» имени «русь» «следов», но затем, дискутируя в 1749 г. с Н.И. Поповым, утверждал, что тот «обманывается», отрицая существование в Скандинавии народа русь).
Показательно, что Миллер, приняв к 1773 г. ряд принципиальных положений Ломоносова, не преминул сказать в адрес покойного оппонента, что в истории «не оказал он себя искусным и верным повествователем» (а его доказательства существования Неманской Руси назвал «ничтожными»). Этим словам, а также произнесенным им еще во время дискуссии, что его диссертация отвергнута «вследствие несправедливых нареканий с его (Ломоносова. - В.Ф.) стороны и со стороны его союзников» и что его оппонент «хочет, чтобы писали только о том, что имеет отношение к славе», была уготовлена - с помощью А. Л. Шлецера - практически всеобщая поддержка в отечественной и зарубежной историографии.
Байер, не сомневался Миллер, «привел любителей российской истории на истинной путь к почитанию варяг за народ от готфов происходящий, объясняя древним северным языком варяжские имена в летописех российских упоминаемые». И вслед за ним и его же словами категорично отверг южнобалтийскую версию происхождения варягов: Герберштейн «обманулся в сходстве имен вагриев с варягами и почел сих жителей оной земли. Столь же бесполезно старались и мекленбургские писатели о положении происшествия Рурикова от князей оботритских». В отношении суждения о финском происхождении варягов, выдвинутого Татищевым, Миллер высказался следующим образом: и как это он, трудясь над историей тридцать лет, столь много работая с летописями, основательно зная немецкий язык, читая в переводе античных авторов, «и, наконец, в силе разума неоскудевший, мог прилепиться к мнению для сограждан его столь оскорбительному»[149] (такого рода заключения, характерные для стиля XVIII в., давали, надлежит сказать, и в адрес его собственной диссертации, но в них норманисты видят исключительно лишь патриотическую подоплеку).
В части 1725-1733 гг. «Истории императорской Академии наук в Санкт-Петербурге», принадлежащей руке Миллера (над ней он работал в 1775— 1783 гг.) и изданной на русском языке в 2006 г., дана очень высокая оценка знаниям и творчеству Байера, в том числе в сфере русской истории («Прошу меня простить, если перед эти человеком, по отношению к которому никакие похвалы не будут достойны, мое восхищение... выступает ярче, чем перед другими»). Но вместе с тем Миллер отметил, «чтобы успешно работать в области русской истории, ему недоставало только знания русского языка... В последнее время его упрекали в ошибках, в которых на самом деле были повинны только его переводчики. Достойно при этом удивления, что именно тот из них, кто ему подсунул необоснованные этимологии и объяснения [русских] имен, наиболее энергично затем стал опровергать эти этимологии». На рубеже 1780-1790-х гг. И.Н. Болтин, отстаивая финскую теорию происхождения варягов, говорил в критических примечаниях на «Историю» М.М. Щербатова: «Некоторые невежи мнят быти Рурика из Вандалии, другие из Прусии, а иные из Италии, и от поколения цесарей римских род его выводят, что и Макарий митрополит, без всякаго основания за истину приняв, в летопись свою внес; но все оныя сказания суть басни достойныя ума тогдашних времен, и невместность их Татищев... дельными доводами доказал». Охарактеризовав мысль Щербатова, считавшего варяжских князей немцами (а их выводили «из немец» поздние летописи) и утверждавшего, что их имена немецкие, «уродливой догадкой» («никому до ныне не приходило в голову назвати варяг немцами, о коих в тогдашнее время в здешней стороне и слуху не было»), по поводу же отнесения Г. 3. Байером летописных имен к шведским, норвежским и датским сказал, что «доводы его на сие так ясны, что никакого сумнения иметь не дозволяют»[150].
В 1802 г. в прусском Геттингене были изданы мемуары и «Нестор» А. Л. Шлецера, оказавшие огромное воздействие на российскую и зарубежную историческую и историографическую мысль. И в которых автор, излагая свой взгляд на варяго-русский вопрос, во многом отличающийся от того, что содержится в «Опыте анализа русских летописей», дает оценки предшественникам и современникам. Причем следует заметить, в «Несторе» он это делает как по ходу изложения материала, так и в специальных разделах своего труда: в «Отделении V» «Введения» и в «Прибавлении I». А глава XIX имеет «Дополнение», содержащее пересказ основных доказательств норманства варягов из книги шведа Ю.Тунманна «Untersuchungen iiber die Geschichte der ostlichen europaischen Volker. Theil 1» (Leipzig, 1774).
И Шлецер более чем критически отнесся к творчеству своих коллег (при этом очень много рассуждая об исключительности собственной деятельности на ниве русской истории, об исключительности своей личности вообще по сравнению с кем бы то ни было). Прежде всего он очень грубо отозвался о русских исследователях, обращавшихся к варяжской теме. По его оценке, они есть «монахи, писаря, люди без всяких научных сведений» (да к тому же якобы незнавшие иностранные языки[151]), что среди них «нет ни одного ученого историка», по причине чего, а также из-за «худо понимаемой любви к отечеству», подавляющей «всякое критическое и беспристрастное обрабатывание истории», они отвергали норманство варягов (что «ни один русский до сих пор не мог или не хотел сего понять») и что они вообще очень мало сделали в области изучения своей истории.
Шлецер, презрительно именуя в немецком издании «Нестора» Татищева «писарем» - Schreiber - и говоря о том, что «нельзя сказать, чтобы его труд был бесполезен... хотя он и совершенно был неучен», и полагая, что история России начинается лишь «от пришествия Рурика и основания русского царства», в его размышлениях о прошлом Восточной Европы до IX в., которые наш замечательный историк ценил более всего, увидел лишь «бестолковую смесь сарматов, скифов, амазонок, вандалов и т.д.» или, как еще выразился, «татищевские бредни». (Ему «было невыносимо, - в сердцах восклицал суровый критик, - что история России так молода и должна начинаться с Рюрика в IX столетии. Он хотел подняться выше!». Стоит напомнить, что будучи в России, Шлецер отзывался о Татищеве совершенно иначе, а в 1768 г. глядел на начало русской истории по сути его глазами: «Русские летописцы ведут свое повествование с основания монархии, но история России берет свое начало задолго до этого момента. Летописцам мало известно о народах, населявших территорию России до славян».)
Но в первую очередь он отказал в праве считаться историком Ломоносову, охарактеризовав его «совершенным невеждой во всем, что называется историческою наукою», человеком, «даже по имени» не знавшим исторической критики и «вовсе» не имевшим понятия об «ученом историке», в целом нарисовав отталкивающий портрет Ломоносова, как человека и как ученого (в своем неприятии выдающегося деятеля нашей науки, своими открытиями еще при жизни обессмертившего свое имя, Шлецер дошел до слов, что он и в других науках «остался посредственностью» и что противился изданию ПВЛ и «Истории Российской» Татищева, т. к. хотел напечатать свой «Краткий Российский летописец»). Стремясь окончательно вывести Ломоносова за рамки исторической науки и благодаря тому расчистить в ней место для норманской теории, Шлецер навесил на него, как и на всех русских антинорманистов, ярлык национал-патриота, который с тех пор является самым главным «аргументом» в разговоре норманистов с оппонентами.
Диссертация Миллера, уверял он, «была истреблена по наущению Ломоносова, потому что в то время было озлобление против Швеции», что «русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских», при этом твердо убежденный в том, что никто из них не должен заниматься русской историей. Дополнительно при этом говоря, что именно Ломоносов «донес Двору» об оскорбляющей «чести государства» диссертации Миллера (это чудовищное обвинение, выставлявшее русского гения в совершенно неприглядном виде, опровергли в XIX в. С.М.Соловьев, П.С Билярский, П. П. Пекарский[152]) и что в ходе дискуссии тот был подавлен и запуган «неслыханными придирками и интригами».
Возражение Ломоносова против выхода Рюрика из Швеции, изложенное в «Древней Российской истории», что если бы этот факт был в действительности, то «нормандские писатели конечно бы сего знатного случая не пропустили в историях для чести своего народа, у которых оный век, когда Рурик призван, с довольными обстоятельствами описан», Шлецер снимал, как ему казалось, ответными вопросами: «Но был ли тогда у шведов и датчан хотя один писатель из IX и X стол.? Как долго не знали они, какое счастие составил себе в Нормандии земляк их, морской разбойник Рольф?».
Труд Эмина, заключал Шлецер, «не достоин никакой критики... Невежество и бесстыдство сочинителя превосходит всякое вероятие и делает стыд как своему времени, так и руской словесности», и что «академия обесславила себя», напечатав его труд (он ссылается на книги, «которых нет на свете», «Нестора заставляет говорить» нелепости и т. д.). Первые две части сочинения Щербатова, вышедшие на немецком языке в 1779 г, «по большей части употреблены в макулатуру», что князь и Эмин «часто ссылаются на Хилкова, как на такого летописателя, которые свои известия брал из источников», что «как мал для нашего ученого исторического века» Тредиаковский, «наполненный скифами и сарматами, Рошем и Мосохом, Гогом и Магогом и пр.» и доверяющий Синопсису.
Из числа русских историков автор выделяет только Болтина, который «осмеливается отвергать бредни, бывшие священными для всех его предшественников», «побуждает к сличению летописей» и заслуженно критикует невероятные ошибки Щербатова. Но и он не «мог иметь многотрудную историческую критику, познание в ученых языках и в новейшей иностранной словесности» по причине чего отстаивал «два главных заблуждения», вошедшие в книги других ученых: «ложную» Иоакимовскую летопись считал истинной и Варяжское море русских летописей «выдал» за Ладожское озеро (эти, по оценке Шлецера, «заблуждения» шли вразрез с его норманистскими воззрениями, а последнее мнение рушило «изобретенный» им аргумент, которым, как ни странно, и сегодня оперируют норманисты: варяги «пришли из заморья, так говорится во всех списках; следственно, из противолежащей Скандинавии»), Справедливо обратил внимание Шлецер на противоречие в утверждениях Болтина: отказывая Рюрику в скандинавском происхождении, он при этом «совершенно соглашается с Байером, что имена: Рурик и пр. неоспоримо суть скандинавские».
Вместе с тем Шлецер весьма низко оценил и достижения Байера и Миллера в области разработки варяжского вопроса. Так, именуя Байера «величайшим литератором и историком своего века», первым точно объяснившим, кто такие варяги, и отыскивавшим русскую историю в византийских памятниках, превознося его как «критика первого разряда» и «великого знатока языков», Шлецер вслед за Татищевым указал на незнание им русского языка (подчеркнув при этом, что за двенадцать лет пребывания в России «по-русски он никогда не хотел учиться»), по причине чего русскую историю трактовал не по русским источникам, а только по византийским и скандинавским. И как категорично подводил черту исследователь, Байер, всегда зависевший «от неискусных переводчиков» летописи, наделал «важные» и «бесчисленные ошибки», в связи с чем у него «нечему учиться российской истории» (одновременно с тем говоря, что русские ученые «все еще выдают варягов за славян, пруссов или финнов, что однакоже 60 лет тому назад Байер так опроверг, что никто, могущий понять ученое историческое доказательство, не будет более в том сомневаться»).
Отметив неподготовленность Миллера к занятию историей России (ибо ему «недоставало знания классических литератур и искусной критики», а пребывание в России стерло «все дочиста» из того, что он приобрел в гимназии и что он на тридцать лет «отстал от немецкой литературы»), во многих положениях его диссертации Шлецер, как и когда-то Ломоносов, увидел «глупости» и «глупые выдумки». Но после обсуждения диссертации, говорит затем Шлецер, «попалось ему одно место в дурном и по большей части непонятном географе Равенском, который роксоланов переселил на Вислу... почему и взял он новое мнение о варягах, сходное с ломоносовским», которого придерживался в дальнейшем.
Шлецер также констатировал, что Миллер при издании ПВЛ на немецком языке в 1732 г. в «Sammlung russischer Geschichte» допустил «небольшую ошибку», которую тридцать лет повторяли затем иностранцы, назвав ее автора не монахом Нестором, а игуменом Феодосием, и что через двадцать лет он объявил «дурным весь перевод», тем самым «лишив» его значения. Мысль работавшего в России немецкого экономиста А. К. Шторха, которую тот высказал в 1800 г. в «Историческом и статистическом изображении русского государства», что до Рюрика у восточных славян существовала торговля, вызвала неподдельное возмущение Шлецера, крайне резко относившегося ко всему тому, что вступало в противоречие с его собственными взглядами. «Каким образом, - беспощадно бичевал он Шторха, сделав при этом весьма показательную оговорку, - ученый человек, сведущий в немецкой словесности... мог попасть не токмо на ненаучную, но и уродливую мысль о древней России (которая, конечно, бы опровергла все, что до сих пор о ней думали)».
Назвал Шлецер и имена шведских историков Ю. Видекинда, О. Верелия, О. Рудбека, А. Моллера, А. Скарина, до Байера решавших варяжский вопрос в пользу норманнов (при этом подчеркивая, что Моллер и Скарин «рассказывают слишком странные вещи о древней Руси, которая известна им только по Герберштейну, Петрею и Страленбергу»), говорил о «бесчисленных ошибках» П. Петрея, а Ф.И. Страленберга охарактеризовал как «полуученого мечтателя», «хвастуна и невежду». К «смешным глупостям» писавших о России иностранцев Шлецер отнес, как сам же его назвал, «роман» Далина, в котором начальная история Руси «переделана навыворот» (выворочена «наизнанку»), что в нем история русских князей после Рюрика «приклеена к шведской истории» и что он всегда считает Россию «только за часть шведского государства» (да к тому же еще «сочинил беспрерывную хронологию в древней шведской истории, с 150 г. по P. X. до 829»).
В «Несторе» Шлецер уже не принял «Ирево произвождение слова Varing от англо-саксонского слова war, союз». Рассуждая о мнении Бринга (1769 г.) по поводу варягов, заострил внимание на его выводе, основанном на высказываниях Верелия, Рудбека, Моллера, Скарина, Биорнера, Далина, «что сии варяги были шведы, то етому давно уже верили в Швеции». Заступаясь за Миллера, которого «жестоко и вместе странно упрекает» Бринг, Шлецер, обрисовывая вклад последнего в изучение варяго-русского вопроса, вместе с тем дал просто убийственную оценку уровню разработки данного вопроса в шведской историографии 40-х - 60-х гг. XVIII в.: «Главное его положение, сделавшееся смешным от Далиновых бредней, справедливо, что основатели Рускаго царства суть шведы». А касаясь его главного «лингвистического» доказательства этого «главного положения», сказал, что Бринг шутит, «будто финны называли шведов руоци от еврейского слошруц, бегать, по причине частых их разъездов по Балтийскому и по другим морям» (а так шутить, естественно, можно бесконечно).
Шлецер, выделяя труд шведа Ю.Тунманна и характеризуя его как «самый образованный из моих критиков», повторил его мысль, что скандинавы «основали русскую державу», при этом категорично подчеркивая, что «ни один ученый историк в етом не сомневается» (норманисты, что красноречиво говорит о степени их вхождения в историографию варяго-русского вопроса, окончательную формулировку этого ключевого постулата своей теории до сих пор приписывают Шлецеру[153]). Но одновременно с тем заметил по поводу толкований Тунманном русских названий порогов как скандинавские, что некоторые из них «натянуты». Не лишним будет привести замечание Шлецера, произнесенное в отношении работы немецкого профессора Г. С. Трейера «Введение в Московскую историю» (1720 г.), излагавшей ее лишь на основе записок иностранцев: «Слепца водили слепцы» (а оно полностью перекликается со словами Ломоносова об абсолютизации Миллером показаний зарубежных источников).
Отмечая, что ПВЛ превосходна «в сравнении с беспрестанной глупостью» саг, назвал последние «безумными сказками», «легковесными и глупыми выдумками», «бреднями исландских старух», сожалея при этом, что Байер «слишком много верил» им. «И заслуживали ли сии глупости того, - убеждал Шлецер читателя, - чтобы Байер, Миллер, Щерб... внесли их в русскую историю и рассказывали об них с такой важностию, как будто об истинных происшествиях», и заключал, что «все презрение падает только на тех, кто им верит». Говоря, что «легковерные собиратели и переписчики сказок 13,14 и 15 веков» ссылаются на писателей XVI-XVII вв.: Кранца, Магнуса, Претория, Рудбека и др., «не размышляя о том, что для истории нужно знать, откуда последние взяли или могли взять свои известия», он предложил выбросить «исландские бредни из всей руской древнейшей истории» (подобный гиперкритицизм по отношению к сагам так же, конечно, недопустим, как и их абсолютизация, приводящая норманистов к рождению многочисленных фантазий).
В 1809 г. Шлецер в пятой части «Нестора» (в русском издании 1809- 1819 гг. пять частей его немецкого варианта были слиты в три тома) поместил приложение, непереведенное, стоит заметить, на русский язык, где гневно отреагировал на появление работы дерптского историка и своего ученика Г. Эверса «Vom Urschprunge des russischen Staats» («О происхождении Русского государства». - Riga, Leipzig, 1808). Такая реакция маститого и европейски известного ученого была вызвана выводами Эверса, абсолютно несовместимыми с его собственными, что русь имеет южное, вероятно, хазарское происхождение и что государственность у восточных славян сложилась еще до призвания варягов (как подчеркивал в «Предисловии» Эверс, «заняться нижеследующими исследованиями меня побудило издание Шлецером Несторовой хроники. Однако мои изыскания настолько отличаются от учений этого знаменитого человека, что их можно считать абсолютным противоречием сочинениям Шлецера. Подобно Байеру и Тунманну он полагает, что основатели самого крупного государства в мире пришли с берегов Балтийского моря, я же полагаю, что с берегов Черного моря. И все же к таким противоположным выводам нас незаметно привела общая цель: он искал истину, я тоже»). Именуя его «выдумщиком» и «поэтом хазар» (выше говорилось, что в «Опыте анализа русских летописей» Шлецер в руси видел понтийскую русь и сближал ее в том числе и с хазарами), человеком «в высшей мере самонадеянным» и мнящим себя ученым, Шлецер обвинил автора в непростительном для исследователя проступке - плагиате: он дословно, без каких-либо ссылок, «напечатал целые абзацы, целые страницы из моего «Нестора» и других работ (в его книге вообще нет ничего нового), а заодно и в том, что он переполнен «черной неблагодарностью к учителю».
Эверс, распалялся все более Шлецер, «самый незнающий из моих противников, что даже «самый необразованный из моих критиков» «турок» Эмин знает больше его, что он ничего не знает из средневековой истории, истории права, возникновении государства, что все свои знания он почерпнул из журналов и всю русскую историю узнал из «Нестора». В целом Шлецер «приговорил» работу Эверса к числу тех, которые «а priori могут быть осуждены, так как они плохи в литературном и моральном отношении». Столь беспощадный критик не удовольствовался такой публичной и совершенно уничижительной «поркой» своего вчерашнего студента, которая могла стоить ему, как минимум, научной карьеры. Чтобы вызвать у читателя совсем уж негативное восприятие Эверса (которого получается записал в число личных врагов и предателей), следовательно, и его идей, он привел несколько писем последнего к себе, в которых тот выражал «уважение, доверие» к Шлецеру, готовность во всем следовать его советам, и при этом не только снабдил их саркастическими комментариями, но и исказил их подлинный смысл[154].
Насколько далеко, поддавшись чувствам, зашел Шлецер в неприятии Эверса и его концепции, тем самым отступив от принципов научной этики, да и самой науки в целом, показывают отзывы немецких ученых-норманистов на ту же книгу, высказанные одновременно со Шлецером. Так, в 1808 г. И. С. Фатер полностью согласился с выводами этого «очень ценного сочинения». Тогда же сын Шлецера X. А. Шлецер, отмечая, что Эверс отважился выступить против скандинавского происхождения руси, которое для всех «стало фактом», вместе с тем вел речь об «усердии, начитанности» автора, об умении высказывать им «здравые суждения».
В 1809 г. Ф. Рюс, посвятив труду Эверса довольно развернутую рецензию, признал «остроумие», «ученость» и «кровопотливое прилежание» своего университетского товарища. При этом говоря, что против выводов Шлецера восстала «русская национальная гордость», что Эверс пытался опровергнуть доказательства скандинавского происхождения Руси, выдвинутые Шлецером (а в них Рюс видел неоспоримые факты, тогда как хазарская теория «базируется пока лишь на оригинальных, но подчас софистских гипотезах»), что его труд пятьдесят-шестьдесят лет назад был бы воспринят «как величайшее счастье» и что он цитирует многих, кто «по большей части нафантазировал о варягах». Лестно о нем отозвались русские академики И. Ф. Круг и А.Х. Лерберг на конференции Петербургской Академии наук, заостряя внимание, прежде всего, на критике Эверсом «слабых мест в рассуждениях Шлецера и Тунманна о происхождении руси»[155].
Эверс не промолчал в ответ Шлецеру и показал, издав в 1810 г. в Дерпте «Unangenehme Erinnerung an August Ludwig Schlozer» («Неприятные воспоминания об Августе Людвиге Шлецере»), что может постоять и за свое имя как ученого, и за свои идеи. Вынеся в эпиграф слова Шлецера, сказанные в 1777 г., что «от человека, который публикует частную переписку, предназначенную лишь для двоих, и использует ее во вред автору, так от этого человека нужно защищаться святой водой и крестным знамением», он обвинил, его в подлоге. Многие предупреждали, вспоминал Эверс о работе над своей «маленькой книжицей», что Шлецер, «не привыкший к критике, поведет себя как негодяй», при этом прикрываясь любовью «к истине». Я же считал, что он, сам свободно высказываясь на благо науки, не взирая на личности, позволит подобное и другим. Но я ошибся, констатировал Эверс, и «в гневе его ущемленное самолюбие перебороло его порядочность и заставило написать пасквиль на меня, который позорит пятую часть его «Нестора»[156].
В 1811 г. Н. Брусилов в статье «Историческое рассуждение о начале русского государства», разделяя взгляд Шлецера на этническую природу варягов-руссов, не принял его мысль, что лишь с 862 г. начинается Русское государство, и утверждал, что «оно существовало задолго» до пришествия руссов («славяне еще до Рюрика имели уже города, торговлю и, вероятно, ремесла и художества; следственно, политическое их бытие было уже основано») и что Русь была более просвещенной, «нежели как мы обыкновенно воображаем». Оспорил исследователь и «исторический скептицизм» Шлецера и Миллера, полагавших, «что все повествование о древнем славянском народе, о их князьях, городах и тому подобное, вымышлено после Нестора северными и польскими писателями».
В тот же предгрозовой 1811 год Г.П.Успенский в «Опыте повествования о древностях руских», вышедшем в Харькове, привел мнения по поводу объяснения имени Русь: от некоего князя Рос, от роксолан, которые отверг на том основании, что в старину наша страна именовалась Русь, а после Русия. Затем он передал точки зрения шведа Ф.И. Страленберга, что Русь образовалась «от слов Russ или Ruskia, что значит русый, рыжий, рыжеволосый», и В. Н. Татищева, выводившего Русь из сарматского языка, «на котором оное, по его мнению, означает чермный или красный, полагая, что народ сей назван так по причине рыжих или русых волос». И согласился с О. Далиным, что название Русь произошло «от готского слова Russ, означающего на росском языке стержень, быструю реку, водопад, порог. Отсюда произошло шведское слово Russia, рыболовная посуда; равно как Ro, Roder, грести, гребло или весло, а оттуда Рослаген или Родслаген»[157].
В 1814 г. Эверс, считая, что проблему варягов затмевает «ложный свет» произвольной этимологии, привел в «Предварительных критических исследованиях для российской истории» (а в них он развивал идеи, высказанные шестью годами ранее), помимо мнений С. Герберштейна и М. Претория, суждения шведов Э. Ю. Биорнера (1743 г.) и Ю. Ире (1769 г.) о выходе варягов из пределов их отчизны, а также донес до сведения читателя, не называя никого конкретно, что варягов принимали за «галлов, евагоров» Иордановых «в особенности». Именно Г. 3. Байер, полагал ученый, обратил внимание на финские наименования Швеции «Руотси» и шведов «руотсалаинами» и использовал их в системе своих доказательств, что затем было подхвачено Ю.Тунманном.
Хотя Эверс и назвал М.В.Ломоносова «дурным критиком», но, взвесив доводы сторонников норманской теории, отметил, как и когда-то Ломоносов, отсутствие у скандинавов преданий о Рюрике (вместе с тем напомнив, что факт отсутствия известий о Рюрике в скандинавских источниках был подмечен еще Миллером) и очень точно охарактеризовал этот факт как «убедительное молчание» («ослепленные великим богатством мнимых доказательств для скандинавского происхождения руссов историки не обращали внимание на то, что в древнейших северных писаниях не находится ни малейшего следа к их истине»). При этом говоря, что «всего менее может устоять при таком молчании гипотеза, которая основана на недоразумениях и ложных заключениях, и не имеет за себя ничего, кроме славы, достойно впрочем приобретенной, ее сочинителей».
Как объяснял свой вывод исследователь, и Ломоносову, и ему кажется «очень невероятным, почему сия история не дошла по преданию ни до одного позднейшего скандинавского повествователя, если имела какое-либо отношение к скандинавскому северу. Здесь речь идет не о каком-либо счастливом бродяге, который был известен и важен только немногим, имевшим участие в его подвигах. Судьба Рюрикова должна была возбудить вообще внимание в народе, коему принадлежал он, - даже иметь на него влияние, ибо норманны стали переселяться в таком количестве, что могли угнетать словен и чудь». Развивая свою мысль далее, он также совершенно резонно подчеркнул: «...Как мог соотечественник Рюрик укрыться от людей, которые столько любили смотреть на отечественную историю с романтической точки. После Одина вся северная история не представляет важнейшего предмета, более удобного возвеличить славу отечества». Причем сага «повествует, довольно болтливо», о походах своих героев на Русь «и не упоминает только о трех счастливых братьях».
В ответ на возражение Шлецера Ломоносову, что шведы и датчане долго не знали, «какое счастие составил себе в Нормандии земляк их, морской разбойник Рольф», Эверс сказал: «Конечно, долго не знали, но узнали же наконец от достовернейшего и многознавшего дееписателя скандинавского севера, часто упоминаемого Снорри», которому погибшие древнейшие исторические памятники доставили «известия об отдаленном Рольфе и позабыли о ближайшем Рюрике?». Рассматривая Вертинские анналы, именующие представителей народа «рос», возглавляемого хаканом, «свеонами», под которыми понимали, начиная с Байера, шведов, Эверс констатировал, что слово «каган» совершенно неизвестно в Швеции. Затем продемонстрировав, что «шведы и франки знали друг друга поименно задолго до того времени, как те мнимые Rhos прибыли в Ингельгейм», он резюмировал: странным кажется тот факт, что мнимые шведы назвались не собственным именем, а тем, под которым известны у финнов, «как будто они нашли это имя известным у всех народов от Балтийского до Черного моря».
Ведя речь о другом аргументе норманистов - русских названиях днепровских порогов, Эверс отметил произвольность вообще всех «лингвистических» толкований последних, следовательно, цену им как доказательствам. Указывая, что «неутомимый» Ф. Дурич объяснил русские названия порогов из славянского «также счастливо», как и Ю. Тунманн из скандинавского, а И. Н. Болтин из венгерского, он с иронией заключил: «Наконец, может быть найдется какой-нибудь словоохотливый изыскатель, который при объяснении возьмет в основание язык мексиканский». При этом справедливо указав, что если бы русы были норманнами, смешавшимися с восточными славянами, «то сие должно бы быть видно не из семи названий порогов, но из всего языка подвластного народа. Именно етого нельзя сказать о словенах».
Убедительно показав несостоятельность апелляции Шлецера к Рослагену как основе имени «Русь», Эверс правомерно отклонил и другой аргумент своего учи теля, уделявшего исключительное внимание тому факту, т. к. видел в нем неоспоримое свидетельство германского происхождения варягов, что поздние летописи выводят Рюрика с братьями «из немец». Согласившись с ним, что сейчас во всех славянских языках «немцем называют германца», историк пояснил: «Но прежде это слово имело общее значение по отношению ко всем народам, которые говорили на непонятном для словен языке».
Не принял ученый и точку зрения Шлецера, которую впоследствии отстаивали такие авторитетные фигуры нашей историографии, как Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев, что русская история начинается лишь «от пришествия Рурика и основания русского царства» («да не прогневаются патриоты, что история их не простирается до столпотворения, что она не так древна, как еллинская и римская, даже моложе немецкой и шведской»). Заметив в ответ, что «Рюриково единодержавие было неважно, и не заслуживает того, чтоб начинать с оного русскую историю», и что «русское государство при Ильмене озере образовалось и словом, и делом до Рюрикова единовластия, коим, однако, Шлецер начинает русскую историю. Призванные князья пришли уже в государство, какую бы форму оно не имело». Эверс также подчеркнул, говоря об одной из самых серьезнейших ошибок Шлецера, дорого обошедшейся науке: «Восстановление истинного Нестора... остается по крайней мере сомнительным» (о предшественниках Нестора, следовательно, о существовании в Древней Руси разных историографических традиций, по-разному смотревших на прошлое, настоящее и будущее своей земли, говорили еще В.Н.Татищев, Г.Ф.Миллер и И.Н. Болтин[158]).
Но вместе с тем Эверс проявил солидарность с ним, признавая, что «германских слов очень мало в русском языке» и что «сии немногие столько же обнаруживают верхненемецкое происхождение, как и скандинавское» (Шлецер, не найдя никаких следов пребывания норманнов на Руси, не мог скрыть своего недоумения: там «все сделается славянским! явление, которого и теперь еще совершенно объяснить нельзя», что «славенский язык нимало не повреждается норманским, которым говорят повелители» и что из смешения славянского и скандинавского языков «не произошло никакого нового наречия». И добавил к сказанному, невольно выставляя норманскую теорию безосновательной: «Как иначе напротив того шло в Италии, Галлии, Гиспании и прочих землях? Сколько германских слов занесено франками в латинский язык галлов и пр.!»). Выступая против повальной норманистской интерпретации летописных имен, Эверс показал несостоятельность такого подхода на примере имени Игорь, которое выдают за скандинавское имя Ингвар. Но бабку Константина Багрянородного, напоминал он, «все византийцы называют дочерью благородного Ингера. Неужели етот Ингер, который, по сказанию Кедрина, происходил из Мартинакского рода, был также скандинав?»[159].
В 1816 г. немецкий ученый Г. Ф. Голлман, труд которого «Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его» был издан в Бремене, сказал про Шлецера, что «самый великий ученый и беспристрастный изыскатель легко принимает гипотезу, имеющую вид истины, за историческую истину, если для своего предположения нарочно приискивает и подбирает доказательства, не выводя впрочем и не представляя никакого другого объяснения для доказываемого мнения». И в отличие от Шлецера говорил, что в ПВЛ нигде не сказано о выходе руссов именно из Скандинавии», но соглашался с ним, что «понтийская» (черноморская) русь не принадлежит русской истории[160].
Н.М. Карамзин в 1816 г. в «Истории государства Российского», с которой практически одновременно с русскими читателями знакомились западноевропейцы, вел речь о «нелепостях ученого Далина», о том, как он «открывал» источники по своей родной истории: «Обратил сказки древних о гетах и скифах в шведские летописи!», об ошибках в размышлениях о русской истории Байера, Миллера и Шлецера. По его мнению, Байер «излишно уважал сходство имен, недостойное замечания, если оно не утверждено другими историческими доводами», в связи с чем отыскал Кия в готском короле Книве, что он «худо знал нашу древнюю географию», выводил финнов от скифов и др.
Отметил ученый источниковедческую неразборчивость Миллера, породившую фантазии в диссертации, его увлеченность выискивать «сходство имен». Так, противопоставляя саги - «сказки, весьма недостоверные» - летописям, достойным «уважения», Карамзин говорил, что «шведский повествователь Далин, весьма склонный к баснословию, отвергает древнюю Историю Саксонову. Несмотря на то, Миллер в своей академической речи с важностию повторил сказки сего датчанина о России, заметив, что Саксон пишет о русской царевне Ринде, с которою Один прижил сына Боуса, и что у нас есть так-же сказка о Бове королевиче, сыне Додона: «Имена Боус и Бова, Один и Додон, сходны: следственно не должно отвергать сказаний Грамматика!».
Не принял Карамзин и раскритикованное Ломоносовым желание Миллера «скандинавским языком изъяснить» Изборск как Исаборг (город на реке Исе), указав при этом на обстоятельство, делающее такое «изъяснение» совершенно абсурдным: «Но Иса далеко от Изборска». Опротестовал он и попытку Шлецера, направленную на сохранение норманской теории, вычеркнуть из русской истории открытую Ломоносовым черноморскую (понтийскую) русь, существовавшую в дорюриково время, справедливо сказав, что «где истина сама собою представляется глазами историка, там нет нужды прибегать к странным гипотезам... Народы не падают с неба и не скрываются в землю, как мертвецы по сказкам суеверия», и вопреки мнению Шлецера заметил, что «предки наши действительно разумели всех иноплеменных под именем немцев».
Отверг Карамзин и мысль Ф.Г.Штрубе де Пирмонт, утверждавшего в диссертации «Рассуждения о древних россиянах», написанной в 1753 г. и опубликованной в 1785 г., что руссы-готы жили «между Балтийским и Ледовитым морем, в земле, которая в исландских сказках именуется Ризаландиею, Risaland». Как заключал историк, «Ризаландия, земля великанов, или Йотун- гейм, принадлежит к баснословию исландскому: там обитали не варяги-русь, а злые духи, оборотни, чудовища».
Но в вопросе этноса варягов он полностью поддержал Байера, Миллера, Шлецера (с ними «согласны все ученые историки, кроме Татищева и Ломоносова»), Так, Миллер, «признав варягов скандинавами, справедливо доказал ошибку тех, которые единственно по сходству имени считали варягов-русь древними роксоланами». И «ныне трудно, - взывал Карамзин к чувствам своих многочисленных читателей - поверить гонению, претерпенному автором за сию диссертацию в 1749 году. Академики по указу судили ее: Ломоносов, Попов, Крашенинников, Струбе, Фишер на всякую страницу делали возражения. История кончилась тем, что Миллер занемог от беспокойства, и диссертацию, уже напечатанную, запретили. Наконец Миллер согласился, что варяги-русь могли быть роксолане». Вместе с тем ученый допускает, что довольно показательно, возможность призвания варяжской руси из пределов Пруссии, на чем как раз и настаивал Ломоносов. И куда эта русь, предполагал Карамзин, пытаясь хоть как-то согласовать норманскую теорию с противоречащими ей фактами, могла переселиться «из Швеции, из Рослагена».
Стремясь нейтрализовать подмеченный Ломоносовым факт отсутствия у скандинавов известий о Рюрике и его братьях (а эту «ахиллесову пяту» норманизма пытался прикрыть Шлецер, что подтверждает верность наблюдения Ломоносова), он возразил, повторяя своего кумира: «Сим молчанием Ломоносов хотел опровергнуть ясную, неоспоримую истину, что Рюрик и братья его были скандинавы; но шведы и датчане имеют ли собственную подробную, верную историю сего времени? Нет: Саксон Грамматик выдумывал, Торфей угадывал». В целом, позиция Ломоносова в варяжском вопросе была сведена к тому, что он желал «соображать историю с пользою народного тщеславия», по причине чего она утрачивает «главное свое достоинство, истину...». Татищев же, по словам Карамзина, «хотел непременно сделать русских варягов финляндцами, не думая о том, что сии последние называются в наших летописях емью» и что они вместе со славянами «обитали на одной стороне Бальтийского», а не «за морем», как на то указывает ПВЛ. Но при этом сам, говоря о возможности прихода варяжской руси из Пруссии, резонно подчеркивал: «Варяги-Русь... были из-за моря, а Пруссия с Новгородскою и Чудскою землею на одной стороне Бальтийского: сие возражение не имеет никакой силы: что приходило морем, называлось всегда заморским; так о любекских и других немецких кораблях говорится в Новгород. Лет., что они приходили к нам из-за моря». Позже (в двенадцатом томе) исследователь представил Татищева, не без влияния Шлецера, человеком, «нередко дозволявшим себе изобретать древние предания и рукописи»[161].
Обращает на себя внимание тот факт, что Карамзин дал предельно высокую оценку заслугам немецких ученых в разработке русской истории, причем независимо от того, как они решали варяжский вопрос, и эта оценка отражает не только его позицию и характерна не только для его времени. В 1818-1819 гг.
М.Т. Каченовский, разбирая в своей знаменитой статье «От киевского жителя к его другу» «Предисловие» труда Карамзина, с одной стороны отметил, что «он очень хорошо знает, что не имевши таких предшественников, каковы, например, Байер, Миллер, Тунманн, Ulmpummep, а особливо знаменитый А. Шлецер, нам очень мудрено было бы предпринять путешествие к храму Истории; и теперь еще путь к нему беспрестанно углаживается учеными германцами. Тебе известны почтенные труды Круга, Лерберга, Еверса, сих иноплеменных соотечественников наших, учености которых сам историограф отдает должную справедливость» (причем труд последнего «Предварительные критические исследования для российской истории» был охарактеризован Каченовским как «превосходный»).
С другой, упрекнул его в недостаточно уважительном и объективном отношении к их работам по древностям России (вся «вина» Карамзина заключалась лишь в том, что он не согласился с Эверсом и что позволил усомниться в периодизации русской истории, предложенной Шлецером, назвав ее «более остроумною, нежели основательною»). После этого Карамзин, стремясь реабилитировать себя в глазах своих критиков и читателей, отдельной строкой прописал в примечании к первому тому, помещенном в «Дополнениях к тому IX», что Эверс «пишет умно, приятно; читаем его с истинным удовольствием и хвалим искренно: но не можем согласиться с ним, что варяги были козаре!... Г. Эверс принадлежит к числу тех ученых мужей Германии, коим наша история обязана многими удовлетворительными объяснениями и счастливыми мыслями. Имена Баера, Миллера, Шлецера, незабвенны. Мы недавно лишились Лерберга, трудолюбивого, основательного, проницательного исследователя древностей; но еще имеем г. Круга; всем известны его прекрасные сочинения о российских монетах, о византийской хронологии: ожидаем новых, не менее любопытных».
Подобный панегирический настрой по отношению к немецким историкам не мог, конечно, не привести Карамзина к ошибочным заключениям, вошедшим в науку. Так, например, превознося заслуги Шлецера, он приписал ему опровержение мнения Байера и Миллера, что не было Дира и что существовал только один князь Аскольд (якобы «по чину диар», по-готски судья), хотя это заблуждение, ссылаясь на показания русских и иностранных источников, развенчал еще Ломоносов в своих отзывах на диссертацию Миллера (и лишь много лет спустя вышла статья Шлецера «Oskold und Dir» // Eine russische Geschichte, kritisch beschrieben von A.L. Schlozer... - Gottingen, 1773)[162].
После «Нестора» Шлецера и «Истории государства Российского» Карамзина (а с ним сегодня у нас и за рубежом сторонники норманской теории по праву связывают «рекламу» и «пропаганду» ее идей в нашем Отечестве[163]) ничто не могло остановить триумфального шествия норманизма или, по вышеприведенной характеристике норманиста В. А. Мошина, «ультранорманизма шлецеровского типа». И суть которого полно выразил в 1829 г. антинорманист Ю.И. Венелин: «Наш исторический ареопаг превратился в аукционный торг, на коем все почти знаменитое в европейской древности», включая варяжскую русь, «приписано немцам без всяких явных на то документов», хотя норманской руси никогда не существовало, а представление об этом есть плод «жалкого толкования или фантастического произведения некоторых изыскателей», не понявших ПВЛ. В целом в российской исторической науке первых десятилетий XIX в. сложилась ситуация, очень тонко подмеченная в 1836 г. тем же Венелиным: «Резкий и полемический тон Шлецера, его сарказмы при обширной начитанности и, весьма часто, при справедливых замечаниях приобрели ему тот авторитет, которому нелегко решатся противоборствовать юные, еще не опытные умы. Шлецер утверждал смело, и где недоставало ему достаточного довода, там он прибегал к сарказму или даже к парадоксу, - и все замолкли»[164].
Важнейшим рубежом в становлении историографии варяжского вопроса явились 20-е - 30-е гг. XIX в., что было обусловлено, во-первых, качественно возросшим уровнем развития отечественной исторической науки, осознавшей необходимость критического осмысления пройденного ею пути. Показательной в этом плане является «История русского народа» Н.А.Полевого, во «Вступлении» к первому тому которой (1829 г.) автор утверждал, что настоящая история России еще не написана его соотечественниками, т. к. они, по его мнению, являвшемуся повтором сурового приговора, вынесенного им Шлецером, не имели «ни истинного понятия о дееписании, ни надлежащих приготовлений к труду».
В связи с чем он, предельно кратко охарактеризовав работы А. И. Манкиева, В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Ф. Эмина, М. М. Щербатова, И. Г. Штриттера (Стриттера), И. П. Елагина, негативно отозвался о их возможностях как историков и отнес их сочинения к «несовершенным опытам», и противопоставил им Н.М. Карамзина с его «творением», но и в нем увидев очень серьезные изъяны. Одновременно Полевой говорил, что иностранцы также ничего серьезного не сделали на поприще русской истории по причине их предубежденности к России и отсутствия у них «материалов обработанных» (но свою «Историю» он все же посвятил немецкому ученому Б.Г.Нибуру, отрицавшему баснословный период в истории Рима, охарактеризовав его как «первого историка нашего века» и отнеся его, наряду с Ф.Гизо, А. Г. Л. Геереном, О. Тьерри и И. Г. Гердером, к числу «наших учителей»)[165].
Во-вторых, варяго-русский вопрос, в том числе и по причине своего политического звучания (что превратило его в одну из навязчиво-любимых тем западноевропейских ученых), приобрел к названным годам весьма широкий резонанс не только в академических кругах, но и в российском обществе в целом, после Отечественной войны и «Истории государства Российского» Карамзина проявлявшем огромный интерес к своему прошлому. А данное обстоятельство предъявляло особенно высокие требования к сочинениям, касавшимся проблемы начала Руси. И в ее решении противоборствующие стороны все больше начинают уделять внимание доказательной базе как единомышленников, так и оппонентов, детально раскрывая ее перед читателем и тем самым стараясь превратить его в своего убежденного союзника. В первую очередь, конечно, высказывались оценки по поводу наследия главных героев нашей науки, с именами которых, прежде всего, ассоциировались норманизм и антинорманизм.
В 1821 г. (русский перевод статьи был опубликован в 1823 г. в «Вестнике Европы») немецкий ориенталист-норманист И.С.Фатер отметил в «Вестнике Европы», отстаивая идею существования Черноморской Руси, что Эверсу «принадлежит честь» обращения внимание на нее, а Ломоносова охарактеризовал как «великого мужа», филолога, физика и историка. В 1824 г. польский историк-норманист И. Лелевель говорил, разбирая на страницах журнала «Северный архив» «Историю государства Российского» Карамзина, что Миллер, хотя и слабо, «но употреблял средства к познанию истины», что Шлецер «скуп на похвалы» русским ученым, что «ему не надлежало прямо без всякого различия называть» все имеющиеся у него летописи «Нестеровыми, но прежде должно было исследовать оныя в частности и в общем составе», что он «мог бы сделать свои замечания о находящемся между ними различии и указать их отличительные черты», но, «ограничившись своею kleine Kritik.., сам остался и других удержал в тесных ее пределах», что он «не открыл никаких обширных видов, которые могли руководствовать исследователей летописей и манускриптов», и что он «смеялся» над исландскими сагами, не видя пользы от них для истории (по тонкому замечанию Лелевеля, «их гораздо легче употреблять, нежели исследовать», и что Карамзин брал из саг с большой осторожностью «и поступал в сем случае весьма благоразумно: ибо остальным можно будет воспользоваться в то время, когда шведы и датчане попадут на истинный путь и озарят темные места их повествований светом ученой критики»).
Шлецер, продолжал далее Лелевель, слишком строго восстает против Гостомысла (но не правы и его защитники, «которые слишком горячо восстают за него»), что он, а за ним Карамзин глубоко заблуждались, считая варягов-норманнов образованнее славян. Констатируя, что в русской истории совершенно нет следов пребывания норманнов (причину чего он видел в высоком уровне развития восточных славян, в связи с чем пришельцы покорились в их землях «существовавшему порядку вещей»), Лелевель заключал: этот факт служит «к объяснению многих темных мест в истории» и должен почитаться «за один из краеугольных камней целого основания сей истории», но его Карамзин почти не учитывал и разъяснил лишь «несколькими словами без надлежащих доказательств». Он также подчеркнул, что последнему стоило бы отечественных историков «разбирать подробнее, нежели Байера и Миллера». Им также совершенно резонно было замечено, что ПВЛ и варяжскую легенду «всегда толковали сообразно с духом и понятиями того времени, в которые разбирали оныя»[166].
В том же 1824 г. М.Т. Каченовский разъяснил, в чем заключается суть работы Шлецера с летописями и как она противоречит научным методам: немецкий ученый надеялся восстановить Нестора (т. е. ПВЛ) «сводом из списков разнородных, коих не определена достоверность, которые писаны не в одно время», и выяснить «настоящее слово или отгадать, что собственно писал Нестор». Но, как правомерно вопрошал историк, «можно ли, по прошествии семисот лет, отгадать такие слова Нестора, основываясь на тех чтениях, которые встречаются в других позднейших рукописях, чтениях одолженных своим бытием или другому источнику, или своевольству и самой затейливости сборщиков временников и переписчиков?»[167].
В 1825 г. М.П. Погодин, излагая свой ответ на варяжский вопрос в труде «О происхождении Руси», на всем его протяжении приводит мнения В.Н. Татищева, Г.Ф.Миллера, М.В.Ломоносова, Ю.Тунманна, И.Н.Болтина, А.Л.Шлецера, Г.Эверса, Н.М.Карамзина, Г.Ф.Голлмана, Х.Д.Френа. Примечательно, что норманизм исследователя не помешал ему указать на несостоятельность одного из важнейших заключений Шлецера. Шведский Рослаген, отмечал Погодин, «ничего не доказывает» в пользу того, что русь - это шведы, т. к. Швеция в древности не составляла единого целого и в ее пределах обитало «множество мелких, независимых друг от друга племен», только одно из которых называлось шведами. И подчеркнул, указав на Карамзина, что необходимо отказаться от Рослагена «и почесть не имеющим сюда никакого отношения, чего, однако, не делают»[168].
Тогда же дерптский историк-антинорманист И.Г.Нейман в книге «О жилищах древнейших руссов» констатировал, во-первых, что Эверсу принадлежит честь особенного обращения внимания на восточные источники для русской истории, во-вторых, что из самих скандинавских писателей не смогли еще подобрать ни одного свидетельства в пользу норманства руси (никто не знает норманнов, повторил он не раз уже до него сказанную истину, которые назывались руссами), в-третьих, что результат норманистского толкования «русских» названий днепровских порогов уже «по необходимости брать в помощь языки шведский, исландский, англо-саксонский, датский, голландский и немецкий... делается сомнительным». В 1826 г. Погодин, издавая сочинение Неймана на русском языке, указал, что по скандинавским известиям не видно, чтобы норманны ходили в Византию до IX в., как это утверждали Ире, Тунманн, Шлецер[169].
В 1827 г. антинорманист С. Руссов заметил по поводу словопроизводств достойного продолжателя дела О. Рудбека шведского ученого Э.Ю. Биорнера (1743 г.), согласно которым «все главные русские области украсились шведскими названиями» (Белоозеро - Биелсковия или Биалкаландия, Кострома - замок Акора и крепость Акибигдир, Муром - Мораландия, Ростов - Рафестландия, Рязань - Ризаландия, Смоленск - Смоландия): «Вся сия терминология большею частию баснословная, частию натянутая и несколько относительно поднепровских порогов вероятная». Вместе с тем он отметил, как это в свое время было сделано Ломоносовым, факт, не оставляющий норманской теории никакого шанса на существование: «Во всей Скандинавии, т. е. в Дании, Норвегии и Швеции ни по истории, ни по географии нигде не значится области под названием Руссии»[170].
В 1827-1839 гг. Г.АРозенкампф, установив, что слова Ruotsi и Рослаген «не доказывают ни происхождения, ни отечества руссов», вместе с тем указал, что Вертинские анналы «не представляют полного исторического доказательства» шведского происхождения руссов и что названия «руси» и «руссов», обитавших в Восточной Европе, были известны византийцам до прихода Рюрика[171].
В 1828 г. А. Рейц констатировал, что «Шлецеру легко было основать свое мнение о скандинавском происхождении руссов. В пользу оного говорила вероятность, а с первого взгляда и летописи. Но когда Еверс поодиночке показал слабость доказательств, когда он с удивительным остроумием провел ряд глубоких заключений и выводов, начиная от первых следов племени руссов до последнего своего результата; тогда увидели, как трудно будет защищать мнение, доселе столь вероятное от подобного нападения. Но отказаться от него столь же трудно». Будучи не в силах отказаться от этого «вероятного мнения», Рейц вместе с тем сказал: «Неоспоримо, вывести происхождение варяго-руссов предоставлено будущему времени и будущим изысканиям. Мы принуждены признать, что есть следы, хотя темные и бессвязные, южного народа руссов, но важны ли сии руссы для нашей истории, одного ли они происхождения с первыми обладателями России или посторонний народ, существовали ли они до призвания варяго-руссов? - время решит все это»[172].
Но это перспективное научно-критическое направление в нашей историографии, объединявшее, важно подчеркнуть, и норманистов, и антинорманистов и ведущее спокойный и взвешенный разговор по варяго-русской проблеме, было основательно заглушено другим, суть которого сводилась к панегирически-восторженной оценке заслуг в разработке русской истории Байера, Миллера и Шлецера. И которое, надлежит сказать, сложилось уже в момент первого знакомства русского читателя с «Нестором» Шлецера. Так, в 1809 г. переводчик «Нестора» Д.И.Языков, представляя его своим соотечественникам, отмечал, что автор «оказал незабвенные заслуги русской истории». На следующий год в рецензии на первую часть сочинения, помещенной на страницах журнала «Цветник», данные слова были повторены, а также было сказано, что Татищев, Ломоносов, Эмин, не разбираясь в подлинности летописей, «вносили в свои истории нелепости, произшедшие от переписчиков и рождали тем различные споры и несогласия»[173].
Теперь же тональность такого разговора приобрела еще большую резкость, а в связи с тем, что антиподом немецким исследователям (своего рода «тенью») непременно выставлялся Ломоносов, то сколько восторга (зачастую просто безудержного) изливалось в их адрес (и в первую очередь Шлецера), то столько же скепсиса высказывалось по поводу исторических возможностей русского ученого (особенно негативно и в полном согласии со Шлецером трактовалась его роль в обсуждении диссертации Миллера), что автоматически и априори вело к признанию научной состоятельности норманской теории и отказе в том антинорманизму.
И подобный настрой, внедряемый в сознание русского общества как академическими изданиями, так и посредством популярных журналов, по сути носил массовый характер и не позволял по достоинству оценить научное наследие не только названных лиц и их современников, но и представителей последующих поколений науки. Причем, что обращает на себя внимание, проводниками подобного настроя являлись люди, специально не занимавшиеся проблемой этноса варягов. И хотя с их именами связано появление первых историографических обзоров, где значительное место было отведено историографии варяго-русского вопроса, но в основном они просто репродуцировали мысли, высказанные Шлецером (только не приняв его оценки Байера и Миллера) и Карамзиным, отчего их работы так сильно похожи друг на друга.
В 1824 г. в том же «Северном архиве» параллельно с отзывом Лелевеля пытавшегося конструктивной критикой избавить науку от принципиальных издержек концепции Шлецера, была напечатана рецензия Н. А. Полевого где речь о нем шла исключительно в превосходных степенях: что он еще в 1767 г «начал говорить русским о необходимости критического издания наших летописеи и показал пример, сам издавши Никоновскую летопись; но тогда Шлецера не послушали». А в 1802 г. своим противникам он ответил «прекрасным исполнением своего намерения. С удивлением увидел ученый и неученый свет русские летописи в новом, необыкновенном критическом разборе» Называя его план публикаций летописей «превосходным» и говоря что от него начинают отклоняться, историк заметил, что профессор Р.Ф Тимковский, издавая Лаврентьевскую летопись, «исправлял только те слова, которые противоречили явно смыслу, отмечая свое чтение внизу страниц». Но по мнению Полевого, абсолютизировавшего манеру работы Шлецера с летописью и не принимавшего иной, Тимковский «мог бы, не нарушая условий критики исторической, быть смелее в исправлении ошибок»[174].
На следующий год Ф.Зубарев основную часть своей небольшой статьи помещенной в журнале «Вестник Европы», посвятил прославлению, по его же словам, «подвигов» Шлецера, говоря, что его «ум обширный и глубокий оказал незабвенные услуги нашей истории», что он «побеждал предрассудки современников, неприметно направляя их к благоспешности своих начинании - к истинной исторической критике», способной установить, что написал Нестор, как он понимал написанное, справедливы ли его мысли. Для Зубарева не было никаких сомнений в том, что сочинение Шлецера «Нестор» - это «истинный образец исторической критики», который возбудил у нас и за граничен «охоту заниматься критикою, и дал повод с пользою употребить свои дарования: он составил эпоху, с которой началось у нас исправление истории государства российского», что примечания к нему богаты различными историческими фактами, мыслями за сорок лет «трудов неусыпных» и содержат все доказательства в пользу норманства варягов.
Заведя разговор о его книге «Probe russischer Annalen», изданной в 1768 г. в 1ермании, а затем в Англии, и легшей в основу «Нестора», Зубарев подчеркнул, что она произвела сильное впечатление (но, видимо, по незнанию этой ранней работы немецкого ученого не обратил внимание на ее принципиальные отличия от «Нестора»), А во «Всеобщей северной истории» Шлецер показал продолжает автор, что народные имена скифов и сарматов совсем не важны «для истории новых народов и что вообще история северная, и в особенности российская, от исследования оных имен геродотовых не получит никакого приращения». Высоко отзываясь о трудах шведского ученого Ю.Тунманна(1772 и 1774 гг.), Зубарев заметил, во-первых, что им «часто руководился» Карамзин (т. е. как верны его изыскания), во-вторых, что он критиковал Шлецера, который называл его из своих рецензентов «умнейшим», в-третьих, что его мысли о происхождении Руси «заслужили особенное внимание современников», в-четвертых, что перед смертью исследователь признался в ошибках, которые желал бы исправить («сие считаю обязанностью честного человека: ибо заблуждения слишком плодовиты»)[175].
В 1826 г. Н. А. Полевой на страницах «Московского телеграфа» выступил с рецензией на только что изданную на русском языке работу Г. Эверса «Предварительные критические исследования для российской истории», где сразу же отметил, не вдаваясь в детали, что автор «увлекся историческою гипотезою, что русские происходят не из Скандинавии, но от хазар», и что эту мысль он высказал еще в 1808 году. Говоря, что результат его «несправедлив», Полевой вместе с тем подчеркнул, что «сочинитель, ошибаясь вследствие своих изысканий, имеет между тем полное право на уважение наше, как ученый Критик истории», после чего привел известные слова Карамзина о нем. И, как заключал Полевой, «желание г. Эверса опровергнуть скандинавское происхождение русских заставило его в I-й части входить в строжайшие исторические исследования по сему предмету. Странно, что во II-й части, где он доказывает хазарство русских, этот самый критик основывается на несправедливых истолкованиях и неверных выписках».
На следующий год в том же журнале тот же рецензент, очень кратко рассказывая читателю о выходе в 1826 г. монографии Эверса «Das alteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung dargestelt» («Древнейшее русское право в историческом его раскрытии»), категорично произнес, что она, как и все предшествующие труды ученого, «заключает в себе важные и любопытные части; но в целом, совершенно не достигает цели», т. к. «автор совсем не думал идти по настоящей дороге исторических исследований о своем предмете и не воспользовался ни одним из тех условий, какие предписывает нам нынешнее совершенство Истории и ученой Критики. Стремление к гипотезам и в сей книге отражается с прежнею силою»[176].
В 1827 г. вышла историографическая работа А.З.Зиновьева «О начале, ходе и успехах критической российской истории». По словам автора, эхом повторяющего Шлецера, «краеугольный камень для критики российской истории положил... Байер... один из великих литераторов и историков своего времени, имевший отличные сведения в древней и новой словесности, какие необходимы были первому критику в нашей истории». Он был первым, перечислял Зиновьев достоинства его сочинений, кто указал, что для успешной работы над русской историей «необходимо должно обратиться к летописям и историям государств, имевших сношения с Россией, и сам деятельно отыскивал сии источники», отрицал происхождение руссов от скифов, первый объяснил варягов, само сочинение о которых «есть образец благоразумной этимологии и сравнения имен», и считал скальда Снорри Стурлусона «достовернейшим» скандинавским писателем.
Но тут же в полном противоречии с произнесенным звучат его слова, что, во-первых, Байер, не владея русским языком и будучи зависимым от неискусных переводчиков, «наделал грубые ошибки, отчего в то время и долго после важнейшие его открытия... отвергались читателями летописей, беспрестанно твердившими, что Байер не знает по-русски» (по убеждению Зиновьева, он не был и ориенталистом, ибо «не в состоянии был воспользоваться Едризием, хотя тот лежал перед ним напечатанным. Неудачно произведение им слов Sarkel, Tmutarakan, Dir»). Во-вторых, Байер «оказывает в себе великого ученого; строг и силен, разбирая с критического трибунала греческих и римских писателей; но мало заботился о славянских, собирал и упоминал без разбора летописи или Степенную книгу, древнее или новое сочинение, каноническое, или апокрифическое. Сии без надлежащего рассмотрения и исследования собранные места читал и переводил вовсе неправильно».
Именуя Миллера знаменитым как в России, так и во всей Европе, резюмирует, что он «сделал чрезвычайно много для нашего Отечества» (при этом напоминая, что ученый, не зная русского языка, приписал ПВЛ игумену Феодосию и лишь два десятилетия спустя исправил эту ошибку вошедшую в зарубежную науку). Говоря, что Шлецер страстно любил русскую историю, Зиновьев его заслуги в области ее изучения передал, как и заслуги Тунманна, словами Зубарева. Ведя речь о последующих норманистах, представил сочинение А.Х. Лерберга как «образец здравой и основательной критики», подчеркнул, что изыскания И. Ф. Круга о древних русских монетах «весьма любопытны и важны», что М. П. Погодин в критике И. Г. Неймана, выступившего в поддержку южной (хазарской) версии происхождения руси Г. Эверса, привел «сильные доказательства» в пользу норманства последней, что X. Д. Френ в руссах Ибн Фадлана увидел норманнов, «как их описывали в тоже время франкские и английские историки», что И.Г.Штриттер «озарил русскую историю светом критики и первый воспользовался изысканиями иностранных писателей».
В целом Зиновьев заключал, что Байер, Миллер, Шлецер, Тунманн, Штриттер - «благонамеренные критики», но их советы, увещания, наставления русским ученым остались тщетными, хотя их труды «достаточно были для очищения древней русской истории от многих басен. Несмотря на то историки наши следовали Стриковскому, Страленбергу, брали за образец Синопсис и верили ложной Иоакимовской летописи, оставляя в прежнем неисправном виде сказания о нашем отечестве».
Выход в свет в 1816 г. первого тома «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина Зиновьев оценил очень высоко: «...Мы, отстававшие от других народов на поприще истории, многих опередили и почти со всеми сравнялись». Но затем добавив, что древности руссов «не приведены еще в систему науки, хотя и много отдельных описаний и исследований». Сам же смысл этой «системы науки» виден из его характеристики трудов Эверса: в них «находится весьма много дельных замечаний, много важных открытий: но господствующим и более неподверженным сомнению остается мнение прежних критиков, хотя и его собственное останется замечательным в летописи нашей исторической критики».
По поводу Татищева, дискуссии Миллера и Ломоносова исследователь все повторил из Шлецера и Карамзина (гонения Миллера по причине антишведских настроений тогдашнего русского общества, ибо вывод руссов из Скандинавии казался «оскорбительным для чести государства», но вместе с тем автор отметил - а это редчайший случай для того времени, тем более для норманистской историографии - оскорбительные для Ломоносова «отзывы иностранцев», прежде всего Шлецера, который не отличал его от Ф. Эмина «и говорит еще более»), Зиновьев, идя в русле рассуждений Шлецера, крайне низко оценил достижения в разработке русской истории А. И. Манкиева, И. П. Елагина и М.М. Щербатова («История» Эмина, по его убеждению, вообще не заслуживает «никакой критики») и выделил лишь И.Н. Болтина, с таким познанием и с такой смелостью отвергавшего «старинные нелепости, бывшие неприкосновенными для его предшественников»[177].
В 1827 г. М.П. Погодин, в опубликованной в «Московском вестнике» рецензии на книгу Зиновьева, соглашаясь с ним, что сочинять «историю критической российской истории можно, по нашему мнению, начать с Байера и описать мрак, господствовавший в нашей истории до принесения в оную светильников сим славным критиком», верно заметил, что «в рассуждении о писателях... автор держится мнения Шлецера и проч.». В ответе, помещенном в том же году в «Московском телеграфе», Зиновьев объяснял, что «придерживаться справедливых мнений мне необходимо было нужно, но не везде по-рабски я следовал Шлецеру: могу указать места, где я опровергал его положения», и вновь охарактеризовал Байера как «основателя здания критической российской истории»[178].
В 1829 г. Н. А. Полевой в «Истории русского народа», крайне низко, как уже говорилось, оценивая вклад своих соотечественников в изучение прошлого России, подчеркнуто сказал, что история не была «уделом» Ломоносова (он всего лишь «хороший ритор»). Но при этом во всеуслышание повторил в том числе и его наблюдение: «Но и не сомневаясь о скандинавском происхождении пришельцев по Балтийскому морю, мы затрудняемся странным недоумением: ни имени варягов, ни имени руси не находилось в Скандинавии. Мы не знаем во всей Скандинавии страны, где была бы область Варяжская или Русская».
На следующий год Погодин очень резко отреагировал на страницах «Московского вестника» на труд Полевого, следовательно, и на его пренебрежительное отношение к предшественникам, сожалея, «что дельная наша историческая литература обезображивается таким чудовищем». По словам острого на язык историка, «самохвальство, дерзость, невежество, шарлатанство в высочайшей и отвратительнейшей степени, высокопарные и бессмысленные фразы... несколько глупых суждений, непонятных и неразвитых, ни одной мысли новой, ни истинной, ни ложной... вот отличительный характер нового сочинения, если уж не грех называть сочинением всякую безобразную компиляцию»[179].
В 1833 г. Зиновьев утверждал в «Телескопе», что первая сторона нашей науки, «начинающаяся Байером, есть несторианская: ей принадлежит господство, я бы сказал и истина»[180] (так ученый положил начало процессу «превращения» русских летописцев в «первых норманистов», завершившемуся трудами Н. И. Ламбина, А. А. Куника, А. А. Шахматова). Н. М. Карамзин, выражал недовольство в 1834 г. О. И. Сенковский на страницах «Библиотеки для чтения», не заметил, что восточные славяне утратили «свою народность» и сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях» (называя Русь «Славянской Скандинавией», автор утверждал, что славянский язык образовался из скандинавского). Не сомневаясь, что только саги содержат «настоящую историю», и, критикуя Карамзина за «слепое доверие к летописи», Сенковский решительно сказал, что «если бы у нас было двадцать таких саг», как Эймундова сага, то «мы имели бы гораздо точнейшее понятие о деяниях, духе и обществе того времени, чем обладая десятью летописями, подобными Нестеровой»[181].
В том же году С. М. Строев в «Маяке» констатировал, что одни русские исследователи, составляя «тесный круг, наперекор здравому смыслу и исторической критике еще пишут в духе Татищева, Тредьяковского, Болтина; другие, ознакомившись с новейшими историками европейскими, мечтают уже о прагматической русской истории, не позаботившись предварительно об ученом обрабатывании материалов древней нашей письменности». Третьи, которых большинство, «веруя безотчетно в ученые, но не всегда справедливые разыскания Шлецера и Карамзина, списывают их буква в букву, и труды этих великих мужей почитают геркулесовыми столпами в критике русской истории», а четвертые, не довольствуясь изысканиями предшественников, «пробивают себе новую тропинку на неразработанном поле отечественной истории». Говоря о направлении, овеянном именами Шлецера и Карамзина, автор отметил, что его гипотезы, благодаря долговременным трудам большого числа ученых, начиная с Байера, обрели «непреложный авторитет» и что некоторые считают «преступлением» не признавать этого авторитета.
При этом он обращал внимание на то, как шла борьба с таким «преступлением»: «На возражения ваши не отвечают возражениями: их забрасывают только кучею собственных имен и думают, что эти имена заставят молчать, в угодность известному авторитету, древние письменные памятники, сами за себя говорящие». Но, наконец, продолжает далее Строев, явился Эверс, «который с удивительным самоотвержением вооружился против целой фаланги ученых», державшихся норманской природы руссов. И «надобно было видеть тогда, какую тревогу поднял Шлецер со всеми своими последователями! Над бедным Эверсом собралась грозная туча, разразилась над ним, и дело его считалось уже проигранным, как вдруг явился... защитник его Нейман; но и он имел одну участь с Эверсом: его публично объявили человеком, заблудившимся в деле историческом». Хотя «преступление Эверса и Неймана» состояло лишь в том, объяснял ученый, «что они осмелились не признавать руссов за норманнов и что они, оставивши тот же театр, ту же драму, те же декорации, осмелились переменить только актеров: у них главную роль играли не норманны, а руссы - народ азиатского происхождения!». А настоящим разрушителем этого театра, «которым дорожил еще Эверс», этих декораций Строев представил Каченовского[182].
В 1834 г. В.Шеншин в «Телескопе» убеждал, делясь своими соображениями по вопросу «О пользе изучения русской истории в связи со всеобщею», что «история в истинном смысле, впервые освещенная светом ученого критика, начинается Байером», что в нашей исторической науке он «занимает первейшее пред всеми место, ибо все прочие (даже Шлецер) его продолжатели», что именно он положил основание критики в России (хотя по незнанию русского языка «не исправил, не нашел ни одной ошибки летописца», собственно для критики летописи «ничего не сделал» и русской историей занимался «как побочным для себя делом»), что между ним и Шлецером «не было ни одного замечательного ученого по критическому воззрению на наши источники, кроме Миллера», который «переводил наши летописи, хотя неверно», «первый подал голос к их изданию», «ввел нашу историю в иностранные сочинения», «едва ли не предпочитал наши летописи чужеземным».
Шлецер же критиковал летописцев, сравнил факты русской истории с фактами иностранной, «ввел в критику излишний скептицизм, взволновал исторические умы Тунманна, Эверса, может быть, Карамзина», открыл «многие туземные и чужеземные источники», «был полное выражение и прекрасное собрание всех до него бывших писателей и исследований здравого, хотя и нередко одностороннего, критического ума». Эверс, указывал Шеншин, первым обратил внимание на восточных писателей, но Карамзин «почти не принадлежит к сему исчислению, ибо он относится к истории исторического искусства», что он более поэт-историк, что в его двенадцатитомном труде «нет ни одного оригинального взгляда на общие события» и что теперь он становится недостаточным. И как признавал исследователь, антинорманисты опровергают старое «не без основания»[183].
Н. Сазонов в 1835 г., будучи твердо убежденным в том, что история России была впервые обработана «ученым образом» не русскими, а иностранцами, выступил со специальной статьей «Об исторических трудах и заслугах Миллера», где изложил жизненный путь ученого и дал оценку его работам. И прежде всего диссертации, в которой он намеревался «доказать» положение Байера о скандинавском происхождении руси и которую «завистливые» враги (к сожалению, Ломоносов в их числе) использовали в качестве предлога для расправы над ним, донеся «Двору», что мнение о происхождении руссов от шведов, с которыми недавно была война, «оскорбляет честь народную». В последующих своих рассуждениях на тему начала русского народа Миллер «чрезвычайно запутан»: устрашенный запрещением речи и угрозой наказания, изменил свой взгляд на варягов и старался «приблизиться» к Ломоносову, но затем, избавившись от страха, «смело нападает на мнение Ломоносова, порицая его в недостатке критики» и утверждая, что он «неискусный в истории повествователь». И хотя ему, признает Сазонов, недоставало способности критика («он не только безразборчиво верил нашим летописям и Саксону Грамматику, но даже иногда собственные свои предположения, однажды сказанные, после уже почитал за дело совершенно доказанное»), его заслуги все же превышают его недостатки (он «заслуживает вечную благодарность всех любителей отечественной истории»), а «время, - как при этом справедливо было замечено, - в которое он жил, его оправдывает» (автор, следует заметить, осуждает увлеченность ученого летописями).
В отношении же мысли, которую Миллер проводил во время и после дискуссии, что «российския скаски, например: о Бове королевиче, которыя много» с сагами «сходствует» (т. е. видел в этой русской волшебной богатырской повести о Бове-королевиче, восходящей к средневековому французскому куртуазному роману о Бово д'Антоно, исторический источник), Сазонов только развел руками: «Это уже превосходит всякую меру». Он также указал на тот факт, что, как говорил сам Миллер, открытие им в 1733-1743 гг. в Сибири неизвестных документов дало ему повод заняться «новой российской историей и писать о ней» (а данное обстоятельство, если, конечно, принимать его во внимание, заставляет иными глазами взглянуть на качественный уровень диссертации, отвергнутой коллегами академика). По поводу Эверса Сазонов заметил, что он «потряс систему скандинавского происхождения Руси»[184].
В 1836 г. Н.Г. Устрялов в работе «О системе прагматической русской истории», продолжая скептическую линию Шлецера-Зиновьева-Полевого, сказал, что Манкиев, Ломоносов, Щербатов, Елагин, Эмин, Штриттер, Левек «не принесли пользы» отечественной истории и что «История Российская» Татищева сейчас, «при строгих требованиях исторической критики, не имеет почти никакой цены, невзирая на то, что в нем есть показания весьма важные, не встречающиеся в других источниках». Сами же попытки предшественников Карамзина, заключал он, «ныне любопытны только, как младенческое лепетанье; у них нет ни одной яркой мысли, ни одного светлого взгляда», а историей они занимались «мимоходом, частию от скуки, частию по приказанию».
Видя в Карамзине «истинного гиганта», до которого «не было и тени прагматической русской истории», исследователь подчеркивал, что при создании своего труда у него не было «ни одного надежного путеводителя», исключая Шлецера (но и после Карамзина, констатирует Устрялов, все говорят, «что Россия еще не имеет своей истории»).
Характеризуя Шлецера как «ученого и отчетливого систематика», автор был уверен, что его периодизация русской истории более правильная, чем у Карамзина. Вместе с тем он не без резона заметил: последний «принимает за истину, что норманны положили в земле славянской начало Руси; следовательно, как виновники бытия русской державы, они заслуживали самого тщательного внимания бытописателя. Мы вправе требовать, чтоб он дал ясную идею о норманнах, о характере их действий в других странах Европы, о правилах, коим они следовали, утверждая свое господство, об отношениях победителей к побежденным, о том, что они могли ввести в покоренные страны и что сами могли заимствовать и проч. В таком случае читатель был бы в состоянии смотреть с правильной точки зрения на первые два века своего отчества, когда брошены были семена последующих явлений». Но, недоумевал Устрялов, о норманнах у него всего лишь несколько слов![185]
В 1837 г. Н. А. Иванов дал очень краткий обзор имеющихся мнений по поводу этноса и родины варяжской руси: Татищев и Щербатов выводили ее из Финляндии, Ломоносов и Степенная книга - из Пруссии, Голлман - из Рустрингии (причем в адрес этой точки зрения было замечено, что «нельзя основываться на сходстве собственных имен»), «славянолюбы некоторые» - из Вагрии, что немецкий ученый И. С. Фатер связывал ее с черноморскими готами, а польский историк С. А. Нарушевич и другие - с роксоланами. Автор не принял заключения Ф. Крузе, что летописный Рюрик - это Рорик Ютландский.
Касаясь истории с диссертацией Миллера, Иванов заметил, полемизируя с Карамзиным, но не называя его по имени, что имеющиеся там доказательства «кажутся нам не только слабыми, но даже неосновательными» и что Миллер «вовсе не опровергнул мнения своих противников и не разрешил этого важного вопроса». Но, видимо, с целью как бы уравновесить ситуацию, была дана хрестоматийная справка, авторство которой принадлежит Шлецеру и Карамзину, что Миллер за производство руссов от шведов, «по проискам врага своего Ломоносова, отдан был указом под суд академиков: ибо в этом хотели видеть намерение Миллера возбудить в шведах притязания на Россию! Было время, когда верили подобным нелепостям. Бедный Миллер от страха согласился, что русь могли быть роксолане географа Равенского»[186].
Вера сторонников норманства варягов в свою правоту была столь велика, что в их суждениях об оппонентах появляются пренебрежительно-бранные нотки. Так, известный словацкий ученый П. И. Шафарик, изучением прошлого славян заслуживший высокое признание европейского научного мира и «Славянские древности» которого были переведены на русский язык антинорманистом О.М. Бодянским, уверял в 1837 г., что норманисты «усиленным трудом» доказали справедливость своих позиций «основательными и разительными доводами, достаточными для опытного и беспристрастного судии, а недостаточными только для невежд или предубежденных ценителей» (при этом он отстаивал идею, от которой практически уже отошли его коллеги в России, что руссами именовали обитателей небольшого Рослагена)[187].
Подобный взгляд, глубоко проникший в научное и общественное сознание, не только мощно и упредительно нейтрализующий труды инакомыслящих, но и безапелляционно выводящий их за пределы науки, нисколько не смущал антинорманистов, в своей критике не обходивших вниманием и историографию вопроса. В 1834 г. С. М. Строев, еще будучи студентом Московского университета, в ответе О.И.Сенковскому, говорившему о сотнях славянских заимствований из германского, возразил, что в русском языке «не видать никаких следов влияния скандинавского»[188].
В 1835 г. О.М. Бодянский констатировал, что «нет народа, происхождение коего было бы удовлетворительно объяснено» и что «большинство не есть порука за справедливость мнений, и оно не чуждо погрешностей. Весь мир до Коперника верил обращению Солнца около Земли; даже и теперь простой народ, и следовательно, большая масса держится этой веры предков». После чего он сказал, что в гипотезах о происхождении Руси «мы не имели недостатка. Но главных, замечательнейших из них две: первая предложена была еще» Г.З.Байером, была продолжена Г.Ф.Миллером, Ю.Тунманном, И.Г.Штриттером, «обработана» А.Л. Шлецером, «подкрепляема» А.Х.Лербергом, И.Ф. Кругом, Х.Д. Френом и «распространена между нашими соотечественниками и вообще» Н.М. Карамзиным. «Вторая, показавшаяся только в недавнее время, одолжена началом своим» Г. Эверсу, была «принята известнейшими ориенталистами» И. С. Фатером, Й. Гаммером «и др. учеными мужами».
Говоря о первой гипотезе, историк подчеркнул следующее: «До сего времени байеристы пользовались свободно правом преимущества; ибо они имели на своей стороне давность, авторитет многих ученых, ставших без дальнего рассуждения под их знамена; в особенности этому способствовал решительный, диктаторский голос Шлецера, который все, до него и при нем возникшие системы по сему предмету, подрыл и уничтожил своими, сатирическими, едкими критиками. Но будучи основана на слепой детской вере в древность и каноническую важность наших летописей, система сия рано или поздно должна была вызвать против себя оппозицию, - что и случилось». И предрек гипотезе Эверса, основанной «на строжайшем пересмотре и оценке исторических материалов и соображений хода жизни народа с жизнью всего человечества», «хотя медленное, но прочное повсеместное господство». В противовес утверждениям норманистов, видевших вслед за Шлецером в выражении «заморе», прилагаемом в ПВЛ к родине варягов, указание исключительно только на Швецию, Бодянский заметил, что оно «слишком неопределенно: летописцы и предки наши употребляли его произвольно, так что под сим словом скорее можно разуметь: пошел или пошли в чужую, далекую сторону, будет ли она за морем или нет»[189].
В 1835 г М Т Каченовский сказал, что «никто не вправе упрекать нас в равнодушии к отечественной истории; мы писали до Шлецера (говорю о времени появления в свет его Нестора); писали и пишем после Шлецера». Отмечая его вклад в развитие русской исторической мысли, ученый подчеркнул что «Шлецер познакомил нас с низшею, как называет он, критикою, заохотил рыться в летописях, приучил не все находящееся в них принимать за события исторические; но он же утвердил нас и в некоторых заблуждениях». А в отношении господствующей тональности в разговоре о Скандинавии и скандинавов заметил, что «Скандинавия IX-го, Х-го и XI-го столетии, еще сокрытая в мгле темных преданий, служит для нас сокровищницею происшествий исторических, удивительных своими подробностями, и слывет колыбелью законодательства нашего; а поздние сказания баснописцев исландских, заимствовавших многие идеи от англов, от франков и совершенно чуждых Новгороду и Киеву, мы принимаем в ряд источников нашей истории»[190].
В 1836 г Ю И Венелин в исследовании «Скандинавомания и ее поклонники или столетния изыскания о варягах» констатировал, что Байер поднял вопрос о варягах и приискал в Швеции созвучия к именам русских князей, что слово «варяги» в летописях имеет значение собственного имени народа, а не название, как считал Байер по незнанию текста ПВЛ, рода службы, что он объявил исландского скальда Снорри Стурлусона, который все основывал на сказках, да к тому же сам их сочиняя, «из всех веков и людей самым достойным веры и самым правдоподобным». Наконец, что его статья «О варягах» носит «исключительно-патриотический» характер: ибо в ней «все жертвуется для того чтобы доказать благовоспитанность рыцарства баснословной Скандинавии», «есть попытка пояснить собственно не русскую, а шведскую древность».
Одновременно с тем Венелин ведет речь об «обширных заслугах» Миллера засвидетельствованных как его изданиями, так и собранным в Сибири материалом (при этом было подчеркнуто, что в диссертации он «подкреплял» мнение Байера), «с уважением» упоминает Шлецера как издателя, но предупреждает, что надо критически воспринимать его выводы. В отношении мнения Штрубе де Пирмонт о выходе готской руси из Ризаландии ученый сказал, имея в виду манеру работы норманистов с летописью вообще: что «им понадобиться, то и станет говорить Нестор!!». И заострил внимание на способе коим Штрубе де Пирмонт представил славянского Перуна скандинавским Тором: «Так как филологический переход очень неловок от Тора к Перуну, то Перуна прежде превращает в Феруна; и выводит на изнанку, что-де готическое th изменилось в ф или n, и что-де русские изменили th в p потому, что и этолийские греки греческую θ произносят как ф!!».
Назвал Венелин и предшественников Байера - О.Верелия, О.Рудбека, Г.В.Лейбница, А.Моллера, а также шведа Г.Валлина, в 1743 г. убеждавшего, что варяги были его соотечественниками. Труд антинорманиста В.К.Тредиаковского «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских» был охарактеризован им как «остроумная» и «веселая пародия» на словопроизводство Байера, выводившего все из Скандинавии, а по поводу Н. М. Карамзина было замечено, что он принял основные выводы Байера, Миллера, Штрубе де Пирмонт и Шлецера, хотя местами «делает им возражения»[191].
В работах Венелина, к сожалению, опубликованных спустя многие и многие годы после его кончины (1839 г.), содержится критика норманистов за их вольное обращение с источниками. Так, в сочинении «Известия о варягах арабских писателей и злоупотреблении в истолковании оных» он продемонстрировал, как академик Х.Д.Френ «в своем роде действительно драгоценном» труде «Ibn-Foszlan's» трактовал арабские известия «прямо в подтверждение Байеро-Шлецеровского учения». Констатируя, что «норманнолюбцы в арабах никакой не могут иметь подпоры», Венелин остановился на информации ад-Димашки (1256-1327 гг.), что варяги «Варенгского» моря «суть славяне славян (т. е. знаменитейшие из славян)». Но этим словам пристрастие Френа, акцентирует он внимание, придало совершенно иное звучание: варяги «живут насупротив славян», т. е. напротив славянского южнобалтийского побережья, значит, в Скандинавии.
И, как резюмировал исследователь, «мы дожили до неслыханного в летописях исторической критики подвига, т. е., что то свидетельство, которое в полной мере сообразно с Нестором опровергает все учение Байеро-Шлецеристов и громогласно объявляет славянизм варягов, приняли за главнейшее доказательство норманизма, шведизма, сего народа, за доказательство и подтверждение, говорю, того, что именно опровергается!!!!... Итак, невольно подумаешь, что потомки норманнов и их братий все присягли и решились надеть на глаза исторической публики темную завесу во всех тех местах, в которых История выражается не в пользу их предков, и попрать ногами все те бесценные единственные исторические памятники, на которых не начертаны имена их предков».
В рассуждении «О происхождении славян вообще и россов в особенности» Венелин, опять же подчеркнув, что Шлецер и его русские последователи «часто Нестора заставляют говорить и думать, чего им хочется», вполне правомерно ставил перед научным сообществом вопросы: позволительно ли Шлецеру выводить народ русь «из Скандинавии, о коем история совершенно ничего не знает? С каких пор и по какому правилу критики уполномочен он заменять глубокое молчание истории своими выдумками? Неужели это не значит высасывать из пальца?».
Обращаясь к М.П. Погодину, объяснявшему норманство варягов из русского языка, напомнил, что «ни малейшего следа шведских слов не находим в русском языке», а на его ссылку на объяснение Байером летописных имен заметил: «Байера нечего приводить в свидетели. Правда, нельзя не отдать справедливости сему мужу признанием его учености; но сия его ученость, подстрекаемая пристрастием в делах критических, вреднее и опаснее самого неведения. Прошу сказать, что можно ожидать от сего человека, который даже имена Святослава и Владимира произвел из скандинавского??!» (добавив затем, что «произведение (Resultatum) его исследований химерическое есть следствием рудбековских его догадок»).
Констатируя, что Шлецер «взялся за Нестора, на коего Байер не хотел взглянуть», весьма выразительно подчеркнул силу воздействия его авторитета на русских ученых: «Приняв на себя профессорскую важность и вид грозного, беспощадного критика, он перепугал последующих ему молодых историков; Карамзин и прочие присягнули ему на послушание и поклонились низко пред прадедами своими скандинаво-норманно-шведо-варяго-руссами!». (И что с тех пор он «служит как бы классическим руководителем для появляющихся молодых критиков».)
Приведя слова Г. Эверса, не верившего «историческим чудесам» шлецеристов, ловко орудующих своим «волшебным средством» - превращением, что «из путей, по коим отыскиваются исторические истины, легче всего вводит в заблуждение словопроизводство», Венелин пояснял, что Байер и Шлецер «превратили» летописные имена в скандинавские, желая «ввести в Россию шведов. Их поддерживало легковерие и беспечность их последователей, кои думали, что в самом деле все, не кончающееся на -слав и -мир, произошло из худощавой Скандинавии». Говоря, что «на созвучия же нельзя полагаться», ибо ко всем именам послов Олега и Игоря «можно найти созвучные, и даже тождественные не только у скандинавов, но и у прочих европейских и азиатских народов», он отметил предельную легкость в создании норманистами «лингвистических аргументов»: «...Всякому слову в мире можно найти или сделать подобозвучное, стоит только переменить букву, две, и готово доказательство».
Акцентировал он внимание и на том, что для новгородцев Южная Балтика находилась «за морем», что «странные словопроизводства» имени «варяги» Байером и Шлецером «суть не что иное, как рудбековские аргументы», на априорном тезисе норманистов, ставшем у них доказательством «перехода норманнов в Россию! Именно: «Норманны были в это время ужасом для всех приморских стран Европы (!!)», что они вопреки показаниям летописи, направляющей послов к варягам, к руси, убеждают, что те прибыли к шведам, в целом, что они «своею галиматьею отуманили начало российской истории и заставили Нестора противоречить самому себе». Оспорил Венелин и способы толкования оппонентами в свою пользу Русской Правды, якобы возникшей под влиянием скандинавского законодательства (датские законы «выданы впервые только в 1240 году, во время Вальдемара II, следственно 223 годами позже Правды» Ярослава), названия днепровских порогов, «на коих они спотыкнулись и где они обнаружили всю вершину своего искусства толковать», показания Вертинских анналов и Лиудпранда[192].
В 1836 г. Ф. Л. Морошкин в примечаниях к изданной им на русском языке работе дерптского ученого А. Рейца «Опыт истории российских государственных и гражданских законов» резюмировал, что от взгляда М.Т. Каченовского, обращенного на славянские края Южной Балтики, «можно ожидать бесчисленных польз для русской и славянской истории вообще» и что он, основываясь на свидетельстве хрониста Гельмольда (XII в.), находит точку соприкосновения между ильменским Новгородом и варяжским (вагрийским) Старградом[193].
Тогда же С. Руссов в исследовании «О древностях России. Новые толки и разбор их» оспорил точку зрения, что Рюрик происходит от князей вагрийских и что его родина Ольденбург (Старград). Многие пытаются доказать скандинавство варяжской руси на том основании, говорил он далее, что в продолжении IX в. норманны громили Галлию и являлись в Голландии: «Силлогизм истории недостойный! Можно ли Колумба и испанцев, открывших Америку и сделавших в ней первые завоевания, называть турками потому только, что турки на пространстве того ж самого полувека завоевали (в 1453 году) империю Византийскую». И подверг обстоятельной критике идею дерптского профессора Ф. Крузе о тождестве Рюрика русских летописей и Рорика Фрисландского, а также указал, что саги - «простые сказки, к истории, кроме некоторых имен, совсем не принадлежащие», что «выражение за море на древнем наречии славян значило за границу» и что Г. Ф. Миллер в диссертации отрицал единство Алдейгобурга и Ладоги[194].
М. А. Максимович в 1837 г. утверждал в монографии «Откуда идет Русская земля», что Ломоносов, придерживаясь древнего мнения о славянстве варяжской руси, вышедшей с южнобалтийского Поморья и звучавшего в народных преданиях, в ПВЛ и иностранных источниках, борьбой за эту истину «на 60 лет разрядил у нас первую тучу байеровской школы», но все «было застужено северным ветром критики шлецеровской», что «старая Несторо-Ломоносовская» историческая школа, ведущая русь с Южной Балтики и производящая ее от роксолан, господствовала до И. Н. Болтина. Отметив при этом, что от роксолан производили руссов в XVI в. различные иностранные ученые, что Татищев опроверг это мнение, «но Ломоносов и многие другие писатели признавали за верное», что сейчас Венелин, Бутков, Бодянский вновь обратились к «этому роднику» руссов, понимая под роксоланами славян, финнов, народ турецкого племени, - «что кому надо, смотря по «системе».
Наша историческая критика, считал Максимович, начинается с Байера и Татищева, видел в трудолюбивом Миллере последискуссионного периода продолжателя сходной с Ломоносовым идеи о выходе руссов из Пруссии («всеобъемлющий Ломоносов остановил» Миллера, стремившегося в диссертации провозгласить скандинавство руси), говорил, что Шлецер в «Несторе» «обновил» мнение Байера и Тунманна, что мысль Татищева о выходе варягов из Финляндии имела много последователей и была главенствующей до Карамзина и что тот, повторив точку зрения Шлецера, «поворотил» ее несколько по Ломоносову («ибо русов шведских он привел к нам через Пруссию»). И только с этого времени стал господствующим взгляд, «покрытый именем Нестора», будто руссы «были народ скандинавского или гото-немецкого племени». Г.Эверс, продолжал далее Максимович, признавал черноморскую русь за хазар, а Н. А. Полевой, приняв за основу предположение, что скандинавами начинается история русского народа, с них и начал свою историю.
Приведя утверждения О. И. Сенковского (запорожские казаки говорили на скандинавском языке, начало украинских дум сопряжено с исландской словесностью - сагою, Запорожье являлось «Днепровской Скандинавией руссов»), Максимович отметил, что, «может быть, такое впадение в излишество и в крайность учения о скандинавском происхождении руси предвещает, что саму учению приходит уже конец: ибо таким явлением обыкновенно кончались не только многие системы философии и других наук, но и разные стремления и направления в других отраслях мысли и жизни частной и общественной. Впрочем это покажет время!».
По мнению ученого, «Сенковский преследует Шлецеровский дух отрицательного критицизма в истории и предается сагам, кои Шлецер выбрасывал из русской истории как «исландские бредни». Но, последовав догматизму или положительному учению Шлецерову о скандинавстве руссов, он расточает его до крайности: по Сенковскому - в древней русской истории все Скандинавия! Каченовский, напротив, отрицает учение о скандинавстве и руссов, и варягов, принимая вместо того для Новгорода - балтийских словен вагров (подобно Герберштейну), для Киева - Черноморскую Азиатскую Русь (предположенную Шлецером и им же самим отреченную от нашей истории). Но отрицательный дух Шлецеровского критицизма Каченовский распространяет на все древнерусское и усиливает до чрезвычайности: по его системе - ничего нет скандинавского в нашей древней истории, да и сама она вся - почти сказка!».
И как заключал Максимович, «вот две новейшие противоположности, в которых Шлецеровская система распадается на свои составные начала, доходя в каждой до той крайней односторонности, при которой сии разрозненные начала действуют друг на друга уже разрушительно, соединяясь с другими началами прежних источников нашей истории». Озвучив позиции сторонников южнобалтийской теории происхождения варягов (Каченовского, Венелина, Морошкина), исследователь подчеркнул, что последний понимал варягов, как Ломоносов (не одно племя или народ, а военное сводное товарищество морских разбойников). Затем ученый согласился с тождеством летописного Рюрика и Рорика Фрисландского, привел разные объяснения слова «варяги» и напомнил, что еще Карамзин обратил внимание на наименование в древности преимущественно Русью Южную Русь и что X. А. Чеботарев, а за ним школа Каченовского проводили мысль о переходе этого имени с юга на север[195]. На следующий год Максимович, упомянув финскую, норманскую и черноморскую версии происхождения руси, подчеркнул, что «никто из русских писателей от Нестора до Ломоносова не признавал скандинавских немцев своими прародителями» и что мнение Ломоносова о разноплеменности варягов повторили П. И. Шафарик и М.П. Погодин[196].
Под воздействием критики оппонентов норманисты начинают менять тональность своих рассуждений, примером чему являются историографические работы Н.И. Надеждина и А.Ф. Федотова. В 1837 г. Надеждин на страницах «Библиотеки для чтения» выступил со статьей «Об исторических трудах в России», где констатировал: «Байер был человек обширной учености, неутомимого трудолюбия и высоких критических способностей». И хотя незнание русского языка «вовлекло его во множество грубейших ошибок», вместе с тем он открыл «новый, критический период нашей истории», «первый обнаружил недоверчивость к летописным преданиям, которые до тех пор были предметом безусловного верования; предпочел им чужестранные источники, о которых никто не слыхивал», и «ввел в атмосферу нашей истории скандинавскую стихию».
Автор не сомневается, что «главным и самым ярким плодом критических работ Байера было скандинавское происхождение руссов от шведских нордманнов», что «не только оскорбило в некоторых народную гордость, но и возбудило политические опасения по причине свежих в то время неприязненных отношений к Швеции». В связи с чем речь Миллера «не была читана. Грустно подумать, что причиною тому был извет Ломоносова». Но из русских историков-дилетантов Надеждин выделил именно его, говоря, что «осторожнее и рассудительнее был Ломоносов. Натуралист по обязанности, литератор по призванию, он вышел на поле для него чуждое, но необыкновенная организация головы предохранила его и здесь от совершенного падения» и что его исторические опыты отличаются «воздержностью и здравомыслием суждений». Татищев, Ломоносов, Тредиаковский, Эмин, Щербатов, Болтин, Елагин, по словам исследователя, «хотя явно, часто даже с ожесточением, противоречили Байеру в выводах, по направлению и приемам критики принадлежат к его школе», что он, «наконец, был для них образцом и того филологического остроумия, которое составляло всю их критику». Но при этом Надеждин подчеркнул, что Байер «сам слишком много доверял словопроизводству, только владел им искуснее» и не сумел «внушить должного уважения к критике».
Связав со Шлецером «решительный переворот в нашей истории, введение строгой, методической, ученой критики», отметил его «отличное приготовление в школе Гесснеров и Михаэлисов», позволившее заняться ему тем, чем до него не занимался никто - изучением русских летописей, результатом чего стал «великолепный» «Нестор», «блистательный образец, как можно восстановить и нашу летопись в ясном и вразумительном виде», и произведший «впечатление во всем историческом мире. В России имел он решительное действие». Видя в нем «слепого энтузиаста русских летописей, обожателя Нестора», говорил о «самонадеянности шлецеровского догматизма», представлявшего все темные места ПВЛ «глупейшими сказками» переписчиков и отрицавшего за ними исторического содержания (отвергая по той же причине саги, ныне ставшие предметом изучения).
Теорию Эверса, отважившегося «восстать» против норманизма, получившего после Шлецера «каноническую несомненность», Надеждин охарактеризовал как «ересь неслыханного сумасбродства» (в «ересь», близкую Эверсовой, сам автор впадет через три года). Признавая высокие достоинства труда Карамзина, ученый вместе с тем отметил, что «его призвание было не историческое, еще менее критическое, в ученом смысле слова» (ибо он «родился литератором»), в связи с чем не смог подвинуть вперед нашу историческую критику, и что свою «Историю» он воздвиг «на нескольких страницах древнего временника, очищенного Шлецером».
Недостатки «Истории русского народа» Полевого автор объяснил недостатками «нынешней, весьма слабой обработки исторических материалов в России», и заметил с нескрываемой усмешкой, что ее автор, «увлеченный иностранною модою», прилагает к русской истории идеи западноевропейских историков (Ф.Гизо, О.Тьерри) и по системе Б.Г.Нибура объявил «Рюрика мифом; но между тем рассказывает обстоятельно и доверчиво, как этот миф приплыл на варяжском челноке из той же самой Швеции, где отыскал его Байер, утвердил Шлецер, узаконил Карамзин».
И для своего времени, и для будущего Надеждин высказал очень глубокую мысль, до сих пор непринимаемую, по причине господства в ней норманизма, российской наукой. Дав летописям изумительную оценку, он на полном на то основании сказал, что «эти первые, безыскусственные отголоски народного самоощущения, будут служить нам живым укором, если мы станем создавать русскую историю по чужим образцам, если будем смотреть сами на себя сквозь стекло, оцветленное иноземным толком»[197].
Сочинение «О главнейших трудах по части критической русской истории» А.Ф.Федотова, вышедшее в 1839 г. и повторяющее многие выводы предыдущих обзоров (в первую очередь Надеждина, под влиянием которого автору удалось избежать односторонности), вместе с тем довольно самостоятельно. Объясняя, что стремится «показать и прошедшее, и настоящее, и (некоторым образом) будущее направление русской исторической критики», ученый первым делом охарактеризовал наследие Байера, Миллера и Шлецера, ибо в них видит основателей «нашей исторической критики», родоначальников «всех исторических мнений».
При этом особенно выделяя Байера, перед которым по прибытии в Россию открылось «обширное, но еще не тронутое поле... для его деятельности!», что он «возвышался едва ли не над всеми европейскими учеными своего века - правильный критический взгляд на историю, следствие глубоких сведений, счастливой проницательности, искусства соображений», благодаря чему «он первый положил краеугольный камень, на котором доныне зиждется критическая наша история; уничтожил верования во многие басни, освященные временем; указал на новые источники византийские и западные», «собственным примером указал: где искать источников и как ими пользоваться». Отмечая, что не все положения Байера остались в науке и что незнание русского языка обрекло его на «грубые ошибки», Федотов категорично заключил: вместе с тем никто убедительно не опроверг его доказательства норманства варягов, и что всякое его рассуждение, «более или менее, посредственно или непосредственно, очищает нашу историю, наводит читателя на новые идеи, ведет к новым соображениям», и что даже самые явные его противники, «противореча Байеру в выводах, особенно в мнении о происхождении руссов, по направлению и приемам критики, принадлежат к его школе».
Несмотря на «безусловное верование в летописи» Миллера, отразившееся во всем творчестве академика (он «как бы не смел уклоняться от них, и потому, нарушая правила здравой критики, доходил иногда до странных заключений»), его «неусыпные труды внушают к нему уважение всех любителей отечественной истории» («он привел в известность все почти главнейшие домашние источники русской истории»). Одновременно с тем было сказано, что «в нем заметен недостаток способности критика: он безразлично верит свидетельствам разновременным, отечественным и иноземным, лишь бы они подкрепляли его мнение», не заботится о доказательствах, «важное смешивает с мелочным, так что трудно угадать господствующую мысль исторической картины, им написанной», что его «История Сибири», хотя и «есть прекрасный опыт, доселе незамененный другим лучшим», «не представляет ничего особенно замечательного ни по своему изложению, ни по мнениям: это есть только удовлетворительное извлечение из грамот, какие ученому путешественнику удалось отыскать в городовых сибирских архивах», что, по его же признанию, историей Новгорода, изложенной в «Кратком известии о начале Новагорода...», он занимался «наскоро, по особенному частному поводу».
По убеждению Федотова, Шлецер есть «первый в ученом свете благовеститель нашего отечества», «наставник всех последующих наших изыскателен», «пламенно» любивший «нашу Русь и наши летописи», который ознакомил нас с правилами низшей критики (обрисовывая его заслуги перед русской исторической наукой, автор использует хвалебные оценки, которыми так щедро наделил самого себя Шлецер в мемуарах и «Несторе»). Шлецер, говорит далее историк, придал взгляду Байера о скандинавском происхождение варяго-руссов «силу едва ли не положительного убеждения», «вразумил русских, что пора отстать от скифов и сарматов (т. е. они не имеют никакого отношения к русской истории. - В.Ф.); что смерть Олега, хитрости Ольги, кисель белгородский суть басни, не достойные повторения», в целом «задал много задач подрастающему русскому поколению» и его «имя было так сильно в области наук исторических». Но при этом нельзя думать, что он «не погрешителен», ибо слишком обожал ПВЛ и летописи вообще, и слишком увлекаемый духом противоречия, «нередко доходит до странных заключений», не принятых наукой (например, отрицание саг как источника).
Отдельно затронув варяго-русский вопрос и считая, «что происхождение Руси есть еще тяжебное дело в нашей истории, требующее нового пересмотра и новых источников для окончательного решения», Федотов заметил, а в устах норманиста эти слова звучали особенно впечатляюще, что его скандинавская версия, подкрепленная «славными именами» Байера, Миллера, Тунманна, Карамзина, Круга, Френа, обратилась «как бы в закон», «в догмат и для исследователей, и для читателей русской истории», а «мнения, например, Татищева, Ломоносова приводили только в насмешку, как пример неученой фантазии». Первым, полагает он, кто пошел отличным от Байера путем, был Эверс, сбивший «с пути многие дарования, которые при лучшем направлении своего трудолюбия, могли бы подвинуть к свету разные темные статьи нашей первоначальной истории, вместо того чтоб останавливать ход исторической критики неуместными спорами о предмете, ясном до очевидности».
И хотя его хазарская гипотеза о происхождении руссов, выдвинутая в 1808 г., «не на прочных основаниях держится» (даже «ложная» в своей основе), но многие из его возражений норманской теории «изложены на основании правил критики самой строгой», так что некоторые ее положения «решительно теряют доказательную свою силу» (например, «кто примет теперь в число доказательств сходство Правды Ярослава с законами скандинавскими и Рослаген?»), а его собственные объяснения, догадки, предположения просветляют нашу историю. Для Федотова труд Татищева, несмотря на его критику Карамзиным, составляет «примечательное явление, особенно когда сообразим и время, в которое писал он, и средства, какими мог он пользоваться», и что он, «по некоторым своим понятиям и историческим верованиям, стоял выше своего века, опередил его». И его версия происхождения варягов из Финляндии сделалась господствующей между русскими учеными, особенно когда ее поддержал Болтин (варяги - финны, а варяго-руссы - финны же, только «с русами помешанные»), при этом объяснив имя «Русь» от сарматского «чермный» или «красный».
В Ломоносове Федотов видит основателя нового учения, которое сегодня возобновляется «с некоторыми только уклонениями вследствие знакомства с новыми источниками, вследствие более глубокого пересмотра старых, известных Ломоносову». Отметив, что он, доказывая славянство варяго-руссов, вышедших из Пруссии, и что россы суть роксоланы, «не вдруг, а после довольно продолжительных ученых приготовлений выступил на историческое поприще», подчеркнул: его голос «везде важен, и его должно выслушать со вниманием», и что большинство ученых на его стороне. Затем Федотов кратко изложил суть воззрений М. А. Максимовича и Ф.Л. Морошкина, проводящих идею славянства руси и выводящих ее с берегов Южной Балтики (доводы Морошкина, твердо говорит он, «несомненно должны войти в сумму других доказательств славянизма руссов»), а также М.Т. Каченовского, уверенного, что название Русь шло не с Севера на Юг, а наоборот, с Юга на Север, и увязывающего варягов с ваграми, и что Ф.В. Булгарин[198] возобновляет мнение И. С. Фатера.
Подводя итог состоянию изученности варяго-русской проблемы, здраво рассуждающий автор-норманист вместе с тем задался вопросом: «Но как отвергнуть другие, которыми доказывается сродство руси с финнами, готами, прибалтийскими славянами?» - и заключил, что эта проблема «требует новых изысканий». После чего Федотов констатирует, что А.Х. Лерберг «удовлетворительнее, нежели Струбе и Тунманн», объяснил русские названия днепровских порогов «и тем придал новую доказательную силу» норманизму, что Круг и Эверс убедительно вскрыли ряд ошибок Шлецера (тот сомневался в достоверности русско-византийских договоров, неправильно толковал летописные выражения и др.). Свое сочинение Федотов завершает анализом труда Карамзина. Говоря, что он после русских историков XVIII в. (В.Н.Татищева, М. В. Ломоносова, М. М. Щербатова и др., занимавшихся историей чаще всего «без предварительного приготовления, мимоходом, иногда от скуки», и которые «не помогали, а только увеличивали затруднения»), имея надежным путеводителем лишь Шлецера, создал труд, который, как «творение истинно гениальное, навсегда останется достопамятною книгою для русских, как бы далеко ни ушли они вперед от Карамзина в своих понятиях о дееписании».
Перечислив некоторые его «ощутительные» недостатки, два из них увидел в том, что Карамзин, во-первых, так и оставил происхождение варяго-руссов «в первобытном мраке» (кроме версии выходя руси из Скандинавии, принимал и версию ее прихода с южнобалтийских берегов, из района Немана), во- вторых, полагая норманнов создателями Русского государства, «не удовлетворительно определил характеристику этих находников; не сказал ничего о их домашних уставах, не показал, какие новые стихии прибавили они к стихиям жизни славянской, и что сами могли от нас заимствовать; как из этого соединения двух стихий, славянской и норманской, образовалось новое общество гражданское - Русская земля, получившая свою отличительную физиономию; не показал, как постепенно усыновлялись взаимные отношения славян и норманнов, и откуда проистекали все главные, внутренние и внешние явления, составляющие содержание истории двух первых веков нашей русской жизни»[199].
Во все более разгоравшейся полемике по варяго-русскому вопросу, а вместе с тем и состоятельности позиций спорящих сторон, более объективной выглядела, несмотря на негативно-агрессивное отношение к ней образованного общества, в котором, если процитировать К.Н. Бестужева-Рюмина, господствовало «крайнее западничество»[200], позиция антинорманистов (неприятие антинорманизма дополнительно усиливало насаждавшееся представление о нем как проявлении лишь славянофильских воззрений, вызывающих у большинства наших соотечественников, абсолютизирующих все европейское, снисходительно-скептическую усмешку).
О том свидетельствуют все более возрастающие сомнения норманистов в важных положениях своей теории и в подходах к изучению истоков Руси (в целом, к ее истории), канонизированных высочайшими авторитетами западноевропейской и российской исторической науки. Так, в 1838 г. в адрес работы А. Л. Шлецера «История России. Первая часть до основания Москвы» (1769 г.) в журнале «Современник» было подчеркнуто, при всем самом благожелательном отношении к немецкому ученому, что в этой «образцовой книжке о древней истории... более критического остроумия, нежели науки и фактов исторических». На следующий год В. Г. Белинский не без сожаления заметил, имея в виду Н. А. Полевого, а вместе с ним тот нездоровый настрой в нашей историографии, подрывающий ее дееспособность, о котором двумя годами ранее вел речь Н.И. Надеждин: «...Историки наши ищут в русской истории приложение к идеям Гизо о европейской цивилизации, и первый период меряют норманским футом, вместо русского аршина!..».
А в 1841 г. критик прямо признал отсутствие убедительности в обосновании норманской теории, давно уже приобретшей в науке и обществе официальный статус и вид непререкаемой истины. Во-первых, как заметил он в адрес исследователей, занятых выяснением начальной истории Руси, «решение этого вопроса не делает ни яснее, ни занимательнее баснословного периода нашей истории», а лишь поглощает всю деятельность большинства наших ученых. Во-вторых, продолжая мысль, высказанную в 1824 г. И. Лелевелем, а также в той или иной мере звучавшую в трудах Н. Г. Устрялова и А. Ф. Федотова, Белинский заключил: были варягами норманны или «татары запонтийские», все равно, «ибо если первые не внесли в русскую жизнь европейского элемента, плодотворного зерна всемирно-исторического развития, не оставили по себе никаких следов ни в языке, ни в обычаях, ни в общественном устройстве, то стоит ли хлопотать о том, что норманны, а не калмыки пришли княжити над словены»[201].
В 1840 г. И. П. Боричевский в статье «Руссы на южном берегу Балтийского моря», опубликованной в «Маяке», выразил свое несогласие с утверждением литовского историка Т. Нарбутта, что существовавшая на балтийском Поморье Русь принадлежала Литве. Отталкиваясь от мнения Карамзина о руссах в Пруссии, от показаний средневековых авторов Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, Гельмольда, Дюсбурга, Географа Равеннского, автор констатировал, что руссы, в которых он видел норманнов, обитали на южных берегах Балтики в разных местах и в сопредельных странах, при этом особое внимание обращая на нижнюю часть Немана (Боричевский, видимо, был не в курсе, что Неманскую Русь открыл Ломоносов). Принял он и довод Карамзина, что Южная Балтика по отношению к Новгороду находилась «за морем».
В том же году П.Г.Бутков, «обороняя» летопись «от наветов скептиков», отверг «догадку» Миллера и Шлецера, что Изборск - это скандинавский Исаборг, т. е. город на реке Исе. При этом ее несостоятельность объяснив очень просто: Иса вливается в р. Великую выше Изборска «по прямой линии не ближе 94 верст», и привел наличие подобных топонимов в других русских землях (г. Изборск на Волыни, у Москвы-реки луг Избореск, пустошь Изборско около Новгорода). Поэтому, подытоживал он, нельзя «отвергать славянство в имени» Изборска «токмо потому, что скандинавцы превращали наш бор, борск на свои борг, бург, а славянские грады на свои гарды, есть тоже, что признавать за шведское поселение, построенный новгородцами на своей древней земле, в 1584 году, город Яму, носящий поныне имя Ямбурга со времени шведского владения Ингерманландиею 1611-1703 года». Причину, по которой Шлецер изображал Русь до прихода Рюрика «красками более мрачными, чем свойственными нынешним эскимосам», норманист Бутков увидел в том, что его пером «управляло предубеждение, будто наши славяне в быту своем ничем не одолжены самим себе», а все только шведам. И сказал в ответ, приведя соответствующие аргументы, что «нет причин почитать славян полудикими, кочевыми, жившими по-скотски», и что Н.М.Карамзин, Г.Эверс, И.Лелевель, Г. А. Розенкампф «обнаружили в мнениях Шлецера многие ошибки».
Касаясь мысли Эверса о южном происхождении руси, Бутков заметил, что «где Шлецер кинул своих понтийских россов, не сказав даже, к ним или к киевским принадлежали россы, служившие грекам в 902 и 935 годах, там Эверс взял их под свое покровительство, чтоб открыть в них, по показанным выше словам арабским руссов, давших нашей стране свое имя и своих государей, не нордманнов, а, по его мнению, турков». И, назвав эту мысль «неслыханной новостью», «гаданиями» ученого, опровергал ее тем, что в источниках нет сведений о какой-то черноморской руси и что море - это «истинная стихия нордманнов, наших варяго-руссов; и потому Понту приписываемо было имя Русского моря». В отношении же идеи Ф. Крузе о прибытии на Русь Рорика Ютландского (Фрисландского) историк пришел к выводу, что он соединил в одном лице несколько современников. Отвергнул Бутков и некоторые предложения скептиков[202].
В 1841 г. М.П. Погодин на страницах «Москвитянина» выступил с критикой работ Н.И. Надеждина, Ф.Л. Морошкина и М. А. Максимовича. Первого, указавшего в 1840 г., на основании показаний арабских и византийских источников, на давнее существование Руси (роксолан, например) на юге Восточной Европы, упрекнул за то, что он «воскрешает Шлецеровы привидения, народ русь, который неизвестно откуда приходил и неизвестно куда ушел после нападения своего на Царьград в 866 году». При этом выставляя ему следующее возражение, довольно показательное для аргументации сторонников норманской теории: «Обстоятельства русского нападения на берег Каспийского моря и росского на Константинополь одни и теже с нападением норманнов на берега всех европейских морей, и доказывают их одно северное происхождение, а не восточное» (и здесь же заметив в адрес «Истории русского народа» Н. А. Полевого, что она «замарала было на время нашу почтенную историческую литературу»).
В отношении второго исследователя, а вместе с ним и Каченовского, Погодин сказал, что они «олицетворяют для меня две крайности истории: ист. суеверие и неверие, и служат для меня маяками не современного просвещения... Молодые исследователи истории! смотрите на гг. Каченовского и Морошкина, - не верьте всему, как г. Морошкин, не сомневайтесь во всем, как г. Каченовский», и тогда «будьте уверены, что вы идете по верной стезе исторических исследований, прямо к истине». Обращаясь к Максимовичу, убеждал его, что «разве страница, написанная мимоходом Татищевым о финском происхождении Руси, есть система? Разве слова Ломоносова, сказанные им наудачу, составляют систему?». Говоря об истинности учения Байера и Шлецера, опирающегося на собственные летописные имена, на русские названия днепровских порогов, на показания Вертинских анналов, Лиудпранда и подкрепленного как его собственными исследованиями, так и «новыми открытиями Шегрена, Френа, Круга», историк вместе с тем по сути признал правоту противников этого учения, демонстрирующих отсутствие связи имени Русь со Скандинавией и присутствие его во многих местах Европы: «От чего происходит имя Руси? Вопрос любопытства, не более»[203].
В том же 1841 г. Максимович в ответе Погодину, также помещенном в «Москвитянине», отметил, что «на Руси никто из русских, до исхода прошлого столетия, не считал своими предками скандинавских немцев». На упрек же оппонента, что учение Ломоносова, Татищева и других он величает «именем системы не по достоинству их», заметил, «что тебе не нравится равное внимание мое ко всем учениям; что тебе кажется достойным внимания и разбора только скандинавское учение Байера и Шлецера, поддержанное твоим магистерским рассуждением и беспрестанно для тебя подтверждающееся новыми открытиями Шегрена, Френа, Круга». При этом Погодину также было сказано, что «приведенные тобою имена почтенны и знамениты своею ученостью; но для меня не менее, в отношении к Руси, почтенны имена Ломоносова, Татищева, Чеботарева, Болтина и других русских ученых», и что «именитость не есть ручательство за истину».
Абсолютно не принимая утверждение Погодина, что Ломоносов о русской истории говорил «наудачу», повторил произнесенное в 1837 г. в его адрес как «нашего первого историка», напоминая, что историей он занимался профессионально: изучал русские и иностранные источники, «делал из них сотни выписок, соображал характер наших исторических событий», и фактически все это делая впервые. «Вы называете Шлецера, - говорил он далее, - отцем нашей исторической критики; но это был для нее лихой вотчим, от которого родился и наш исторический скептицизм. Как самопроизвольно и небрежно обходился он с Несторовою летописью?», из которой, обращал внимание ученый, «вовсе не видно скандинаво-немецкого происхождения Руси», и что это происхождение не следует из византийских и арабских известий. Свою оценку Шлецера Максимович завершил словами, что «в своем шведском учении о Руси - он был самый упорный и односторонний систематик» и «что же значат восторженные гиперболические похвалы Нестору от Шлецера? Под видом Нестора он хвалит только себя!».
Перечисляя ошибки Шлецера («отвержение» саг, «совершенное отвержение для нашей истории скифов, сарматов, роксолан и проч.», его сомнения в походах Игоря на Византию, якобы выдуманные «Нестором из патриотизма», и др.), напомнил Погодину, что он сам «опроверг так искусно главное Шлецерово утверждение, будто варяги-русь были шведыЬ, и посоветовал освободится «от впечатлений молодости, какие накричал тебе Шлецер своею резкою, бранчивою, самопроизвольною критикою». Остановившись на факте отступления авторитетнейшего историка-норманиста от догматов отстаиваемой им теории, подчеркнул: «Замечательно, что и Карамзин, хотя и вывел руссов из Швеции, но сначала ословянил их в Пруссии и потом уже привел в Новгород».
Говоря о взглядах современных ему норманистов, Максимович констатировал: «Это видение скандинавства руссов, теперь господствующее в нашей истории, иногда обращается почти в болезнь умозрения». А заключения О. И. Сенковского охарактеризовал как «только миражи, призраки исторические». В напечатанном здесь же ответе Погодин, отмечая корректность критики Максимовича в свой адрес и признаваясь, что когда-то и «мне не хотелось никак признать Рюрика иноплеменником, норманном, да надо, мой друг, уступить ученой необходимости», твердо заключил: все вместе доказательства о скандинавстве варягов-руси «составляют такую каменную цепь, которой никаким наскоком и натиском прорвать едва ли кому удастся»[204].
В 1842 г. Ф. Л. Морошкин, давая ответ Погодину на страницах петербургского «Маяка», заметил, во-первых, что поклонники Байера отказались «для него от собственного, независимого исследования наших древностей», во-вторых, что его оппонент в своей рецензии смеется без доказательств, хотя «ему, профессору русской истории, следовало бы ex officio заняться рассмотрением нового воззрения на нашу древность, подвергнув оное строгому, подробному разбору по всем правилам исторической критики, тем более что сим воззрением подрывается в конец и та система, которой держится он сам»[205]. В том же году Ф. Святной отметил, что «рассуждениям о происхождении руси и конца нет» (их выдают за шведов, «готов черноморских, прусских, ботнических, за фризов, за датчан, за хазар, за турок, за финнов, за жителей с Фароэрских островов и бог весть за кого») и что Шлецер «наперекор точным словам летописи вывел русь из свей».
В качестве примера неверного толкования летописей (в данном случае, поздних) он привел трактовку норманистами их указания на выход варягов «из немец». Констатируя, что они, поняв это выражение «на скорую руку, в духе новейшего русского языка», Святной сказал: именно со Шлецера повелось выставлять его поборникам славянства руси «в неопровержимое доказательство», что варяги-русь - не славяне. Ученый, обращая внимание на отсутствие этнического содержания в этих словах, квалифицировал их как ориентир на территорию, заселенную ныне германцами (по его уточнению, на Южную Балтику, где фиксируется русь на острове Рюгене). В древности, рассуждал Святной, да и как значительно позже, «вместо имени страны употреблялось имя населявшего ее или преобладавшего в ней народа, как общины, во множественном числе». Он также подчеркнул, что имя варяги означает жителей Западной Европы, какого бы происхождения они ни были[206].
Но норманистам, по понятной причине, не могли еще принять эти мысли. А за отсутствием резонных контраргументов они, по примеру Шлецера, все время пытались представить взгляды оппонентов только как патриотические и, естественно, якобы не имеющие к науке отношения. И что, кстати заметить, удовлетворенно принимало в своей основной массе российское образованное общество, с каким-то отчуждением смотревшее на свое прошлое. Так, в 1842 г., в год окончания Московского университета, С.М.Соловьев опубликовал в журнале «Москвитянин» отзыв на книгу Ю.И. Венелина «Скандинавомания и ее поклонники, или столетния изыскания о варягах». И в позиции последнего, отстаивавшего южнобалтийскую версию происхождения варягов, рецензент увидел лишь старание «смыть с великого русского народа бесчестье называться именем чуждого племени». Затем, вступившись в защиту Байера, Соловьев разъяснял, что «вовсе не следует обвинять благонамеренных немцев... в каком-то пристрастии касательно вопроса о варягах, что мнение о варягах, как о скандинавах, вовсе не принадлежит Байеру, а старинное русское, и высказано положительно в первый раз не ровно сто лет тому назад, как говорит Венелин, а в 1573 году, в письме Иоанна Грозного шведскому королю, где царь прямо говорит, что варяги были шведы».
А в качестве источника, откуда была взяты слова, что «варяги были шведы», историк назвал девятый том «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Но в послании к Юхану III от И января 1573 г., которое использовал Соловьев в качестве неопровержимого аргумента в пользу норманства варягов и для демонстрации несостоятельности утверждений антинорманистов, шведов нет и в помине. Как писал царь своему венценосному корреспонденту, «в прежних хрониках и летописцех писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги - немцы, и коли его слушали, ино то его были, да толко мы то известили, а нам то не надобе»[207]. «Превращение» немцев этого документа в шведов произошло, о чем речь уже шла, в 1821 г. по воле Карамзина, согласно норманистским убеждениям которого письмо Грозного стало принципиально отличаться от оригинала: «Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава-Георгия: а варяги были шведы, следственно его подданные».
Фразу, что «варяги были шведы», якобы произнесенную русским монархом в XVI столетии, в XIX в. цитировали, т. е. многократно тиражировали (помимо переизданий труда Карамзина), кроме Соловьева, многие норманисты. Нетрудно себе представить, с какой огромной силой такая норманистская трактовка выдержки из подлинного документа оказывала на историческое сознание русских людей, на незрелые еще умы юных ученых, тем самым априори уже утверждавшихся в мысли, что, как говорил, например, К.Н. Бестужев-Рюмин, «еще в XVI веке носилось мнение о выходе князей из Скандинавии»[208] и что антинорманисты неправы (показательно, что Соловьев в дальнейшем норманство варягов уже не будет доказывать ссылкой на послание Грозного в произвольной передаче Карамзина, и в 1856 г. в «Истории России с древнейших времен» приведет его в полном согласии с оригиналом[209]).
В 1842 г. Н. В. Савельев-Ростиславич в предисловии к работе Ф. Л. Морошкина «Историко-критические исследования о руссах и славянах» подытоживал, что Байер, «проникнутый немецким патриотизмом», старался онемечить Русь и главной своей целью поставил задачу доказать норманство варягов, для чего подыскивал созвучия, в связи с чем вся его система основана на шатком «если» (при этом было приведено заключение Шлецера, что Байер по незнанию русского языка наделал важные ошибки), что Миллер, «оказавший великие заслуги русской истории», написал диссертацию «в байеровском духе» что Карамзин заслуженно критиковал Штрубе де Пирмонт по поводу его Ризаланда-Рюссаланда и за вольную трактовку источников. Причем последний «для легчайшего онемечения Руси, превратил даже Перуна в скандинавского Тора: «Перун-Ферун-Терун-Тер-Тор!».
Байер и Тунманн, обращал внимание автор, признали, что имя варягов не было известно в Скандинавии и что Шлецер для поддержки норманской теории «указал на шведский Род'слаген, уверяя будто бы варяги-русь вышли отсюда». Но, констатирует Савельев-Ростиславич, Розенкампф доказал отсутствие связи между «Rod's-lagen» и Русь, «после чего не осталось никакого сомнения в том, что в Швеции никогда не было области русской», и что еще Эверс справедливо обращал внимание «на совершенное молчание скандинавов о Рюрике и основании им Русского государства, между тем как они не упускали случая похвастаться даже самыми ничтожными подвигами».
Назвав эти факты отрицательного свойства, историк произнес, что немцам еще простителен норманизм: «Они хоть из патриотизма хотят онемечить древнюю Русь... а наши-то, некоторые писатели, из-за чего хлопочут, стремясь поддержать явные несобразности немецких писателей? Из любви к истине? Но истина против них. Из подражания моде, иностранному покрою платья?». И, как сам заключал, из рабского поклонения Байеру. «Немецкое направление», констатировал он, «повредило нашей истории и остановило ее успехи», и что «высшею эпохою торжества шлецеровской школы были двадцатые годы нынешнего столетия». Но в 1828 г. Розенкампф «смело провозгласил: что названия «Руси и руссов, обитающих в нынешней России, известны были грекам еще до царя Михаила, до Рюрика и до завладения варягами Новгородом и Киевом». В сагах «веринги», указывал Савельев-Ростиславич, отличаются от норманнов, а О. И. Сенковский, один из самых жарких защитников норманизма, установил, что до 1040 г. слово «варяг» не было известно скандинавам и что названия «варяг», «варенги», «веринги» чужды скандинавскому языку, а в 1836 г. Морошкин привел важные свидетельства «о бытии» славянской Руси на Южной Балтике[210].
Сам же Морошкин в 1842 г. был тверд во мнении, что у нас не будет истории, достойной русского народа, пока мы «будем верить Шлецеру и его продолжателям. Шлецер не понимал Нестора, и вообще заставлял летописцев говорить так, как ему было угодно, порицая все, что было противно его системе», тем самым искажал текст летописей и положил ложным главное начало отечественной истории, ибо «везде начинает с Рюрика; рассматривать русский быт до времен Рюрика он считает как бы преступлением», и что «напряженный и глубокомысленный» труд Венелина по истории славян все «более приобретает уважение и достоверность» («славянское направление, видимо, начинает торжествовать над софизмами, послужившими основанием системы вывода руссов из Скандинавии, системы, разрушаемой и убеждениями здравой исторической логики и положительными свидетельствами средних веков»), Отметив, что Байера, объявившего варягов норманнами, поддержали Миллер, Тунмаин, Шлецер, Карамзин (но который относительно местности руссов уже сблизился с Ломоносовым, выводившим их из Пруссии), ученый далее сказал, что сейчас «еще верят мнимому скандинавству руссов» П. Г. Бутков, Ф. Крузе и М. П. Погодин.
Первый возобновил теорию Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, «умершую» от возражений Карамзина, второй несколько раз перемещал руссов то в Родслаген, то в Ютландию, то в Ольденбург, а третий все отмалчивается и не говорит, где, как он считает, находилась родина варяжской руси. Но пока «немецкая историческая школа» смотрит на Север и говорит, что «будто бы норманны вложили дух жизни в огромный, глухой и неведомый русский мир», М.Т. Каченовский оставил «это бесплодное для русской истории направление» и обратил внимание на Южную Балтику, видя в ваграх, обитавших в Вагрии, варягов (указав при этом на одно из наименований жителей острова Рюген - Rusi), что сулит русской истории глубокое разрешение «вопроса: откуда Русь? Когда и какие государственные стихии принесены ею для русской истории». А в отношении распространенного в то время аргумента, овеянного авторитетом Шлецера, Морошкин заметил: «Варяги-русь пришли из-за моря; следовательно, они пришли из Скандинавии. Вот силлогизм шлецериан!»[211].
В том же 1842 г. С.АБурачек, критикуя первый том «Истории русского народа» Н.А.Полевого, указывал, что в фундаменте этого сочинения лежат мнения разных исторических школ: скептиков, Шеллинга, Тьери и т. д. («с миру по нитке и - вышла эклектическая система») и что «из этой эклектической мешанины необходимо вышел непрерывный ряд ошибок, заблуждений и противоречий самому себе». Рецензент подчеркивает, что Полевой «поверил на слово заморским толкователям», что русский народ появился только в середине IX в. и что если бы он взял на себя труд исследовать спорные места, то не основывался бы на «ложной ипотезе о скандинавстве руссов»» и из истории русского народа не сделал бы «скандинавскую сагу», что он «смелой кистью сочиняет» историю древней Скандинавии «и на этом сочинении основывает свою Историю Р. Н.».
Касаясь слов Полевого, что «скандинавские князья срубили много городов, и всем им дали славянские имена», Бурачек с оправданной иронией сказал: «Чудаки эти скандинавы!». Также совершенно правомерно он отметил, что скандинавы не могли поклоняться славянским божествам: «...Они клялись бы Одином, Тором, а не Перуном», божеством балтийских и восточных славян, и что византийцы до Рюрика называли Черное море «Русским морем». Параллельно с тем Бурачек дает оценки некоторым историкам: не довольно образованный Манкиев, Эмин, но трудолюбивый Татищев, что Миллер оказал значительные услуги русской истории собиранием материала, что Карамзин, «увлеченный Шлецером, не слишком выгодно отзывался о Татищеве», хотя тот пользовался многими источниками, впоследствии утраченными, что «доказательством исторического здравомыслия Ломоносова служит то, что он один, без всяких пособий восстал против скандинавщины, ныне совершено обличенной»[212].
В 1842 г. в рецензии некоего А. К. на «Историко-критические исследования о руссах и славянах» Морошкина, изложенной в форме письма к М.П. Погодину, отмечалось, что данный труд, разрушающий «систему скандинаволюбителей», был несправедливо подвергнут им «порицанию и насмешкам» (речь идет об отзыве историка, напечатанном в журнале «Москвитянин» за 1841 г.). Хотя Погодину, что вообще-то не без резона было замечено рецензентом, «как профессору русской истории... надобно или ученым образом опровергнуть или же принять систему Морошкина, который глубоко взглянул на сей предмет». Обильно цитируя книгу и предисловие к ней Савельева-Ростиславича, автор констатировал, что, во-первых, последний «резкими чертами» представил «заблуждения системы мнимого скандинавства Руси», во-вторых, Морошкин доказал, обращаясь к документам и топонимике, наличие в пределах Восточной и Западной Европы нескольких Русий и обосновал нахождение славянской варяжской Руси на Южной Балтике (в Вагрии и землях лютичей). В завершении разговора им было подчеркнуто, что данную монографию - «добросовестный труд, - разумеется, не изъятый от недостатков, как все человеческое, - не стыдятся унижать, умалчивая о достоинствах и придираясь к опечаткам или не точным выражениям»[213].
В 1843 г. Н. А. Иванов, не отрицая за Г. 3. Байером «ни глубоких его познаний, ни поразительного остроумия, ни светлого взгляда, ни счастливого соображения, ни искусства выводить заключения из самых дробных исследований» и соглашаясь с мнением, что в его статье «О варягах» «содержится обильный запас открытий, весьма удачных замечаний и правдоподобных домыслов», с сожалением резюмировал следующее. Во-первых, критика Байера привела «к отчуждению от национальных интересов, еще более от духовного общения с соплеменниками», поселило «в наших умах робкого недоверия к собственным силам и убеждения в неизбежности постороннего руководительства», в связи с чем «замедлило развитие в нас самостоятельных идей о нашем прошедшем... идей, которых нельзя приобрести заимствованиями и которые делаются лишь несомненным упованием на свое сердце, на свою мысль, на свое нравственное призвание», и, во-вторых, что «мы слишком неосмотрительно положились на непогрешимость» направления, которому следовал Байер касательно нашей истории, «неуместно поторопились отречься от самостоятельного воззрения на русскую старину, чрезвычайно резко обнаружили нашу наклонность к безотчетному подражанию».
Отмечая, что немецкий ученый бродил «ощупью по русским летописям» («затруднялся различить Временник от Степенной книги... нисколько не был в состоянии определить ни древности, ни подлинности источников») и зависел «от бестолковых переводчиков», Иванов напомнил, что его заслуженно упрекал Татищев за пренебрежение летописями, за грубые погрешности, причинами которых были незнание русского языка и одностороннее, ошибочное понятие «о русской старине». А после слов, что «доселе некоторые из нас вполне уверены, что вопросу о норманнах принадлежит неотъемлемое преимущество перед прочими задачами отечественной истории», с горечью воскликнул: «Сколько свежих сил, сколько времени и усердия, сколько постоянства и ревности истрачено нами!.. А где плоды, коих ценность равнялась бы нашим пожертвованиям!..». Одновременно с тем им было замечено, что «напрасно толкуют, будто краеугольный камень для критических изысканий относительно отечественной истории положил Байер», т. к. его работы «покоились в забвении до Шлецера, громко провозгласившего о высоком достоинстве, коего в них весьма многие дотоле и не подозревали».
Проанализировав претензии Шлецера к Татищеву, Иванов заметил, что он, «слишком торопливый в своих критических отзывах на счет наших писателей, назвал Татищева истым русским Длугошем, т. е., по собственному его толкованию, бесстыдным вралем, обманщиком, сказочником». Шлецер, добавлял автор, этот «неумолимый судья чужих ошибок», страдая «закоренелым недугом пристрастия, не всегда помнил о своей задушевной kleine Kritik, довольно часто порицал наугад, порою - умышленно приводил ложные цитаты. Это давно уже доказано, и только безотчетное предубеждение доселе упорно отвергает явные улики», и что «как скороспелы, как смелы» его приговоры, «доселе повторяющиеся» в литературе. Говоря, что суждения Шлецера о Татищеве - это «вопиющая неправда», Иванов конкретными примерами подтверждает данный факт, одновременно указывая, что в «Несторе» он беспрестанно противоречит себе, что он скорее затмевает, чем проясняет спорный вопрос о начале, характере и развитии летописания, что как неверен его взгляд на древнейший быт славян до Рюрика и на начало русской истории с призвания варягов, что уже Эверс и Лелевель указали на ложные представления Шлецера о прошлом восточных славян.
Ведя речь о Миллере, заключил, что он, несмотря на ошибки при издании ПВЛ, достиг главнейшей цели, которую предназначил себе, а его статью за 1755 г., в которой впервые прозвучала мысль о публикации летописей, назвал «замечательной». При этом заметив, что Миллер заимствовал сведения о летописях именно у Татищева, который, «невзирая на ограниченные способы, не устрашась никаких препон, не смущаясь ничьими подозрениями», «совершил подвиг, на который не отважился никто из его сверстников». Так, он первым рассказал о Несторе, о том, что у него были предшественники, а также продолжатели, которые редактировали его труд. В целом, как подытоживал историк, направление, которому следовал Татищев, «существеннее и важнее, нежели разрывчатые, побочные изыскания Байера», и что Шлецер, «обладавший огромным запасом разнообразных сведений», очень много повторяет из Татищева («пишет указкой Татищева!», при этом «расточительно наделяя его упреками»), в том числе и его ошибки. В отношении же его нелестного мнения о Ломоносове Иванов сказал, что оно представляет собой поверхностное рассуждение о ходе русской историографии[214].
В 1844 г. Г.Ф.Головачев в статье, опубликованной в «Отечественных записках» и посвященной жизни и творчеству Шлецера, именует его «великим деятелем», «истинным, добросовестным ученым». При этом уверяя, что до него «никто еще не осветил лучом критики источников нашей истории; что, кроме Байера, Миллера и Татищева, никто не предшествовал ему на этом пути, и вы изумитесь колоссальному подвигу ученого немца» во имя русской истории (по его словам, он «сознал себя историком» в России и что «пребывание в России имело благодетельное действие на его дарование»). Шлецер, подводит черту Головачев, также внеся значительный вклад в изучение всеобщей истории, мог во многом ошибаться, на многое смотрел слишком односторонне, но он «подвинул современников своих к деятельности, положил печать своего ума на современную ему Германию, - для нас соответственно, для нашей истории совершил великий труд, перед которым кажутся ничтожными труды многих из его последователей»[215].
В том же году в «Журнале Министерства народного просвещения» был помещен за подписью П.Б. (П.Г.Бутков?) многостраничный разбор первого тома исследования А.А.Куника «Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen. Erne Vorarbeit zur Enstehungsgeschichte des russischen States. Bd. I» («Призвание шведских родсов финнами и славянами. Введение в историю развития российского государства»), изданного в Санкт-Петербурге в 1844 году. Причем разбор самый доброжелательный и он подробно ведется по всем разделам книги: введению и пяти главам, что позволяло незнающему немецкий язык читателю детально ознакомиться с главными ее положениями. Так, отмечается, что «автор с негодованием опровергает несправедливые упреки гениальному историку» и «основателю русской исторической критики» А.Л.Шлецеру, во многих отношениях опередившему свой век, приведены слова Куника, что «он первый назвал историю славян (древних) существенною частью русской истории, и даже думал об истории славянского права», что он «первый панславянист и панфиннист в истинном значении слова». Особенное расположение П.Б. вызвало то, что ученый «указывает и берется проложить новый путь исследования, еще не испытанный в приложении к русской истории, но уже блистательно оправданный опытами иностранных, преимущественно германских лингвистов». Останавливаясь на характеристике этого пути, рецензент подчеркивает, что раньше «исследователи не совсем еще ясно понимали, что всякий язык... содержит свидетельства о древнейших отношениях народа, каких нельзя подтвердить историческими документами, и что русский язык таким образом есть первый и чистейший источник для национальной русской истории; его законы - исторические факты и освящены вековою давностью, и потому не могут быть опровергнуты никакими фантазиями, никакими софизмами, никаким скептицизмом».
По его мнению, норманисты от Шлецера до Круга и Погодина «строго держались исторических свидетельств, принимая филологические доказательства, как второстепенные, которые сами по себе имеют только некоторую степень вероятия, и получают доказательную силу только в связи с историческими. Представитель другого направления Эверс еще менее доверял этимологическим сравнениям: может быть, потому, что видел шаткость тогдашней филологической методы». Но сейчас все в корне изменилось, и Куник, как «ученик новой школы языкознания», возведшей в лице своего основателя Я. Гримма филологию «на степень науки точной и положительной, как история», обязуется придерживаться строгости ее методы: «Приложение лингвистики к истории... состоит не в слепых поисках корнесловия, не в пустом наборе слов, созвучных только по наружности»: напротив, автор обещает дать отчет в каждой букве, объяснять переход или изменение каждой буквы законами языка посредством аналогий». И, как констатирует П.Б., все это Куник прекрасно достиг, показав германское происхождение имен «варяг» и «русь», и тем самым положив для решения вопроса о Швеции как родине руссов «основание, которым исследования освобождаются от произвола». В целом сочинение Куника, заключает П.Б., «независимо от своего результата, останется памятным, как опыт приложения к русской истории так называемой историко-генетической методы языкознания, и в этом отношении, без сомнения, принесет свою пользу». И высказал в адрес автора лишь одно замечание: он «излагает свои исторические взгляды коротко, не более того, сколько нужно только для хода его лингвистических изысканий. Можно надеяться, что он в продолжение своих, собственно исторических исследований, подробно войдет в противоположные доказательства».
В 1844 г. на страницах семнадцатого тома «Маяка» были опубликованы письмо антинорманисту Ф.Л. Морошкину и «заметки» норманисту П.Г.Буткову. М. Н. Макаров, высоко ставя «Историко-критические исследования о руссах и славянах» Морошкина, говорил «о нелепой в основании системы скандинавского происхождения» Рюрика и его руси, о «закаленцах в скандиновамании», поклонниках «исландских бредней» и слепых обожателях «Байеро-Шлецеровых», которые по своему усмотрению «перетолковывают» летопись. Констатируя, что «у нас есть еще охотники статейно или приказно повелевающие нам занимать в язык наш слова от финнов, чухонцев, да и Бог знает от кого!», задавался вопросом: «Неужели мода немчить нас, в основании подрытая, разоблаченная во всей наготе, мода стараться онемечивать начало Руси, будет находить приверженцев между русскими, так называемыми учеными историками?».
А.В.Александров, положительно отзываясь о труде Буткова «Оборона летописи русской, Нестеровой, от наветов скептиков», отметил, что именно он открыл цели и намерения Шлецера, с предубеждением относившегося к славянам. Но вместе с тем сказав, что автор доверчиво относится к сказкам Рудбеков, Верелиев, Биорнеров, приводя их «в доказательство никогда не живших руссов в Ботнике, населенной лопью или чухнами-лапландцами», и что эти господа, как и Байер, «только увлекали в ошибки». Призывая его «бросить всех господ историков, сказочников, вовлекших вас в подобные странные ошибки и соединиться со славянскою школою», рецензент при этом напоминает, что А.Ф. Вельтман и М.Н. Макаров, «бывшие некогда ревностными приверженцами скандинавщины руссов; увидев же ошибку этой системы и несообразность ее с логикою, отложились от поклонников Байера и с честию уже ратуют в рядах славянистов». И, говоря Буткову, что «сознание ошибок не приносит никому бесчестия», в адрес Погодина Александров бросает реплику, что «в деле Науки коснения и упорства не славны вовсе» (одновременно с тем ведя речь об афоризмах Погодина о Несторе)[216].
В 1845 г. вышла работа «Современные исторические труды в России: М. Т. Каченовского, М.П. Погодина, Н.Г.Устрялова, Н. А. Полевого, Ф.В.Булгарина, Ф.Л.Морошкина, М.Н. Макарова, А.Ф.Вельтмана, В.В.Игнатовича, П.Г.Буткова, Н.В.Савельева и А.Д.Черткова. Письма А.В.Александрова к издателю «Маяка». Иллюстрируя свои размышления весьма пространными цитатами из сочинений рассматриваемых авторов, Александров отмечает, что Погодин, пристрастный «к ложной идее, наперед принятой за истинную», «горою стоит за скандинавоманию, так справедливо опозоренную Венелиным, Каченовским, Максимовичем, Морошкиным, Савельевым, Святным», что «его попытки восстановить систему скандинавского происхождения Руси оказались совершенно бесплодны» и что на нем «лежит обязанность разобрать сочинение Морошкина ученым образом, а не потешаться над добросовестным трудом бескорыстного труженика». При этом было отмечено, что Погодин наполовину отказался от воззрений Карамзина, глядевшего на Русь как на дикую пустыню, «которую надобно было еще только житворить», и что он, в 1830 г. резко критикуя «Историю русского народа» Полевого, в 1842 г. «сам берет в заем главные мысли из этой самой книги».
По мнению Александрова, современные норманисты, ревностно желая «онемечить варяжскую русь» и в связи с этим «нещадно» ломая историю, «забывают важнейшее признание Байера, что само имя варягов было неизвестно между скандинавами, и еще важнейшее свидетельство шведского ученого Тунманна, что шведы никогда не называли себя русью» и что они все основывают «только на сходстве звуков, не принимая в расчет логики». Так, Булгарин (точнее, Н. А. Иванов), хотя и пытается «пристать ко мнению новому, которое еще не утвердилось, и явно отложиться от прежней Байеровой школы», но все же полагает, что имя Россия - немецкое, происходит от слова ross и значит «Коневья земля». И рецензент не сомневается, что «высшая историческая критика» не предмет Устрялова, что выводы Полевого не имеют веса «в исторической литературе» (он, основываясь «не неверных источниках» и восхищаясь сагами, «выдумал» историю) и что «книжечка» Куника (имеется в виду его «Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen». Bd. I-II. - SPb., 1844-1845), «наскоро сшитая из всех прежних диссертации, защищавших мнимоскандинавское происхождение Руси, может ли пользоваться авторитетом?».
Александров подчеркивает, что именно Каченовский многих спас «от увлечения авторитетом Шлецера... от падения в бездонную пропасть софизмов скандинавомании», что Морошкину удалось открыть «подрывающую Байерову систему» связь имени россы с aorsi, rox-alani, roxani, что Савельев-Ростиславич, поддержав эту идею Морошкина, сам показал, что имя южнобалтийского племени «вар-ин и вар-яг есть одно и тоже, с разными только окончаниями». В значительной мере ведя речь об изысканиях Савельева-Ростиславича подвергнутых критике со стороны Булгарина (Н. А. Иванова), Александров констатировал, что он, возвращая славянам их историю, «справедливо осмеял силлогистику прежних немецких писателей: «Кто храбр, тот вероятно был немец», и которые, доселе держа «всемирную историю на своей опеке, без зазрения совести всю ее скривили в свою пользу: своих предков поставили единственными деятелями, - славяне словно не существовали». И в целом весьма высоко отзывается о работах Венелина («восстановитель древней исторической школы, искони существовавшей в России до Байера»), Морошкина, Савельева-Ростиславича, Святного.
Считая, что Бутков «уже решительно пристал, в сем отношении, к славянской школе и ревностно защищает значительную степень гражданской образованности наших предков», Александров приводит слова Игнатовича, возросшего, как и большинство русских ученых, на немецких теориях, что Венелин посеял «первые семена историко-критических розысков в истинном значении этого слова», а Савельев-Ростиславич «так далеко и так успешно» продвинул «дело, начатое Венелиным». Отмечен им был и тот факт, что Вельтман и Макаров, бывшие ранее ревностными защитниками воззрений Шлецера, теперь стали «жаркими поборниками исторической правды»[217].
В 1845 г. норманист А.И.Артемьев заметил, что академики Штрубе де Пирмонт и Фишер, видя в варягах норманнов, в своих отзывах на диссертацию Миллера возражали «на каждой странице», и что Шлецер, говоря о дикости славян, имел намерение их унизить, чтобы выставить в лучшем свете варягов-норманнов и чтобы доказать, что они принесли с собою образованность [218]. Тогда же Савельев-Ростиславич, развивая мысли, высказанные тремя годами ранее, констатировал в «Варяжской руси по Нестору и чужеземным писателям» и «Славянском сборнике», что Байер по незнанию русского языка не понимал летописи и «по слабости критики» принял исландские саги - «богатырские сказки» - «за истину», за что его критиковали Шлецер и Карамзин.
Ученый был убежден, что Байер, Миллер и Штрубе де Пирмонт, погрязнув в «сказочном болоте» саг, ничего не сделали для русской древности, а «только забавлялись ловлей созвучий», приведшей их к ошибкам (так, Байер превратил французов-бретонцев в англичан-британцев, новгородцев в кабардинцев, восточнославянских бужан в татар-буджаков, а Штрубе де Пирмонт русско-славянского бога Перуна в скандинавского Тора). И, выступая против «беззакония филологической инквизиции», Савельев-Ростиславич подчеркивал, что «желание сблизить саги с летописью, сказки с былью, а это неминуемо увлекло изыскателей в мир догадок, ничем не доказанных, и заставило нещадно ломать звуки на этимологической дыбе».
Отмечая, что шведы, по признанию самих же норманистов, никогда не назывались русами и что в Швеции нет следов имени «русь», он заключил: Шлецер, чтобы спасти систему онемечения Руси, указал на шведский Рослаген, откуда якобы вышла варяжская русь, хотя это название стало известно значительно позже эпохи Древнерусского государства. В целом норманскую теорию историк охарактеризовал «выдумкой» Байера, проникнутого «своим народным патриотизмом» и основавшего всю свою систему, принятую «на веру его слепыми поклонниками», на песке.
Тем же чувством, продолжал Савельев-Ростиславич, был одержим и Шлецер, что выводило его, в свою очередь, «за пределы исторической истины»: комментируя Нестора, он во многом ошибался и приписал ему «свои личные мнения, диаметрально противоположные несторовским» и противоречащие филологическим наблюдениям над славянскими языками, остановив тем самым правильное доселе развитие русской истории. А в отношении слов Шлецера, что русские ученые не приняли шведского происхождения Рюрика из-за «ссоры» со Швецией, Савельев-Ростиславич заметил, что «ссора сама по себе, а правда сама по себе», и что норманизм отвергается по причине «явной несообразности» с указаниями летописи (при этом исследователь отдавал должное ему как знатоку истории, отличавшемуся здравомыслием, когда не увлекался пристрастием к «любимым гипотезам», и как критику летописей и саг).
В построениях норманистов Н.А.Полевого, И.Ф.Круга, П.Г.Буткова, С Сабинина Савельев-Ростиславич выделил противоречия и раскритиковал абсолютизацию саг О. И. Сенковским и «ученую фантазию» Ф. Крузе о тождестве варяга Рюрика с датским Рориком. М.В.Ломоносов, указывал историк, первый придал «древнему нашему поверью» о выходе варягов с южнобалтийского побережья «ученый систематический вид, изыскивая славенизм руссов.. отрешил большую часть тех вымыслов, которыми и наша и чужеземная старина (в XVI, XVII-м и четыредесятие XVIII-ro века) потешалась в своих исторических помыслах и школьных мудрованиях о происхождении и прозвании руссов», что он подметил факт совершенного молчания скандинавских саг, не упускавших случая похвастаться даже самыми ничтожными подвигами, иногда и не бывалыми, об основании шведами Русского государства и о Рюрике.
Вместе с тем автор сказал, что Миллер после дискуссии так же, как и Ломоносов, связывал варяжскую русь с роксоланами, проживавшими, по его мнению, при впадении Вислы в Балтийское море, и что Н. М. Карамзин вслед за Ломоносовым выводил русь из района Немана. Остановился Савельев-Ростиславич и на работах Г. Эверса и Г. А. Розенкампфа, показавших несостоятельность утверждений норманистов о скандинавской основе Русской Правды и использования ими этой ложной посылки в качестве доказательства выхода руси из Скандинавии. Подчеркнув при этом, что «благоразумный Эверс раньше всех понял, что байеро-шлецеровская система держится только на отсутствии логических доказательств и на сходстве звуков, часто совершенно случайном»[219].
В закреплении в общественном сознании и историографии мысли о якобы научной несостоятельности антинорманизма исключительная роль принадлежит, учитывая его огромное влияние на умы тогдашней России, В. Г. Белинскому. В 1845 г. он, стремясь на примере «Славянского сборника» Н.В.Савельева-Ростиславича «показать,и обнаружить нелепость славянофильского направления в науке, - направления, не заслуживающего никакого внимания ни в ученом, ни в литературном отношениях», «зло», по справедливым словам С. Л. Пештича[220], критикует своего идейного противника якобы за идеализацию прошлого, «за фанатическую ненависть к немцам», за отрицание их заслуг в разработке русской истории, за противопоставление Востока и Запада и т. д. Но при этом, почему-то увидав в Ломоносове предтечу своих идейных противников - славянофилов, заодно очень жестко прошелся, как сам же с сарказмом говорит, по «историческим подвигам Ломоносова».
Характеризуя его как «человека ученого и гениального, но решительно не знавшего» русской истории, которая совсем не была «его предметом», Белинский со всей силой своего яркого литературного таланта беспощадно бичует «надуто-реторический патриотизм» ученого, в основе которого лежали, «во-первых, убеждение, столь свойственное реторическому варварству того времени, будто бы скандинавское происхождение варяго-руссов позорно для чести России, и, во-вторых, небезосновательная вражда Ломоносова к немцам-академикам», с которыми он «так опрометчиво, так запальчиво и так неосновательно вступил в историческую полемику» (в истории с диссертацией знаменитого Миллера Ломоносов обнаружил, негодует Белинский, не переставая беспощадно клеймить свою же историю, «истинно славянские понятия о свободе ученого исследования»).
Заключая, что Ломоносов «в истории был таким же ритором, как и в своих надутых одах на иллюминации... и поэтому в русской в истории искал не истины, а «славы россов», и что в его трудах нет ничего, «кроме надутого реторического пустословия и суесловия о древней славе россов», Белинский противопоставил ему немецких ученых, стоявших «в отношении к истории как науке неизмеримо выше его, потому что они глубоко чувствовали и сознавали необходимость строгой и холодной критики, чтобы очистить историю от басни» (при этом убеждая, что «немец вообще не слишком страстный патриот, а в науке он еще более космополит, чем в чем-нибудь другом»).
Именуя Шлецера «умным, ученым, энергическим, гениальным», обладавшим «могущественною историческою критикою» и утвердившим «своими исследованиями и авторитетом... Байерово учение о скандинавском происхождении Руси», произнес слова, показывающие меру преклонения (и не только собственного) перед этим человеком: пусть даже его главная мысль о русской истории - о происхождении руссов (а данный вопрос Белинский продолжает считать «пустым», «бесплодным» и «неразрешимым») - «ошибка, заблуждение; но все-таки заслуги Шлецера русской истории велики: он своим исследованием Нестора дал нам истинный, ученый метод исторической критики. Есть за что быть нам вечно благодарными ему!». (Боготворя Шлецера, Белинский слепо верил в его идею восстановления подлинного, «очищенного» от поздних прибавлений текста ПВЛ, от которой в то время большая часть наших специалистов уже отказалась, а, говоря о критике Ломоносовым его тенденциозных этимологических изысканий, сказал, словно речь шла о забавной ребячьей шалости, что Шлецер лишь «смешно ошибался в производстве некоторых русских слов».) Подчеркивая, что «Карамзин очень умно поступил, последовав шлецеровскому мнению о происхождении Руси», он при этом заметил, «но в то же время дав место и другому мнению».
И в совершенно уничижительном тоне Белинский говорит о последователях Ломоносова - «непризванных и самозваных патриотах», которые «ложным» и «мнимым патриотизмом прикрывают свою ограниченность и свое невежество и восстают против всякого успеха мысли и знания». Так, Савельева-Ростиславича он выставляет представителем учености «ложной, мрачной, бесплодной, хотя и работящей», занимающимся «вопросами, которые столько же легки для ученой болтовни, сколько пусты в своей сущности», и стремящимся «оправдать и очистить память Ломоносова от незнания и неученности в истории и доказать, что Ломоносов был и великий историк, только оклеветанный Шлецером», и называет его книгу «пустой, ничтожной».
«Исступленный славянин» Ю. И. Венелин, находивший славянское в европейских древностях, принадлежит к числу «тех умов замечательных, но парадоксальных, которые вечно обманываются в главном положении своей доктрины, но открывают иногда истины побочные, которых касаются мимоходом», что Ф. Л. Морошкин «довел до последней крайности» его странности, а воззрения Г. Эверса и его последователей «совершенно ниспровергает авторитет летописи Нестора». Но вместе с тем он, как и четыре года назад, указал на факт, совершенно убийственный для норманской теории, а также перечеркивающий все сказанное им по поводу норманистов и их оппонентов: «Еще не отыскано» следов влияния скандинавов «на нравы, обычаи, характер, ум, фантазию, законодательство и другие стороны славянской народности новгородцев», хотя «о них-то, - совершенно справедливо акцентировал внимание Белинский, - прежде всего и следовало бы позаботиться Шлецеру и его последователям»[221].
В 1845 г. А. В. Старчевский в солидном по объему «Очерке литературы русской истории до Карамзина» (вначале помещенного на страницах «Финского вестника») утверждал, что труды Байера, которого он, уже согласно сложившейся практике, привычно именует «величайшим литератором и историком своего века», имели «благотворное влияние» на разработку отечественной истории (он справедлив в своей догадке, что варяги - скандинавы, доказал, что скифы и сарматы, с которых начинали русскую историю, к ней не относятся). Хотя тут же отметил, что ученый был лишен «главнейшего средства» для исследования русской истории, ибо не знал русского языка и не использовал русские памятники.
Но данному заключению придал, видимо, из врожденного чувства преклонения нашей науки перед этим человеком, неожиданный оборот, показывающий к тому же самый поверхностный уровень представления автора о варяго-русском вопросе и его источниковой базе: якобы Байер коснулся той эпохи, «о которой сведения можно заимствовать исключительно из иностранных источников» (так, следует напомнить, думал в 1749 г. Миллер, отказавшись затем от этого заблуждения). И так было сказано тогда, когда уже были опубликованы многие летописи, а с 1841 г. началось издание их полного собрания. Воспроизведя за Н. Сазоновым слово в слово произнесенное им десятью годами ранее в адрес Миллера, Старчевский подчеркнул, что Шлецер своим «Нестором» «оказал великую услугу древней русской истории».
Высказал он и мнение, что «славяноманы должны признать основателем своей школы» В. К. Тредиаковского (т. к. он выслушал курс исторических наук в Парижском университете у Ш. Ролленя, в связи с чем мог иметь некоторые понятия о истории как науке). После чего Старчевский принялся убеждать, что «Ломоносов имел гениальное призвание собственно к обработке естественных наук», а остальными предметами занимался или по поручению правительства, «или по собственному сознанию необходимости заложить здание русской науки во всех направлениях», и что его труды по истории, вызванные соперничеством с Миллером, «не MoiyT выдержать исторической критики», ибо он «не обладал знанием необходимых языков, польского, скандинавского, и не имел под рукой летописей, которые долгое время были погребены в библиотеках и архивах, дожидаясь Миллеров, Шлёцеров. Взяв в рассмотрение все эти обстоятельства, не удивимся незначительности заслуг Ломоносова на поприще русской истории». Дополнительно к тому им было указано, что он, «с такою завистью» смотря на занятия Шлецера историей России, донес Сенату о его намерении отправиться за границу и «написать там русскую историю, которая не будет к славе русского народа», и что «Древнюю Российскую историю» Ломоносов начал создавать «под старость, несмотря на слабое здоровье»[222].
1845 г. Ф. Святной, повторив сказанное в 1842 г., отметил, во-первых, ведя речь о неопределенности летописного выражения «из немец», что называть какой-нибудь народ по имени другого «в географическом, религиозном или ином отношении было весьма обыкновенным делом» - назывались же русскими поляки и прочие католики римлянами, латинами, русские у скандинавов и северо-западных немцев - греками, а греки сами себя величали ромеями, римлянами, во-вторых, что ПВЛ, вопреки утверждениям А.Х.Лерберга, говорит не о родстве руси со шведами, готами, урманами и англянами, когда упоминает их в одном ряду, а приводит эти германские племена в пример для пояснения того, что подобно им русь, как представительница Западной Европы, именовалась варягами[223].
В 1846 г. М.П. Погодин подробно остановился во втором томе своих «Исследований, замечаний и лекций о русской истории» на критике антинорманистов М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского, Г.Эверса, И.Г.Неймана, М.Т.Каченовского, Г.А.Розенкампфа, С.Скромненко (С.М.Строева), Ю.И. Венелина, М. А. Максимовича, Ф.Л. Морошкина, Н.И. Надеждина. Параллельно с тем раскрывая положения норманистов Г.Ф.Миллера, Ю.Тунманна, Ю.Ире, А. Л. Шлецера, Н.М.Карамзина, И. Ф. Круга, а также Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, П. Г. Буткова, Г. Ф. Голлмана, Ф. Крузе, И. С. Фатера, хотя и считавших варягов германцами (готами, немцами, датчанами, в целом норманнами), но выводивших их, с учетом отсутствия на Скандинавском полуострове каких-либо следов имени «русь», соответственно из Ризаланда- Рюссаланда (северное побережье Ботнического залива), из Рустрингии (побережье Северного моря западнее Ютландского полуострова, нижнее течение Везера), из Розенгау (местность на юге Ютландии), с северных берегов Черного моря.
Историк доводил до сведения читателя, что Ломоносов выводил варяжскую русь с Южной Балтики из-за «ревности к немецким ученым, для него ненавистным» (т. к. они доказывали ее норманское происхождение) и патриотизма, который не позволял «ему считать основателями русского государства людьми чуждыми, тем более немецкого происхождения» (здесь же им было сказано, что какое-то время сам находился под влиянием мнения Ломоносова о славянстве варягов). А в адрес Морошкина заметил, что он отыскивает русь «везде». Молчание скандинавов о Рюрике Погодин объяснял тем, что водворение Рюрика в Новгороде «было сначала маловажно, и не обратило на себя ни чьего внимания. Последствия совершенно не соответствовали началу. При том свидетельство о Рюрике могло пропасть». Но и в этом случае он выявил серьезное противоречие в выводах Шлецера: шведы начали называть себя росами, услышав данное имя от финнов, следовательно, дома они так себя не именовали, а это означает, что шли они не из Рослагена, на чем настаивал Шлецер (если же они называли себя россами, как уроженцы Рослагена, то их нельзя почитать шведами и нельзя понимать Вертинские анналы, как понимали Тунманн и Шлецер). Ученый не сомневался, что немцы XVII в. Б. Латом и Ф. Хемниц «приписали» ободритскому князю Годлибу (Годлаву) сыновей Рюрика, Синеуса и Трувора.
Тогда же он констатировал, признавая, как и в 1841 г., неубедительность важнейших положений норманской теории: «Заключаю, кто были именно варяго-русь и где они жили - не решено до сих пор с достоверностию, и едва ли когда-нибудь будет решено, за недостатком сведений. Я не считаю даже этого вопроса слишком важным», и что вопрос «откуда происходит имя варягов-руси» - «вопрос также любопытный, но не более!... Исследователи, несмотря на все свои труды при решении этого вопроса, не достигли достоверности, как и при решении предыдущего вопроса о первоначальном местопребывании варягов-руси, а представили только догадки, более или менее вероятные». В третьем томе труда, также вышедшем 1846 г., Погодин, отмечая крайности своего взгляда на прошлое Руси, дал совершенно нелестную аттестацию оппонетам-современникам: «Может быть, и я сам увлекаюсь норманским элементом, который разыскиваю двадцать пять лет, и даю ему слишком много места в древней русской истории; явится другой исследователь, который исключительно предается славянскому элементу (впрочем не похожий на нынешних невеж): мы оба погрешим, а наука, истина, умеряя одного другим, выиграет»[224].
А. Н. Попов в 1847 г., специально обратившись к концепции русской истории Шлецера, указал на несколько принципиальных ее положений, не выдерживающих критики: что восточнославянские племена до прихода варягов находились в диком состоянии, что история Руси, как и Западной Европы, должна была начаться завоеванием, что новгородские словене получили имя от своих победителей руссов-шведов. И во всех затруднительных случаях, замечает исследователь, Шлецер «сваливает вину» на переписчиков Нестора, якобы исказивших его, и стремится восстановить «первоначальные слова летописца». Попов также подчеркнул, что мнение о славянской природе руссов существовало в России задолго до Ломоносова. В том же году М.П. Погодин, отвечая на критику своего бывшего студента Попова, горячо говорил: «Я сам не пристрастен к немцам, но Шлецер, Миллер, Стриттер - это благодетели русской истории, и забывать их услуги или отзываться о них как о людях обыкновенных, своекорыстных, - есть просто неблагодарность», что метода Шлецера, «его приемы, его уроки, его впечатления, его огонь - о, их достанет еще на много поколений, имеющих уши слышати и разум разумети!... Шлецер показал достоинство наших летописей, сравнил с иностранными, представил их древность и правдивость, подал понятие о списках, научил их сравнивать, доказал важность вариантов и необходимость изданий, дал примеры доказательств, представил образцы изданий, ученых рассуждений, возбудил охоту разыскивать, дал отведать сладости открытий, привел в движение дух: вот его заслуги». После чего, признав, что его «результаты... теперь уже ничего не значат», предложил не заострять внимание на ошибках Байера, Миллера, Шлецера и оставить «стариков» в покое[225].
В 1848 г. в столице России вышли в свет посмертные «Forschungen in der alteren Geschichte Russlands» («Исследования древней истории России») академика И.Ф. Круга (ум. 1844 г.). В предисловии к ним, написанном одним из самых активных пропагандистов норманства варягов и руси ААКуником, и озаглавленном «Различные известия об историческом поприще Круга» (с некоторыми сокращениями оно было помещено в 1849 г. в «Журнале Министерства народного просвещения» на русском языке под названием «Очерк биографии академика Круга»), дается, через проекцию разных лет, рецензий и мнений, изложенных в том числе и в частных письмах, оценка как герою очерка, так и ряду его современникам, в той или иной мере занимавшемуся варяго-русским вопросом. Так, приведены высокие отзывы Круга о «патриархе нашей истории» А.Л.Шлецере, указавшем «мне путь, которого должно держаться...» (в свою очередь Куник резюмирует, что появление «Нестора» Шлецера много способствовало к пробуждению и оживлению исторической деятельности, распространяя дух критического исследования. С этого времени начинается собственно критическая... эпоха русской историографии»). Но при этом Круг, по мнению Куника, не был поклонником знаменитого историка и даже «отважился обличать его в опрометчивости и поправлять» в 1805 г. в своих «Критических разысканиях о древних русских монетах», т. е. тогда, когда Шлецер «приобрел такое уважение, что многие историки не смели прямо противоречить ему даже и там, где он был недовольно тверд в своем знании: так страшна была его беспощадная критика, какою он поражал своих противников» (и если для многих в России он был «как бы кумиром», то «другие едва могли скрывать свою мелочную ненависть и зависть к геттингенскому критику», что его «критическая метода исторического исследования оценена была немногими. Любители истории, искавшие в ней только удовлетворения патриотическому чувству, питали к критической методе даже отвращение»).
Куник отмечает, что ни работа Круга, ни рецензия на нее в «Московских ученых ведомостях» (1806 г., № 1) профессора И.Г.Буле, «которая, казалось, прямо была направлена к тому, чтобы раздражить Шлецера против Круга» (так, в ней говорится о «сатирической колкости» Шлецера в отношении русских историков, что Круг «хорошо знает русский язык, а потому может лучше и правильнее разбирать и изъяснять, нежели г. Шлецер...», что он подтвердил некоторые летописные события, «коих достоверность именно оспаривал г. Шлецер», и доказал «основательно и подробно, что Россия не только до владычества монголов, но еще до правления Святослава... находилась на высшей степени образования, нежели как обыкновенно думают...»), не вызвали недружбы «между основателями» строго ученого обрабатывания русской истории...». Шлецер весьма благосклонно отнесся к книге Круга и его критическим замечаниям в свой адрес. Как он писал ему в письме в марте 1806 г. и рецензии, напечатанной в «Gottinger gelehrte Anzeige» (1806, № 163), «сочинение Ваше поразило меня! Со времени Байера это решительно первое сочинение о древней русской истории...», в котором присутствуют «истинно ученая критика (хотя слишком часто смелая) и начитанность в иностранных источниках: качества, каких явно недоставало до сих пор у русских ученых при обработке их древней истории».
Указывая, что Круг иногда напрасно обвиняет его, «но очень часто поправляет его, улучшает и дополняет», Шлецер продолжал все также энергично оспаривать, как это он делал в «Несторе», подлинность договоров Олега и Игоря с Византией, Слова о полку Игореве, монеты Ярослава Мудрого («когда на Руси едва ли была и мысль - бить монету?»), но, прежде всего, категорично опротестовывал мнение, шедшее вразрез с его мнением о дикости Древней Руси: «...Что Россия уже в древние времена стояла гораздо на высшей степени просвещения, чем думают некоторые...», в чем увидел склонность ученого, если так сказать, к «русскому патриотизму»: «Уже ли г. Круг принадлежит к тем русским и венгерским поклонникам старины, которые считают за оскорбление своего народа, когда им доказывают, что их предки не были такие «galanthommes», как нынешние их потомки» (надо здесь сказать, что еще М.ВЛомоносов подчеркивал: «Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели»), И в конце Шлецер выразил надежду, что Круг будет и далее идти «тем путем, который был проложен Байером, потом непростительно долго оставался покинутым».
Куник напомнил, что «в пятой части «Нестора» (1809) Шлецер выставлял полемику Круга в образец Эверсу» (и от себя добавил, что «критика и полемика Эверса, по крайней мере 1808 и 1814 годах, не везде сопровождалась основательною ученостью, и Круг позаботился только частным образом остановить отважный скептицизм дерптского ученого»), А также привел слова И.Миллера, сказанные в 1806 г. в письме Кругу, «что я не совсем доволен многими местами в летописях г. Шлецера... Мне кажется, он слишком смело отвергает повествования летописей и даже известия достоверных источников, увлекаясь духом нашей эпохи, всегда наклонной более разрушать, нежели охранять посредством объяснения», указание другого известного историка Ф.Х.Шлоссера в рецензии 1812 г. на труд Круга «Критический опыт объяснения византийской хронологии в связи с древнейшей историей Руси» о «пристрастной настойчивости Шлецера, с какою защищал он раз высказанные им мнения», об «опрометчивости скептиков», подобных ему Куник также констатировал, что дать ход исследованиям Круга «особенно старался» Г.Эверс и что Эверс был искренне признателен «своему ученому другу», «которому он обязан был благодетельною для него защитою против грозной полемики Шлецера. Круг вступился за него перед Шлецером...», ибо хотя и «был не согласен с главным направлением его сочинения, но тем не менее признавал в нем дарование историка».
Касаясь варяго-русского вопроса в трудах Круга, Куник заострил внимание на том, что он, рассматривая отдельные части этого вопроса, «никогда не увлекался соревнованием против природных русских ученых» (например, против «необузданного скептицизма Каченовского и его учеников»), и был первым, кто «заметил, что между норманскими руссами и восточными славянами довольно долго оставалось различие как по народности, так и в политическом отношении; он ясно видел преобладание норманской стихии при основании и первом распространении русского государства». В прибавлениях к статье Куника, подписанных П.Б., констатируется, что Круг был одним из первых ученых, «которые отказались от гипотезы Штрубе и Шлецера о чисто германском происхождении Русской Правды», что он «обнаруживает иногда необыкновенно верный филологический такт, какой редко можно встретить у историков того времени...», что Куник в своих примечаниях к «Forschungen in der alteren Geschichte Russlands» Круга «доказывает, что мнимые известия о руссах в России до Рюрика у писателей» армянских, персидских, арабских и византийских «не имеют исторической достоверности. Все сии писатели позднее Рюрика и в своих сочинениях обнаруживают наклонность смешивать названия стран и народов, переносить новейшие события во времена древние, вообще отличаются поэтическим и мифологическим направлением».
В 1849 г. норманист И.И.Срезневский отметил тенденциозность, в которую впадают сторонники взгляда особенного влияния скандинавов на Русь: «Уверенность, что это влияние непременно было и было сильно во всех отношениях, управляла взглядом, и позволяла подбирать доказательства часто в противность всякому здравому смыслу». И ведущий специалист в области языкознания того времени, проведя тщательный анализ слов, приписываемых норманнам, показал нескандинавскую природу большинства из них и пришел к выводу, что «остается около десятка слов происхождения сомнительного, или действительно германского», которые могли перейти к нам без непосредственных связей, через соседей, «и если по ним одним судить о степени влияния скандинавского на наш язык, то нельзя не сознаться, что это влияние Оыло очень слабо, почти ничтожно»[226].
В 1854 г. немец Е.Классен констатировал, что Шлецер внес в русскую «историю ложный свет в самом начале ее», ибо, «упоенный народным предубеждением» о варварстве русских и убеждением, что Европа своим просвещением обязана исключительно германцам, стремился доказать, что варяжская русь могла быть только племенем германским. И если Шлецер, указывал Классен, не понял «летописей, то он слепец, напыщенный германскою недоверчивостью к самобытности русских государств во времена дорюриковские но если он проник в сущность сказаний и отверг таковые единственно из того чтобы быть верным своему плану, то он злой клеветник!». Совершенно правомерно был задан им и вопрос: «...За морем от Новгорода жили не одни шведы а многие народы; почему же скандинавоманы берут это обстоятельство в число доводов своих?»[227].
Выступление Белинского против славянофилов, отмечал С. Л Пештич «оказало влияние на историков-западников, в частности на оценку С М Соловьевым исторических трудов Ломоносова». Выступив в 50-х гг. с серией статей, посвященных А.И. Манкиеву Г.Ф.Миллеру, В.Н.Татищеву, М В Ломоносову, В.К Тредиаковскому, М.М.Щербатову, И.Н.Болтину, Ф.Эмину, И. П. Елагину, А. Л. Шлецеру, Н.М. Карамзину, М.Т. Каченовскому, исследователь сказал, ведя речь о дискуссии 1749-1750 гг., что Миллер преследовался лишь за то, что «был одноземец Шумахера и Тауберта», что Ломоносов, возражая Миллеру, «сильно вооружился против Байера», что его «сильное раздражение» против ненавистного ему иностранца Шлецера проистекало как «от сильного раздражения его против немецкой стороны в академии», так и от того, что тот вызвал у него сильную личную неприязнь.
При этом Соловьев утверждал, что признавать «чуждое происхождение» варяжских князей в то время «было оскорбительно для народного самолюбия». Это чувство, по его словам, было усилено еще и тем, что только что окончилась ожесточенная война со шведами, которые продолжали оставаться «главными и самыми опасными врагами, готовыми воспользоваться первым удобным случаем, чтобы отнять у России недавнюю ее добычу, - и вот надобно выводить из Швеции первых наших князей!». К тому же в Академии наук немцы, овладев варяжским вопросом, «как самым доступным для них из всех вопросов нашей истории», решают его в пользу скандинавов. Русские же ученые, видя в том «посягательство на честь русского имени», в ответ настаивают на славянском происхождении первых наших князей.
Соловьев нисколько не сомневался в том, что «могучий талант Ломоносова оказался недостаточным при занятии русскою историею, не помог ему возвыситься над современными понятиями», что исторические занятия были чужды ему «вообще, а уже тем более занятия русскою историею, которая по необработанности своей очень мало могла входить в число приготовительных познаний тогдашнего русского человека», и что к ней он не имел призвания. Ломоносов, страдая отсутствием ясного понимания предмета и считая целью истории прославление подвигов, смотрел на историю «со стороны искусства», «с чисто литературной точки зрения, и, таким образом, явился у нас отцом» литературного (риторического) направления, которое затем так долго господствовало, и что его «Древняя Российская история» в той части, где излагаются собственно русские события, представляет собой «сухой, безжизненный реторический перифразис летописи, подвергающейся иногда сильным искажениям». Карамзин, завершал свою мысль Соловьев, также смотрел на историю «со стороны искусства», тем самым приближаясь к Ломоносову (но при этом, понятно, не выводит его - норманиста, за рамки науки). И зачинателем «славянского происхождения варягов-руси», поборники которого «стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова», он полагал В. К. Тредиаковского.
И в абсолютно иной тональности Соловьев вел разговор о немецких ученых, из которых особо выделял «осторожного и проницательного критика» Шлецера, положившего «прочное основание» как научной обработке источников по русской истории и, прежде всего, летописей, так и самой науке русской истории». Для Соловьева его «Нестор» есть «первый, превосходный образец низшей исторической критики», основа «исторического направления в нашей науке», противостоящего «антиисторическому направлению» славянофилов, ему принадлежит «первый разумный взгляд на русскую историю... научное введение русского народа в среду европейских исторических народов», наконец, уразумение достоинства русской истории, в связи с чем Шлецер требовал, «чтобы она обрабатывалась достойным образом, а не так, как ее изображали риторы XVIII века».
Причем, подчеркивал Соловьев, Шлецер, будучи немцем, «не увлекся, однако, норманизмом, хотя, по ясности туземных и чужих известий, и не мог не признать первых князей норманнами» (и отзывался о нем как об одном «из самых самолюбивых, самых желчных и самых жестких людей»). Байер же, по его словам, из-за незнания древнерусского и русского языков мог коснуться «только немногих вопросов истории, при решении которых он мог довольствоваться одними иностранными языками, как, например, при мастерском своем решении вопроса о происхождении варягов-руси» (при этом были указаны его «странные» словопроизводства: Москва «от Моского, т. е. мужескаго монастыря; Псков от псов, город псовый»), А в Миллере он видел «честного» и «вечного работника», обладавшего «громадными познаниями», но робкого и застенчивого человека, не умевшего «лишний раз поклониться» и подвергавшегося притеснениям.
Вместе с тем Соловьев, во-первых, ведя речь о Каченовском, заметил, что «отрицание скандинавского происхождения Руси освобождало от вредной односторонности, давало простор для других разнородных влияний, для других объяснений, от чего наука много выигрывала». Во-вторых, он признавал, что в «Древней Российской истории» «иногда блестит во всей силе великий талант Ломоносова, и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в слово в наше время», что «читатель поражается блистательным по тогдашним средствам науки решением некоторых частных приготовительных вопросов», например, о славянах и чуди, как древних обитателях «в России», о дружинном составе «народов, являющихся в начале средних веков», о глубокой древности славян, высоко оценил его «превосходное замечание о составлении народов».
В-третьих, Соловьев, говоря в «Истории России с древнейших времен», что в летописи под варягами разумеются «все прибалтийские жители, следовательно, и славяне», в целом под ними понимал, вслед за Ломоносовым, не какой-то конкретный народ, а европейские дружины, «составленные из людей, волею или неволею покинувших свое отечество и принужденных искать счастья на морях или в странах чуждых», «сбродную шайку искателей приключений», где преобладали, по мнению историка, скандинавы. В-четвертых, отнеся известие византийского «Жития святого Стефана Сурожского» о взятии Сурожа русской ратью князя Бравлина к началу IX в., пришел к выводу о нахождении руси в Причерноморьи в дорюриково время[228] (а такой вывод, озвученный впервые Ломоносовым, вступал в принципиальное противоречие с норманской теорией).
В 1860 г. Н.И. Костомаров указал, как норманисты работают с русскими названиями днепровских порогов: они считают, что эти названия «написаны неверно и поправляют их». Тогда же Н. И. Ламбин в рецензии на статью Костомарова «Начало Руси», оспорив его мнение, что в ПВЛ под варягами понимаются все народы, обитавшие на балтийском Поморье, утверждал, что Байер, Миллер, Шлецер «больше нашего уважали Нестора и даже лучше нашего понимали его, хотя и плохо знали по-русски». После чего провозгласил идею, у истоков которой стоял, как говорилось, А. 3. Зиновьев и которая с тех пор стала (невероятно, но факт) одним из важнейших аргументом в рассуждениях норманистов, что летописец есть «первый, древнейший и самый упорный из скандинавоманов! Ученые немцы не более как его последователи», и что любовь к родине «не ослепляла его: в простоте сердца он не видел ничего позорного в призвании князей-иноплеменников»[229].
Аттестация, данная Белинским и Соловьевым немецким и русским ученым (прежде всего Ломоносову), в целом норманизму и антинорманизму, приобрела в нашей науке силу непреложной истины и стала общим местом в работах норманистов. Вместе с тем с начала 1860-х гг. в их рассуждениях как о норманской теории, так и ее критике появляются иные нотки, которые были вызваны «Отрывками из исследований о варяжском вопросе» С. А. Гедеонова, вышедшими в 1862-1863 гг. в «Записках Академии наук» (в 1876 г. в переработанном виде «Отрывки» были переизданы под названием «Варяги и Русь»), Причину своего выступления против, по его характеристике, «мнимонорманского происхождения Руси» исследователь сформулировал следующим образом: «Полуторастолетний опыт доказал, что при догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немыслима». А в отношении современного ему состояния разработки варяго-русского вопроса констатировал, что «ультраскандинавский взгляд на русский исторический быт» заставляет обсуждать русские древности лишь «с точки зрения скандинавского догмата», иногда, по очень важному уточнению ученого, и «бессознательно».
Говоря, что норманизм основан «не на фактах, а на подобозвучиях и недоразумениях», Гедеонов вел речь о «непростительно вольном обхождении» Шлецера с летописью, о том, что сторонники норманства варягов принимают и отвергают ее текст «по усмотрению». Хотя, как при этом им было особенно подчеркнуто, она «всегда останется, наравне с остальными памятниками древнерусской письменности, живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси». Историк впечатляюще показал несостоятельность утверждения И.Ф.Круга, высказанного в в «Forschungen in der alteren Geschichte Russlands», что скандинавский язык, по причине нахождения на Руси «множества скандинавов» не только долго там бытовал, но даже какое-то время господствовал в Новгороде, и «что знатнейшие из славян, преклоняясь перед троном для снисхождения благосклонности новых русских, т. е. норманских князей, весьма вероятно, стали вскоре изучать их язык и обучать ему своих детей; простые люди им подражали».
В отношении Вертинских анналов Гедеонов сказал, что титул «хакан» свидетельствует о нахождении в соседстве с Русским каганатом «хазар и аваров, совершенно чуждого скандинавскому началу народа Rhos», и видел в том факт, уничтожающий «систему скандинавского происхождения руси; шведы хаганов не знали» (указывая при этом, что «для франков Швеция была не terra incognita; миссия Ансгария в Швецию относится к 829-831 году; норманские посольства являлись часто при франкском дворе»). Предположение о давнем существовании Руси на берегах Черного моря, добавлял он, также уничтожает «всякую систему норманского происхождения Руси».
И заблуждение полагать, заметил Гедеонов, что скандинавы на Руси легко становились поклонниками Перуна и Велеса, т.к. «норманские конунги тем самым отрекались от своих родословных; Инглинги вели свой род от Одина», и что «вообще промена одного язычества на другое не знает никакая история». В полном согласии с Ломоносовым и Эверсом (последнего он называет своим «руководителем») историк отмечал, что никакими случайностями не может быть объяснено «молчание скандинавских источников о Рюрике и об основании Русского государства» (констатируя при этом, что норвежский скальд Тиодольф был современником Рюрика и его братьев, но в сохранившихся у Снорри Стурлусона остатках его песен нет о них и речи, хотя вместе с тем «говорится о восточных венедах, то есть о руси»)[230].
Убедительность доказательств Гедеонова, что «норманское начало» не отразилось «в основных явлениях древнерусского быта» (как, например, отозвалось, напоминал он норманистам, «начало латино-германское в истории Франции, как начало германо-норманское в истории английской»): ни в языке, ни в язычестве, ни в праве, ни в народных обычаях и преданиях восточных славян, ни в летописях, ни в действиях и образе жизни первых князей и окружавших их варягов, ни в государственном устройстве, ни в военном деле, ни в торговле, была такова, что А. А. Куник в 1862 и 1864 гг., видя в нем противника, который «строго держится в границах чисто ученой полемики», признал: «Нет сомнения, что норманисты в частностях преувеличивали значение норманской стихии для древнерусской истории, то отыскивая влияние ее там, где... оно было или ненужно или даже невозможно, то разбирая главные свидетельства не с одинаковой обстоятельностью и не без пристрастия». И прямо открестился от тех, кто поступается наукой: «...Я не принадлежу к крайним норманистам» и «не думаю норманизировать древнюю Русь».
В 1864 г. М. П. Погодин констатировал, что «норманская система со времен Эверса не имела такого сильного и опасного противника, как г. Гедеонов. Сам Эверс, ловкий, остроумный, последовательный, должен уступить ему не только соответственно времени и количества материалов, но и вообще в обширности ученого горизонта». «Исследования г. Гедеонова, - подводил черту ученый, - служат не только достойным дополнением, но и отличным украшением нашей историко-критической богатой литературы по вопросу о происхождении варягов и руси. [...] Приятно даже уступать ему, потому что он действительно ослабляет силу некоторых наших доказательств, исправляет несколько данных, указывает пропуски, представляет дельные замечания и дополнения». После чего он вновь, как и в 1846 г., сказал, тем самым еще раз подтвердив безуспешность попыток сторонников норманизма объяснить истоки Руси, что откуда происходит название Руси, где она жила первоначально - «открытое поле для догадок», и что «имя Русь с своим происхождением есть вопрос только любопытный, а не основной»[231].
В «Истории России с древнейших времен» С.М.Соловьев охарактеризовал критику Гедеоновым норманизма как «замечательная», но при этом утверждая, что «положительная сторона исследования», где автор доказывал выход варягов с берегов Южной Балтики, «не представляет ничего, на чем бы можно было остановиться». А Погодина резко порицал за то, как он свое «желание» «видеть везде только одних» норманнов воплощал на деле. Во- первых, широко пропагандируя бездоказательный тезис, «что наши князья, от Рюрика до Ярослава включительно, были истые норманны», в то время как Пясты в Польше, возникшей одновременно с Русью, действуют, отмечал Соловьев, точно так же, как и Рюриковичи, хотя и не имели никакого отношения к норманнам. Во-вторых, что, «отправившись от неверной мысли об исключительной деятельности» скандинавов в нашей истории, «Погодин, естественно, старается объяснить все явления из норманского быта», тогда как они были в порядке вещей у многих европейских народов. В-третьих, что важное затруднение для него «представляло также то обстоятельство, что варяги-скандинавы кланяются славянским божествам, и вот, чтобы быть последовательным, он делает Перуна, Волоса и другие славянские божества скандинавскими. Благодаря той же последовательности Русская Правда является скандинавским законом, все нравы и обычаи русские объясняются нравами и обычаями скандинавскими»[232].
В 1864 г. В. И. Ламанский негативное отношение к Ломоносову со стороны немецких ученых, работавших в Академии наук в разное время, объяснял недостатком общего характера немецкой образованности и национальной предубежденностью немцев. И отвергнул мнение Куника, что Ломоносов в понимании истории России стоял ниже не только Миллера и Шлецера, но и своих русских современников, и потому только умам пристрастным и ограниченным может казаться «каким-то великим человеком, трагическим героем». Миллер, по словам Ламанского, действительно оказал «русской науке услуги великие», но «не отличался ни особыми дарованиями, ни чистою, бескорыстною привязанностью к нашему народу», и что Шлецер, хотя «своими дарованиями и ученостью далеко превосходил Миллера, но он вовсе не знал России... и в самой Германии, гордой своим патриотизмом, никто не называет его человеком великим и гениальным, за исключением разве его сына»[233].
На следующий год П. А. Лавровский акцентировал внимание на том, что до Ломоносова не было труда, обнимавшего бы в общих чертах историю России, и что он в стремлении написать сочинение, на которое не были способны иностранцы, «вооружился всеми источниками, какие только могли находиться у него под руками», причем тогда еще не было переводов большинства приводимых им греческих и латинских авторов. Исследователь также отметил, что, во-первых, современная наука многое повторяет, в том числе и в варяжском вопросе, из Ломоносова, хотя и забывает при этом о нем, во-вторых, «русские привыкли судить о своих и великих людях по отзывам Запада», в-третьих, «некоторые из русских немцев выбивались из сил, чтобы унизить и сдавить гениального туземца»[234].
В 1869 г. востоковед Д. А. Хвольсон, указывая, что арабы именуют Черное море Русским и что по нему ходят исключительно суда русов, заключил: «Из этого видно, что руссы, по крайней мере во второй половине IX века уже жили около Черного моря; противное этому мнение гг. Погодина и Куника поэтому не имеет никакого весу». Отметил он также и то, что Круг считал русов арабских писателей «непременно норманнами». В 1870 г. другой востоковед А. Я. Гаркави напомнил, что известие ал-Йа'куби ошибочно «поспешили» задействовать норманисты Х.М.Френ, П.С.Савельев, О.И.Сенковский, И. Ф. Круг, А.А.Куник и Ф.Крузе «для подкрепления своей партии» (Френ преподнес читателям показания ал-Йа'куби в качестве «Ein neuer Beleg, dass die Griinder des Russischen Staates Nordmanen waren», ставшего кричащим названием его статьи).
Ведя речь о русах Ибн Фадлана, исследователь отметил, что Круг попытался отыскать параллельные черты в этих русах и в норманнах по скандинавским сагам. Но, как резюмировал Гаркави, указывая на ненаучность подобных сравнений, «не надобно быть пристрастным в этом вопросе, чтоб сказать, что весь комментарий этот имеет для решения нашего вопроса весьма мало значения. В самом деле, можно ли иначе смотреть на старательно доказанное, что скандинавы были высокого роста, имели мечи и секиры, любили горячие напитки и т. д. как на черты времени? Такие черты, без сомнения, были общи всем народам северной Европы, будь они скандинавского, славянского, даже финского происхождения» (к сказанному он добавил, что датский ориенталист И. Л. Рассмуссен в 1825 г. до Круга «защищал эту тему и во многом сходился с последним»)[235].
Д.И. Иловайский в 1871-1872 гг. говорил, что «не вдруг, не под влиянием какого-либо увлечения, мы пришли к отрицанию» системы скандинавской школы, а только «убедившись в ее полной несостоятельности», в наличии «в ней натяжек и противоречий», в ее искусственном построении, и что эта школа господствовала благодаря «своей наружной стройности, своему положительному тону и относительному единству своих защитников», в то время как ее противники выступали разрозненно. Норманская теория, по его заключению, «до сих пор продолжает причинять вред науке русской истории, а, следовательно, и нашему самопознанию», и что благодаря ей «в нашей историографии установился очень легкий способ относиться к своей старине, к своему началу» (открыт «небывалый норманский период» в нашей истории, и «чуть ли не все основные явления нашей государственной жизни объявляются» скандинавскими).
Тогда же Иловайский обратил внимание на появление у норманизма мощного союзника, с особой силой воздействующего на сознание ученых, но при этом действующего не самостоятельно, а под влиянием известных умонастроений: «Наша археологическая наука, положась на выводы историков норманистов, шла доселе тем же ложным путем при объяснении многих древностей. Если некоторые предметы, отрытые в русской почве, походят на предметы, найденные в Дании или Швеции, то для наших памятников объяснение уже готово: это норманское влияние». Решительно выступая против норманской теории, ученый вместе с тем признал: ее сторонники «оказали столько заслуг науке российской истории, что, и помимо вопроса о призвании варягов, они сохранят свои права на глубокое уважение».
Указав что «никакой Руси в Скандинавии того времени источники не упоминают», историк заметил, говоря о манере работы оппонентов с источниками: арабские известия, прямо противоречащие их теории, объявляют неверными и ошибочными, а где говорится темно и запутанно, истолковывают «в пользу возлюбленных скандинавов», а по причине того, что большая часть летописных имен не может быть объяснена из славянского языка то относят их к норманским, и сравнил летописное «за море» («из заморья»), ставшее в руках норманистов важнейшим аргументом в пользу норманства руси, со сказочным «из-за тридевяти земель». Задавая норманистам вопрос, почему скандинавы так быстро изменили своей религии и кто их мог к этому принудить, подчеркнул: даже если принять, что русь - это только скандинавская династия с дружиной в славянской стране, то и «тогда нет никакои вероятности чтобы господствующий класс так скоро отказался от своей религии в пользу религии подчиненных». Лестно отзываясь о труде Гедеонова и отметив его «сильную сторону» - «антискандинавскую», резюмировал, что его «положительная сторона» - мнение о южнобалтийской родине варягов - не найдет «себе подтверждения»[236].
В 1872 г К Н Бестужев-Рюмин в «Введении» к «Русской истории», посвященном анализу источников и историографии, представил немецких ученых И X Коля Г 3 Байера, Г. Ф. Миллера - «первоначальниками» нашей исторической науки. Характеризуя Байера как «ученый глубокий, критик проницательный», отметил вместе с тем, что он «по какой-то странной прихоти не хотевший выучиться по-русски и потому в трудах своих ограничивавшийся по большей части тем периодом, в котором мог основываться на писателях иноземных (вопросами о скифах, варягах, о древней географии по Константину и скандинавам); но делавший крайне грубые ошибки, когда касатся русских источников: Москву он производил от мужского монастыря. Тем не менее Байером высказаны главные доказательства, которыми до сих пор пользуются ученые скандинавской школы».
Говоря затем, что «еще более для русской науки сделал» Миллер, «строгии и точный в своих научных работах», показавший «опыт обработки многих вопросов русской истории», Бестужев-Рюмин назвал его «настоящим отцом русской исторической науки». Хотя Ломоносов и «оставил свои следы и в науке русской истории», но его «Древняя Российская история», продолжал он далее, «более любопытна с литературной, чем с научной стороны, что и понятно по свойству занятий Ломоносова, но представляет умные замечания», и что «его прения с Миллером о происхождении руссов имели основою раздражение патриотическое, а не глубокое знание источников». Отдавая первое место между русскими историками того времени Татищеву, Бестужев-Рюмин констатировал: «К сожалению, источники Татищева не все дошли до нас, и потому нередко он подвергался обвинениям в подлоге, впрочем совершенно неосновательным... ...Но требует осторожности в пользовании известиями, которые встречаются только у него» (Болтина, по его словам, «можно упрекнуть, конечно, в излишнем пристрастии к Татищеву; но это дань веку, еще не освоившемуся с правилами исторической критики»).
Шлецер, считает он, первым «занялся критическою обработкою русских летописей, вследствие чего его «Нестор» пользовался долго особым уважением у всех писавших по русской истории, хотя нельзя не признаться, что его мысль о сводном издании летописи произвела довольно большую путаницу в наших изданиях, а его взгляд на древнюю Русь, как на страну ирокезов, куда только немцы внесли свет просвещения, представил русскую историю в ложном свете». Подчеркнув, что мнение Шлецера о происхождении названия Швеции Ruotsi от общины гребцов Rodslagen упорно держится в науке до сих пор, выразил полное несогласие с ним: что едва ли название народа происходит от «общины гребцов» и что «как-то странно допустить, чтобы скандинавы сами называли себя именем, данным им финнами». Сенковский, указывал Бестужев-Рюмин, в предисловии к Эймундовой саге «высказал несколько парадоксальный взгляд на отношения Скандинавии к России».
Видя в Венелине основателя славянской школы, историк заключил, что он «человек начитанный, высокодаровитый, но, к сожалению, лишенный правильной ученой подготовки и увлекавшийся необузданною фантазиею, более приличною поэту». Нередко фантазией был увлечен и Морошкин, но при этом высказывавший «блестящие воззрения и догадки, под влиянием чисто русского, хотя и инстинктивного понимания». Бестужев-Рюмин, распределив точки зрения о происхождении варягов по трем группам - скандинавы, южнобалтийские славяне, «сбродная» дружина, перечислил главные доказательства норманской школы: «рос»-«свеоны» Вертинских анналов, скандинавские имена многих русских князей и дружинников, «русские»-«скандинавские» названия днепровских порогов, сближение варягов с византийскими «варангами» и «верингами» Снорри Стурлусона. И высказал свое твердое убеждение в том, что главная заслуга славянской школы состоит в отделении руси от варягов и в мнении, считавшем Русь исконным названием Руси южной[237].
В начале 1870-х гг. П. П. Пекарский в привычном для нашей историографии духе четко проводил мысль, что Ломоносов (а вместе с ним русская часть Академии наук в лице Н. И. Попова и С. П. Крашенинникова) выступил против диссертации Миллера «не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности» (в «отзыве о речи своего личного врага преимущественно руководствовался патриотическим воззрением» и защищал мнение Синопсиса об этносе варягов). Тогда как эта диссертация, уверял ученый, «при всех ее недостатках, замечательна в нашей исторической литературе как одна из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и историческую критику, без которой история немыслима как наука». Хотя, как при этом им было сказано, неблагоприятный отзыв на труд Миллера дало большинство академиков. Шлецер, на его взгляд, был самого неуживчивого и сварливого характера и чрезвычайно высокого мнения о самом себе и своих знаниях, «с презрением» относился к грамматическим и историческим трудам Ломоносова.
Характеризуя статью Байера «О варягах», также традиционно констатировал, что в ней «впервые высказаны положения, составляющие до ныне краеугольный камень так называемой норманской системы о происхождении Руси». Но ее, написанную на латыни, наверное «никто не читал в России за исключением одного Татищева». Вместе с тем Пекарский отмечал, что, во- первых, он, зная многие языки, даже не принялся за изучение русского языка, т. к. не думал, что это ему когда-нибудь может пригодиться, во-вторых, что Байер и Шлецер защитили диссертации по богословию, соответственно по крестным словам Иисуса Христа и «О жизни Бога», в-третьих, что Миллер прибыл в Россию, не имея законченного университетского образования и совершенно не помышляя о науке вообще и истории, в частности, т. к. пределом его мечтаний, как он сам же признавал, была только служебная карьера - сделаться зятем Шумахера и его должности, в-четвертых, что Байер, Миллер, Шлецер до своего приезда в Петербург никогда не занимались русской историей и ничего не знали из нее[238] (т. е., как вытекает из сказанного, они стали приобщаться к ней только в России и только в той мере, в какой овладевали, понятно, русским языком).
И. В. Лашнюков в «Очерке русской историографии», вышедшем в 1872 г., утвердительно говорил о том, что «наука русская история возникает в XVIII веке в трудах академиков-немцев», что исследования русских историков той же поры «не более, как свод перифразис неразработанного материала с очень слабым осмыслением отдельных фактов и явлений русской истории», и что они «не представляют науки в настоящем смысле этого слова». Но при этом им было подчеркнуто, что в трудах Татищева и Ломоносова «более замечается научных тенденций и яснее высказался современный взгляд на русскую историю», что первый не позволял себе перерабатывать материал по своему усмотрению и перифразировать летописные известия, как это делалось в XVIII и отчасти в XIX столетии, что в его «Истории Российской» видна попытка подвергнуть критике источники и отдельные сообщения, и что она имеет важное значение в наше время, т. к. ею пополняются многие пробелы и темные места в летописях.
Но если, подчеркивал ученый, для Татищева первое дело историографа - это передать верно сказания, то для Ломоносова - поддержать упадавшие патриотические чувства (он смотрел на историю с чисто литературной точки зрения, что образцом для него служили римские историки, прославляющие подвиги предков в красноречивом рассказе для назидания потомства). Вместе с тем Лашнюков отметил основательное знакомство Ломоносова с источниками и подытоживал, что, во-первых, некоторые его заключения «не потеряли научного значения», во-вторых, его «Древняя Российская история» «имеет важное значение, как попытка написать русскую систематическую историю в патриотическом духе, и как протест русского ученого против нелепого мнения, что только немцы могут разрабатывать русскую историю»[239].
Как резюмировал в 1872 г. М.П. Погодин, из всех опровержений норманизма «самое научное, всестороннее и благовидное, приведенное к одному знаменателю, было Эверсово (а собственное мнение - самое нелепое), самое основательное, полное и убедительное принадлежало г. Гедеонову. Принимая к сведению его основания, должно было допустить, что призванное к нам норманское племя могло быть смешанным или сродственным с норманнами славянскими». А в 1874 г. - за год до кончины - он окончательно укрепился в выводе, высказанном, надлежит подчеркнуть, более ста лет тому назад Ломоносовым, но только придав ему норманскую суть: «Я думаю только, что норманскую варягов-русь вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья».
В тот же год один из самых убежденных норманистов Н.И. Ламбин признал, что Гедеонов, «можно сказать, разгромил эту победоносную доселе теорию... по крайней мере, расшатал ее так, что в прежнем виде она уже не может быть восстановлена». Солидаризируясь с его приговором норманской теории, он уже сам говорит о ее «несостоятельности» и констатирует, что она доходит «до выводов и заключений, явно невозможных, - до крайностей, резко расходящихся с историческою действительностью. И вот почему ею нельзя довольствоваться! Вот почему она вызывала и вызывает протест!»[240].
В 1875 г. П. П. Вяземский выразил «твердое и научное убеждение, что наши русские историки и летописцы до Шлецера стояли на более плодотворной почве для понимания древнейших судеб нашего племени и что вся мудрость Шлецера состояла в придумывании тормоза, искусно скованного для удовлетворения разных целей, уклоняющих от правильного пути; озирая пройденный со времен Шлецера путь археологических исследований в России, должно сознаться, что мы движемся в поте лица в манеже, не делая при этом ни шага вперед». И один из таких тормозов, вредящих научному изучению русских древностей, он видел в норманском вопросе. Сказав, что нельзя сомневаться в связи, существовавшей между скандинавами и славянами, Вяземский заключил, что «выход гребцов Руотси из Скандинавии не помогает ходу науки вперед» А в отношении Куника ученый указал на его стремление защищать норманизм «до последней крайности», а по поводу кредо Погодина, утверждавшего, что для него борьба с антинорманизмом есть «борьба не на живот, а на смерть», заметил, что такая постановка вопроса «в деле науки непонятна»[241].
В 1875 и 1877-1878 гг. Куник вновь (а на данный факт он впервые указал в 1844 г.) говорил о шведе П. Петрее как о «первом норманисте», «довольно неудачно», по его мнению, заявившем о себе в этом качестве в 1615 году. Причем, как убеждал историк, если не существует никакой антинорманистской школы, то «норманисты, напротив, образуют старую школу, возникшую в 17 столетии». Отрицая за Байером лавры «отца-основателя» норманскои теории, Куник оценил его вклад в ее копилку довольно скромно (он лишь ввел в научный оборот Вертинские анналы, неизвестные шведским историкам XVII в ), а диссертацию Миллера, превозносимую в науке, назвал «препустой» Осознавая, что факт присутствия руси на берегах Черного моря в дорюриково время полностью сокрушает норманскую теорию, свидетельства о ней он охарактеризовал «несостоятельными полностью», в связи с чем отверг позицию С.М.Соловьева, отделявшего русь от варягов и видевшего в ней оседлый народ, до Рюрика живший на юге нынешней России.
В те же годы Куник назвал сочинение Гедеонова «в высшей степени замечательным» и резюмировал, что против некоторых его доводов «ничего нельзя возразить». Критикуя антинорманистов, ученый отметил, что некоторые из них «и в том числе главным образом г. Гедеонов, беспощадно раскрыли слабые стороны норманской школы, которые вызывали противоречия. Само дело от этого только выиграло» (причем увидев его «самое сильное возражение» норманистской интерпретации Вертинских анналов). Находясь под несомненным воздействием вывода своего научного противника, что ПВЛ «всегда останется... живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси», Куник откровенно сказал: «Одними ссылками на почтенного Нестора теперь ничего не поделаешь», - и предложил летопись «совершенно устранить и воспроизвести историю русского государства в течение первого столетия его существования исключительно на основании одних иностранных источников» (скатываясь, тем самым, на позиции первой половины XVIII в., преодоленные наукой благодаря Ломоносову). То, что иностранные источники представляют собою самую зыбкую основу для построений норманизма, продемонстрировал сам исследователь, тогда же окончательно отдав предпочтение в разрешении варяго-русского вопроса лингвистике, с которой так бесцеремонно обходились норманисты.
Отмечая в целом высокую результативность работ С.А.Гедеонова, Д И Иловайского и И.Е. Забелина, вышедших в 1876 г. одновременно в крупнейших научных центрах России - Петербурге и Москве (в том же году в Киеве увидел свет первый том посмертного издания сочинении антинорманиста М. А. Максимовича), Куник подытоживал: они, подняв в «роковом» 1876 г. «бурю против норманства», устроили «великое избиение норманистов», «отслужили панихиду по во брани убиенным норманистам». Оставаясь верным беспроигрышному наступательному принципу норманистов обвинять оппонентов во всех тяжких, называет их «варягоборцами», «норманофобами», «антинесторовцами», организовавшими в последние годы «поход против Несторова сказания», а себя и своих единомышленников относит, соответственно, к «защитникам Нестора», к «несторовцам». Но вместе с тем он тогда же произнес, ведя речь о норманской теории, что «трудно искоренять исторические догмы, коль скоро они перешли по наследству от одного поколения к другому», и что норманисты приписывали норманнам «такие вещи, в которых последние были совершенно неповинны». А в адрес Погодина, которого титуловал «Нестором русских норманистов», сказал, что у него есть «не всегда доказанные положения» и что в своей «Борьбе не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями» он не всегда придерживается строго научной разработки источников и к тому же субъективен[242].
В 1876 г. И.Е. Забелин в «Истории русской жизни с древнейших времен», сославшись на крайне низкие оценки немцев И. Д. Шумахера и А.А.Куника, данные диссертации Миллера и весьма хорошо известные в науке, заметил: говорить, что русские ученые засудили ее «из одного патриотизма, значит извращать дело и наводить недостойную клевету на первых русских академиков». Увидев в дискуссии столкновение двух народных или ученых «гордостей» - немецкой, свысока взиравшей на славян, и русской, не способной равнодушно отнестись «к этому немецкому возделыванию нашей древности посредством только одного отрицания в ней ее исторических достоинств», историк выступление М. В. Ломоносова, С. П. Крашенинникова и Н. И. Попова против воззрений Миллера квалифицировал как первую основательную и в полной мере ученую попытку критически рассмотреть саму «немецкую критику» (так, они правомерно обращали внимание на то, что Миллер, «отвергая и критикуя русские басни, вводил на их место готические басни и сверх того свои неосновательные догадки. За этими основными недостатками никакой другой учености у историографа они не находили»), Ломоносов, подчеркивал Забелин, «весьма основательно выставил ему ряд доказательств» (например, что «имя и народ россиян» суть наследники роксолан, древних обитателей южной Руси), раскрыл несостоятельность его рассуждений (о том, что был лишь князь Аскольд и не было князя Дира, что Холмогоры есть скандинавское название), но нелепее всего считал тезис, что имя «русь» заимствовано от чухонцев-финнов. И мнение Миллера, подводил черту историк, «было отвергнуто, как мнение смешное и нелепое, не имевшее никаких ученых оснований», и что его «немецкая критика» оказалась слабее критики Ломоносова, которая до сих пор не опровергнута и подтверждается «новою ученостью (в трудах г. Гедеонова), достоинствам которой и ученые норманисты отдают полную справедливость». Но при этом он нисколько не сомневался в том, что Ломоносов не был, «да не мог и потом сделаться специалистом исторической науки».
Забелин, ведя речь о неподготовленности Байера и Миллера заниматься историей России (по незнанию русского языка и русских источников), констатировал, что им, проникнутым немецкой национальной идеей «о великом историческом призвании германского племени, как всеобщего цивилизатора для всех стран и народов», было свойственно смотреть на все «немецкими глазами и находить повсюду свое родное германское, скандинавское», и что круг «немецких познаний» хотя и отличался великой ученостью, но эта ученость сводилась к знанию больше всего западной, немецкой истории, «и совсем не знала, да и не желала знать историю славянскую».
Обратив внимание на опасную аномалию в науке, когда «шлецеровская буква», «вселяя величайшую осторожность и можно сказать величайшую ревнивость по отношению к случаям, где сама собою оказывалась какая-либо самобытность Руси, и в то же время поощряя всякую смелость в заключениях о ее норманском происхождении», Забелин так обрисовал атмосферу, царившую в науке и обществе и более чем благоприятную для норманизма: «Мнение о норманстве руси поступило даже посредством учебников в общий оборот народного образования. Мы давно уже заучиваем наизусть эту истину как непогрешимый догмат», и что «всякое пререкание даже со стороны немецких ученых почиталось ересью, а русских пререкателей норманисты прямо обзывали журнальной неучью и их сочинения именовали бреднями».
Указал он и на причину подобных массовых настроений, вытравляющих инакомыслие, без которого наука мертва: если «немецкий ученый убежден, что германское племя повсюду в истории являлось и является основателем, строителем и проводником цивилизации, культуры; то русский ученый, основательно или неосновательно, никак не может в своем сознании миновать той мысли, что славянское племя, и русское в частности никогда в культурном отношении ничего не значило и в сущности представляет историческую пустоту. Для воспитания такого сознания существовало множество причин, ученых и не ученых... и в числе которых весьма немаловажною была та причина, что свои ученые познания мы получали от той исторической науки, где эта истина утверждалась почти каждодневно».
И, в качестве подтверждения своих слов рассмотрев взгляды М.Т. Каченовского с учениками и М.П. Погодина, отметил, что они, «выходя из самых противоположных точек зрения, пришли однако к одному концу и в основе своих воззрений выразили одну и туже мысль, то есть мысль об историческом ничтожестве русского бытия». Вместе с тем историк признал, что у антинорманистов долгое время не было «под ногами ученой почвы», по причине чего они грешили баснословием и фантазиями, и что только исследования Гедеонова «впервые кладут прочное и во всех отношениях очень веское основание и для старинного мнения о славянстве руси». Работы Иловайского, по мнению Забелина, написаны в более популярной, чем у Гедеонова, и потому в «менее ученой форме». Он также констатировал, что «чистый» Нестор «создан воображением» лишь Шлецера и что норманисты исправляют «имена собственные нашей начальной летописи в сторону скандинавского происхождения их»[243].
В 1876 г. датский славист В.Томсен прочитал в Оксфорде лекции, оказавшие огромное воздействие на русских и зарубежных исследователей (в виде отдельной книги они были изданы в 1877-1919 гг. в Англии, Германии, Швеции, России, Дании). Ученый, следуя в русле давней традиции, мешающей конструктивному разговору по всему спектру варяго-русского вопроса, обвинил антинорманистов в «ложном патриотизме», не позволяющем им принять мысль об иноземном происхождении имени русского народа и неприятный для них факт основания Древнерусского государства «при помощи чужеземного княжеского рода, - как будто подобное обстоятельство может заключать в себе что-нибудь оскорбительное для великой нации». Заявляя, что норманство варягов одинаково удовлетворяет «всех трезво смотрящих на дело русских и иностранных исследователей», он утверждал, что «до последнего времени раздавались лишь немногие голоса против господствующего воззрения» и что антинорманистские гипотезы «легко опровергались и находили мало последователей».
Выделяя из оппонентов лишь Гедеонова (его сочинение, «по крайней мере, производит впечатление серьезной обдуманности и больших познаний»), Томсен безапелляционно заключил: «Громадное же большинство сочинений других антинорманистов не могут даже иметь притязаний на признание их научными: истинно научный метод то и дело уступает место самым шатким и произвольным фантазиям, внушенным очевидно более нерассуждающим национальным фанатизмом, чем серьезным намерением найти истину». Из числа норманистов он отметил Погодина и «в особенности» Куника, которые «неоднократно ополчались на защиту своего любимого дела и в целом ряде статей оспаривали шаткие фантазии своих противников; другие не менее солидные ученые без колебания последовали их примеру». И как подводил черту исследователь, хотя «критицизм антинорманистов пролил новый свет на некоторые частности вопроса; но главная сущность дела осталась совершенно нетронутой, и в своих основаниях теория скандинавского происхождения Руси не поколеблена ни на волос» (но тут же принял их катастрофические для норманизма заключения, что Рослаген и имя Русь не связаны и что скандинавского племени по имени русь никогда не существовало).
Также им было отмечено, что книга А. А. Куника «Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen» «составляет эпоху в истории решения» варяжского вопроса. Но при этом Томсен не сказал, либо не зная этого факта, либо преднамеренно закрывая на него глаза, что ее автор сделал в 1862 г. под воздействием критики Гедеонова многозначительное признание: «...Я должен теперь первую часть своего сочинения объявить во многих местах несоответствующею современному состоянию науки, да и вторую часть надобно, хоть в меньшей мере, исправить и дополнить» (а ведь в этом труде Кунику, как утверждается в норманистской историографии, «удалось тверже обосновать и развить учение о скандинавском происхождении князей, основавших русское государство»[244]). Говоря, что в сагах нет прямого упоминания об его основании, исследователь пояснил: «Это событие прошло на Севере сравнительно незамеченным, тем более что центр литературы саг, Исландия, был слишком удален от самой сцены события»[245].
В 1877 г. Д.И.Иловайский вновь подчеркнул, что норманская теория имела, «кроме укоренившейся привычки, наружный вид строгой научной системы» и что хотя критика Гедеонова наносит ей «неотразимые удары», заставившие ее сторонников сделать «некоторые довольно существенные уступки», но собственная версия ученого происхождения варягов вряд ли имеет «какую-либо будущность в нашей науке». В том же году Н.И. Костомаров, рассматривая в обзоре исторической литературы за 1876 г. исследования Д. И. Иловайского («История России. Киевский период. Т. I. Ч. 1»; «Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю»), И.Е.Забелина («История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1.») и С. А. Гедеонова («Варяги и Русь»), особо отметил труд последнего.
Указав, что автор «владеет чрезвычайною эрудициею и отличается беспристрастною здравою критикою, глубокомыслием и проницательностью», рецензент резюмировал: Гедеонов «разбивает в пух и прах всю так называемую норманскую систему и совершает свой подвиг с изумительным искусством». Норманизм, пишет он, окончательно разбит, рассеян, уничтожен «и притом не на основании предположений и соображений, а при помощи исторических фактов и логических умозаключений, какие только возможны под пером человека, обладающего громаднейшею ученостью и начитанностью». И если бы Г.З. Байер, А.Л. Шлецер, И.Ф. Круг, М.П. Погодин, заключал Костомаров, «могли восстать из гробов и ополчиться против нового врага своих теорий, если бы к ним пристали и другие до сих пор здравствующие норманисты, то, при всех своих усилиях, не могли бы они уже поднять из развалин разрушенного г. Гедеоновым здания норманской системы», и что его монография «останется одним из самых капитальных памятников русской науки»[246].
В 1877 г. норманист И. И. Первольф, довольно жестко критикуя сочинения Гедеонова и Забелина, во-первых, сказал, что «в последние времена поборники норманской теории значительно усмирились». Во-вторых, он буквально высмеял крайности норманской теории времени А. Л. Шлецера, Н. М. Карамзина, И.Ф. Круга, М.П. Погодина, указав при этом то обстоятельство, которое давало ей невиданный вотум доверия: «Всякий, кто не верил в норманскую гипотезу... прослыл за еретика. Русь, Русская Правда, болярин или боярин, вервь, град, ряд, полк, весь, навь, смерд, вено и проч., все это оказывается поклонниками Одина и Тора, да и этот последний житель Валгалы едва ли не переселился на берега Днепра, переменив только фамилию в Перуна»[247].
В 1878 г. выдающийся лингвист И.И.Срезневский, убежденный в норманстве варягов, констатировал, говоря о книге Гедеонова «Варяги и Русь»: «На это произведение нельзя не глядеть с особенным уважением. Это - плод огромной научной работы, потребовавшей и много времени, и самоотверженной усидчивости, и разнообразной начитанности, и еще более разнообразных соображений, а вместе с тем и решимости бороться с такими силами, которых значение окрепло не только их внутренней стойкостью, но и общим уважением». В 1879 г. И.Е.Забелин назвал еще одну причину, создающую весьма питательную среду для норманистских воззрений в России: «Норманны - имя очень важно и очень знаменито в западной истории, а потому и мы, хорошо выучивая западные исторические учебники и вовсе не примечая особенных обстоятельств своей истории, раболепно, совсем по-ученически, без всякой поверки и разбора, повторяем это имя». Здесь же он отметил, что норманисты, «одержимые немецкими мнениями о норманстве руси и знающие в средневековой истории одних только германцев», никак не желают допустить связей восточных славян с их южнобалтийскими сородичами[248].
В 1880 г. А.М. Кубарев и Д. И. Иловайский указали, что работа датчанина В. Томсена не представляет собой «чего-либо самостоятельного», а есть «самое поверхностное повторение мнений и доводов известных норманистов, преимущественно А.А.Куника», причем автор, в силу «своей отсталости», повторяет, отмечал Иловайский, такие доказательства последнего, от которых тот уже отказался. Вместе с тем Иловайский сказал, что если норманская теория имеет «за собой хотя некоторые основания», то еще менее состоятельна «славяно-балтийская теория руси» С. А. Гедеонова и И.Е. Забелина. По его словам, «мы считаем ее настолько безнадежною, что не желаем тратить время на ее опровержение»[249].
В 1881-1882 гг. К.Н. Бестужев-Рюмин в лекциях по историографии и очерках, посвященных анализу жизни и творчества В. Н. Татищева, А. Л. Шлецера, Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, констатировал, во-первых, что «несмотря на протесты некоторых историков, приходящих в ужас от утверждения, что немцы создали у нас историческую науку, должно сказать, однако, что немцы действительно положили у нас начало этой науке», при этом первым из них называя то И. X. Коля, занимавшегося церковной историей, то Г. 3. Байера, то Г. Ф. Миллера. Во-вторых, Байер «нашел ученое доказательство происхождения варягов из Скандинавии», но при этом «неясно, различая годные источники от негодных и говоря иногда то, что смешно каждому русскому человеку (хотя бы производство «Москвы» от «мужика»)», что Миллер, «умный и трудолюбивый, принес огромную пользу как собиратель материала и даже в некоторых эпохах как толкователь (в Смутном времени)», что Шлецер, являясь «действительным учителем и исторической критике, и историческим воззрениям... видел все спасение в немцах и все понимал только в западных формах: оттого, оказав великие услуги русской науке, этот учитель внес в нее и много заблуждений, с которыми еще и в наше время приходится бороться».
Так, его критика «есть критика здравого смысла и во многом уже неудовлетворительна. Преданию, мифу он не дает никакого значения - все это басни, и для него народное предание стоит на одной доске с вымыслом книжника; развитию идей он не дает никакой цены», что он со значительной долей пристрастия передает историю «науки исторической в России», что, «увлекаясь гордостью своего немецкого патриотизма», «внес большую смуту в умы», показав славян до прихода скандинавов похожими «на американских дикарей», которым пришельцы «принесли веру, законы, гражданственность», тем самым представив, повторил исследователь сказанное в 1872 г., «русскую историю в ложном свете». «Странно, - продолжает далее Бестужев-Рюмин, - что это повторял Погодин. Из этой мысли вышел и Каченовский, утверждавший недостоверность источников первоначальных времен на том основании, что показания их как будто не подходят к такому взгляду.... Но пора же понять, что взгляд этот отжил и противоречит не только показаниям... источников, но и непререкаемым свидетельствам археологии».
В Татищеве автор видел «первоначальника русской исторической науки», человека, который «стоит в самом начале нашей исторической науки и работает почти что один на поле, совершенно неразработанном. Грустно только думать, что так долго мы его не знали или, что еще хуже, пренебрегали им». И, как заключал Бестужев-Рюмин, «он поставил науку русской истории на правильную дорогу собирания фактов; он обозрел, насколько мог, сокровища летописные и указал дорогу к другим источникам; он тесно связал историю с другими сродными ей знаниями». Ломоносов, по его словам, увлеченный патриотическим чувством, «из патриотизма стал доказывать, что шведы, с которыми мы воевали, не могут быть предками наших князей», что он и против плана Шлецера по обработке русской истории 1764 г. «восстал со стороны национальной», а Погодина назвал «ревностным учеником» Шлецера, принявшим все крайности его концепции[250].
В 1884 г. М. О. Коялович, говоря о «зле немецких национальных воззрений на наше прошедшее», широко разлившемся в науке «под видом научности» и приведшем к торжеству и в ней и в обществе мысли, что признавать норманизм - «дело науки, не признавать - ненаучно», охарактеризовал Байера как человека «великой западноевропейской учености», но совершенным невеждой в «русской исторической письменности». По оценке историка наука долго платила непомерно высокую дань «немецкому патриотизму» и заблуждениям Шлецера. Назвав его план разработки летописей удачным и указав что в его основе лежит труд Татищева, Коялович высказал невысокое мнение о самом итоге этого проекта - многотомном «Несторе» Шлецера «Пали» перечислял он, желание автора восстановить подлинный текст ПВЛ его утверждения о диком состоянии восточных славян до призвания варягов о невозможности найти что-либо верное в иностранных источниках, большей частью даже его объяснения текста летописи, его предубеждения против позднейших летописных списков, и удержал значение лишь «его научный прием т. е. строгость, выдержанность изучения дела».
В разговоре о Ломоносове Коялович шел в русле рассуждений норманистов: что он «накинулся» на Миллера, поднявшего «бурю своими немецкими воззрениями в такое русское патриотическое время», «с громадной силои своего таланта и с необузданностью своего права», и назвал эту борьбу «позорной», что «занятие историей было слишком далеко от специальных знании Ломоносова, было начато им слишком поздно и не могло дать удовлетворительного результата» и что он возвеличивал Россию. Весьма обстоятельно проанализировав творчество, помимо названных лиц, Г. Ф. Миллера, В. К. Тредиаковского, Н. М. Карамзина, Г. Эверса, Г. А. Розенкампфа, скептиков: Н.А.Полевого, О.И.Сенковского, М.П.Погодина, Ю.И. Венелина, П. Г. Буткова, С.М.Соловьева, А.А.Куника, С.А.Гедеонова, Н.И.Костомарова, Н.И.Ламбина, К.Н.Бестужева-Рюмина, Д.И.Иловайского, И.Е.Забелина, Е. Е. Голубинского, исследователь отметил явное желание значительной части соотечественников «видеть у нас все иноземного происхождения» и возводить свои воззрения в абсолют. Так, в отношении последнего он сказал, что его пристрастие «к норманскому или точнее шведскому влиянию у нас., доходит иногда до геркулесовых столбов» и что «новый недостаток сравнительного приема нашего автора, - большее знание чужого, чем своего».
А выводы Сенковского квалифицировал как «чудовищную, оскорбительную пародию» ученых мнений, доведенных им «до последних пределов нелепостей, крайне обидных и для ученых, и вообще русских», при этом подчеркнув: она потому имеет значение, что вся «построена на ученых серьезных для того времени данных, и потому вызывала к себе большое внимание» (поляк Сенковский, добавлял историк, с «необузданною, чисто польскою наклонностью поглумиться над Россией... воспользовался сагами для величайшего унижения немецкой критики по русской истории и вместе с тем для оскорбления русской народности»), В адрес Гедеонова Коялович заметил что против норманизма «неожиданно явился сильный противник этого казалось, неодолимого мнения, - противник, вооруженный громадной, чисто академической научностью», который своим трудом «смутил самых ученых защитников наших призванных князей и заставил отказаться от некоторых положений»[251].
В «Курсе русской истории» («Лекция VII») В. О. Ключевский отметил два взгляда на начало Руси: Шлецера, «которого держались Карамзин, Погодин, Соловьев», и второй, прямо ему противоположный, который «начал распространяться в нашей литературе несколько позднее первого, писателями XIX в.», и который наиболее полно выражен в сочинениях И.Д.Беляева и И.Е.Забелина («История русской жизни с древнейших времен». Ч. 1. - М., 1876). В 1884-1885 гг. он, читая курс «Терминология русской истории», констатировал, также не вдаваясь в подробности, наличие в науке нескольких мнений по поводу этноса и родины руси: Швеция (Г.З.Байер, А.Л.Шлецер, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, А.А.Куник), Финляндия (В.Н.Татищев, И.Н. Болтин), Прусская земля (М.В.Ломоносов), Рустрингия-Фрисландия (Г,Ф. Голлман), Хазария (Г. Эверс), южнобалтийские славяне (Ю.И. Венелин, Ф.Л.Моронпсин, М.А.Максимович, Н.В.Савельев-Ростиславич, С.А.Гедеонов, И.Е.Забелин, подчеркнув при этом, что двое последних указывают на остров Рюген), Литва (Н. И. Костомаров), мордва, вообще поволжские финны (Д. Щеглов), угоро-хазары (В.Н. Юргевич), туземное славянское племя россы-роксаланы (росс-аланы) (М. Стрыйковский, Д. И. Иловайский)[252]. В 1886 г. в изданной в Риге «Русской исторической литературе» («Zur russischen Geschichtsliteratur») прибалтийского немца Г. Дидерихса утверждалась «истина», которую взрастили собственно русские ученые-норманисты, что в России начало изучению истории было «положено исключительно немецкими исследователями»: Байером, Миллером, Шлецером, Эверсом[253].
Ф. И. Свистун в 1887 г., кратко пересказав М. О. Кояловича, привел мнения об этносе варягов Г.З.Байера, М.В.Ломоносова, Ю.Тунманна, М.М.Щербатова, И.Н. Болтина, А.Л. Шлецера (присвоил себе теорию Байера о скандинавском происхождении руси, не прибавив к его исследованиям ничего существенного), Г.Эверса, Г.Ф.Голлмана, Н.А.Полевого (утверждал, что предание о Рюрике и его братьях явно походит на миф), М.Т. Каченовского (считал, что Новгород был «колонизирован» южнобалтийскими славянами и что посредством их переходила на Русь западноевропейская культура), О.И.Сенковского, М.П. Погодина, Ю.И. Венелина (после смерти ученого в 1839 г. и выхода его «Скандинавомании...» в 1842 г. спор о происхождении руссов «притих»), Ф.Крузе, П.И.Шафарика (признавал, ссылаясь на Шлецера, Карамзина и Погодина, норманство варягов, но, по его же словам, уклонился от обширного рассуждения на эту тему), Н.И. Костомарова, С. А. Гедеонова, Д. И. Иловайского, И.Е. Забелина, В. О. Ключевского. При этом он более развернуто остановился на концепциях Гедеонова (русь - это восточнославянское племя поляне-русь, а варяги - князья и их дружина - были призваны с южнобалтийского Поморья), Иловайского (отвергает историзм Сказания о призвании варягов и признает его «басней», а в основе его теории лежит положение Гедеонова о руси как туземном племени), Забелина (считает норманскую теорию плодом узкого, немецкого патриотизма и на основании богатого запаса географических данных доказывает древнейшее общение балтийских и восточноевропейских славян), и что варяго-русским вопросом стали заниматься с 1860 г. (диспут между Костомаровым и Погодиным)[254].
Сопоставление В. О. Ключевским в конце 80-х - 90-х гг. XIX в., с одной стороны, Байера, Миллера, Шлецера, с другой - Ломоносова, было, конечно, не в пользу последнего. Истинный источник его «непрерывной и непримиримой» вражды к немцам-академикам, по мнению Ключевского, следует искать в «патриотическом негодовании», какое возбуждалось в нем их отношением к делу просвещения в России, и что его нападки «на Миллера не просто личного свойства: они вытекали из его патриотических взглядов». Не сомневаясь, что диссертация Миллера имеет «важное значение в русской историографии», антинорманизм Ломоносова он назвал «патриотическим упрямством», в связи с чем его «исторические догадки» не имеют «научного значения» (но при этом говоря, что «в отдельных местах, где требовалась догадка, ум, Ломоносов иногда высказывал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь. Такова его мысль о смешанном составе славянских племен, его мысль о том, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится общеизвестным его имя», а в «Курсе русской истории» - «Лекция XVII» - принял и развивал идею ученого, впрочем, не называя его имени, что русский народ образовался «из смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого»).
Вместе с тем Ключевский отметил, что Миллер своей диссертацией «сказал мало нового, он изложил только взгляды и доказательства Байера» (а эти слова по сути совпадают с заключением Ломоносова), «по своему задорному характеру» обострив их, что Шлецер «с немецким пренебрежением» относится «ко всем русским исследователям русской истории», что его «Нестор» - это «не результат научного исследования, а просто повторение взгляда Нестора... Там, где взгляд Нестора мутился и требовал научного комментария, Шлецер черпал пояснения у Байера, частью у Миллера. Трудно отыскать в изложении Шлецера даже новый аргумент в оправдание этой теории». Шлецер, заключал исследователь, не уяснил самого свойства ПВЛ, полагая, «что имеет дело с одним лицом - с летописцем Нестором», и прилагал к летописи приемы, к ней «не идущие». Говоря, что Ломоносов «до крайности резко разобрал» русскую грамматику Шлецера, в то же время признал его принципиальную правоту: «Действительно, странно было слышать от ученика Михаэлиса такие словопроизводства, как боярин от баран, дева от Д1ев, князя от Knecht», и вел речь о «надменности» Шлецера, о наличии у него «нервного расстройства вместе с пламенным воображением» и «чрезвычайно распухшего самолюбия»[255].
В 1891 г. В.С.Иконников в «Опыте русской историографии» дал небольшие характеристики работам предшественников-историографов: А.З.Зиновьева (неудачная), А. Ф. Федотова (несколько шире по объему и выполнена «систематичнее», и что он отметил односторонность критики Шлецера - отрицательная), Н.Г.Устрялова, А. В. Александрова («изложено без всякой системы и обработки»), А.В.Старчевского, Н.А.Иванова (сумел «впервые обстоятельно и подробно изложить общий ход развития науки русской истории, указать литературу рассматриваемых вопросов и критически отнестись к мнениям писателей»), С.М.Соловьева, И.В.Лашнюкова, К.Н.Бестужева-Рюмина, М.О.Кояловича (впал «в крайний субъективизм», что «особенно сказывается в отношении к некоторым писателям, оказавшим, однако, несомненные услуги русской истории (Миллер, Шлецер и др.). Определения разных направлений в русской историографии и их характеристики не всегда точны и еще менее верны»)[256].
Норманист Ф. А. Браун в 1892 г. в энциклопедической статье «Варяжский вопрос» ряд приверженцев норманской теории открыл именем шведа П. Петрея и наиболее выдающимися из них назвал Н.М. Карамзина, И. Ф. Круга, М. П. Погодина, А. А. Куника, П. И. Шафарика, Ф. Миклошича. Заметив, что до 1860-х гг. эта школа «могла считаться, безусловно, господствующею», подчеркнул: ее представители расходятся лишь в определении родины варяжской руси (Упланд, русь, выселившаяся из последней и давно жившая около Ладожского озера, скандинавское племя, оставшееся в России тогда, когда его родичи переселились в Скандинавию). Говоря, что «гораздо меньше согласия существует среди антинорманистов» (они сходятся только в отрицании норманства варяго-руссов), ученый привел их мнения по поводу происхождения руси: славянское, за которое большинство (С. А. Гедеонов, Д. И. Иловайский), хазарское (Г.Эверс), угорское (В.Н.Юргевич), финское (В.Н.Татищев), литовское (Н.И. Костомаров). При этом Браун отнес к «антинорманистам» сторонников готской теории И. С. Фатера и А. С. Будиловича.
Упомянул он и тот взгляд, согласно которому и варяги, и русь представляли собой не народ, не княжеский род, а только дружины, составленные из людей разных народностей, и что русь была известна на берегах Черного моря задолго до приходя Рюрика с братьями (С.М.Соловьев). Приведя показания иностранных источников (Вертинских анналов, Лиудпранда, арабских писателей), якобы свидетельствующих в пользу норманской теории, Браун откровенно сказал, нейтрализовав тем самым их доказательную силу, что центр ее тяжести «лежит, однако, не в этих исторических обстоятельствах, а в данных лингвистических». Также им было отмечено, что антинорманисты «справедливо указывают на то, что необъясненным, или неудовлетворительно объясненным, остается в системах норманистов... главное имя - «Русь»[257].
В 1897 г. П.Н. Милюков, словно состязаясь со Шлецером, крайне негативно отозвался о русских историках XVIII в. - В. Н. Татищеве, М. В. Ломоносове, М.М. Щербатове, И.Н. Болтине, отнеся их к «допотопному миру русской историографии... - миру мало кому известному и мало кому интересному», и отмечая, что для них, не прошедших «правильной теоретической школы», критические приемы европейской науки оставались недосягаемыми образцами. Так, Татищеву, составившему добросовестный свод летописных известий и сделавшим «его непригодным для ученого употребления», осталась непонятной даже сама разница между источником и исследованием. А Ломоносов представлял собой «патриотическо-панегирическое» направление (или «мутную струю» в историографии XVIII в.), где главными были не «знание истины», а «патриотические преувеличения и модернизации», ведущие свое начало от Синопсиса. И если русские ученые, проводя «утилитарно-националистический взгляд», значение истории видели в назидательности, то немецкие академики, владевшие всеми приемами классической критики, полагали, что цель истории заключается в том, чтобы «открывать истины».
Ведя речь о «чисто литературных приемах» Ломоносова, сказавшиеся на его работе с источниками, Милюков рисует Байера «истинным типом германского ученого-специалиста», обладавшим «критическим чутьем» и «колоссальной ученостью» (при этом говоря, что «его главные доказательства норманизма до сих пор остаются классическими»), а Миллера «здоровым, сильным чернорабочим» с колоссальным трудолюбием, не сопровождавшимся ученостью (ему недоставало «строгой школы и серьезной ученой подготовки»). Шлецер, по его словам, имеет несравненно большее значение в развитии исторической мысли «как реформатор самого взгляда на ученость и науку», как человек, протестовавший против национального субъективизма во имя принципа научного безразличия и введший идею исторической критики источников: разбирать не самый рассказ, а его источники, «восстанавливать факт». Вместе с тем он констатировал, что Байер практически исчерпал все затронутые им сюжеты, в связи с чем Шлецер лишь снабдил извлечения из него «некоторыми частичными возражениями и поправками»[258.]
Через два года Ф. А. Браун в статье, касающейся происхождения имени «Русь» (а она, как и «Варяжский вопрос», также была написана для энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона), констатировал, что имя это «толковалось учеными различно, смотря по тому, какого мнения они держались относительно исторического и этнологического понимания Руси», и что «ни одно из этих толкований не может считаться удовлетворительным». Хотя лингвист и подчеркнул, что именно «в финском наименовании шведов кроется разгадка всего вопроса», но вместе с тем отметил, что попытки А.А.Куника выводить Русь от Roslagen или от эпического прозвища готов Hreidhgotar, для которого им была восстановлена более древняя форма Hrоthigutans («славные готы»), оказались несостоятельными, что было признано самим ученым. Последнюю мысль Куника подхватил А. С. Будилович, стремясь «и исторически, и этнологически ставить Русь в связь с готами, а ее имя - с готской основой hroth «слава», пытаясь, таким образом, заменить «норманскую» теорию «готскою», не выдерживающей, отметил Браун, «критики ни с исторической, ни с лингвистической точки зрения»[259].
В 1899 г. Н.П.Загоскин, приведя имена Г.З.Байера, Г.Ф.Миллера, Ф.Г.Штрубе де Пирмонт, А.Л.Шлецера, Н.М.Карамзина, И.Ф.Круга, А. А. Куника, М. П. Погодина (при этом назвав последнего «особенно фанатичным поборником» норманизма, «ультранорманистом»), внимание сосредоточил на критике основных доводов норманской теории (попытки ее сторонников вывести русские слова из скандинавского охарактеризовал как «филологическая эквилибристика» и указал, что летописное «за море» «представляется совершенно неопределенным»). Более конкретно ведя речь о представителях славянской школы: М.В.Ломоносове, В.К.Тредиаковском, Ф. Л. Морошкине, Ю. И. Венелине, А. А. Котляревском, С. А. Гедеонове, Д. И. Иловайском, И. Е. Забелине, он подробно рассказывает о разработке варяжского вопроса тремя последними исследователями. Отметив при этом, что «благодаря г. Гедеонову учение славянской школы было поставлено на твердую почву» и что он нанес норманизму «удар, по-видимому, смертельный» (норманизм «в своей ультра-радикальной байеро-шлёцеро-погодинской форме становится в наши дни явлением все более и более редким»).
Вместе с тем историк привел взгляды, как он их всех именует, антинорманистов, видевших в варягах финнов (В.Н.Татищев, И.Н. Болтин), хазар (Г.Эверс), готов (И.С.Фатер), литовцев (Н.И.Костомаров). По его словам, С.М.Соловьев придерживался «среднего мнения», считая варягов не каким-то народом, а «сбродной, разноплеменной» дружиной, «с преобладающим, однако, скандинавским элементом и под предводительством норманских вождей». В целом, как заключал Загоскин, многолетняя борьба норманистов и антинорманистов принесла, даже своими крайностями, «великую услугу» нашей науке, «дав толчок к пересмотру и критике летописей и других, как отечественных, так, в особенности, иноземных источников»[260]. Западноевропейская наука после В. Томсена не могла видеть в антинорманистах профессиональных специалистов. Так, в 1899 г. славист Т. Маретич в популярной книге «Славяне в древности», вышедшей в Загребе, категорично сказал, что между ними, кроме С. А. Гедеонова, «нет ни одного настоящего ученого; все остальные - лишь дилетанты в исторической науке»[261].
В 1908 г. А. А. Шахматов утверждал, что «научное изучение древней русской истории начато великим Шлецером. Им были намечены вопросы, подлежавшие дальнейшей разработке, им были определены способы и приемы исследования. После Шлецера в основание исследования должна была быть положена критическая разработка древнего текста, а этой разработке должно было бы предшествовать восстановление текста по дошедшим до нас данным». В 1909 г. Ф.Тарановский, обратившись к наследию Ф.Г.Штрубе де Пирмонт, отметил, благодаря какому способу он «добыл» «новые» доказательства норманской теории, которыми затем оперировали в науке: «Получается... заколдованный круг: национальность варягов служила предпосылкой заключения о заимствовании постановлений Русской Правды у германских народных законов, а затем «изумительное» сходство с ними Правды служило одним из доказательных средств установления национальности варягов».
Г. Эверс, в свою очередь, считал, что заимствование Русской Правдой из германского первоисточника не связано с этносом варягов и объясняется исключительно близкими отношениями (торговыми и культурными), которые существовали между восточными славянами и немцами издавна. М.П. Погодина ученый представил в качестве наиболее ревностного сторонника германского происхождения древнерусского права, который считал научной ересью мысль о том, что Русская Правда является памятником славянского права, и убеждавшего, что сходство этого памятника со скандинавскими законами доказывает скандинавское происхождение варяго-русов. В адрес Н. А. Полевого Тарановским было сказано, что он, признав рассказ летописи о призвании варягов баснословным, видел в нем лишь свидетельство такого же завоевательного распространения норманнов, какое имело место и в Западной Европе[262].
В 1911 г., т. е. в год празднования двухсотлетия со дня рождения Ломоносова, М.В. Войцехович, превознося его как «великого патриота», упорно боровшегося против немецкого засилья в Академии наук, низвел его воздействие на историческую науку к знаку «минус». Ибо он не имел твердых исторических знаний, «оставленное им историческое наследие несравненно ниже его, - можно сказать даже более, - ниже века и исторической мысли его некоторых современников», «в своих исторических взглядах он... как будто даже попятился назад, стал открещиваться» от новых, скромных приобретений русской исторической науки, которые «находим у Миллера и еще в большей степени у Шлецера», и объявил им «жестокую войну».
Так, диссертация Миллера, являя собой лишь скромную попытку научно разрешить историю первых веков русской истории, «подверглась настоящему разгрому со стороны неистового академика», защищавшего «совершенно противоположную точку зрения не по соображениям научным, а национально-патриотическим». И в целом, Ломоносов беспощадно критикует работы немецких ученых, «независимо от степени их научной основательности, а единственно с точки зрения русских интересов, русской чести и достоинства». Диссонансом к этим словам звучат другие слова Войцеховича, что по вопросам о народах, населявших в древности Россию, и славянских племенах он обнаруживает не мало проницательности, что некоторые частные вопросы получили у него «блестящее разрешение, несмотря на скудость тогдашних научных средств, а некоторые его догадки впоследствии получили научное подтверждение и сохранили силу доныне», и что предположения Ломоносова в области варяго-русских древностей «принесли свою долю пользы, внеся некоторые поправки в объяснение норманской школы и заставив ее сторонников основательнее аргументировать свои положения»[263].
В том же году В. С. Иконников, говоря, что у Ломоносова против Шлецера «преобладала национальная точка зрения» и принимая критику Шлецером «Краткого Российского летописца» Ломоносова, утверждал, что его «Нестор», очищенный от ошибок и вставок, является капитальным трудом в области изучения летописных текстов и самой истории русского летописания. Но при этом заметив, что в России не шли в издании летописей по пути, указанному Шлецером, и что он не изобретал правил исторической критики, а заимствовал их из оснований библейской и классической критики, находившейся в то время уже на высоте, что его комментарии в значительной степени «носят филологический характер» и что он «ограничил значение норманизма в русской истории». Рассуждая об объективности Шлецера, Иконников подчеркнул, что общий характер его критики скептический, отрицательный и что его воззрения, «а потом и Нибура нашли у нас полное выражение в так наз. скептической школе», и что «по тогдашнему состоянию научных данных и свойственному ему скептицизму, Шлецер отрицательно относился к широким выводам (Шторха) об обширной торговле Востоком и Балтийским побережьем через Россию»[264].
В 1912 году И. А. Тихомиров привел выводы, высказанные Ломоносовым против норманизма, и которые «в настоящее время сохраняют свою силу» в науке: отсутствие норманского влияния на русский язык, славянская природа названий Холмогор и Изборска, происхождение руси от роксолан, отсутствие в Скандинавии имени «Руси» и в скандинавских источниках информации о призвании Рюрика, поклонение варяжских князей славянским, а не норманским божествам, о широком значении термина «варяги». По мнению ученого, научная значимость антинорманизма Ломоносова заключается, прежде всего, в том, что он «первый поколебал одну из основ норманизма - ономастику... указал своим последователям путь для борьбы с норманизмом в этом направлении», окончательно уничтожившим привычку «норманистов объяснять чуть не каждое древнерусское слово - в особенности собственные имена - из скандинавского языка; после трудов Гедеонова количество мнимых норманских слов, сохранившихся в русском языке, сведено до минимума и должно считаться единицами; следовательно, одно из норманских влияний - именно в языке - отошло в область преданий и должно считаться окончательно сданным в архив» (при этом Тихомиров напомнил о мыслях Ломоносова об участии славян в великом переселении народов и в разрушении Западно-Римской империи, «в настоящее время сделавшиеся ходячими истинами»)[265].
В 1913 г. В.А.Пархоменко, говоря, опираясь на показания византийских житий святых Стефана Сурожского и Георгия Амастридского, о существовании в начале IX в. Руси Черноморско-Азовско-Донской, не имеющей отношения к норманнам, подчеркнул, что готская (готско-норманская) теория, выдвинутая Е.Е.Голубинским и модифицированная затем В.Г.Васильевским, явно тенденциозна и придумана «лишь для спасения норманской теории от ее краха, страдает запутанностью в объяснениях». Вместе с тем он подверг критике теорию А. А. Шахматова о двух волнах прибытия скандинавов на Русь[266], являющуюся новым вариантом той же готской теории. В 1914 г. Д. И. Багалей рассмотрел аргументацию А. А. Куника, изложенную в «Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen». Немного сказал он о В.И.Ламанском, раскритиковавшем этот труд, о литовской версии происхождения руси Н. И. Костомарова, от которой тот отказался. Готская теория как разновидность норманизма была выдвинута, по его словам, В. Г. Васильевским для выхода «из затруднений по поводу многочисленных свидетельств о черноморско-азовской руси», а в развитии данной теории А. С. Будилович выводил слово «русь» из готского.
Из антинорманистов историк особо выделил С.А.Гедеонова, нанесшего «тяжелое поражение норманской теории, от которого она не оправилась доселе», и Д. И. Иловайского, также отстаивающего «туземное происхождение руси», но в отличие от Гедеонова отрицающего достоверность рассказа ПВЛ о призвании варягов (а в этом, на взгляд Багалея, содержится «самая сильная и убедительная сторона его теории», вместе с тем более слабой считая его мысль о тождестве руси с роксоланами). В работе датского филолога В. Томсена он увидел попытку новейшего обоснования норманизма, но при помощи старых доказательств Куника. Другой ее недостаток заключается в том, что обо всех анти-норманистах ученый «говорит огульно» и обвиняет их в «ложном патриотизме», мешающем им, «вопреки очевидности», принять мысль об образовании Киевской Руси скандинавами. В ответ на это Багалей заметил, что в самих источниках «кроется причина разнообразных, нередко исключающих друг друга мнений». В. О. Ключевского и А. А. Шахматова исследователь охарактеризовал как защитников «умеренного норманизма», очищенного от несообразностей[267].
В 1916 г. М. К. Любавский вел речь о трех теориях происхождения варягов и руси - южнобалтийской, туземной и готской. Из числа сторонников первой он указал Ломоносова, Морошкина, Забелина, более подробно рассуждая о последнем. При этом почему-то утверждая, что в выводе варягов с Южной Балтики Гедеонов шел «по стопам Забелина» (Гедеонов эту мысль отстаивал задолго до Забелина), но в вопросе происхождения руси разошелся с ним и признал ее за коренное восточнославянское племя, передавшее свое имя варягам. В данном вопросе его поддержал Иловайский, считавший варягов норманнами и не придававший им никакого значения в организации Древнерусского государства. Из числа приверженцев готской теории Любавский назвал лишь имя Будиловича. И в конце своего предельно краткого обзора автор снисходительно бросил, говоря о «безуспешности опровержений антинорманистов»: «Все, чего они достигли, это то, что отодвинули назад в более древнее время прибытие варягов-руси в нашу страну»[268].
Данные слова свидетельствуют, помимо тенденциозности ученого, о его самом поверхностном взгляде на историю разработки варяго-русского вопроса и не соответствуют истинному положению дел. Историографический материал беспристрастно говорит (особенно устами норманистов и особенно на примере Ломоносова и Гедеонова, а «имеющий уши слышать да слышит»), во-первых, о принципиальных ошибках Байера, Миллера и Шлецера, по трудам которых наши исследователи сверяли свой взгляд на прошлое России и приумножали их ошибки.
Во-вторых, что сторонники норманской теории шаг за шагом сдавали свои позиции (исторические и источниковедческие), постоянно идя на компромиссы с противоположным направлением и подстраиваясь под все возрастающий и под все более не согласующийся с их выводами уровень научных знаний, но при этом декларативно продолжая утверждать в силу традиции, за которой стояли громкие имена отечественной и зарубежной науки, об «истинности» своего учения. На то их подвигал еще и тезис Шлецера (пожалуй, единственное, что сохранилось в отечественной науке от наследия этого весьма одаренного и вместе с тем весьма противоречивого ученого, первоначально резко отделявшего русь от норманнов), крепко внедрившийся в сознание российского общества, что антинорманисты руководствуются не научными соображениями, а ложным патриотизмом, не позволяющим им признать основателями русского государства германцев.
Итоги изучения варяжской проблемы в дореволюционный период были во многом подведены в 1931 г. В.А.Мошиным в исследовании «Варяго-русский вопрос», по охвату материала (отечественного и зарубежного, от Байера до современной автору литературы, но прежде всего XVIII-XIX вв.) и обстоятельности его разбора не превзойденном до сих пор. И обращает на себя внимание тот факт, что убежденный норманист, эмигрант Мошин решительно отверг, прекрасно осознавая, какую непомерно высокую цену, в том числе и политического свойства, приходится за него платить, примитивное видение дискуссии норманистов и антинорманистов как противостояние «объективной науки» и «ложно понятого патриотизма», уводящее решение варяго-русского вопроса, как то показывает практика, в топи самых безудержных фантазий. С нескрываемой иронией заметив при этом, что «было бы весьма занятно искать публицистическую, тенденциозно-патриотическую подкладку в антинорманистских трудах немца Эверса, еврея Хвольсона или беспристрастного исследователя Гедеонова».
Не соглашаясь «с распространенным мнением о научной ценности антинорманистских трудов», он сказал далее: «Эверса, Костомарова, Юргевича, Антоновича никак нельзя причислять к дилетантам, а, по моему мнению, этот эпитет нельзя приложить и к Иловайскому, филологические доказательства которого действительно слабы, но который в области чисто исторических построений руководился строго научными методами», и открытия которого, «осветив по новому различные моменты древнейшей истории Руси, получили всеобщее признание и заставили даже наиболее упорных его противников внести в свои конструкции необходимые корректуры».
И занять столь принципиальную позицию Мошина заставили, во-первых, прекрасное знание им как историографии варяжского вопроса, так и самих работ антинорманистов, о которых большинство представителей противоположного лагеря судило лишь понаслышке, из поколения в поколение повторяя мнения признанных научных авторитетов, во-вторых, многие, по его же словам, краткие характеристики этого вопроса, попадающиеся «в учебниках и популярных трудах по русской истории», не только не дающие «действительной картины его развития, но часто страдающие значительными и вредными ошибками».
Ученый, говоря, что датский языковед В. Томсен «своим авторитетом канонизировал норманскую теорию в Западной Европе», вместе с тем подчеркнул, что он внес «в изучение вопроса мало такого, что не было бы ранее замечено в русской науке, в особенности в трудах Куника». Но, как констатировал сам же Мошин, Гедеонов, сильно пошатнув своей критикой «основания норманской теории», «похоронил «ультранорманизм» шлецеровского типа», пышно расцветший в первой половине XIX в., и «наиболее выразительными представителями» которого после Шлецера были Сабинин, Сенковский, Круг и Погодин[269]. Но духом и содержанием этого ультранорманизма были пропитаны первоначально все рассуждения Куника. И от которого он, как уже отмечалось, под воздействием Гедеонова открыто отказался в 1862 г., во многом признав несостоятельность своего сочинения «Призвание шведских родсов финнами и славянами», сыгравшего исключительно важную роль в упрочении норманизма в отечественной и зарубежной науке.
Остается привести мнения исследователей, прямо занимавшихся русскими древностями и варяго-русским вопросом, т. е. знающих его предметно и во всех деталях, а не оценивающих его далеко со стороны, непрофессионально и с заведомой предвзятостью. Эти мнения были высказаны ими в ходе дискуссии, которая развернулась в августе 1896 г. на X археологическом съезде после доклада К.И.Якубова на тему «К вопросу о происхождении имени Русь». Так, И.П.Филевич констатировал, «что двухсотлетний опыт русской науки указал бесплодность поисков Руси на севере, как и на юго-востоке», и что в этом случае «довольствоваться случайной связью названий, оставляя открытым вопрос этнографический; нельзя закрывать глаза на тесную связь названия Руси с известной частью русской территории, существовавшую, несомненно, с древнейших времен».
Д. И. Иловайский «справедливо заметил, что существование Руси Угорской - факт чисто этнографический - наносит прямой удар норманской теории». Не сомневаясь, что «норманская теория отжила свой век в русской науке», историк также совершенно справедливо заострил внимание на том принципиально важном обстоятельстве, объясняющем невероятную живучесть этой теории, что «большинство», придерживающееся ее и о котором говорит докладчик, есть большинство шведских, финских, норвежских, датских ученых». Иловайский, отмечая натянутость «объяснения слова «Русь» через финский язык», вместе с тем резонно заключил: «Мы и не должны иметь нужды растолковывать значение слова, которым называется народ: достаточно знать, что имя «Русь» было всегда связано с нашим народом и что наш народ никогда не называл себя иначе, как «Рось», а потом «Русь»; это название связано у нас и с названием рек, преимущественно в южной России. Не менее необъяснимы названия англов и Англии, франков и Франции. Задача историка не в растолковании значения таких названий, а в истории их: выяснении времени их появления, истории их распространения».
И.АХайновский также заострил внимание присутствующих на «названиях рек: Рось, Ростовица, Россата в Киевской губернии». Вступивший в дискуссию В.З. Завитневич напомнил «замечание Розенкампфа, что название финнами шведов «руотси» впервые засвидетельствовано в шведских законах XIII в.». Показательно, что византинист Ф.И.Успенский, будучи норманистом, не остался в стороне от этого очень важного разговора и, как им было сказано, «видел признак ослабления норманской теории в том, что она давно уже не может привести ни одного нового положения в свою защиту» и что мы «должны теперь на юге искать значения имени «Русь», а от севера должны уйти»[270].
К сожалению, такой научной остротой зрения и такой научной принципиальностью, которой отличался Ф. И. Успенский, могли похвастаться очень немногие деятели нашей науки, с гимназической скамьи, если вспомнить слова И.Е.Забелина, заучившие наизусть «истину» о норманской природе варягов и варяжской руси «как непогрешимый догмат». И даже не взвесив его на весах исторической критики, но только поверив на слово своим именитым предшественникам, да при этом еще очень стараясь соответствовать облику европейского ученого, а также пользуясь своим численным превосходством над оппонентами и официальным статусом норманской теории, смогли навязать этот догмат подавляющему большинству своих сограждан. Причем смогли навязать без больших усилий, т. к. элита нашего общества, в том числе интеллектуальная, в своей массе всегда демонстрировала удивительную готовность принять этот догмат за истину. Показательный тому пример: в 2007 году князь Ю. А. Оболенский, являясь потомком Рюрика в 33 колене, «был не на шутку встревожен, когда узнал (из данных анализа собственного ДНК. - В.Ф.), что его род по мужской линии восходит к некому славянскому предку. Князь ожидал другого: он - сторонник норманской теории - был уверен, что, как и полагается Рюриковичу, происходит от этого легендарного скандинава»[271].
И эта сказка для взрослых о «легендарном скандинаве» жива потому, что, как верно заметила Н. Н. Ильина, «психологической основой норманского учения, то есть учения, которое отводит германскому племени руководящую роль в древний период русской истории, служит недоверие русского общества к самому себе, сомнение в своих способностях устраивать жизнь своей страны». И «такого рода сомнение, - резюмировала исследовательница, - присущее доныне многим русским людям, связано в русской душе с подорванным чувством национального духовного достоинства», и что «сломленность национального духовного достоинства у части русского общества была, очевидно, проявлением его большей или меньшей слепоты к самобытным духовным силам в древней народной жизни и к действенности этих самобытных сил в собственной душевной глубине»[272].
Сейчас эта слепота проходит, и норманизм отойдет в прошлое нашей науки. Но этот процесс не будет ни простым, ни коротким, ибо ему будет агрессивно противиться та весьма влиятельная часть российского научного мира, которая, отмечал И.Е.Забелин, одержима «немецкими мнениями о норманстве руси» и знающая «в средневековой истории одних только германцев». При этом обвиняя оппонентов во всех тяжких и, прежде всего, - а тут гадать нечего! - в «ультрапатриотизме» и национализме, да еще пугая тем власть одновременно выставляя ее пособником таких настроений) и, само собой разумеется, мировое сообщество, представляя ему антинорманистов в качестве комплексующих «великодержавных шовинистов», ненавидящих шведов, немцев и далее по списку. А уж когда им совсем станет горячо, то, можно нисколько не сомневаться, поднимут визгливую кампанию по поводу притеснения в России «научных» норманистов по национальному признаку. И этим приемом они чрезвычайно ловко пользуются уже несколько столетий. Как говорил в начале XIX в. его «родитель» А. Л. Шлецер, «русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских». В 1876 г. В. Томсен увидел в действиях русских ученых, не согласных с норманской теорией, «национальный фанатизм» (в подобном тоне можно вести разговор о представителях любой национальной историографии, не принимающих суждения о своей истории в силу их несоответствия источникам и явной нелепости).
Такой взгляд стал нормой для российского научного сообщества, которое сохраняло и сохраняет ему непоколебимую верность в любых политических условиях: до революции, после революции, сегодня. В 1923 г. известный историк, большевик-меньшевик Н.А. Рожков, буквально возмущаясь тем фактом, что Ломоносов происходил из зажиточных крестьян и по своим политическим взглядам был сторонником самодержавия, вынес ему суровый обвинительный приговор: «Патриот в духе того времени, националист Ломоносов этой цели хотел служить и в своей «Российской истории». Именно из патриотических побуждений он отверг норманскую теорию и сделал варягов славянами» (да при этом еще отрицательно относясь к немцам, занимавшимся русской историей). В 1941 г. Н. Л. Рубинштейн убеждал, что Ломоносов «во имя национальной гордости» восстал не только против монополизации иностранцами российской исторической науки, но и против норманской теории[273].
Тема исключительно патриотической подоплеки выступления Ломоносова против норманизма и его приверженцев в той или иной форме звучала в трудах советских исследователей 50-80-х годов. Тональность этого звучания резко была усилена в наше время. Так, А.Б.Каменский и А.С.Мыльников в 1996-1997 гг. доводили до сведения читателя, что для Ломоносова норманская трактовка русской истории была неприемлема именно «как антипатриотическая» и что научную аргументацию он зачастую заменял «доводами гипертрофированного патриотизма». Тогда же Э.П. Карпеев представлял величайшего нашего гения «пламенным выразителем» «амбициозно-национальной» политики, а Т. А. Володина в 2000-2005 гг. категорично утверждала, что Ломоносов, слишком увлеченный «своим национально-патриотическим чувством», «в патриотической запальчивости... не особенно считался со средствами, доказывая величие российского народа»[274].
В 2007 г. украинский доктор исторических наук Н.Ф. Котляр в своем неприятии современных русских ученых-антинорманистов, изложенном на страницах родственного ему по духу российского издания «Средневековая Русь», дошел до приснопамятных по 1930-1950-м гг. формулировок, клеймя их как «средневековых обскурантов», «квасных» и «охотнорядческих патриотов», не способных «на какую бы то ни было научную мысль»[275] (такая ненависть к оппонентам совершенно чужда науке и может исходить только от людей, страдающих какими-то очень серьезными комплексами и расстройствами).
Эта часть наших соотечественников будет противиться достижению прогресса в варяго-русском вопросе и потому, что, как сказал А. А. Куник в 1878 г. в адрес норманской теории, «трудно искоренять исторические догмы, коль скоро они перешли по наследству от одного поколения к другому». К тому же она, привыкнув к такому упрощенному взгляду на свое прошлое, более сложную его картину просто не в силах принять, т. к. это выше ее возможностей. Наконец, она будет придерживаться норманизма еще по той причине, что его исповедует и будет, конечно, исповедовать, если процитировать Д. И. Иловайского, «большинство шведских, финских, норвежских, датских ученых».
Но последними, все так же тешащими, как и представители шведской донаучной историографии XVII в., свое коллективное национальное самосознание и свою коллективную национальную гордыню ложной мыслью, что русские варяги - это норманны, т. е. действующими - осознанно и неосознанно - под воздействием именно «национального фанатизма», или утверждающими данную мысль в силу неприкрытых антирусских настроений, западноевропейская наука, к счастью, не исчерпывается. И в ее рядах раздаются голоса специалистов, например, Франции и Германии Р. Буае и Р. Зимека, требующих избавить эпоху викингов от мифов, вышибающих, по их словам, «почву из-под ног историка»[276].
Несомненно, что совместными усилиями ничем и никем незаангажированных исследователей разных стран, в первую очередь, разумеется, историков, руководствующихся подлинными источниками, а не контрафактной продукцией, это рано или поздно удастся сделать. Так что прощай, норманизм!
Примечания:
134. Мошин В.А. Варяго-русский вопрос. С. 111.
135. Петрей П. Указ. соч. С. 90-91; Rudbeck О. Op. cit. Т. III. P. 184-185
136. Muller G.F. Nachricht von einem alten Manuscript der russischen Geschichte des Abtes Theodosii von Kiow // Sammlung rassischer Geschichte. Bd. I. Stud. I. - SPb., 1732. S. 4, anm. *.
137. Bayer G.S. Op. cit. P. 276-282, 288-291, 295-304, 309-311; Байер Г.З. Указ. соч. С. 344-348, 350-351, 353-359, 361-362.
138. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. I. - М., Л., 1962. С. 90, 93, 201, 221, 225, примеч. 25 на с. 227, примеч. 30 и 31 на с. 228, примеч. 39 на с. 229, примеч. 61 на с. 231, примеч. 73 на с. 232, примеч. 3 на с. 307, примеч. 11 на с. 308, и др.; Байер Г.З. Указ. соч. Примеч. 3 на с. 363, примеч. И на с. 364.
139. Миллер Г.Ф. О происхождении имени и народа российского // Фомин В.В. Ломоносов. С. 370, 374, 377-379, 386-387.
140. Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 10. - М., Л., 1957. С. 233, 287-288, 551-552; его же. Замечания на диссертацию... С. 399-402, 406-411, 413-414, 420-422, 425, 434-440; Фомин В.В. Ломоносов. С. 183.
141. Билярский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. - СПб., 1865. С. 763; Пештич СЛ. Русская историография XVIII века. Ч. II. - Л., 1965. С. 229.
142. Билярский П.С. Указ. соч. С. 755; Лавровский П.А. О Ломоносове по новым материалам. - Харьков, 1865. С. 161— 163; Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. II. - СПб., 1873. С. 144-145, 247.
143. Тредиаковский В.К. Три рассуждения о трех главнейших древностях российских. - СПб., 1773. С. 48-53, 199, 205, 224-225, примеч. 2 на с. 200.
144. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию... С. 432; Миллер Г.Ф. Краткое известие о начале Новагорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших онаго города случаях // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. Ч. 2. Июль. - СПб., 1761. С. 9.
145. Предисловие // Библиотека российская историческая. - СПб., 1767. С. 24.
146. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. - СПб., 1875. С. 321-322; Винтер Э. Неизвестные материалы о А.Л. Шлецере // «Исторический архив», 1960, № 6. С. 188.
147. Эмин Ф. Российская история. Т. I. - СПб., 1767. С. 35-37, примеч. а на с. 4, примеч. а на с. 65, примеч. а на с. 124, примеч. а на с. 128, примеч. а на с. 130, примеч. б на с. 137, примеч. а на с. 203, и др.
148. Schlozer A.L. Probe russischer Annalen. - Bremen, Gottingen, 1768. S. 29-36, 39, 48-52, 66-69, 73-74, 79-89, 112-113, 132,134,139,145-160,167,170,188, 213, 232-234, anm. 22 на s. 18, anm. 4 на s. 53. Автор искренне благодарит А.А.Григорова за перевод этой книги.
149. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию... С. 405, 408-409, 410, 430-431, 436; РГАДА. Ф. 199. On. 1. 48. № 2. Л. 26-26об., 35об.; Миллер Г.Ф. О народах издревле в России обитавших. - СПб., 1788. С. 84-89,93,95,98,100-101, 104, 107-111, 118-121, 123-130; Пештич СЛ. Русская историография XVIII века. С. 228.
150. Миллер Г.Ф. История императорской Академии наук в Санкт-Петербурге // Его же. Избранные труды. - М., 2006.
С. 512-513, 515; Болтин И.Н. Критические примечания на первый том истории князя Щербатова. Т. I. - СПб., 1793. С. 119-120, 158.
151. Русские историки XVIII в., вопреки словам Шлецера, знали иностранные языки. Так, Татищев знал латынь, древнегреческий, немецкий, польский, был знаком с тюркскими, угро-финскими и романскими языками (Кузьмин А.Г. Татищев. - М., 1981. С. 337). Ломоносов прекрасно владел древнегреческим, латинским, немецким, французским, а также, как он сам отмечал, «сверх сего довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи... разумея притом польский и другие с российским сродные языки». А в его «Российской грамматике» приведены примеры из латинского, греческого, немецкого (и древненемецкого), французского, английского, итальянского, не уточненных азиатских, абиссинского, китайского, еврейского, турецкого, персидского, из иероглифического письма древних египтян (Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 7. - М., Л., 1952. С. 400-401, 404-405, 408, 411-417, 424, 509, 850, 866; там же. Т. 9. - М., Л., 1955. С. 415, 429).
152. Соловьев С.М. Герард Фридрих Мюллер [Федор Иванович Миллер] // Его же. Сочинения. Кн. XXIII,- М., 2000. С. 57-58; Билярский П.С. Указ. соч. С. 755; Пекарский П.П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. - СПб., 1865. С. 50, примеч. 1; его же. История... Т. II. С. 423-424, 429.
153. Хлевов А.А. Указ. соч. С. 14.
154. Schlozer A.L. Probe russischer Annalen. S. 125-126, 129; idem. Nestor. Theil 5. - Gottingen, 1809. S. XVI-XXXV; Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера... С. 3-4,26, 30, 47-49, 51, 53, 56, 70-73, 154, 184, 187, 190-191, 193-196,198-202,207,210,215,220,222, 227-230,241,273,305; Шлецер А.Л. Указ. соч. Ч. I. С. 2-7, VII, XIX-XXI, XXVI-XLI, 9i, кв-кг, ла, мд-ме, мз, нs-нз, p3i, ркд-рки, рли, рм-рмθ, рнз, рнθ-рξ, рξе, рξи, роа, рог-рое, 47-51, 52-56, 119-120,149,274,276-288,303,315,325-330, 337, 344-348, 359-390, 418-420, 425- 426,430,473, примеч. * на с. р, примеч. ** на с. 325, примеч. * на с. 330, примеч. * на с. 366, примеч. * на с. 367, примеч. * на с. 369; EwersJ.P.G. Vom Urschprunge des russischen Staats. - Riga, Leipzig, 1808. S. VII; Греков БД. Ломоносов-историк // Историк-марксист. М., 1940, №11. С. 20; Мавродин В.В., Пештич СЛ., Якубский В.А. Ценная публикация по истории русско-немецких культурных связей второй половины XVIII в. // «История СССР», 1963, № 3. С. 226; Черепнин Л.В. А. Л. Шлецер и его место в развитии русской исторической науки (из истории русско-немецких научных связей во второй половине XVIII - начале XIX в.) // Международные связи России в XVII-XVIII вв. (Экономика, политика и культура). - М., 1966. С. 184; Шевцов В.И. Г. Эверс и развитие русской исторической науки в XVIII - начале XIX в. в немецкой историографии // Исследования по славяно-германским отношениям. - М., 1971. С. 31.
155. Allgemeine Literatur-Zeitung. Bd. 1.- Halle, Leipzig, 1809, № 22. S. 177-184; № 23. S. 185-188; Шевцов В.И. Г. Эверс... С. 31-32; его же. Дворянско-буржуазная историография 20-40-х годов XIX в. о Густаве Эверсе // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения. - Днепропетровск, 1972. С. 81-82.
156. Ewers J.P. G. Unangenehme Erinnerung an August Ludwig Schlozer. - Dorpat, 1810. S. 1-16.
157. Брусилов H. Историческое рассуждение о начале русского государства // BE. М., 1811, № 4. С. 285-288, 301-306; Успенский Г.П. Опыт повествования о древностях руских. Ч. 1.- Харьков, 1811. С. 12-13.
158. Татищев В.Н. Указ. соч. С. 96-97, 107, 120-121; Миллер Г.Ф. О первом летописателе российском, преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оныя // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. Апрель. СПб, 1755. С. 275; Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. Т. I. - СПб., 1788. С. 58, примеч.а.
159. Шлецер АЛ. Указ. соч. Ч. I. С. 418-419, примеч. * на с. 342; то же. Ч. И. С. 171— 172; Эверс Г. Указ. соч. С. 18-19, 68-69, 71-72, 83-84, 105-107, 116-119, 138- 139, 148-153, 249-255.
160. Голлман Г.Ф. Указ. соч. С. 8-9,17,24-25, 28-29.
161. Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. I. С. 21, 55-56, 58, примеч. 42, 71, 72, 73, 75, 78, 96, 101,105, 106, 110,111,113, 276, 278, 282, 283, 295, 302, 513, 523; то же. Т. XII. - СПб, 1829. Примеч. 165;
162. Каченовский МЛ. От киевского жителя к его другу // BE. Ч. 104. № 5. М., 1819. С. 46; Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. I. С. 320; Козлов В.П. «Примечания» Н.М. Карамзина к «Истории государства Российского» // Там же. С. 571.
163. Нильсен Й.П. Рюрик и его дом. Опыт идейно-историографического подхода к норманскому вопросу в русской и советской историографии. - Архангельск, 1992. С. 20; Хлевов А.А. Указ. соч. С. 18.
164. Венелин Ю.И. Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. Т. 1. - М, 1829. С. 21, 175; его же. Скандинавомания... С. 58.
165. Полевой НА. История... С. 28-32, 53.
166. Фатер КС. Указ. соч. № 2. С. 128, примеч. 6; № 9. С. 21; Лелевель И. Рассмотрение Истории государства российского Карамзина // Северный архив. Ч. 9. № 1. СПб, 1824. С. 46, 48-49, 51-52; № 2. С. 91-99; № 3. С. 163-170; Ч. И. № 15. С. 138-140; № 16. С. 188-189; Ч. 12. № 19. С. 50-51.
167. Летопись Несторова, по древнейшему списку Мниха Лаврентия. Издание профессора Тимковского, прерывающееся 1019 годом. - М., 1824. С. III-IV.
168. Погодин М.П. О происхождении Руси. С. 6-9,12,18,43,71,80-81,100,102,108, 110-122, 124, 177.
169. Погодин М.П. О жилищах древнейших руссов. Сочинение г-на N. и краткий разбор оного. - М., 1826. С. 27-28, 60, примеч. * на с. 37.
170. Руссов С. Письмо о Россиях, бывших некогда вне нынешней нашей России // ОЗ Ч. 31. М, 1827. С. 109, 117-119.
171. Розенкампф Г.А. Объяснение некоторых мест в Нестеровой летописи. С. 22; его же. Объяснение некоторых мест в Нестеровой летописи... С. 153; его же. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. С. 254, 260.
172. Рейц А. Опыт истории российских государственных и гражданских законов. - М., 1836. С. 14, примеч. 3.
173. От переводчика // Шлецер АЛ. Указ. соч. Ч. I; Шлецер АЛ. Нестор // Цветник. Ч. VIII. № 10. - СПб, 1810. С. 131- 132.
174. Полевой Н.А. Летопись Несторова по древнейшему списку Мниха Лаврентия. Издание профессора Тимковского, напечатанное при Обществе истории и древностей российских. М, 1824 // Северный архив. Ч. 11. № 13-14. СПб, 18. С. 65-70.
175. [Зубарев Ф.] О трудах Шлецера и Тунманна для русской истории // BE. М., 1825, №18. С. 81-103.
176. Полевой Н.А. Предварительные критические исследования Густава Еверса для российской истории. Кн. I. М, 1825 // Московский телеграф. Ч. 8. М, 1826. С. 143-145; его же. Das alteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung dargestelt. Дерпт, 1826 // To же. Ч 16. M, 1827. C. 332-333.
177. Зиновьев А.З. О начале, ходе и успехах критической российской истории. - М, 1827. С. И, 14-16, 18-21, 25-41, 45-46, 51, 54-63, 70, примеч. 59 и 65.
178. Погодин М.П. О начале, ходе и успехах критической российской истории // MB. Ч. III. № 9. М., 1827. С. 51-52; Зиновьев А.З. Письмо к издателю «Московского телеграфа» // МТ. Ч. 15. № 10. М., 1827. С. 86-87.
179. Полевой Н.А. История... С. 29, 85; Погодин М.П. История русского народа. Сочинение Н.Полевого. Т. I. М., 1829 // MB. Ч. I. № 2. М., 1830. С. 165-190.
180. Зиновьев А.З. Взгляд на русскую историю // Телескоп. Ч. 17. № 2. М., 1833. С. 495.
181. Сенковский О.И. Скандинавские саги. С. 17-18, 22-23, 26-27, 30-41, 58, 75, примеч. 30 на с. 70; его же. Эймундова сага. С. 47-49, 53, 64.
182. Скромненко С. [Строев С.М.]. О недостоверности древней русской истории и ложном мнении касательно древности русских летописей // Маяк. Т. 46. № 49. СПб., 1834. С. 388-392.
183. Шеншин В. О пользе изучения русской истории в связи со всеобщею // Телескоп. Ч. 20. № И. М., 1834. С. 136-142, примеч. * на с. 140; № 12. С. 217-218.
184. Сазонов Н. Об исторических трудах и заслугах Миллера // Ученые записки Московского университета. М., 1835. № 1. С. 130-151; № 2. С. 306-327.
185. Устрялов H.Г. Указ. соч. С. 1, 3-4, 8-11, 13-20, 25-26.
186. [Иванов Н.А.] Россия в историческом... С. 11-15.
187. Шафарик П.И. Славянские древности. Т. II. Кн. 1. - М., 1848. С. 112-116.
188. Скромненко С. [Строев С.М.]. Критический взгляд на статью под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения. - М., 1834. С. 56-60.
189. Бодянский О.М. О мнениях касательно происхождения Руси // СО. Т. LI. Ч. 173. СПб., 1835. С. 62-65, 68.
190. Каченовский М.Т. О кожаных деньгах // Ученые записки Московского университета. Ч. IX. № 3. М., 1835. С. 333-335, 337.
191. Венелин Ю.И. Скандинавомания... С. 5, 9-12, 25-28, 31, 34-37, 42-59.
192. Венелин Ю.И. Известия о варягах... С. 1-18; его же. [О происхождении славян вообще и россов в особенности] // Сб. РИО. Т. 8 (156). С. 36-76, примеч. XIX, XXV, LII.
193. Рейц А. Указ. соч. С. 337, 340, 366.
194. Руссов С. О древностях России. Новые толки и разбор их. - СПб., 1836. С. 13-15, 19-20, 57-78, 80, 91-103.
195. Максимович М.А. Откуда идет Русская земля. - Киев, 1837. С. 5, 10-13, 22-23, 32, 61-62, 64, 136, 139-140, 144-145, примеч. 3 на с. 83, , примеч. 4 на с. 85, примеч. 6 на с. 86, примеч. 17 на с. 98, примеч. 18 на с. 99, примеч. 26 на с. 112, примеч. 33 на с. 118, примеч. 42 на с. 123, примеч. 54 на с. 130.
196. Максимович М.А. Критико-историческое исследование о русском языке // ЖМНП. Ч. 17. СПб., 1838. С. 533.
197. Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. Т. XX. СПб., 1837. С. 97, 100-112, 115, 117-118, 122-125, 129-133, 135.
198. Имеется в виду книга Н.А.Иванова (Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ч. 3. - СПб., 1837), изданная Ф.В. Булгариным под своим именем.
199. Федотов А.Ф. О главнейших трудах по части критической русской истории. - М., 1839. С. I—II, 7,9-10,14-92,96,105- 107, примеч. * на с. 42, примеч. * на с. 50.
200. Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики (летописцы России). - М., 1997. С. 303.
201. О Шлецере // Современник. СПб., 1838, № 4. С. 90-91; Белинский ВТ. Критический разбор книг И.И.Лажечникова (Ледяной дом, Басурман) // Его же. Полное собрание сочинений в двенадцати томах. Т. IV. - СПб., 1901. С. 41-42, 503, примеч. 22; его же. Россия до Петра Великого // То же. Т. VI. - СПб., 1903. С. 120-121.
202. Боричевский И.П. Руссы на южном берегу Балтийского моря // Маяк. Ч. VII. СПб., 1840. С. 174-182; Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Нестеровой, от наветов скептиков. - СПб., 1840. С. III, 3-5, 7, 49, 61, 65-66, 84-90, 94, 137, примеч. 334.
203. Погодин М.П. О важности исторических и археологических исследований Новороссийского края, преимущественно в отношении к истории и древностям русским. Речь г. Надеждина, помещенная в книге под заглавием: Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей, 4 февраля 1840. Одесса, 1840 // Москвитянин. Ч. I. № 2. М., 1841. С. 547-557; его же. О значении имени руссов и славян. Соч. Ф. Морошкина. Москва, 1840 // Там же. С. 557-561; его же. Откуда идет Русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другим писателям русским, сочинение М. Максимовича. Киев, 1837 // Там же. Ч. II. № 3. М., 1841. С. 219-234.
204Письмо г. Максимовича к издателю // Москвитянин. Ч. III. № 5. М., 1841. С. 198-211; Погодин М.П. Ответ // Там же. С. 211-216.
205. Морошкин Ф.Л. Предисловие к «Историко-критическим исследованиям о руссах и славянах» //Маяк. Т. 6. № 11-12. СПб., 1842. С. 1-4.
206. Святной Ф. Что значит в Нестеровой летописи выражение: «поидоша из немец?» или несколько слов о варяжской Руси. - Reval, 1842. С. 1-3, 5-12, 15-16.
207. Сб. РИО. Т. 129. - СПб., 1910. С. 238.
208. Лекции по историографии профессора Бестужева-Рюмина за 1881-1882 года. - СПб., [б. г.]. С. 6.
209. Соловьев С.М. История... Кн. 3. Т. 5-6. - М., 1993. С. 672.
210. Морошкин Ф.Л. Историко-критические исследования о руссах и славянах. - СПб., 1842. С. 3-17.
211. Там же. С. 18-23, 30, 39,111-112.
212. Бурачек СЛ. Указ. соч. С. 55, 57, 61-63, 73, 79, 84-90,108, 112, 126,155.
213. Критическое обозрение книги Ф. Л. Морошкина «Исторические исследования о руссах и славянах» (Письмо беспри-страстного любителя истории к М.П. Погодину). - СПб., 1842. С. 3-81.
214. Иванов Н.А. Общее понятие о хронографах и описание некоторых списков их, хранящихся в библиотеках с.петербургских и московских. - Казань, 1843. С. 23-31, 33, 36-43, 45-46, 48, 52-64, 137-145, 206, 209, 243-247, 250-251.
215. Головачев Г.Ф. Август-Людвиг Шлецер. Жизнь и труды его // ОЗ. Т. XXXV. СПб., 1844. С. 39, 41-42, 44, 48-49, 65-66.
216. П.Б. «Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen» // ЖМНП. 4. 43. Отд. VI. СПб., 1844. С. 43-69; Макаров М.Н. Письмо к автору Историко-критических исследований о славянах и руссах, профессору импера-торского Московского университета Ф.Л.Морошкину // Маяк. Т. 17. № 33-34. СПб., 1844. С. 55-69; [Александров А.В.] Заметки для автора Обороны о галицких испанцах и происхождении угров // Там же. С. 69-75.
217. Александров А.В. Современные исторические труды в России: М.Т.Каченовского, М.П. Погодина, Н.Г.Устрялова, Н.А. Полевого, Ф.В.Булгарина, Ф.Л. Морошкина, М.Н.Макарова, А.Ф.Вельтмана, В.В. Игнатовича, П. Г. Буткова, Н. В. Савельева и А.Д.Черткова. - СПб., 1845. С. 4-15, 27-31, 41, 56-61, примеч. * на с. 22 (письмо 1), 2-85,90-91 (письмо 2).
218. Артемьев А. Имели ли варяги влияние на славян и если имели, то в чем оно состояло? - Казань, 1845. С. 2-4.
219. Савельев-Ростиславич Н.В. Указ. соч. С. 10-24,27, 31,39-49,51-53,55, 58-60; Славянский сборник Н.В. Савельева- Ростиславича. С. XVII-XXV, XXVII, XXXV, XXXVII-XXXIX, XLVIII-LIV, LIX-LXX, LXXIV-LXXV, LXXIX- LXXX, LXXXIII-LXXXVIII, XCV, CVII-CXVI, CXIX-CXLI, CXLIV, CLXVI, CLXXI-CLXXII, CXCV, примеч. 54 на с. XLII, примеч. 527 на с. CCXXVII.
220. Пештич С.Л. Русская историография о М.В.Ломоносове как историке // Вестник Ленинградского университета. Серия истории, языка и литературы. Вып. 4. № 20. Л., 1961. С. 67.
221. Белинский В.Г. Славянский сборник Н.В. Савельева-Ростиславича. Санкт- Петербург, 1845 // Его же. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 7. - М, 1981. С. 366-395.
222. Старчевский А.В. Очерк литературы русской истории до Карамзина. - СПб, 1845. С. 124-126, 141-142, 260-269, 277-279, 282-284.
223. Святной Ф. Историко-критические исследования о варяжской Руси // Маяк. Т. 19. СПб, 1845. С. 2, 4-11, 14, 68-70, 82, 84, 86-88.
224. Погодин М.П. Исследования... Т. 2. С. 94-95, 101-102, 108-113, 116, 122, 131, 136, 138, 142-162, 166-200, 203- 219, 267, 308-310, 325, примеч. 288 на с. 184; то же. Т. 3. С. 296, примеч. 700.
225. Попов А.Н. Шлецер. Рассуждение о русской историографии. - М, 1847. С. 28- 29, 40-41, 43-44, 49, 51, 56, 58-60; Погодин М.П. О трудах гг. Беляева... С. 169- 170.
226. Ломоносов М.В. Поли. собр. соч. Т. 6. - М, Л, 1952. С. 170; KrugPh. Forschungen in der alteren Geschichte Russlands. Th. 1. - SPb, 1848. C. VIII-CLX; Kyник А.А. Очерк биографии академика Круга // ЖМНП. Ч. 64. Отд. V. СПб, 1849. С. 14, 17-18, 23-39, 42-52, 57-60, 63-64, 71, 73, 78, прим. 1 на с. 20; Срезневский ИМ. Мысли об истории русского языка. - СПб, 1850. С. 130-131, 154.
227. Классен Е. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до Рюрикового времени в особенности, с легким очерком истории руссов до Рождества Христова. Вып. I. - М., 1854. С. III, 9-12; то же. Вып. II. - М, 1854. С. 21.
228. Соловьев С.М. Герард Фридрих Мюллер... С. 39-69; его же. Каченовский Михаил Трофимович //Его же. Сочинения. Кн. XXIII. С. 69-83; его же. Писатели русской истории // Собрание сочинений С.М.Соловьева.- СПб, [1901]. Стб. 1317-1388; его же. Н.М.Карамзин и его «История государства Российского» // Там же. Стб. 1389-1540; его же. Август-Людвиг Шлецер // Там же. Стб. 1539-1576; его же. Шлецер и антиисторическое направление // Там же. Стб. 1577-1582; его же. История... Кн. 1. Т. 1-2. С. 87-88, 100, 198, 250-253, 276, примеч. 142, 147, 148, 150, 173 к т. 1; Пештич С.Л. Русская историография о М.В.Ломоносове... С. 68.
229. Публичный диспут 19 марта 1860 года о начале Руси между гг. Погодиным и Костомаровым. [Б.м.] и [б.г.]. С. 34;Ламбин Н.И. Объяснение сказаний Нестора о начале Руси. На статью профессора Н.И.Костомарова «Начало Руси», помещенную в «Современнике» № 1, 1860 г. - СПб, 1860. С. 8,18-19, 39.
230. Krug Ph. Op. cit. Th. 2. - SPb, 1848. S. 249-250; Гедеонов СЛ. Указ. соч. С. 56-60, 65, 92, 153, 168, 194-195, 237, 289, 291-293, 339-343, 346, 348-349, 379-380, 383-385, примеч. 22, 149, 231, 247.
231Предисловие А. Куника к «Отрывкам...». С. IV-V; Замечания А. Куника к «Отрывкам...» // ЗАН. Т. I. Кн. II. Приложение № 3. С. 122; то же. Т. II. Кн. II. - СПб, 1862. Приложение № 3. С. 207-208, 237; Замечания А.Куника// Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 64; Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 1, 6-8.
232. Соловьев С.М. История... Кн. 1. Т. 1-2. С. 252-253, примеч. 150 и 437 к т. 1.
233. Ламанский В.И. Михаил Васильевич Ломоносов. Биографический очерк // ОЗ. Т. CXLVI. СПб., 1864. С. 247, 249-254, 279-280, 289-290.
234Лавровский ПЛ. О трудах Ломоносова по грамматике языка русского и по русской истории // Памяти Ломоносова. - Харьков, 1865. С. 21-22, 49-56.
235. Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-али Ахмед бек Омар Ибн-Даста. - СПб., 1869. С. 148, примеч. с, 152; Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с половины VII века до конца X века по P. X.). - СПб., 1870. С. 66, 110-111.
236. Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю. - М., 1876. С. 105, 185, 187-188, 194,218, 236, 270-271,311.
237. Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. 1. - СПб., 1872. С. 88-96, 208-212, 227-228, 231-232.
238. Пекарский П.П. Дополнительные известия... С. 46-53; его же. История... Т. I. - СПб., 1870. С. LXVI, 56-58, 181-187, 190, 309-310, 317-318, 359-361; то же. Т. II. С. 144-145,427-428,432-433,505-506, 824, 835.
239. Лашнюков И.В. Очерки русской историографии // Университетские известия. Киев, 1872. № 9. С. 1,4-5, 7.
240. Погодин М.П. Новое мнение г. Иловайского // Беседа. Кн. IV. Отд. II. М., 1872. С. 114; его же. Борьба не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями. - М., 1874. С. 297-298, 384-390; Ламбин Н.И. Источник летописного сказания о происхождении Руси // ЖМНП. Ч. CLXXIII. № 6. СПб., 1874. С. 228, 238-239.
241. Вяземский П.П. Замечания на Слово о полку Игореве. - СПб., 1875. С. 233, 459-460, 465.
242. Kunik Е. Op. cit. Bd. I. S. 115-116; Дополнения А.А.Куника. С. 399,446, 451-452, 454, 456-462, 641 (примеч. 5), 687-688 (примеч. 18); КуникАЛ. Известия ал-
Бекри... С. X, 04-08, 016, 018, 020-021, 031-033, 039, 047, 054, 057; Замечания А.Куника. (По поводу критики г. Фортинского). С. 1-7, 13.
243. Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 37-132, 165, 348, 498-499.
244. Лаппо-Данилевский А.С. Указ. соч. С. 1466-1467.
245. Замечания А. Куника к «Отрывкам...» // ЗАН. Т. I. Кн. II. Приложение № 3. С. 122; Томсен В. Указ. соч. С. 17-19, 73, 80-82, 84-86.
246. ловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. - М., 1882. С. 410-412, 415, 417; Костомаров Н.И. Русская историческая литература в 1876 г. // Русская старина. Т. XVIII. СПб., 1877. С. 159-184.
247. Перволъф И.И. Варяги-Русь и балтийские славяне. С. 39-40, 52.
248. Срезневский И.И. Замечания о книге С.А.Гедеонова «Варяги и Русь». - СПб., 1878. С. 1; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 2. С. 69-70, 84.
249. Кубарев A.M. Обозрение // Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический журнал. Т. XVI. № 4. СПб., 1880. С. 629; Иловайский Д.И. Еще о происхождении Руси // Там же. С. 643, 650.
250. Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики... С. 6-171, 176-179, 199- 200,206; Лекции по историографии профессора Бестужева-Рюмина... С. 4-7, 9.
251. Коялович М.О. Указ. соч. С. 133-298, 336-449, 488-623.
252. Ключевский В.О. Полный курс лекций// Его же. Русская история в пяти томах. Т. I. - М., 2001. С. 121; его же. Терминология русской истории // Его же. Сочинения в девяти томах. Т. VI. - М., 1989. С. 95-96.
253. См. об этом подробнее: Шевцов В.И. Г. Эверс... С. 34.
254. Свистун Ф.И. Указ. соч. С. 11-23.
255. Ключевский В.О. И.Н. Болтин // Его же. Сочинения в восьми томах. Т. VIII. С. 133; его же. Лекции по русской историографии // Там же. С. 396-452, примеч. 35 на с. 483 и примеч. 51 на с. 484; его же. Полный курс лекций. С. 301-323.
256. Иконников B.C. Опыт русской историографии. Т. 1. Кн. 1. - Киев, 1891. С. 260-267.
257. Браун Ф.А. Варяжский вопрос. С. 570— 573.
258. Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. Изд. 3-е. - СПб., 1913. С. 19-84, 87-88, 90, 92, 98, 107-114, 127, 143.
259. Браун Ф.А. Русь... С. 366-367.
260. Загоскин Н.П. Указ. соч. С. 336-362.
261. Цит. по: Мошин В.А. Варяго-русский вопрос. С. 114.
262. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - М, 2001. С. 3; Тарановский Ф. Норманская теория в истории русского права // Записки Общества истории, филологии и права при Варшавском университете. Вып. 4. - Варшава, 1909. С. 2, 4-6, 8-9, 11,19.
263. Войцехович М.В. Ломоносов как историк // Памяти М.В.Ломоносова. Сборник статей к двухсотлетию со дня рождения Ломоносова. - СПб, 1911. С. 60-75, 77-79, 81-83.
264Иконников B.C. Август Людвиг Шлецер. Историко-биографический очерк. - Киев, 1911. С. 20, 25, 45-46, 56-58, 60-69, примеч. 2 на с. 58.
265Тихомиров И.А. О трудах М.В.Ломоносова по русской истории // ЖМНП. Новая серия. Ч. XLI. Сентябрь. СПб., 1912. С. 41-64.
266. Пархоменко В.А. Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. - Полтава, 1913. С. 22-23.
267. Багалей Д.И. Русская история. Киевская Русь (до Иоанна III). Т. I. - М., 1914. С. 151-158.
268. Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI в. - М, 1916. С. 75-80.
269. Мошин В.А. Варяго-русский вопрос. С. 112-114, 347, 361-364, 378.
270. Труды X Археологического съезда в Риге. 1896. Вып. 3. - М., 1900. С. 118-119.
271. Максимов П., Кравченко С., Кузнец Д. Указ. соч. С. 51.
272. Ильина Н.Н. Указ. соч. С. 183-184.
273. Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Т. 7. - М, 1923. С. 142; Рубинштейн Н.Л. Русская историография. - М, 1941. С. 87-92, 95-97, 107, 114, 151-155.
274. 57. Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герхарда Фридриха Миллера (1705-1783) // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. - М, 1996. С. 384; Карпеев Э.Л. Г.З.Байер у истоков норманской проблемы // Готлиб Зигфрид Байер - академик Петербургской Академии наук. - СПб, 1996. С. 48-59; его же. Г.З.Байер и истоки норманской теории // Первые скандинавские чтения. Этнографические и культурно-исторические аспекты. - СПб, 1997. С. 23-25; Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представление об этнической номинации и этничности XVI - начала XVIII века. - СПб, 1999. С. 57; Володина Т.А. История в пользу российского юношества: XVIII век. - Тула, 2000. С. 12-43; ее же. У истоков «национальной идеи» в русской историографии // ВИ. 2000. № 11-12. С. 5-18; ее же. Учебная литература по отечественной истории как предмет историографии (середина XVIII - конец XIX вв.). Автореф... дис... докт. наук. М., 2004. С. 31-33, 38-39; ее же. Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII - середина XIX в. // История и историки. 2004. Историографический вестник. М., 2005. С. 110-114. Неприятие Ломоносова-историка в духе Шлецера-Милюкова-Войцеховича, с особенной силой зазвучавшее в преддверии трехсотлетнего юбилея со дня рождения величайшего гения Русской земли - не только визитная карточка современных российских норманистов, но вместе с тем свидетельство признания ими, как и их предшественниками, своего бессилия опровергнуть его позицию по варяго-русскому вопросу. См. об этом подробнее: Фомин В.В. Ломоносов. С. 11-225.
Кроме третирования Ломоносова, отечественные и зарубежные исследователи любят упражняться, прикрываясь объективностью в их понимании, в третировании другого нашего величайшего гения - В.Н.Татищева и во многом также за то, что он опровергал норманскую теорию. Начало тому положили, как уже говорилось, А.Л.Шлецер и Н.М.Карамзин, возможно, даже не предполагавшие, сколько «охотников» найдется повторять их претензии, часто при этом даже не заглянув в Татищева. Достойным ответом на антитатищевскую кампанию стало заключение С.М.Соловьева (1855 г.), специально изучавшего творческое наследие этого ученого. И как подытоживал наш замечательный историк и историограф, «но если сам Татищев откровенно говорит, какие книги у него были и какие он знает только по имени, подробно рассказывая, какие из них находились у кого из известных людей, то, видя такую добросовестность, имеем ли мы право обвинять его в искажениях, подлогах и т. п.? Если б он был писатель недобросовестный, то он написал бы, что все имел в руках, все читал, все знает. Мы имеем полное право в его своде летописей принимать одно, отвергать другое, но не имеем никакого права в неправильности некоторых известий обвинять самого Татищева. Непонятно, как смотрели на историю Татищева позднейшие писатели, позволившие себе выставлять его, как выдумщика ложных известий. Как видно, они пренебрегли первым томом, не обратили внимания ни на характер, ни на цели труда, и взявшись прямо за второй том, смотрели на его содержание, как нечто вроде Истории Щербатова, Елагина, Эмина. Мы же, с своей стороны, должны произнести о Татищеве совершенно противоположный приговор: важное значение его состоит именно в том, что он первый начал обработывание русской истории, как следовало начать; первый дал понятие о том, как приняться за дело; первый показал, что такое русская история, какие существуют средства для ее изучения; Татищев собрал материалы и оставил их неприкосновенными, не исказил их своим крайним разумением, но предложил это свое крайнее разумение поодаль, в примечаниях, не тронув текста» (Соловьев С.М. Писатели русской истории. Стб. 1333,1346-1347).
В советское время авторитет Татищева как историка также пытались ниспровергнуть, и роль застрельщика в том была отведена С.Л.Пештичу. В 40-60-х гг. этот ученый посвятил, по словам А. Г. Кузьмина, «сокрушению Татищева» кандидатскую и докторскую (в своей важнейшей части) диссертации, прямо обвинив его в «фальсификациях» в угоду своим взглядам, которые охарактеризованы как «монархические», «крепостнические» и т. п.». Абсолютно негативное отношение Пештича к Татищеву, этому удивительно одаренному и разносторонне образованному человеку, вылилось в том, что он обвинил его за освещение киевских событий весны 1113 г. в антисемитизме (это понятие, с иронией замечает Кузьмин, «появляется лишь в конце XIX века!»). В 1972 г. Е. М. Добрушкин своей кандидатской диссертацией «доказывал» недобросовестность «Татищева в изложении двух статей: 1113 года (восстание в Киеве против ростовщиков и выселение иудеев из Руси) и 1185 года (поход Игоря Северского на половцев)». Чуть позже он с той же настойчивостью навязывал науке мысль, что «задача исследователя - установить, что в «Истории Российской» В.Н.Татищева действительно заимствовано из источников, а что вышло из-под его пера». Кузьмин, говоря о предвзятости С.Л.Пештича, С. Н. Валка, Е.М.Добрушкина, А.Л. Монгайта, с которой они подходили к Татищеву, отметил наличие у них общих методологических и фактических ошибок. Во-первых, они сопоставляют, по примеру Н.М.Карамзина, «Историю» Татищева с Лаврентьевской и Ипатьевской летописями, которых тот никогда не видел. Во-вторых, неверно понимают как источники, лежащие в основе «Истории Российской», так и сущность и характер летописания. Представляя последнее «единой централизованной традицией вплоть до XII века», они не ставят «даже вопроса о том, в какой мере до нас дошли летописные памятники домонгольской эпохи», и не допускают мысли о существовании разных летописных традиций, «многие из которых погибли или же сохранились в отдельных фрагментах. Татищев же пользовался такими материалами, которые на протяжении веков сохранялись на периферии и содержали как бы неортодоксальные записи и известия». И если, резюмировал в 1981 г. Кузьмин, «субъективная добросовестность историка уже не может вызывать сомнений, то вопрос о способах его работы нуждается еще в более внимательном изучении», что «принцип историзма, свойственный Татищеву во всех его начинаниях, и повел его в конечном счете к созданию капитального труда по отечественной истории», позволил ему, при отсутствии предшественников, найти много «такого, что наукой было принято лишь много времени спустя». Причем, как особо выделил исследователь, весь первый том «Истории Российской с самых древнейших времен», которым, если вспомнить заключение С.М.Соловьева, «пренебрегли» его критики, «был посвящен анализу источников и всякого рода вспомогательным разысканиям, необходимым для решения основных вопросов. Именно наличием такого тома труд Татищева положительно отличается не только от изложения Карамзина, но даже и Соловьева. В XIX веке вообще не было работы, равной татищевской в этом отношении» (Пештич C. Л. Русская историография XVIII века. С. 159; Добрушкин Е.М. О методике изучения «татищевских известий» // Источниковедение отечественной истории. Сб. статей 1976. М., 1977. С. 96; Кузьмин А.Г. Статья 1113 г. в «Истории Российской» В.Н.Татищева // Вестник МГУ. 1972. № 5. С. 79-89; его же. Татищев. С. 338-340, 343-344). Но «субъективная добросовестность историка» многим не дает покоя, и сегодня в застрельщиках новой антитатищевской кампании ходит украинский историк А.П.Толочко (а он уверяет, «что в распоряжении Татищева не было никаких источников, неизвестных современной науке. Вся информация, превышающая объем известных летописей, должна быть отнесена на счет авторской активности самого Татищева»), и у которого сразу же нашлись подражатели в российской исторической науке (у многих наших соотечественников «самоедское» и подражательное начала просто в крови). Так, в 2006 г. нижегородский ученый А. А. Кузнецов, повествуя о деятельности владимирского князя Юрия Всеволодовича, устраняет, как сам говорит, «ряд стереотипов исторической науки, основанных на... необоснованном привлечении «Истории Российской» В.Н.Татищева», который, оказывается, «испытывал антипатию к этому князю и сознательно переносил ее на страницы своего труда» (ведомый выводом Толочко, что «любимым персонажем» нашего первого историка был Константин Всеволодович, Кузнецов пишет, что он «оправдывал», «обелял» Константина и «чернил» Юрия).
Уникальные известия Татищева Кузнецов характеризует как «домысел», «фантазии», «мистификации», «авторский произвол», утверждает, что он «судил о прошлом, доверяя поздним источникам, искажая их данные, на основе реалий своего бурного XVIII столетия», «придумывал» факты и «волевым решением менял смысл непонятной источниковой информации» (по сути, исследователь повторяет штампы, брошенные в адрес Татищева Пештичем и Толочко). Укоряя «отдельных» предшественников в том, что они «не утруждают себя критическим разбором «сведений» В.Н.Татищева» и легко доверяют ему, Кузнецов восхищается «остроумным и блестящим экскурсом» Толочко в творческую лабораторию Татищева, реконструкцией его источниковой базы, демонстрацией «массива его авторских мыслей под видом источниковых известий», доказательством того, «что уникальных-то известий труд историка XVIII в. не содержит», и благодарит украинского коллегу за «глубокие замечания», которые «очень помогли» автору при работе над монографией (Кузнецов АЛ. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой трети XIII в. Особенности преломления источников в историографии. - Нижний Новгород, 2006. С. 9, 47-48, 88, 93, 96-97, 103-109, 114-115, 131, 210-212, 220, 223-224, 273-276, 479-480, 501-502, 505-506, 509, 514).
Параллельно с такой безудержной апологетикой очередного «ниспровергателя» Татищева, уже только своей тональностью вызывающей серьезное сомнение в собственной позиции автора, в нашей науке идет «раскручивание» идей украинского ученого под видом их критики. Показательна в этом плане статья московского исследователя П.С. Стефановича, которая больше похожа на весьма обширную рецензию на работу Толочко «История Российская» Василия Татищева: источники и известия» (М., Киев, 2005), но где вместо действительно академического разбора дано совершено иное. Как пишет сам автор, «разумеется, цель моей критики не в том, чтобы умалить достоинства книги современного историка, но в том, чтобы добиться ясности и объективности в оценке труда одного из тех, кто стоял у истоков русской исторической науки» (довольно странно и двусмысленно сформулированная цель, к тому же самому Татищеву даже не предоставлено слово. Нет и намека - то ли по незнанию, то ли по тенденциозному умолчанию - на то, что в литературе уже имеются многочисленные опровержения взглядов Толочко, высказанных им в монографии и предшествующих ей статьях). И за какую такую «ясность» и «объективность» вышел биться в 2007 г. на страницах уважаемого журнала «Отечественная история» наш рецензент и стоили ли того чернила? Да за все за ту же, которую и отстаивает Толочко. Причем делает он это совершено голословно, внушая высокопрофессиональной аудитории, похоже, принимая ее за собрание профанов, мнение, что тот «убедительно показал», что Татищев «в ряде случаев и сознательно давал ложные отсылки к источникам», что после труда Толочко уникальную информацию со ссылками на «манускрипты» А.П.Волынского, П.М.Еропкина, А.Ф.Хрущева, Иоакимовскую летопись «рассматривать как достоверную никак нельзя», что, как «хорошо показано Толочко», «нельзя сомневаться и в том, что Татищев мог сам додумывать и дополнять известия своих источников и даже просто сочинять новые тексты» (например, Иоакимовскую летопись, а статья 1203 г. с «конституционным проектом» Романа Мстиславича есть «чистая выдумка Татищева»),
При этом свое единодушие с Толочко Стефанович прикрывает ритуальными оговорками, долженствующими якобы показать, что сам рецензент стоит, конечно, над «схваткой» и беспристрастен (некоторые его утверждения и заключения, «в том числе принципиального характера, кажутся слишком категоричными или недостаточно обоснованными», он, «думаю, все-таки не совсем прав», что Татищева называть «мистификатором, лгуном и фальсификатором, с моей точки зрения, также неправильно, как считать его летописцем или сводчиком»). Неудержимо стремясь к «ясности» и «объективности», Стефанович не скупится на хвалебные эпитеты в адрес Толочко: что он, проводя «тонкий анализ», «пишет в яркой, оригинальной манере, причем свободный, несколько ироничный стиль не мешает ему оставаться на высоком научном уровне обсуждения проблемы», что, «без сомнения, перед нами талантливое и интересное исследование», что он существенно пополнил ряд «разоблачений», что «благодаря работе Толочко - острой и будящей исследовательскую мысль - мы существенно продвинулись на пути изучения «татищевские известий» и вместе с тем приблизились к пониманию «творческой лаборатории» историка первой половины XVIII в.». Но, с непоколебимым оптимизмом завершает свой панегирик Стефанович, «пока этот путь далеко не пройден, и можно с уверенностью утверждать, что ученых здесь ждет еще немало открытий и неожиданностей» (Стефанович П.С. «История Российская» В.Н.Татищева: споры продолжаются // ОИ. 2007. № 3. С. 88-96). Какие «открытия» и даже «неожиданности» всех нас ждут, догадаться нетрудно.
И этот легко прогнозируемый результат к науке отнести уже по причине такой легкости никак нельзя, да и сам метод подгона решения задачи под нужный кому-то ответ ей, как отмечалось выше, чужд. И с таким результатом не могут согласиться те ученые, которым дорога истина, а не шумные «разоблачения», за которыми стоят не имеющие к науке интересы. Так, несостоятельность приписывания Толочко Татищеву авторства Романовского проекта 1203 г., почему-то названного Толочко, недоумевает автор, «конституцией», показал в 2000 г. В.П.Богданов. В 2005-2006 гг. А.В.Майоров, ссылаясь на археологический материал, доказал в ряде публикаций, вышедших в Белоруссии и России, что в руках Татищева была недошедшая до нас Полоцкая летопись, в которой Толочко также видит выдумку Татищева. В 2006-2007 гг. известный специалист в области русской истории и источниковедения С.Н.Азбелев, остановившись на попытках дискредитации Татищева-историка, верно подчеркнул, что, «не относясь к категории серьезных публикаций, они требуют, однако, упоминаний вследствие своей агрессивности». И к данной категории он отнес «многословное ёрничество» Толочко, констатируя, что в его работах «слишком много ошибок и неточностей, а в характеристиках использованных материалов присутствуют тенденциозные передергивания», и что эти работы могут «существенно повредить научной репутации автора, особенно - с его демонстративно-пренебрежительным отношением к ученым прошлого и к современникам, дурные привычки которых, по словам А. П. Толочко, проявлялись в использовании Иоакимовской летописи». Азбелев, рассуждая в лучших традициях российского источниковедения, характерных для творчества С.М.Соловьева, П.А.Лавровского, А.А.Шахматова, В.Л.Янина, выступавших против ничем необоснованного скептического отношения к Иоакимовской летописи (Шахматов рассматривал ее как важное звено древнейшего летописания) и обвинения Татищева в ее подлоге, и заостряя внимание на том, что результаты, полученные Яниным в ходе масштабных археологических раскопок Новгорода, подтверждают аутентичность уникальных сведений Иоакимовской летописи (прежде всего подробного повествования о крещении новгородцев, изложенного очевидцем), приходит к выводу, что летопись зиждется на устных источниках, что она принадлежит первоначальному тексту первого епископа Новгорода Иоакиму (ум. в 1030 г.), что «известия своего первоначального текста летопись, дошедшая до Татищева уже только в рукописи XVII в, уснастила, соответственно моде позднейшего времени, плодами сочинительства, основанного на этимологических догадках», но что данное обстоятельство не дает, разумеется, «достаточных причин отказывать в доверии этому памятнику». В 2006 г. блестяще вскрыл суть мистификаторских уловок и подлогов Толочко А.В.Журавель. Охарактеризовав этого представителя украинской научной мысли Геростратом, для которого Татищев - «лишь средство самоутверждения, «объяснительное устройство» при обосновании права на собственную мистификацию», он заключает, что его сочинение «лишь выглядит наукообразным, а к науке имеет отношение очень косвенное», и на конкретных фактах показал, «что у Татищева действительно были те уникальные источники, о которых он говорит» (в том, например, убеждают хронологические неточности в его «Истории Российской»). Вместе с тем Журавель, справедливо сказав, что надо открыто называть вещи своими именами, заметил, что «преступление Пештича - не в том, что он публично заклеймил Татищева как фальсификатора, а в том, что он сделал это без должных на то оснований; отдельно замеченные им улики, сами по себе еще не составляющие состава преступления, он посчитал достаточным для вынесения приговора. И потому сами его действия составляют состав преступления и именуются «клеветой». Абсолютно уместным выглядит и другой вывод автора: нужно «вновь поставить вопрос об ответственности ученого за свои слова» и об ответственности тех, кто приступает к теме «татищевских известий», т. к. она «очень трудна и многопланова и заведомо непосильна для начинающих исследователей», а именно последние, плохо зная летописи, «и составили основную массу активных скептиков»!». Таковым был и Пештич: его суждения о Татищеве сложились в 30-е гг., когда он был еще студентом». В 2007 г. С.В.Рыбаков, демонстрируя величие Татищева-историка, напомнил давно всем хорошо известное: «Авторы, ставившие под сомнение научный характер источниковедческой работы Татищева или самих источников, не вполне верно понимали характер и реальную роль древнерусского летописания, представляя его гораздо более централизованным, чем это было на самом деле, считая, что все древнерусское летописание связывалось с неким единым первоисточником». Ныне признается, констатирует он далее, «что с древности на Руси существовали различные летописные традиции, в том числе и периферийные, не совпадающие с «канонами» наиболее известных летописей» (Богданов В.П. Романовский проект 1203 г.: памятник древнерусской политической мысли или выдумка В.Н.Татищева // Сб. РИО. Т. 3 (151). Антифоменко. М., 2000. С. 215-222; Майоров А.В. О методике изучения оригинальных известий В.Н.Татищева (К вопросу о Полоцкой летописи) // Исследования по русской истории и культуре. Сб. статей к 70-летию И.Я. Фроянова. - М., 2006. С. 175-185; его же. О Полоцкой летописи В.Н.Татищева // ТОДРЛ. Т. 57. СПб., 2006. С. 321-343; Азбелев С.Я. Устная история Великого Новгорода. Великий Новгород, 2006. С. 250-284; его же. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. - СПб., 2007. С. 6-34; Журавель А.В. Новый Герострат, или У истоков «модерной истории» // Сб. РИО. Т. 10 (158). Россия и Крым. - М., 2006. С. 524-544; Рыбаков С.В. Татищев в зеркале русской историографии // ВИ. 2007. № 4. С. 166). В целом же, как то демонстрирует историографический опыт, «молодецкие» наскоки на Татищева, «антитатищевский» комплекс вообще являются своего рода знаком научной недобросовестности и, в какой-то мере, научной несостоятельности. Критика источников и научных изысканий - непременное правило работы ученого, но она должна быть действительно критикой, а не пустозвонным критиканством, компрометирующим историческую науку.
Историческую науку компрометирует и та некорректность, с которой «антитатищевцы» «опровергают» мнения специалистов, чьи труды в области источниковедения и творчества Татищева являются примером профессионального отношения к делу. Так, П.С. Стефанович в 2006 г., утверждая, что оригинальность известия историка о пленении перемышльского князя Володаря в 1122 г. «надо связывать не с некими аутентичными, но не сохранившимися источниками, а со своеобразными способом по-вествования и методом подачи собственных интерпретаций, присущими автору первой научной «русской гистории», т. е., проще говоря, объявил эту оригинальность выдумкой Татищева, заключил, не приведя и не опровергая их аргументацию, что, «конечно, защита «доброго имени» «последнего русского летописца» в духе Б.А.Рыбакова и А.Г. Кузьмина просто наивна». При этом его собственные «наблюдения над исследовательским методом и манерой изложения В.Н.Татищева», не сомневается Стефанович, «могут быть небесполезны в дальнейшем (по большему счету, еще только начавшемся) изучении как уникальных «татищевских известий», так и ранних этапов развития отечественной исторической науки» (Стефанович П.С. Володарь Перемышльский в плену у поляков (1122 г.): источник, факт, легенда, вымысел // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 4 (26). С. 87, 89). Критиканство, а вместе с тем ненависть и смертельно опасное для того времени обвинение В.Н.Татищев сполна познал при жизни, что, кстати сказать, не позволило ему увидеть свой труд изданным. В «Предъизвесчении» он вспоминает, как в 1739 г. в Санкт-Петербурге, «требуя к тому помосчи и разсуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить», многих знакомил с рукописью «Истории Российской» и слышал о ней разные мнения: «иному то, другому другое ненравно было, что один хотел, дабы пространнее и ясняе написать, то самое другой советовал сократить или совсем оставить. Да недовольно было того. Явились некоторые с тяжким порицанием, якобы я в оной православную веру и закон (как те безумцы произнесли) опровергал...». И обращаясь к оппонентам, в том числе и будущим, историк верно обрисовал их задачу и в деле критики своей «Истории Российской», и в деле служения исторической науке: «...Когда они более науками преисполнены, то б сами за сие весьма нужндное отечеству взялись и лучше сочинили», «но паче надеюсь, если кто из таких в науках превосходный, к пользе отечества столько же, как я, ревности имеюсчий, усмотря мои недостатки, сам почтитца погрешности исправить, темности изъяснить, а недостатки дополнить и в лучшее состояние привести, себе же большее благодарение, нежели я требую, преобрести». Свое кредо как историка и как источниковеда Татищев четко изложил в том же «Предъизвесчении», куда, как можно судить по их приговорам, любители разговаривать с ним свысока либо не заглядывали, либо ничего там не смогли (или не захотели) увидеть: «...Что в настоясчей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые если писать, то их самих или их наследников подвигнуть на злобу, а обойти оные - погубить истинну и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже бы было с совестию не согласно, того ради оное оставляю иным для сочинения». Говоря о своей манере работы с источниками, он разъяснял, что «если бы наречие и порядок их переменить, то опасно, чтоб и вероятности не погубить. Для того разсудил за лучшее писать тем порядком и наречием, каковы в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, не переменяя, ни убавливая из них ничего (здесь и далее выделено мною. - В.Ф.), кроме не надлежасчаго к светской летописи, яко жития святых, чудеса, явления и пр, которые в книгах церковных обильнее находятся, но и те по порядку некоторые на конце приложил, також ничего не прибавливал, разве необходимо нуждное для выразумения слово положить и то отличил вместительною». А в конце «Предъизвесчения» ученый подчеркнул два важных факта: «...Я мню, что на нравы и разсуждения всех людей угодить неможно» и «что все деяния от ума или глупости произходят» (Татищев В.Н. Указ. соч. С. 85-86, 89-92). Историк, конечно, и не должен кому-то в чем-то угождать, он также не избавлен от разного рода ошибок и недостатков, тем более, когда речь идет о Татищеве, все делавшем в русской исторической науке в первый раз и тем самым ее создававший. Но стоит об этом говорить без тенденциозности и агрессивности, с проявлением предельного такта и, разумеется, глубокого знания и понимания самого предмета разговора, чтобы потом о самом критике речь вели с надлежащим уважением.
275. Котляр Н.Ф. В тоске по утраченному времени // Средневековая Русь. Вып. 7 / Отв. редактор А. А. Горский. - М., 2007. С. 343-353.
276. Зимек Р. Викинги: миф и эпоха. Средневековая концепция эпохи викингов // ДГВЕ. 1999 г. М, 2001. С. 9-25.
С.В. Перевезенцев. Летописец земли русской (очерк-воспоминание памяти Аполлона Григорьевича Кузьмина)
Так и хочется начать этот очерк словами: «Давно это было...». И смех, и грех, в самом деле! Однако, как бы это ни казалось смешным, или же, наоборот, грустным, тут уж как посмотреть, с каким настроением окунаться в воспоминания, но, тем не менее, - давно это было, тридцать один год назад...
* * *
Тридцать один год тому назад я стал студентом исторического факультета Московского государственного педагогического института. Помню свое тогдашнее совершенно счастливое состояние. А как же иначе - Москва, начало осени, горьковатый запах сухой опадающей листвы, множество новых людей, ставших моими знакомыми, и я - уже студент, уже историк! Насколько понимаю, в таком же полублаженном состоянии пребывали и мои новые знакомцы-однокурсники. И, конечно, всеми нами владела полная уверенность, что теперь в жизни все будет замечательно, все будет, просто отлично. Ничего нам не страшно, все трудности позади, ведь мы - поступили!
И вот первая лекция. В битком забитую аудиторию вошел средних лет мужчина в темном костюме. Зачесанные вверх и назад, вьющиеся темные волосы открывали крупный, можно сказать, «значительный» лоб. На несколько выдающемся вперед, с небольшой горбинкой носу сидят большие очки. Крупные кисти рук. И - очень добрая, немного ироничная, какая-то даже родительская улыбка.
Я не помню его первых слов, но, скорее всего он представился, и мы узнали, что нашего преподавателя зовут Аполлон Григорьевич Кузьмин. А потом, то складывая свои руки перед грудью «домиком», когда длинные, артистические пальцы его крупных рук упирались друг в друга, то опираясь руками о спинку стула и покачивая его, то медленно расхаживая по аудитории, он начал говорить - негромким, спокойным голосом. И дальше случилось невероятное...
* * *
Аполлон Григорьевич Кузьмин, родившийся 8 сентября 1928 года, происходил из Рязанской земли, из села Высокие Поляны Пителинского района. Родился он в семье сельского фельдшера, человека, односельчанами уважаемого, но небогатого. Кузьмин любил рассказывать историю, приключившуюся с ним в подростковом возрасте. Однажды он отправился на какое-то деревенское празднество, и мать, Ксения Аполлоновна, достала ему из сундука хранящиеся там с давних пор как великое сокровище бостоновые, «парадные» штаны. В тот же вечер Аполлон штаны благополучно порвал, перелезая через забор. Он очень боялся идти домой, боялся, что мама его будет ругать - штаны были единственными. Каким-то образом Аполлону удалось спрятать штаны обратно в сундук, так, что мать ничего не заметила. И только через некоторое время, вновь открыв сундук, она обнаружила нанесенный штанам урон. Казалось бы, участь Аполлона была решена. Но неожиданно для него, мать стала корить саму себя за то, что штаны слишком долго пролежали в сундуке, сын один раз надел, а они-то и порушились. Аполлон был спасен. Помнится, что Аполлон Григорьевич рассказывал эту историю с характерной для него хитринкой в голосе и с какой-то, всё еще хранящейся в его памяти, детской гордостью за то, как здорово он сумел «выкрутиться» из столь сложной переделки.
Хотя семья Кузьминых, в которой росли два сына и две дочери, и не отличалась богатством, тем не менее, его отец, Григорий Александрович, мог позволить себе выписывать медицинские журналы, покупал книги, в их сельском доме была, пусть и небольшая, но собственная, библиотека. Вообще, Григорий Александрович, ставший фельдшером в годы Первой мировой войны, был очень любознательным человеком, интересовался наукой, знаниями, стремился быть в курсе научных новостей, сам ставил научные эксперименты.
С детских лет стало заметно, что и сын его Аполлон обладает многими талантами. Уже в пять лет он научился читать. К этому занятию его приучил дед, Аполлон Иванович, в честь которого Аполлон Григорьевич и получил свое несколько необычное для деревенского жителя имя: притворяясь, что плохо видит, дед просил внучка почитать ему районную газету. Еще мальчишкой Аполлон начал осваивать мандолину, освоил он и балалайку и уже вскоре постоянно играл на свадьбах и других празднествах. Немного повзрослев, они с приятелями создали настоящий музыкальный ансамбль. Довольно рано он пристрастился к шахматам и сумел достичь очень приличных высот в шахматном искусстве.
Аполлон Григорьевич со своим другом Олегом Михайловичем Раповым
Видимо, еще в деревне юный Аполлон впервые взял в руки семиструнную гитару... Гитара в руках Аполлона Кузьмина - это отдельная, большая и еще не написанная история. Скажу только одно: он настолько виртуозно владел этим инструментом, что некоторые ценители даже называли его «первой-второй гитарой Москвы». А еще Кузьмин задушевно, хоть и негромко, пел, да и сам написал несколько песен на стихи столь любимых им Сергея Есенина и Николая Рубцова. Многие его друзья, знакомые, знакомые знакомых и друзья друзей приглашались в гости к Кузьмину «на гитару» и имели возможность его услышать. Рассказы об этих удивительных домашних концертах передаются из уст в уста до сих пор. К счастью, записи его музыкальных выступлений, сделанные уже в последние десятилетия жизни, сохранились.
Любовь Кузьмина к стихам Сергея Есенина и Николая Рубцова вполне объяснима. Выходец из коренной русской деревни, он всю жизнь оставался ей верен - в привычках, в быту. До конца дней он очень любил обычную деревенскую тюрю и испеченную в печке картошку. Даже в городских условиях, на обычной газовой плите он любил запекать картошку. Я до сих пор помню небольшую, закопченную кастрюльку, в которой Аполлон Григорьевич готовил для гостей это деревенское лакомство. И до сих пор помню совершенно потрясающий вкус той картошки...
Мне кажется, что именно его деревенское происхождение многое определило и в направленности его научного поиска, и в его общественных и политических пристрастиях. Для Кузьмина всегда и во всем на первом месте стояли интересы народа, в первую очередь, - русского крестьянина. Во многом именно этой изначальной нравственной и культурной заданностью объясняется столь большой интерес Кузьмина к идеям славянофилов, а также его стремление объяснить весь ход русской истории, исходя из концепции взаимоотношения «Земли» (т. е. народа) и «Власти». Уважения и любви к собственному народу требовал Кузьмин и от нас, его учеников. Больше того, любовь к России, к русскому народу - это был, наверное, самый главный критерий, по которому Кузьмин определял свое отношение к людям, в том числе и к своим ученикам. Помнится, одному моему товарищу, тогда аспиранту, крепко досталось от Кузьмина за некоторое, как показалось научному руководителю, пренебрежение народными интересами в его научной работе. «Я всю жизнь был за народ, а ты...» - сказал тогда с горечью и возмущением Аполлон Григорьевич.
Вместе с народом Кузьмин в юности испытал все радости и горести того времени. В годы Великой Отечественной войны, будучи еще непризывного возраста, он работал в колхозе. Но вот вторая половина 1940-х годов в жизни Кузьмина оказалась непростой. Как рассказывал сам Аполлон Григорьевич, он вместе со своим старшим братом Александром, к тому времени вернувшимся с фронта, поступил в Институт механизации и электрификации сельского хозяйства в Москве. Своего старшего брата Аполлон Григорьевич всю жизнь очень любил, звал его Санькой, считал, что тот во много раз талантливее его самого, а в юности изо всех сил тянулся за ним. Собственно, в этот институт он и подался, потому что туда решил поступать Александр. Аполлону было все равно, где учиться, лишь бы вместе с братом. Оба успешно сдали первую сессию, вернулись домой на каникулы. И тут случилась беда: Александра арестовали, а затем и посадили по 58-й статье на десять лет. Аполлон Григорьевич не объяснял нам причин ареста брата. Может быть, тот что-то не вовремя и не так сказал, может, свою роль сыграли какие-то дневниковые записи. А скорее всего, повлияло то, что во время войны он недолго пробыл в немецком плену, откуда успешно бежал и дальше воевал в партизанском отряде. Как потом выяснилось, тогда одновременно в разных местах страны были арестованы все, кто когда-то бежал с Александром из плена.
Арест старшего брата сказался и на судьбе младшего - из института его «попросили». Тогда же Аполлон прошел медицинское обследование, в результате которого получил вечный «белый билет» по причине разных хворей. Аполлон Кузьмин вернулся в Рязань и поступил в Рязанский пединститут. Но и оттуда ему пришлось уйти все по той же причине - близкий родственник «врага народа» не мог учиться в советском вузе. Он вернулся в Высокие Поляны и какое-то время преподавал в вечерней школе, причем практически все предметы А выручили Кузьмина... шахматы - талантливый рязанский юноша стал чемпионом России по шахматам среди сельской молодежи. И вот только после этой победы ему разрешили вновь вернуться в Рязанский пединститут, на исторический факультет которого он заново поступил в 1952 году. Его же старший брат, Александр Григорьевич, почти сполна отсидел весь назначенный ему срок и вернулся домой только в 1956 году. Александра реабилитировали и вернули ордена, полученные им в годы воины.
Стоит отметить, что уже в этой истории, как мне кажется, проявилась одна крайне важная черта характера Аполлона Григорьевича Кузьмина: он никогда не сдавался, если на его пути оказывались какие-то трудности. Наоборот, будучи по своей натуре бойцом, он всегда смело вступал в борьбу, будь то научные дискуссии или же полемика с недругами нашего Отечества, и чаще всего оказывался победителем. В этом отношении Кузьмин, как мне представляется, являл собой пример характера истинно русского. Ведь большинство иноземных завоевателей терпели в России сокрушительные поражения именно из-за того что имея превосходство в вооружении, выучке войск, во владении военным искусством, не учитывали в своих расчетах самого главного - русского характера И бывали многократно биты русскими «лапотниками». Позднее эта я бы даже сказал, национальная особенность характера Кузьмина не раз
помогала ему преодолевать различные жизненные передряги.
* * *
А на той нашей первой лекции в МГПИ и вправду случилось невероятное. Мы, первокурсники, были свято уверены - раз поступили на истфак, то уж историю мы знаем. И вдруг оказалось, что мы не знаем ничего! Нет, конечно, мы знали множество фактов, могли, так или иначе, охарактеризовать те или иные события, даже исторические процессы. Но дело заключалось совсем не в этом Аполлон Григорьевич Кузьмин, находившийся тогда в самом расцвете лет и творческих сил, всего лишь за одну лекцию своим негромким спокойным голосом вдруг открыл нам огромный и неведомый мир - мир науки истории. Мир полный проблем и противоречий, полный неизведанного и непознанного.
Аполлон Григорьевич с учениками
Именно тогда мы впервые услышали ставший впоследствии знаменитым «кузьминский» вопрос - «В чем проблема?», с которого и он сам, а потом уже и мы, его ученики, привыкли начинать всякое дело. Помнится, один из моих однокурсников после этой лекции, повторяя интонации «пикейных жилетов» из «Золотого теленка», изумленно и восторженно воскликнул:«Да... Аполлон - это голова!»...
А как было не воскликнуть! Ведь всего за каких-то полтора часа мы вдруг поняли, что этот огромный, беспредельный мир науки предстояло познавать и открывать именно нам! В нас все перевернулось, мы вдруг осознали, что на многое, на очень многое способны и очень многое можем и должны сделать. В этом-то было главное ошеломляющее впечатление, которое произвела на всех нас лекция А.Г. Кузьмина. Это было совершенно удивительное и поразительное качество А.Г. Кузьмина, как педагога и человека - он, маститый ученый, доктор наук, профессор, сразу же, с первой лекции стал относиться к нам, «зеленым» первокурсникам, как к коллегам, к сотоварищам. Как к тем, кто в будущем должен продолжать дело развития русской исторической науки. Помню, как чуть позднее, раздавая темы докладов на семинарах, Аполлон Григорьевич говорил, характеризуя эти темы и, главное, увлекая нас невиданными перспективами: «Ну, это тема докторской диссертации...». И мы увлекались!
Наверное, именно эта вера Аполлона Григорьевича в людей, в их способности и возможности, помимо человеческого обаяния, яркого научного и литературного таланта, сразу же и привлекла нас к нему. Ведь только на нашем курсе курсовые и дипломные работы у Кузьмина писали более двадцати (!) человек. Позднее тысячи студентов прослушали его лекции, под его руководством. были написаны сотни курсовых и дипломных работ.
* * *
С 1952 года, когда А.Г. Кузьмин вновь стал студентом исторического факультета Рязанского педагогического института, вся его жизнь оказалась связана с изучением отечественной истории. Уже после окончания института он сначала работал научным сотрудником Рязанского краеведческого музея, потом учился в аспирантуре кафедры источниковедения МГУ им. М.В.Ломоносова, где его научным руководителем был знаменитый русский историк, академик М.Н.Тихомиров. В 1963 году А.Г.Кузьмин с блеском защитил кандидатскую диссертацию. В это же время академик Тихомиров привлек своего талантливого ученика к подготовке издания Полного собрания русских летописей. Затем Кузьмин преподавал в Рязанском пединституте, пока в 1969 году не перебрался окончательно в Москву - его пригласили занять должность заместителя главного редактора журнала «Вопросы истории». Одновременно он преподавал в МГУ на кафедре истории СССР эпохи феодализма. В 1971 году А.Г.Кузьмин защитил докторскую диссертацию «Начальные этапы древнерусского летописания».
С защитой докторской диссертации у Аполлона Григорьевича вышла целая история. И история не очень приятная. Дело в том, что уже в конце 60-х годов Кузьмин принял участие в нескольких открытых научных дискуссиях, смело, не взирая на лица и авторитеты, вступал в настоящие интеллектуальные бои со своими оппонентами, довольно жестко и аргументировано защищая свои позиции. Кузьмин отстаивал подлинность «Слова о полку Игореве» и «татищевских известий» в «Истории Российской» В.Н.Татищева, резко критиковал советских норманистов, впервые опубликовал несколько антинорманистских статей по проблеме происхождения Руси.
Но, как представляется, главное заключалось в том, что Кузьмин не скрывал своих патриотических взглядов, открыто их высказывал. А это не поощрялось в научной среде. Беда заключалась в том, что в тогдашнем либерально настроенном так называемом «интеллигентском обществе» быть «русским патриотом», особенно после событий в Чехословакии в 1968 году, считалось, мягко говоря, «немодным». Либерально-западнические настроения оказались близки и немалому числу историков. Лишь немногие, такие как академик Б.А.Рыбаков, решались открыто демонстрировать свой патриотизм. Но то - академик Рыбаков, носивший в исторических кругах неофициальное прозвище «Царь Борис». А тут какой-то Кузьмин, всего лишь кандидат наук, да еще и «выскочка» из Рязани...
Была и еще одна причина, по которой Аполлона Кузьмину невзлюбили. Именно в это время Кузьмин официально и неофициально поддержал несколько антисионистских изданий, вышедших в СССР, а также авторов этих изданий, что среди довольно большой части творческой интеллигенции вообще считалось почти что криминальным деянием.
В результате А. Г. Кузьмин нажил себе немало недругов. И ладно бы все эти идейные и научные противоречия сводились к словесной полемике. Так ведь нет. Предпринимались и более действенные усилия. Одной из жертв таких усилий должен был стать и Кузьмин.
Каверзы начались еще до дня защиты диссертации: один из положительных отзывов на исследование Кузьмина был вдруг срочно отозван и заменен другим - отрицательным. На саму защиту из Ленинграда прибыл настоящий «десант» из нескольких человек, призванный «завалить» соискателя докторской степени. Но Кузьмин с честью выдержал испытание. Тогда поле «битвы» перенеслось в Высшую аттестационную комиссию, где диссертация Кузьмина должна была пройти утверждение. В ВАК и в ЦК КПСС как из рога изобилия посыпались анонимки. Позднее, как рассказывал Кузьмин, он сам видел кипы бумаг из анонимных писем в отделе науки ЦК партии. Наверное, недоброжелатели Кузьмина надеялись, что он сложит крылья и смиренно согласится с, казалось бы, неизбежным поражением. Однако в этом и был их главный просчет, ибо они не учли русский характер Кузьмина. Вот и этот бой он выиграл. Больше того, в разгар подковерных сражений и сразу же после них Кузьмин принял участие в очередной открытой дискуссии, развернувшейся на страницах журналов «Вопросы истории» и «История СССР». В этой дискуссии Аполлон Григорьевич отстаивал новые методы исследования летописного наследия, доказывал истинность своего видения проблем летописеведения.
С 1975 года и до самой кончины научно-педагогическая деятельность А. Г. Кузьмина оказалась связана с Московским государственным педагогическим институтом (ныне - Московский педагогический государственный университет), где он был профессором кафедры истории России почти тридцать лет.
* * *
Нам, первокурсникам 1977 года, несказанно повезло. Именно в 1977 году Аполлон Григорьевич впервые начал читать цикл лекций на очном отделении истфака МГПИ. Он был еще молод и полон сил, ему было самому интересно с нами работать. Уже вскоре вокруг него сложился кружок наиболее близких ему студентов, для которых Кузьмин стал не только научным руководителем, но и Учителем с самой большой буквы. Все пять лет нашей учебы в институте он возился с нами, как с малыми детьми, - рассказывал, показывал, учил, хвалил и, как это ни удивительно, практически никогда не ругал. Он верил в наши силы, возможности и способности больше, чем мы сами. Он возил нас по историческим местам России. Он беседовал с нами в аудиториях и в коридорах института, а потом эти беседы продолжались у него дома или на даче. Приглашал к нам на встречи интереснейших писателей и ученых - В. Чивилихина, ф Нестерова, В. Бегуна и многих других. Он делился с нами своими радостями и горестями, но делил с нами и наши радости-печали. Помнится, как-то Кузьмин позвал меня и еще нескольких моих товарищей к себе на дачу встречать Новый год Мы встретились в метро «Беляево», потом ехали на автобусе до Ватутинок, потом еще довольно долго шли пешком (его дача, а на самом деле обычный деревенский дом, находилась в деревне Конюшковопод Троицком). И все это время Аполлон Григорьевич пребывал в каком-то особенно приподнятом настроении, веселился, очень бодро шагал по заснеженным тропинкам, так что даже мы за ним не поспевали. И только когда мы добрались до Конюшково вошли в холодный дом (печку еще надо было растапливать), Аполлон Григорьевич, все также улыбаясь, раскрасневшийся с мороза, залез в свои рюкзак и достал оттуда стопку книг. Оказалось, что это была только что вышедшая в серии «ЖЗЛ» его книга - «Татищев». Она хранится у меня до сих пор, хотя с того 1982 года прошло уже двадцать шесть лет... И еще помню, как мои отец, наслушавшись моих рассказов об Аполлоне, сделал для него подарок - трубу для самовара. Аполлон Григорьевич этот подарок ценил...
Мы в самом деле очень полюбили Кузьмина. Он стал постоянным героем нашего студенческого фольклора, его приговорки и слова стали крылатыми в нашей среде. А мой давнишний друг и однокурсник Алексеи Карпов (ныне известный историк и писатель, автор многих книг) написал несколько поэти: ческих пародий на Кузьмина, которые сам Аполлон Григорьевич, обладавший потрясающим чувством юмора, как-то сразу «заценил» Помню, что ему очень нравилась одна пародия, написанная Алексеем еще в 1978 году, которую мы распевали на мотив «Цыганочки»:
Выскочил из хаты Рюрик, Ошалев, заголосил: «Кто же я, норманн иль русич? Или вовсе славянин? Или кельт я? Братцы, дожил... А норманнов вовсе нет? Или, может быть, о Боже, Я неведомый венед? Мол, язык славянский знаем...» Замолчал, качнулся вдруг И безумными глазами Тупо посмотрел вокруг- Тихо на Балтийском море. Редкий крик - и тишина. То кричат варяги с горя, Начитавшись Кузьмина.А другая пародия, написанная Алексеем уже с моим участием в том же 1978 году на мотив популярной тогда песенки «Про собачку Тябу», вошла... в лекционный курс Кузьмина. В течение долгого времени Аполлон Григорьевич цитировал ее во время своих лекций. Как я понимаю, он ценил этот стишок за, так сказать, общую теоретическую направленность, выдержанную в духе его любимого вопроса «В чем проблема?»:
Как хорошо, о, Боже мой, на семинар придти родной, И только там узнать, какая нынче тема. Потом немного помолчать, секунд так десять или пять, И громко закричать: «Ну, в чем проблема?» Проблемы окружают нас повсюду. Туда ходил Рамзес или оттуда? Как до среды занять у Жоры-скряги? И кто такие, собственно, варяги?С годами наш кружок становился все шире и шире, ибо пополнялся новыми и новыми студентами-историками. Нашими друзьями и коллегами стали ученики Кузьмина предшествующих времен. Особенно стоит сказать о Людмиле Вдовиной, ученице Кузьмина еще с того времени, когда он преподавал в Рязанском пединституте, и о Владимире Вышегородцеве, которого сам Аполлон Григорьевич любил как-то очень по-отцовски. К сожалению, Володя несколько лет назад умер...
Но вот ведь незадача! Я хотел было назвать еще несколько имен, даже заготовил предварительный списочек, однако вдруг понял, что не смогу, ибо обязательно кого-нибудь забуду, а значит обижу. Сложность состоит в том, что сам круг учеников Кузьмина очень широк. Конечно, в первую очередь, это те, кто непосредственно под его руководством защитил кандидатские или докторские диссертации. Но его учениками были и остаются и другие, те, кто когда-то писал у него курсовые и дипломные работы, однако впоследствии не стал связывать свою жизнь с наукой. Некоторых своих студентов Кузьмин, по формальным причинам, передавал другим, близким ему по духу, преподавателям, устраивал в аспирантуры к разным профессорам, но те студенты и аспиранты продолжали считать себя учениками Кузьмина, да и он сам никогда от,них не отказывался. Его учениками можно назвать и некоторых творческих «внуков» Кузьмина - учеников его учеников. Знаю, что к ученикам Кузьмина себя причисляют и те, кто вообще ничего не писал под его руководством, однако оказался связан с Аполлоном Григорьевичем незримыми душевными или интеллектуальными нитями, кто испытал на себе потрясающее обаяние его личности, кто воспринял его научные, политические и человеческие принципы. Больше того, нередко учениками Кузьмина себя называют люди, лично его вообще не знавшие, но прочитавшие его книги и статьи, слушавшие его публичные лекции. Иначе говоря, «ученики Кузьмина» - это какое-то совершенно удивительное сообщество, созданное Аполлоном Григорьевичем и объединенное не только и даже не столько по каким-то формальным признакам, а, в первую очередь, главной идеей, руководившей самим Кузьминым: идеей служения Отечеству, идеей любви к России.
И нужно сказать, что это сообщество сохраняется до сей поры. В нем «числят» себя учениками несколько поколений, причем дети первых учеников уже будут постарше тех, кто стал его учениками в последние годы его жизни. И до сей поры ученики Кузьмина разных времен продолжают встречаться, по мере возможности - помогают друг другу. Впрочем, не стоит забывать и того, что жизнь, конечно, штука сложная и многих она развела не только в
разные стороны, но и по разные стороны баррикад...
* * *
Талантливый во многих областях жизни, Аполлон Григорьевич Кузьмин, конечно же, и в первую очередь, был удивительно талантливым, смелым историком. Уже в первых научных работах Кузьмина проявился этот талант, и вскоре он стал признанным специалистом по истории Древней Руси. Однако талант Кузьмина-историка оказался настолько велик, а знания его столь разносторонни, что он стал автором работ, написанных по самому широкому кругу проблем развития России на различных этапах ее исторического бытия. Его перу принадлежит более 200 научных трудов, среди которых работы по летописеведению, Крещению Руси, происхождению русского народа, книги и статьи по древнерусской религиозно-философской мысли, публицистические работы. Назову лишь несколько, наиболее известных: монографии «Рязанское летописание» и «Начальные этапы древнерусского летописания»; книги «Падение Перуна» (о Крещении Руси) и «Татищев» (о первом русском историке); составленные им двухтомник «Откуда есть пошла Русская земля», в котором были опубликованы уникальные документы о происхождении русского народа и сборник статей и материалов «Славяне и Русь». В 1993 году в Арзамасе А.Г.Кузьмин издал собственный перевод Лаврентьевской летописи (издание подготовлено вместе с В.В.Фоминым), а тремя годами ранее в книге «Златоструй» - тексты древнерусских мыслителей XI-XIII вв. (совместно с А.Ю.Карповым). Его публицистические статьи вышли в двух сборниках: «К какому храму ищем мы дорогу?» и «Мародеры на дорогах истории» (эта книга опубликована уже после смерти автора). Активно работать Аполлон Григорьевич продолжал до последнего года жизни, только в 2002-2004 гг.
были опубликованы его книги: «Начало Руси», «Крещение Руси», «Источниковедение Древней Руси», сборник «Антинорманизм», в котором Аполлон Григорьевич был редактором, составителем и автором основных статей. И конечно же, необходимо назвать фундаментальный двухтомный труд «История России с древнейших времен до 1618 года», который является своеобразным итогом многолетней научной и педагогической деятельности А. Г. Кузьмина, а также «Хрестоматию по истории России с древнейших времен до 1618 года», вновь подготовленную им вместе со своими учениками...
И за какую бы тему, за какую бы научную проблему ни брался Аполлон Григорьевич, везде он находил свою оригинальную точку зрения, везде он совершал иногда маленькие, но чаще значительные научные открытия. Вообще удивительно, сколь много нового, неожиданного, но в тоже время строго научного, строго обоснованного внес Аполлон Кузьмин в отечественную историческую науку! Иногда кажется, что такое было невозможно совершить одному человеку! Перечислим только главное: новая концепция происхождения Руси и русского народа; новая концепция Крещения Руси; новая концепция истории древнерусского летописания; новое прочтение памятников древнерусской религиозно-философской мысли... Наконец, новая концепция исторического развития России с древнейших времен...
Нет, все же, наверное, стоит хотя бы об одной книге рассказать поподробнее. И пусть это будет двухтомная итоговая книга А. Г. Кузьмина - «История России с древнейших времен до 1618 года», учебник для студентов высших учебных заведений.
* * *
Впрочем, вначале стоит сказать об одном моем личном впечатлении от этой книги. Когда учебник был уже написан и сдан в редакцию издательства, Аполлон Григорьевич попросил меня стать его редактором. Я начал работать с текстом и вскоре столкнулся с одним противоречием: текст книги никак не подходил под понятие классического учебника, ибо в нем не столько давались готовые ответы, сколько ставились научные проблемы, и во многих своих главах эта книга напоминала, скорее, научную монографию. Когда я об этом сказал Кузьмину, он в ответ произнес замечательные слова: «Видишь ли, я и не хочу давать окончательных ответов. Я писал все это для того, чтобы когда-нибудь, кто-то, прочитав этот учебник, сказал - да ерунда все это! И потом написал бы что-то свое». В этом был весь Кузьмин...
* * *
В основе двухтомника лежит лекционный курс, который на протяжении более чем четверти века А. Г. Кузьмин читал на историческом факультете МПГУ. Кроме того, при подготовке этого учебника автор использовал свои многочисленные научные разработки, книги и статьи, которые широко известны любителям отечественной истории, студентам и преподавателям.
Хотя этот двухтомник и учебник, он не представляет собой «легкого» чтения. Впрочем, так и должно быть. За последние годы все мы, к великому сожалению, уже привыкли к «легкости» - «легкие деньги», «легкие знания»... Выходит невероятная масса «легкой» исторической литературы, авторы которой считают, что если они прочитали две-три книжки, теперь получили право писать на исторические темы и навязывать всем остальным свое, якобы оригинальное видение истории. Опять же, к сожалению, приходится констатировать, что и студенты исторических факультетов нередко стремятся к «легкому» пути овладения историческими знаниями.
Учебник А. Г. Кузьмина возвращает всех нас к извечной истине - «легких» знаний не бывает. Истинное проникновение в историю - это величайший труд, это серьезная работа, это необходимость овладения огромным источниковым и историографическим материалом, это кропотливая работа над анализом источников, это, наконец, постоянная и внимательная работа в библиотеке и архиве. А к тому же необходимо освоить археологический, источниковедческий, лингвистический, этнографический, социологический, философский, политологический, религиоведческий и многий, многий иной материал, каковым великолепно владел сам А.Г.Кузьмин. И только потом, вроде бы, неким «чудесным образом» возникает «легкость знания» - своеобразное «чудо легкости» и необыкновенная радость научного открытия. «Чудо легкости», в основе которого лежит великий и напряженный труд.
С первых страниц этой книги становится ясно - перед нами оригинальный, новаторский труд. Впервые в России появился учебник по отечественной истории, автор которого принципиально отказался от позитивного, а, вернее, от «позитивистского» «бесстрастного изложения фактов». Проблемный подход - вот что выгодно и в самую лучшую сторону отличает эту работу. А. Г. Кузьмин предлагает читателям воспринимать историю не как совокупность фактов и событий, а как систему научных проблем. Так же, как на своих лекциях, профессор А. Г. Кузьмин видит в студентах, прежде всего, коллег-историков, которые с самого начала должны погрузиться в научное познание прошлого, так и в этой книге он разворачивает перед читателями серьезнейший научный разговор - с анализом источников, историографии, с глубоким осмыслением исторических фактов и событий. Ведь автор уверен, что главная задача историка заключается в познании законов исторического развития, а, значит, нужно уметь видеть всю противоречивость исторического процесса. Отсюда и возникает тот самый знаменитый «кузьминский вопрос»: «В чем проблема?», ибо всегда, во всех своих выступлениях, лекциях, во всех своих научных и научно-публицистических работах А. Г. Кузьмин утверждал - познание истории начинается с понятия «проблема»...
Подобный подход стал очень плодотворным в научной деятельности самого А. Г. Кузьмина. Его учебник просто поражает своим «размахом», развернутостью в мир, концептуальностью, оригинальностью решений. Поражает и эрудиция автора - в его книге привлекается широчайшая база как отечественных, так и зарубежных источников, до того мало кем освоенных. И самое важное - все эти многообразные источники точно и прочно укладываются автором в его концептуальное видение истории России.
А. Г. Кузьмин - ученый-мыслитель. Он всегда придавал и придает огромное значение теоретическим основам исторического познания. В этом отношении книга «История России с древнейших времен до 1618 года» написана с четких методологических позиций, о которых сам автор говорит во Введении. Основа методологии - диалектика. Диалектическое понимание истории было свойственно А. Г. Кузьмину как никакому другому исследователю, он много писал о необходимости и перспективности подобного подхода, плодотворно пользовался этим подходом в своих работах. Именно понимание диалектического взаимопроникновения общественного бытия и общественного сознания в ходе исторического процесса позволяет А. Г. Кузьмину увидеть и показать всю сложность, проблемность и, в то же время, сущностные черты и особенности отечественной истории, выявить в противоборстве различных интересов главные закономерности исторического развития. И не случайно столь многое внимание А. Г. Кузьмин уделяет понятию «прогресс». Пожалуй, впервые (снова - впервые!) в этой книге сформулирована строгая и логичная концепция исторического прогресса, с позиций которой автор и оценивает конкретные исторические события.
В целом же, профессор А. Г. Кузьмин - один из немногих историков, кто объединил в единое целое философию и историю, теорию исторического знания и сам процесс познания истории. Нельзя не отметить и тот факт, что именно А. Г. Кузьмин как талантливый педагог несколько поколений своих учеников научил философскому пониманию истории, философскому отношению к истории. А значит, и философско-историческому пониманию современности...
Значимость этой работы А.Г.Кузьмина определяется еще одним важнейшим моментом - она написана с позиций концепции взаимоотношений «Земли» и «Власти». Концепция «Земли» и «Власти» имеет славянофильские корни. Но мыслители-славянофилы были в большей степени теоретиками, им не хватало конкретного знания истории для обоснования своих взглядов. И вот, наконец впервые в отечественной учебной литературе появилась книга, в которой концепция «Земли» и «Власти» получила цельное и конкретно-историческое воплощение, а диалектика взаимоотношений «Земли» и «Власти» в истории России прослежена А. Г. Кузьминым в самых различных аспектах на протяжении практически целого тысячелетия. Исследуя характер отношений «Земли» и «Власти» в истории России, А.Г. Кузьмин делает вывод об активном участии народа в политических процессах формирования Русского государства через развитую систему общинного самоуправления. Он показывает, что создание механизмов согласования общественных интересов, выходящих за рамки сельской общины и послуживших основой для организации институтов самоуправления на общегражданском уровне, позволяло на практике реализовывать принципы социальной справедливости. Именно община не допускала резкого социального расслоения, и ее идеалы коллективизма, равенства, приоритета общественного перед личным, обостренное чувство социальной правды служили нравственным оплотом Отечества в роковые периоды его истории.
Все это вместе взятое и позволило А.Г.Кузьмину создать новаторский учебник по отечественной истории. С его страниц сама история предстает перед нами в новом качестве, ибо автор видит те процессы, мимо которых зачастую проходят другие историки. Например, в книге представлено авторское осмысление основных закономерностей складывания всего свода древнерусских летописей. Основательной критике подвергнута общепризнанная схема летописания, впервые предложенная еще В.Н.Татищевым и развитая впоследствии А.А. Шахматовым. Один из основных выводов Аполлона Григорьевича заключается в том, что летопись не является чередой записей, сменяющих друг друга чуть ли не по эстафете летописцев, как это казалось А. А. Шахматову и его последователям. Это скорее свод разнохарактерных и разновременных, нередко противоречащих друг другу летописных и внелетописных материалов. В свою очередь, разноречивость летописных известий - серьезный повод для выявления противоречий тех исторических реалий, которые они отражают. По мнению А. Г. Кузьмина, «установление связи между текстом и породившей его общественной средой должно составлять основное содержание летописеведческого исследования».
В результате изучения таких связей и анализа самих текстов ученый приходит к выводам о существовании в XI-XII вв. нескольких центров летописания, различавшихся по идейным устремлениям и политическим пристрастиям. Опираясь на свои наблюдения, А.Г.Кузьмин пересматривает выводы предшественников о датировке «Повести временных лет», о соотношении Лаврентьевской летописи и Ипатьевской и еще многое другое.
Кузьмин по-новому подходит и к решению так называемой «норманской проблемы». Долгое время само обсуждение вопроса об этническом происхождении правящей княжеской династии и господствующего класса Киевской Руси вообще пытались закрыть как несущественную для марксистской науки проблему. В заслугу А. Г. Кузьмину следует поставить то обстоятельство что он не только выдвинул ряд оригинальных и обоснованных гипотез, но и привлек солидныи свод новых источников. В предлагаемом читательскому вниманию учебном пособии предложена концепция «трех Русий» (Приднепровской, Ьалтиискои и Аланскои), которая дает важнейший ключ к решению проблемы происхождения русского народа и Древнерусского государства, а также изложены основные положения концепции А.Г. Кузьмина о характере Древнерусского государства.
Выявление особенностей процесса возникновения восточнославянского государства позволило ученому по-новому подойти к решению проблемы Крещения Руси. Вопреки традиционной оценке Византии как единственного канала проникновения христианства на Русь, им прослежены не связанные напрямую с Римом и Константинополем христианские учения и выявлены следы их воздействия на общественно-политическую и религиозную жизнь Древней Руси. Так, на конкретном материале показано влияние на раннее русское христианство кирилло-мефодиевской традиции, ирландской церкви и арианства.
Несомненно, интересными являются разработки А.Г. Кузьмина при анализе причин и характера феодальной раздробленности, осмысления сущности понятия «централизации» и процесса создания Русского централизованного государства... А в целом, практически каждая глава этой книги предлагает что-то новое, что-то своеобразное, но при этом широко и глубоко обоснованное - и с точки зрения источниковедения, и с теоретических позиций, и всей совокупностью конкретно-исторических фактов. Иначе говоря, как в свое время нам студентам-первокурсникам, на лекциях, так теперь в своей книге «История России с древнейших времен до 1618 года» А.Г. Кузьмин предложил всем читателям путь в настоящую «большую» науку - науку историю.
* * *
Уже в годы нашего студенчества многие из нас оказались не только учениками по и соратниками А.Г. Кузьмина. Тогда, на рубеже 70-80-х годов, в советском обществе, несмотря на кажущийся застой, шла напряженнейшая и жесткая идеологическая борьба между различными официальными и неофициальными политическими силами. Мы вместе с Кузьминым и благодаря ему оказались в числе тех, кого потом стали называть «Русской партией» (напомню только, что это было совершенно неформальное явление в общественной жизни Советского Союза). Как мне кажется, Аполлон Григорьевич очень гордился тем, что его политические взгляды, его патриотические идеи и чаяния оказались близки столь многим молодым людям. А мы, в свою очередь гордые доверием учителя, постоянно участвовали в различных собраниях, заседаниях, встречах, сами что-то организовывали. Продолжалась эта общественная деятельность и позднее, когда мы уже закончили МГПИ, но сохраняли дружеские отношения с Кузьминым. А он следил за нами, кому-то помогал устроиться на интересную работу, кому-то организовывал публикации и, естественно, настойчиво подводил нас к тому, чтобы мы продолжали свой творческий рост, защищали диссертации, писали статьи и книги. Нужно сказать, что Аполлон Григорьевич помог очень многим. Один из его учеников и мой давний товарищ до сих пор с великой благодарностью вспоминает, как благодаря Кузьмину ему удалось получить недельный отпуск из армии, вернее, с флота, где он в то время служил после окончания института. А произошло это так. Пока мой товарищ честно тянул флотскую лямку, Аполлон Григорьевич сумел опубликовать его статью в одном из ведущих тогда научных журналов. И прислал номер журнала со статьей моему товарищу на службу. Журнал увидели командиры и по достоинству оценили - моему товарищу был предоставлен внеочередной отпуск. А меня, тогда простого учителя истории, Кузьмин рекомендовал на работу в издательство «Молодая гвардия», моих друзей - в Отдел рукописей Ленинской библиотеки (ныне - РГБ). Кстати говоря, до сей поры в этом отделе работает немало учеников Кузьмина. Вообще, Аполлон Григорьевич очень любил творить добро и радость, и при этом был совершенным бессребреником,
дарил себя людям без остатка, не требуя ничего взамен...
* * *
Аполлон Григорьевич никогда не был «кабинетным ученым», прятавшимся от мирских проблем в тишине архивов и библиотек. Наоборот, он всегда занимал активную гражданскую позицию, был истинным патриотом России, внес огромный вклад в становление и развитие русского патриотического движения. Активная общественная и публицистическая деятельность Кузьмина начинается где-то с начала 1970-х гг. Именно тогда он стал публиковаться не только в научных, но и в общественно-политических изданиях, прежде всего, в журналах «Молодая гвардия» и «Наш современник». В начале 1980-х годов в журнале «Наш современник» А. Г. Кузьмин опубликовал серию полемических статей в защиту русского народа, после чего ему более двух лет был закрыт доступ на страницы открытой печати.
Я был уже свидетелем этих событий. Напомню, что именно в этот период, как выяснилось позднее, появилась негласная директива Ю.В.Андропова начать борьбу с «русизмом». Кого-то из участников неофициальной «Русской партии» сняли с работы, кому-то перекрыли кислород с публикациями, кто-то оказался в заключении, были и угрозы жизни... Помню, как Кузьмин нам рассказывал, что его друзья, имеющие отношение к «верхам», предупредили его - никогда не ходить близко к проезжей части, иначе его может сбить машина. То, что это были не пустые угрозы, подтверждают факты неожиданных автокатастроф, в которые попали некоторые из тех, кого причисляли к «русистам».
К чести редакции журнала «Наш современник» и его тогдашнего главного редактора Сергея Викулова, журнал не отступился от своего опального автора. Наоборот, в 1982 году А. Г. Кузьмина ввели в редколлегию журнала, членом которой он оставался в течение почти десяти лет.
А во второй половине 80-х годов в политической атмосфере советского общества многое начало меняться. В 1989 году А. Г. Кузьмин фактически создал и возглавил Московское городское добровольное общество русской культуры «Отечество». Кстати говоря, первое заседание Организационного комитета этого общества проходило на Цветном бульваре в редакции «Нашего современника», да и потом сотрудники журнала оказывали большую помощь деятельности «Отечества». Общество «Отечество» занималось не только культурной, но и политической работой, через «Отечество» были выдвинуты в кандидаты, а затем стали депутатами Московского городского Совета около десяти человек.
Сам Аполлон Григорьевич в этот период все больше сил отдавал политической и общественной деятельности. И, наверное, именно эта пора оказалась самой яркой страницей в жизни Кузьмина как общественного деятеля. Мало того, что он писал книги и статьи, руководил обществом «Отечество», так еще он начал читать в Москве, а затем и по всей России публичные лекции по русской истории, которые вызывали какой-то феерический интерес у тогдашней публики. Во всяком случае, судя по битком забитым залам, когда люди занимали не только все места, но и все проходы, лекции Кузьмина, его видение истории и современности оказались нужны очень и очень многим. Особо отмечу, что за эти лекции Кузьмин никогда не брал ни копейки.
Однако честно признаемся, для практической политики Кузьмин оказался слишком большим мечтателем, идеалистом, даже, можно сказать, романтиком. Он верил в идеалы социальной справедливости, а его политические оппоненты завлекали публику призывами к победе «светлого капиталистического будущего». Он понимал, что в возможном «капиталистическом завтра» и Россию, и все ее население нагло ограбят ушлые дельцы, а народу обещали уже через 500 дней райскую безбедную жизнь, «как в Америке». Он видел, как людей беспардонно обманывают призраком скорого «богатства», и постоянно напоминал о необходимости пусть нелегкого, но благородного служения Отечеству, а политиканы различных мастей вовсю играли на низменных инстинктах толпы.
Аполлон Григорьевич в последние годы жизни
Аполлон Кузьмин этого делать не умел. И, главное, не хотел. Он стремился к максимальной честности. Он не мог и не хотел говорить людям: «Завтра вы будете жить также богато и хорошо, как в Америке», ибо, во-первых, прекрасно понимал, что это ложь, а, во-вторых, он хотел, чтобы люди жили как... в России. И в этом проигрывал деятелям либерально-демократического лагеря. Впрочем, на рубеже 80-90-х годов большинство идейных лидеров русского патриотического движения не смогли заявить о себе как о лидерах именно политических. Для той политической борьбы они оказались слишком совестливыми. К тому же, им не хватало того, в чем их безусловно превосходили либерально-демократические и номенклатурные оппоненты - наглости, цинизма, умения оголтело врать и раздавать обещания, наконец, безудержной жадности и жажды власти. А еще, будучи мощными, талантливыми индивидуальностями, они не умели, а иногда и не хотели объединять усилия, не могли подчинять собственное видение проблем общей политической задаче и общей политической дисциплине.
А дальше наступил 1991 год... Потом 1993-й...
Девяностые годы оказались, может быть, самыми трудными в жизни Аполлона Григорьевича Кузьмина. Конечно, я не могу судить об этом с абсолютной определенностью, но мне кажется, что было именно так. Он очень тяжело переживал развал Советского Союза и последующее наглое унижение и разграбление остатков некогда великой страны. Он очень остро чувствовал собственную вину в этом развале, о чем не раз говорил нам. Ведь всю жизнь и особенно последние двадцать с лишним лет Кузьмин посвятил тому, чтобы его любимая Родина стала сильнее, чтобы народу его Родины жилось легче и лучше. И вдруг в одночасье все его труды, все старания и все его мечты рухнули... Значит, это он недоработал, значит, это он виноват в том, что процесс разрушения не удалось остановить. Естественно, что вины Аполлона Григорьевича Кузьмина в гибели державы не было. Кузьмин это понимал. Но все равно корил именно себя...
И все же Аполлон Григорьевич не опустил рук. Он продолжал писать публицистические статьи, размещать их в газетах и журналах. Однако кризис печатного слова 90-х годов привел к тому, что идеи А.Г. Кузьмина, как, впрочем, и многих других ученых, писателей и публицистов, не дошли до читателя. Эта невозможность повлиять на реальную политическую действительность, конечно, угнетала Аполлона Григорьевича.
Подобного рода бедствия усилило личное горе. В 1996 году в автокатастрофе погибла его дочь Татьяна, на которую он возлагал многие надежды и с которой очень сблизился в последние перед ее гибелью годы. А вскоре умер Володя Вышегородцев...
Но и после этих трагедий Кузьмин не сдался. Русский характер Кузьмина не позволил ему этого сделать, его служение Отечеству продолжилось. И вновь он успел сделать очень многое. Он продолжал воспитывать студентов и аспирантов, готовить из них профессиональных историков. Именно в эти годы больше всего его учеников защитили кандидатские диссертации, а некоторые уже и докторские. Всего же за все годы преподавательской деятельности Кузьмина кандидатские диссертации под его руководством защитили более тридцати человек, докторские - пятеро (двое еще при жизни, а трое вскоре после кончины нашего учителя). И недаром в 1990-е годы в Министерстве образования была официально зарегистрирована научная «Школа А.Г. Кузьмина», чем сам Аполлон Григорьевич очень гордился.
Именно в 90-е годы XX века и в начале XXI столетия, несмотря на начавшиеся проблемы со здоровьем, он написал несколько новых, в том числе итоговых книг, закончил давно задуманные исследования. Вместе с учениками Кузьмин готовил различные издания, сборники статей, документов, хрестоматию. Все эти издания, во многом стараниями его учеников, еще при жизни Аполлона Григорьевича стали достоянием читателей. В МПГУ к 70-летию А.Г. Кузьмина выпустили замечательную книгу «Великие духовные пастыри России», а через пять лет торжественно отметили его семидесятипятилетие. С этой датой связана и еще одна история. Благодаря помощи Сергея Дмитриева, главного редактора издательства «Вече» и тоже выпускника истфака МГПИ, всего за три месяца нам удалось выпустить к 75-летнему юбилею
Кузьмина его книгу «Начало Руси» - фундаментальный труд, в котором Аполлон Григорьевич полностью выразил свою концепцию происхождения Руси и русского народа. Буквально накануне юбилейной даты я торжественно вручил Кузьмину несколько экземпляров. Потом, разглядывая эту книжку, Аполлон Григорьевич, тогда уже сильно болевший, с какой-то просветленной интонацией в голосе спросил нас и себя самого: «Неужели я успел?..».
Так же, как и раньше, Аполлон Григорьевич любил бывать в своей родной Рязани. Он вообще был большим патриотом Рязанщины, деятельно участвовал в работе Рязанского землячества. Болезни, докучавшие ему, в Рязани немного отступали, ему становилось лучше, тем более что там было кому о нем позаботиться - здесь жили его сестры, дочь Ирина, медик по профессии, внук...
Вот и по весне 2004 года, когда ему в очередной раз стало худо, Аполлон Григорьевич уехал в Рязань - подлечиться. Но... 9 мая 2004 года его не стало.
* * *
Хоронили Аполлона Григорьевича в Москве. Отпевать его должны были в храме Архангела Михаила в Тропарево, но транспорт с телом из Рязани сильно опаздывал. Шел довольно сильный дождь, однако собравшиеся на похороны не расходились. Ждали, разговаривали, опять ждали, опять разговаривали. Наконец машины из Рязани подошли. Храм, по-моему, так и не вместил всех, кто пришел попрощаться с Кузьминым. А потом автобусы и машины отправились на Хованское кладбище. Здесь один из учеников Кузьмина, а к тому времени уже священник, отец Павел Буров отслужил литию. Аполлона Григорьевича Кузьмина похоронили рядом с супругой и дочерью...
И вот еще какое печальное совпадение. Именно в день похорон, когда мы вернулись в МПГУ, чтобы помянуть Аполлона Григорьевича, меня позвали в располагающееся в этом же здании на проспекте Вернадского издательство «Владос», чтобы я, как научный редактор, подписал в печать «Хрестоматию по истории России с древнейших времен до 1618 года», подготовленную Кузьминым и его учениками. Именно в тот день я обвел фамилию Аполлона Григорьевича в этом издании черной рамочкой...
Но память об Аполлоне Григорьевиче хранится. Продолжают выходить его книги. Так, трудами одного из учеников Кузьмина, доктора исторических наук Вячеслава Фомина, и главного редактора издательства «Русская панорама» Игоря Настенко через год после смерти нашего учителя увидела свет книга его публицистических статей «Мародеры на дорогах истории». В МПГУ был опубликован сборник статей «Судьба России в современной историографии», посвященный памяти Аполлона Григорьевича. Там же, в МПГУ, создан научный центр имени А.Г.Кузьмина. Готовятся к изданию и переизданию его книги, проводятся конференции и чтения. В октябре 2008 года в МПГУ состоится научная конференция, приуроченная к 80-летию со дня рождения Аполлона Григорьевича. Помнят о Кузьмине и в Рязани, где конференция в память о нем пройдет уже в сентябре.
* * *
И в заключение хочу сказать еще об одном. Аполлон Григорьевич Кузьмин родился 8 сентября, в день Бородинского сражения и великого русского церковного праздника Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, установленного в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Аполлон Григорьевич Кузьмин, русский историк, русский патриот ушел от нас 9 мая, в День Великой Победы в Великой Отечественной войне, в день, когда Русская Православная Церковь поминает всех павших за Отечество.
Мне почему-то кажется, что два эти факта в высшей степени символичны: самой судьбой и Господом Богом Кузьмину изначально оказалось определено всю свою жизнь сражаться за Отечество и побеждать. Он и был - победителем. А потому помяните в эти дни и раба Божиего Аполлона, который был летописцем и воином нашего Отечества и никогда не сдавался. Вот и помяните его как летописца и защитника Земли Русской. Как воина. Как победителя.
Список сокращений
АИ- Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. 1334-1598. Т. 1. - СПб., 1841
ВВ - Византийский временник
ВЕ - Вестник Европы
ВЕДС - Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей. Чтения памяти В. Т. Пашуто. Москва, 18-20 апреля 1994. Тезисы докладов. - М., 1994
ВИ - Вопросы истории
ВСЯ - Вопросы современного языкознания
ВЯ - Вопросы языкознания
ГВНП - Грамоты Великого Новгорода и Пскова. - М., Л., 1949
ДГВЕ - Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования
Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования
ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения
ЗАН - Записки Академии наук
ИАН - Известия Академии наук
ИГАИМК - Известия государственной Академии истории материальной культуры
ИЗ - Исторические записки
ИОРЯС - Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук
КСИА - Краткие сообщения Института археологии Академии наук
КСИИМК - Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры Академии наук
ЛЛ - Летопись по Лаврентьевскому списку. - СПб., 1897
МВ - Московский вестник
МГ - Молодая гвардия
МИА - Материалы и исследования по археологии
МТ - Московский телеграф
НПЛ - Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. - М., Л., 1950
ОЗ - Отечественные записки
ОИ - Отечественная история
ПВЛ - Повесть временных лет. Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Пе- ретц. Ч. 1-2.-М„ Л., 1950
ПЛДР - Памятники литературы Древней Руси. XIV - середина XV века. - М„ 1981
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей
РГАДА - Российский государственный архив древних актов. Отдел рукописей
РФВ - Русский филологический вестник
СА - Советская археология
СО - Сын Отечества и северный архив
Сб. РИО - Сборник Русского исторического общества
СС - Скандинавский сборник
СЭ - Советская этнография
ТЛОИДР - Труды и летописи Общества истории и древностей российских
ТОДРЛ - Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР
ЧОИДР - Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете
ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков. Вып. 13. - М., 1987
MGH SS - Monumenta Germaniae Historica. Scriptores
MPH - Monumenta Poloniae Historica
SO - Slavia Occidentalis
ZCPH - Zeitschrift fair celtische Philologie
Примечания
1
Очевидно, вступление было написано в первые годы Великой Отечественной войны. - Ред.
(обратно)2
Забелин. История русской жизни с древнейших времен. I. 53 (1908).
(обратно)


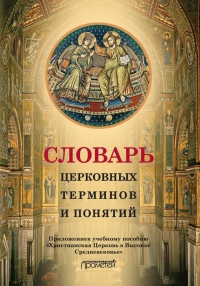

Комментарии к книге «Изгнание норманнов из русской истории. Выпуск 1», Андрей Николаевич Сахаров
Всего 0 комментариев