***
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte
Studien zur Abendländischen Kunstentwicklung
von
MAX DVOŘÁK
München 1924
Перевод с немецкого
p А. Сидорова, В. С. Сидоровой и А. К. Лепорка
под общей редакцией А. К. Лепорка
ISBN 5-7331-0136-9
© А. А. Сидоров, наследники, перевод гл. 1, 2, 3, 5, 6; 2001
© А. К. Лепорк,
перевод гл. 2, 4, 7; 2001
© Гуманитарное агентство
«Академический проект», 2001
I ЖИВОПИСЬ КАТАКОМБ.НАЧАЛА ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА.
Кто из посетителей Рима пропускал возможность осмотреть ту или другую катакомбу? Впечатление оказывалось скорее странным, чем воодушевляющим. Настроению мешали «туристский» характер осмотра и реставрированное состояние давно лишенных своего содержания подземных коридоров; более подробному рассмотрению препятствовали плохое освещение и торопливость гида-чичероне. Поэтому и живопись, которою украшены стены этих подземных некрополей, как правило, едва ли вызывала к себе более живой интерес. Она оставалась для специалистов древнехристианской археологии кладезем антикварных фактов, но на ее художественное и историко-художественное значение обращалось мало внимания, ее недостаточно исследовали, так как оригиналы были трудно доступны, а число воспроизведений было совершенно недостаточным. Только большая публикация Вильперта[1] облегчила более подробное ознакомление с этими примечательными свидетельствами процесса становления новой религии, нового искусства и нового мировоззрения. Эта публикация научит нас, как я думаю, многому, что до сих пор ускользало от специалистов по христианским древностям и что придает живописи подземных Помпей римской Кампаньи не меньшую историческую важность, чем та, которая давно уже была признана за стенописью города мертвых, возникшего по воле стихийной катастрофы у подножия Везувия.
I
Искусство древних христиан было большей частью — во всяком случае, раньше — предметом специальной науки и изучалось вне зависимости как от классического искусства древности, так и от последующего средневекового искусства. В силу этого общая картина естественно приобрела характер скорее археологический и оказалась построенной по предметному содержанию, по «древностям», а не в соответствии с общим историческим процессом. Определяющие для средневековья типы новых культовых сооружений, картины из катакомб, рельефы из саркофагов, исторические циклы монументальной стенописи рассматривались как различные области одного и того же искусства; при этом мало учитывалось, что весьма часто здесь речь шла о фактах, которые, во-первых, не совпадали по времени и не были однородны, а во-вторых, вовсе не могли быть рассматриваемы сами по себе, как начальные ступени христианского искусства, поскольку они являлись скорее окончанием того развития, которое продолжалось столетия и претерпело различные превращения. Произведения IV —V вв. и. э., к которым принадлежит, например, базилика, в форме, типичной для последующей западной архитектуры, имеют с древним христианством столь же мало общего, как, например, творения Пруденция; как и последние, они являются результатом долгого процесса слияний и ассимиляции старых классических и новых христианских элементов.
С другой стороны, господствующее ныне мнение сводится к тому, что между античным и христианским искусством вообще нет резкого разрыва и что искусство древних христиан образует только последнюю главу в развитии классического искусства, которое под влиянием постепенного внутреннего перерождения или же, как это признается другими, под воздействием чужих влияний вступило на новые пути. Христианское содержание в силу этого считается имеющим второстепенное значение по сравнению с происходящим в самом античном искусстве процессом новой ориентации; поэтому для древнейшего христианского искусства и было часто избираемо имя «христианской антики». Она должна была быть преемницей «языческой», не будучи отделенной от нее какой-либо пропастью, являясь в истории стилей всецело продолжением того преобразования, которое началось уже во времена императоров и относительно которого могло бы только оставаться неясным: что это — упадок ли, как это думали раньше, варваризация, или ориентализация, или же, как это думают ныне, прогресс и естественное продолжение развития? Исторический процесс вследствие такого подхода безмерно упрощается и как бы нанизывается на единый шнур равномерно эволюционирующей художественной воли, какого-то последовательного стилепреобразования, или даже какой-то этнографической формулы, так что историко-художественные процессы полутысячелетия представляются скомканными в громких фразах.
Однако оправданно ли это? Разве такое однозначное, равномерно прогрессивное развитие, которым успокаивалась историческая совесть, развитие, ставшее в конце концов «искусственной логической пряжей, созданной из головы, парящей в воздухе и лишенной почвы» (Дильтей), разве представление о таком развитии не ошибочно применять по отношению к совокупности исторических событий, могущих быть объединенными под общим именем «древнехристианского искусства»?
Что подобное опасение оправданно, доказывается живописью катакомб. О ней говорят, поскольку факты рассматриваются хронологически, как о начале христианского искусства. Древнейшие памятники этой живописи относятся Вильпертом к I в. н. э., т. е. примерно к тому времени, когда были написаны Евангелия и еще жило поколение, непосредственно соприкасавшееся с апостолами. Последующие памятники, за исключением некоторых запоздалых, распределяются на три дальнейшие столетия. Таким образом, согласно этой схеме, в подземных картинных галереях катакомб до нас дошло первоначальное христианское искусство от времени апостолов до того периода, когда победа христианства поставила искусству новые задачи, и оно, быстро выйдя из скромного своего преддверия, по всей линии восприняло наследство позднеантичного языческого искусства.
В анализе художественных особенностей искусства катакомб обычно указывают на первоначальную близкую его связь с общей светской декоративной живописью эпохи императоров. Полагают, что камеры в катакомбах отделывались так же, как и вообще украшались живописью разные помещения: стены разделялись линиями и обрамлениями на различные поля и эти последние оживлялись мифологическими фигурками так, что можно было бы думать о чем-то похожем на рокайльные отзвуки помпейских настенных росписей. Только все здесь было просто и ремесленно, это — искусство белых людей, как было однажды сказано; кроме того, оно, по предположению Вильперта, в древнейших частях выполнено даже языческими декораторами, обладавшими по сравнению со своими преемниками большей технической ловкостью. С введенными ими декоративными схемами переплетались тут христианские мотивы, многообразные символы и намеки, оранты и другие фигуры, а также маленькие библейские сценки по определенному выбору, на который оказала влияние литургия мертвых. В этих-то представлениях, а не в их стиле, и видят собственно христианский элемент катакомбной живописи. С античной декоративной живописью здесь соединилась «как бы образная символика», которая, согласно Вильперту, может быть рассматриваема в качестве самостоятельного создания христианского искусства и которая была обусловлена тем, что христианские художники старались вводить в изображения новые мотивы со строгим учетом их символического значения. Согласно этому, специфически новыми, христианскими оказывались в сущности лишь элементы содержательного характера, которые влияли на формальные проблемы только косвенно, через упрощение образного языка, ограничивая его только существенным по смыслу. В качестве источника употребляемых при этом изобразительных схем указывались простонародные «девоционалии» (предметы и обычаи культа), посредством которых распространялись, главным образом с Востока, определенные образные представления в новом христианском мире. Они должны были стать образцами и для итальянских катакомб. Следует еще упомянуть, что относительно предположительного восточного происхождения христианского круга образов, как он дошел до нас в итальянских катакомбах, высказывались различные предположения и мнения, которые, однако, все более или менее висят в воздухе, поскольку вне Италии не сохранилось похожих памятников.
Без сомнения, достойна почтения полнота научной работы, посвященной изучению искусства катакомб (историко-художественные результаты которой я постарался вкратце очертить); в ней заложены прочные основы для рассмотрения материала; но я думаю, что она позволяет выдвинуть точки зрения, которые значительно отличаются от прежних и которые по меньшей мере делают эти прежние точки зрения не единственно возможными.
Прежде всего следовало бы указать на то, что живопись катакомб не только иконографически, но и по всему своему художественному характеру значительно отличается от современного ей позднеантичного искусства. Правда, в силу пробелов и недостаточного знания памятников нам знакомы далеко не все фазы перерождения позднеантичного искусства от начала второго столетия до его полной христианизации, но все же ясно, что самый дух и художественные намерения, которые влияли на художников катакомб, не могут быть отнесены к числу общеопределительных для всего античного искусства.
Не антична, несмотря на некоторые языческие мотивы, декоративная система живописи катакомб. В случае, если древнейшие катакомбные фрески действительно относятся к первому столетию — к вопросу датировки мы еще вернемся, — они должны были бы по времени непосредственно примыкать к помпеянской живописи «четвертого стиля». Но художественно они разделены непреодолимой бездной. Помпеянская стенопись остается даже в своем последнем иллюзионистическом периоде воспроизведением архитектурных мотивов. Она основана на тектонических и пластических формах. Это тела, которые представлены в их наименее материальном обличии, как преходящее оптическое явление; скорее как создания фантазии, нежели подражания действительности, но это все-таки тела, оформленная материя, которая подчинена законам, каким она должна следовать. В катакомбах же мы встречаем только линии и полосы, только плоскостные мотивы в качестве обрамлений фигурных изображений, никогда не находим пластических или тектонических форм, не находим рельефа, превращения стены в тело, архитектонического построения. Таким образом, самый принцип, согласно которому отдельные поля и компартименты нанизаны друг на друга, а обрамления направлены в сторону отрицания пластической и тектонической формы, совершенно не античен. Архитектура или скульптура, которая соответствовала бы художественным принципам, наблюдаемым в декоративном стиле живописи катакомб, должна была бы, подобно ей, всецело пожертвовать всяческим стремлением к пластическому и тектоническому воздействию ради производящего впечатления бестелесности плоскостного украшения, что немыслимо. Наоборот, во втором и третьем столетиях во всей области классической культуры преобладает барочное повышение материальной игры сил, вплоть до разрывания древних моментов равновесия; это течение господствует, несмотря на прохождение своеобразного возрождения, которое означает также не преодоление телесности, а попытки восстановить ее во всей древней классической закономерности.
Мы можем наблюдать господствующее течение в рамках старой «перистильной» архитектуры, которая была наследством греков. Так, приблизительно к тому же времени, которым датируются обычно древнейшие катакомбные фрески, относится форум Домициана в Риме. Различие едва ли может быть тут большим. Колонны и перекрытия, тектонические и пластические исходные формы греческой архитектуры развиваются здесь независимо от их основного строительного принципа, которому они обязаны своим происхождением и который определял границы их самостоятельному действию; тяжелое барочное великолепие и сила, яркая рельефность, эффекты света и тени еще больше повышают здесь впечатление подавляющей телесности, происходит превращение в пластический ложный фасад с раскрепованными перекрытиями и глыбообразными образованиями вместо аттика; все это относится к линейной декорации катакомб, как вестибюль Лауренцианы к готическому расписному окну. И то, что по этому пути и дальше идет развитие во втором столетии, подтверждают памятники во всех провинциях римской мировой империи: арки Траяна в Анконе и Тимгаде, построенные Адрианом городские ворота в Адалин, строения в Геразе, Пальмире и Баальбеке. Особенно в последних пластические и тектонические средства выражения до крайности напряжены и разрывают все свои узы. Пропорции вырастают здесь гигантски; колоссальный портал, больший, чем когда-либо в искусстве барокко нового времени, завершает улицу Колонн в Пальмире или ведет к так называемому маленькому храму в Баальбеке, внутренняя стена которого расчленена посредством постепенно вырывающихся из стены, соединенных в группы и связки столбов, почти так же, как у Микеланджело фасады храма св. Петра. Внешняя стена храма в Баальбеке имеет колоссальный ряд колонн, между которыми втиснуты ниши и постаменты в два этажа; последние буквально разгоняют колонны, так что сверхчеловеческие массы наполняются драматической борьбой разнузданных сил. В других строениях, например, в маленьком круглом храме в Баальбеке, карнизы гнутся, как у Борромини. Стена оформлена, как если бы она была из теста, и все растворено в контрапостных кривых.
Одновременно с этим безграничным усилением пластических и тектонических функций старых архитектурных элементов развивается новое взаимоотношение между формой и пространством. В греческой и эллинистической архитектуре пространство не играло никакой роли, потому что там основу архитектонического творчества составляло не пространственное выявление, а тектоническое значение форм. После того, как это значение отступило на задний план, естественным образом понятие «архитектонического» смогло быть расширено на область воздействий, которые являются результатом взаимоотношений между архитектурными формами и окружающим их свободным пространством. Так, мы видим, например, в воротах, которые воздвиг император Адриан в 117-118 г. в Афинах, в абсурдном противоречии с первоначальным значением мотива, что на массивной нижней части строения, как на цоколе, стоит легкий портик, поставленный так, чтобы он издали выделялся изящным силуэтом на свободном, широком пространственном фоне. Подобным же образом и странное использование выделенных из какой-либо тектонической структуры триумфальных колонн можно понять только так, что место конструктивной связанности заняли существование в свободном пространстве и оптическая связь со всем архитектоническим окружением. Одновременно и само свободное пространство получает новое художественное значение в архитектонической композиции, сменяя пространство и форму, или толщу стены и проемы в ней.
Все это, без сомнения, означает распад старой греческой тектонической закономерности и тех идеальных решений, в которых она, как и в синтетическом изображении человека в образах богов, нашла свое самое чистое воплощение. Но этот процесс разложения нигде не ведет к подавлению художественного, пластического и тектонического прославления телесности; наоборот, последняя становится теперь — по ту сторону границы прежней гармонической уравновешенности сил — зеркалом воли, господствующей над всеми средствами чувственного воздействия самодержавно формирующей массы.
И та же черта встречается нам во втором главном направлении античной архитектуры во времена Антонинов и Флавиев, направлении, которое не было основано на протяжении греко-эллинистической архитектуры, а было от нее принципиально отличным. Приблизительно в то же время, к которому относятся древнейшие катакомбы, в Риме возникают здания нового рода. Это, — называя лишь главнейшие, — термы Тита, построенные Домицианом части императорского дворца в Палатине, дом Флавиев и дворец, неправильно называемый «Домом Августинов», а также термы Траяна. Эти здания основаны, как греко-эллинистическая архитектура, не на тектонически и пластически отдельных формах, из которых органически развивается построение, а на однородной строительной массе, образуемой мощными архитектурными объемами, чье внутреннее пространство оформлено в такие же мощные пространственные тела. Там возникают большие залы и комплексы сводчатых помещений со сплошными стенами и примечательными конструкциями, так же отличающиеся от греко-эллинистической архитектуры, как современный вокзал из бетона и железа от готического собора.
Может быть, это сравнение годится и в том отношении, что предпосылки к этой новой архитектуре были даны в созданиях римских инженеров, в крепостных укреплениях, акведуках, мостах, банях-терпидариях, аренах, портах и других сооружениях, которые и сегодня возбуждают наше удивление в качестве технических достижений. То, что возникло в связи с решением технических задач, игравших такую важную роль в жизненной структуре римской мировой империи, приобрело в определенный момент также и перерастающее его художественное значение. Этот момент наступил, когда борьба за мировое господство была закончена и повелителей мира стала преисполнять гордость тем культурным своеобразием, которое доставило им первое место на свете. Они противопоставили греческому эстетически-научному восприятию жизни другое, которое было основано на власти, государственном авторитете и правовом порядке. На них были построены новая императорская власть, новая империя, новая имперская организация мира; их мировоззрение, методы и создания естественно всюду выступили на передний план, когда это построение было закончено и нашло свое завершение в новом государственном строе. Как точное отражение государственной полноты власти и управления сюда относилась и архитектура, в которой выразилось искусство римских инженеров технически организовывать огромные массы.
Их конструктивные средства, мощные стены или смелые своды подняты при этом до степени эстетических факторов. Одновременно архитектоническое творчество начинает сосредоточиваться и на новых задачах и проблемах, на красоте пространства и компактных строительных частей, так что к новому архитектоническому ощущению присоединилось и новое понимание фантазии. Последнее имело древнее происхождение, так как архитектуру оформленных масс и пространств мы находим еще у древневосточных народов; с Востока могли проникнуть в римское искусство также и новые строительные идеи, основанные на этом старом развитии, —тем более, что они соответствовали автократическим формам жизни, влияние которых на цезарей и их окружение может быть замечено в других областях. Но не более того; потому что нигде нельзя в созданиях римских архитекторов оставить без внимания свободную проработку композиции в связи с продуманным представлением о естественных тектонических силах, что не было бы возможно, если бы римская архитектура не прошла школы греков; везде проявляется также и классический характер, основанный на всей античной, в том числе и специфически римской культуре и образованности, которая, со своей стороны, не меньше отличается от всех более ранних примеров, чем хотя бы римская империя от древневосточных деспотий или римская стоическая школа философии от учений Хаммурапи.
Я подробнее остановился на этом втором направлении в официальной архитектуре римского императорского времени, потому что последующая эпоха обязана ей весьма важными новшествами. К ним относится новое художественное значение пространства. Архитектура средних веков и нового времени развивается не из греческой колонной архитектуры, а из этой новой пространственной архитектуры. Вместе с архитектонической красотою пространства получает также новую художественную функцию и его ограничение, стена. То, что гладкая стена только в ее пропорциях, только в противопоставлении пластической форме, воспринимается как элемент искусства, было таким же решающим прогрессом, как, например, художественное оправдание опорной конструкции в готической архитектуре. К этому добавилась новая роль свода и арки, получивших в новой архитектуре значение, схожее со значением колонн и перекрытий в греческой архитектуре; таким образом, не только был изменен формальный язык, но одновременно н принесено в жертву идеальное содержание греческой тектоники. Ее гармонично уравновешенная или барочно повышенная игра сил должна была уступить место тому, что получает свое выражение в арках и сводах: свободному оформлению масс и пространств, причем сила тяжести не сходила на нет, как у греков, в возвышенной естественной закономерности, от части к части; наоборот, она была мощью действенной воли подчинена в своих самых элементарных выявлениях, покорена технически и художественно и поставлена на службу целям формы.
Эту архитектуру соединяет с более поздним христианским искусством много мостов; от искусства же катакомб она принципиально отличается не меньше, чем от эллинистической традиции, с которой она также многоразлнчно связана; создания новой римской архитектуры еще решительнее, чем эта архитектура в ее поздних формах, покоятся на эффектах телесного воздействия, на мощи кубических образований, на красоте телесно задуманных пространственных форм, на компактной массе и материальности ее ограничения. Апофеоз пространства, широко и тяжело основывающегося на телесной красоте, представляет перенесение новых архитектонических идеалов в область культового сооружения, которое мы видим в Пантеоне, а дух, говорящий из развалин Палатина, остается прежним, тем, каким он был создан всем античным культом пластически и тектонически объективированных тел и соответствующим этому культу понятием художественного величия и монументальности. Этот дух не обрывается внезапно, но еще в третьем столетии производит вещи, превосходящие раскрытием материального величия или чувственного великолепия все, что было раньше, или по меньшей мере ему не уступающие; причем, однако, выросли не только цели, но и богатство решений; с одной стороны, пространственные композиции оформлены смелее и разнообразнее, с другой — элементы перистильной архитектуры теснее связаны с новым принципом компактных объемов, благодаря чему для архитектуры намечены совсем новые пути, колоссальные ордера с богатыми раскрепованными перекрытиями поставлены в залах, вдоль стен, которыми они (как в тепидариях терм Каракаллы или Диоклетиана или в большом храме диоклетиановского дворца в Спалато) должны придать как можно более сильную рельефность. Или же самая строительная масса превращается в подобную рельефную форму, как в «Черных воротах» (Porto Nigra) в Трире. И в конце этого периода стоит базилика Максенция, здание, которое наряду с Пантеоном является самым импозантным примером подобной дохристианской архитектуры, для которой пространства — строительные тела, везде наглядно оформленные и как бы вырезанные из строительной массы; и в которой эти строительные массы имеют не только функцию (второстепенной) оболочки, не только не являются как бы необходимым злом, но принадлежат к существенному содержанию художественного воздействия здания. И если кому-нибудь недостаточно понятна несоединимость такого искусства с декоративною системою катакомб, пусть он сравнит ее с произведением, которое стоит у порога эпохи государственного христианства, а своей целью и формой принадлежит еще к прошедшему периоду: с аркой Константина, в которой, как и в ее образце, арке Септимия Севера, помпезная декоративная архитектура колонн перекрытий и статуй на постаментах перед плоскостью стен настолько подчиняет себе все впечатление от памятника, что повествовательные рельефы, которые она обрамляет, могут выступать только как несамостоятельное и подчиненное украшение.
Таким образом, это рассмотрение учит нас, что между живописью катакомб и современным официальным античным искусством существовало глубокое различие в художественных намерениях. Ибо не может быть случайностью, что в катакомбах так же опасались проникновения всего того, что составляет суть формальных проблем современного языческого художественного творчества, как, с другой стороны, в этом последнем нельзя найти оснований для важнейших критериев формального восприятия, которое порождает декоративную систему катакомбной живописи.
Еще яснее это положение вещей в фигурных композициях. В катакомбах чрезвычайно бросаются в глаза упрощение и связанный с этим отказ от наиболее распространенных — лучших — основ античного изобразительного искусства. От прекрасных архитектурных и пейзажных фонов и связанных с ними разнообразных изображений природы и жизни, бесчисленные примеры чему даны в картинах как раз последнего помпеянского стиля, в катакомбах можно найти лишь совсем ничтожные и единичные остатки, которые очень скоро совсем исчезнут. При этом речь идет не только о единичных мотивах фона, но и о целом принципе пространственного соответствия, который был выдвинут классическим искусством состоял в том, чтобы каждая вещь изображалась в связи с естественным, непосредственно относящимся к ней пространственным окружением. Такой характер изображения, который относится приблизительно к тому же времени, когда перипатетики установили учение о повсюду господствующей естественной причинности, привел к тому, что художники, начиная с этого периода, связывали с каждым изображенным действием ограниченную и замкнутую в себе пространственную сцену так, чтобы эта реконструкция естественного пространственного соответствия находилась по возможности в согласии с опытом.
В то время, как этот род художественного изобретения в позднеантичном искусстве второй половины первого и первой половины второго столетия не только господствует, но и стоит в известном смысле на вершине своего развития, в катакомбах он отсутствует совершенно. Изображение материальных пространственных соответствий ограничивается здесь узкой полосой почвы, композиция — немногими фигурами, часто одной-единственной. При многофигурных композициях их размещение сводится к простой схеме:
Фигуры не изображаются на различной глубине в пространстве картины, а помещаются, по возможности, на одинаковом расстоянии от зрителя, при этом — как правило — на самом переднем плане картины, так что ее глубина представляется не выходящей за пределы самой картинной плоскости.
В этом единственном пространственном плане они стоят или соподчиненно, одна рядом с другою, или симметрично, слева и справа от средней фигуры; и изображения в различных полях по большей части тоже размещены так, чтобы по возможности соответствовать друг другу.
Подобно тому, как отсутствуют более подвижные или свободные композиции, отсутствуют также и все более сложные мотивы положений и движений. В большинстве случаев фигуры предстают перед нами в неподвижной фронтальности; это действует тем более примитивно, что художники при изображении фигур помимо того жертвовали и многим другим,что было в классической живописи высшим пределом художественных стремлений: полнотою восприятия, осмысленной уверенностью в передаче природы и в решении всех формальных проблем (уверенностью, которая, являясь результатом векового развития и выучки, придавала раннему, а также и современному языческому искусству такую высокую степень совершенства). Место прежнего богатства наблюдений и формальных решений заняло теперь ограниченное число типов и шаблонов, и там, где в классическом искусстве наблюдалось подробное живое описание, в христианских подземных усыпальницах мы находим только самую сжатую аббревиатуру.
Поначалу хотелось бы обозначить все эти бросающиеся в глаза отличительные черты как полное обеднение живописи, и вряд ли можно было бы вторично наблюдать нечто подобное но внезапности и последовательности на всем протяжении истории искусств. Нельзя, однако, объяснить эти черты всеобщим иссякновением творческих сил классического искусства, потому что черты эти могут быть отмечены совершенно непосредственно во множестве памятников и при том в эпоху, когда, как мы еще услышим, языческая скульптура и живопись еще полностью владели прежней выучкой. Равным образом нельзя эти отличительные черты свести к относительной низшей качественности памятников, к невысокому художественному уровню работавших в катакомбах художников. Если бы это было так, то налицо должны были бы быть по меньшей мере попытки как-либо подражать остальному классическому искусству. Но то, что мы находим в катакомбах, не отличается меньшей качественностью поставленных задач и достижений, — это иное искусство; это — по отношению к классическому — новое искусство.
В обычных изложениях истории живописи катакомб сказанное принималось большинством исследователей, причем, как правило, считалось достаточным указание на христианское происхождение этой живописи. Более глубокую попытку объяснения сделал Вульф[2] . По его мнению, искусство катакомб было «первосозданным», т. е. оно означало начало нового искусства, развивавшегося из примитивных принципов изображения. В амулетах древнехристианского времени, многие из которых сохранились (правда, более поздних столетий), можно увидеть опыты такого рода изображений, в которых молитвы и волшебные формулы сгущаются в образы. Из подобных новообразований, примкнувших по композиции к древнейшим восточным схемам, сохранившимся в народном искусстве, и возник сначала в Александрии — перемешанный с заимствованиями из античности — древнейший цикл изображений, создания которого и сохранились в стенописи римских кладбищ. Так, искусство, по словам Вульфа, «началось снова».
Это объяснение прежде всего совсем гипотетично, так как предметы культа, на которые ссылается Вульф, младше, чем изображения в катакомбах. Эти последние стоят, как известно, в самой тесной связи с заупокойными молитвами и, очевидно, уже поэтому изобретены для катакомб, а не для паломнических амулетов. Из Александрии до нас дошли только более поздние памятники, которые к тому же не имеют ничего общего с живописью в итальянских катакомбах. Предположение, что христианские художники или, лучше сказать, беспомощные дилетанты, черпая только из темных источников народного суеверия, изобрели посреди позднеантичного развития новое «праискусство», отличается романтичностью, т. к. противоречит известным фактам. Ведь в новшествах катакомбной живописи мы имеем дело не только с новыми образными идеями, но и с гораздо большим: с новой художественной ориентацией, выступающей как в образном выражении, так и во всем восприятии формальных проблем и не являющейся ни примитивной, ни древневосточной, ни народной.
Несмотря на то, что живопись катакомб диаметрально противоположна классической, она все-таки имеет предпосылкой последнюю и развивается из нее. Связь не ограничивается, как часто утверждается, отдельными заимствованиями, но не в меньшей мере распространяется и на общие стилистические принципы, среди которых в качестве особо важных и характерных следует выделить два. Один заключается в самом восприятии форм, которое, правда, жертвует натуралистическими и художественными целями и преимуществами античного искусства, в остальном, однако, еще остается в полной зависимости от античных формальных норм. Развитие новых образов и декораций идет не от курьезной бедности к богатству, а в обратном порядке: из первоначально богатого запаса форм и образных представлений кристаллизуются новые образы и декорации. Подобным же образом обстоит дело и с живописным стилем катакомбных фресок. Его основа повсюду — позднеантичный импрессионизм, в более ранних картинах — на своей классической ступени развития — раскрывающийся сильнее и чище, чем в более поздних; следовательно, и в этом отношении живопись катакомб должна восприниматься не как «первоначальное» искусство, а как явление, которое при всех различиях тесно связано с позднеантичной художественной жизнью.
Импрессионизм был одним из последних и самых тонких цветов античного художественного развития. Христианство могло примкнуть легче, чем ко всякому иному, именно к искусству представлять вещи не так, как они даны объективному опыту, а как они представляются субъективному восприятию: пересозданными в нематериальные впечатления; точно так же и христианская наука могла примкнуть к неоплатоновской философии, которая начала понимать мир, как создание духа, а источник красоты стала искать в излучении духовного света в чувственную среду.
Таким образом, исходной точкой искусства катакомбной живописи является не «первоначальное созидание», а современное ему искусство — античная живопись первых столетий нашей эры. Но катакомбная живопись не останавливается на стиле античной живописи, а изменяет его. Это изменение состоит не в простонародном «опрощении», которое должно было бы покоиться лишь на огрублении средств изображения — в катакомбах последовательно «подавляются» и заменяются другими определенные качества предшествовавшего и современного искусства.
Было отброшено по возможности все, что напоминало прежний культ тела и натурализм, место которых заняли новые ценности.Сюда относится прежде всего новая трактовка основной плоскости изображения. Исчезают замкнутые ограниченные пространственные сцены, но не самое пространство. Несмотря на то, что изображение определенной пространственной обстановки большей частью отсутствует, все-таки задний план фигур действует не как материальный фон, а как свободное пространство; это воздействие достигается упомянутым параллельным размещением фигур в одинаковом отдалении от зрителя, композицией, которая даже и при большей формальной разработке не нарушает отведенной ей неглубокой пространственной зоны. Здесь отсутствует всякий рельеф, всякое трехмерное впечатление, и по возможности избегаются ракурсы. Телесность сводится до минимума тем, что фигуры совпадают с оптической зрительной плоскостью; а так как эта плоскость в основном оказывается плоскостью фона, то последняя в сознании зрителя превращается в иллюзию свободно окружающего фигуры пространства. Ощутимое, пластически трехмерное почти полностью устраняется. Фигуры кажутся возникающими — подобно теням или привидениям — откуда-то из окружающего, из неограниченного — неоформленного свободного пространства.
Этим, без сомнения, не преследовались натуралистические цели, как порою можно видеть в позднеантичной живописи: в передаче освещения и воздушной среды или в изображении атмосферного заднего плана в случае мотивов, которые того требовали. В живописи катакомб дело идет не о том или другом естественном вырезе из свободного пространства, не о том или ином живописном наблюдении действительности, а об идеальном пространстве, о пространстве в себе, приходящем на место прежнего рельефного фона.
Откуда идет это превращение? Из того же источника, откуда проистекало отстранение пластического и тектонически телесного. Чтобы это понять, мы должны представить себе смысл и цель этой живописи некрополей в связи с новым христианским восприятием искусства. Так же далеко, как формальные, идут и тематические изменения, отличающие искусство катакомб от классического. Эта разница заключается не только в новых темах изображения, но не в меньшей степени и в новом восприятии их содержательного значения.
Если проследить развитие позднеантичного искусства в его отношении к содержанию изображения, то можно заметить, что особенно в сакральных изображениях внимание к содержанию очевидно слабело. Старые религиозные представления все чаще становятся только внешним предлогом для чисто художественных эффектов, и, таким образом, многие персонажи древней мифологии превращаются в художественные и декоративные мотивы, к которым относились настолько равнодушно, что древнехристианские художники без задней мысли употребляли их в качестве подходящего украшения для заполнения пустых полей.
Предполагают, что это относится и к христианским представлениям. Все эпическое, драматическое, основанное на волевых актах и действиях, все, что могло бы захватить античного человека по содержанию, отсутствует и здесь; н непосвященному зрителю равномерно размещенные по различным полям фигуры могли бы тоже представиться безразличными по содержанию мотивами. Но это совсем не так, в отличие от языческих параллелей. Напротив, христианские мотивы обладают значительно более высокой содержательной значимостью, правда, совсем другого рода, чем та, которая была утеряна в классическом искусстве. Их значение не в том, что именно они наглядно представляют глазам зрителя, а в том, о чем они ему напоминают и что в простых перводокументах христианской живописи совсем незаметно. Даже тогда, когда в живописи катакомб представляются исторические события и лица, они остаются символами, задача которых не исчерпывается объективным содержанием изображенного: они должны доводить до сознания зрителя таинства и истины новой веры.
Древние тоже имели, конечно, своп символы. Исходным их пунктом было, однако, почти всегда очеловечивание представлений, которые могли в образном виде действовать непосредственно на чувства зрителя и духовное значение которых, помимо того, часто становилось второстепенным в силу независимого от него развития самого образного типа.
В живописи катакомб, напротив, речь идет об отвлеченных учениях, мыслительных взаимосвязях и относящихся к ним изображениях, связанных с ними лишь опосредованно; отсюда развиваются те отвлеченные символика и аллегория, которые заняли место классических поэтических вымыслов с их приоритетом наглядности, и которые должны быть отнесены к числу самых примечательных черт всего последующего средневекового искусства.
Таким образом, по содержанию катакомбную живопись отличают от современного ей классического искусства две важные особенности:
смысл и цель художественного произведения совершенно совмещаются ради абстрактного, отвлеченного, теологического содержания;
для понимания этого содержания в гораздо большей степени, чем когда-либо в античности, необходимы субъективное мыслительное соучастие, сопричастность к знанию зрителя.
Катакомбная живопись не остановилась на отдельных знаках и символах (они могли быть известны также другим, особенно древним и новым восточным культам, откуда многое было воспринято и в позднеантичном искусстве), но определенные мыслительные взаимосвязи были положены и в основу целых композиций. Это — идеи, касающиеся искупления после смерти, спасения от соблазнов, роли Христа как избавителя и чудотворца, путей благодати, крещения и евхаристии, или же связанные с молитвами о заступничестве Бога за умерших и с представлением об их бытии в вечном блаженстве. Как известно, происхождение этих погребальных изображений искали в литургии мертвых. Указывалось и на другие источники, например, на захватывающую молитву «commendatio animae» [3], которую и теперь еще произносит священник у постели умирающего и которую можно проследить уже во втором столетии, или на молитвы псевдо-Киприана и на их экзорцистские основы, в которых хотели видеть параллели к идеям заклинания и искупления в древнейших катакомбных фресках.
Во всяком случае, все это в конце концов проистекало из одной и той же новой, не античной жизни чувств и представлений, самым важным признаком которой было отклонение благ этого мира и сосредоточение мыслей и чувств на потустороннем. Основные проблемы античного миросозерцания, покоившегося на земном бытии и становлении, утеряли свою силу, и проблема предначертанного человечеству искупления заняла их место. Вместе с нею возникли новые мысли, новые чувства и убеждения, которые глубокой пропастью отделены от старых идеалов, как натуралистических, так и ограничивавшихся влиянием лишь сил природы. В связи с этим изменилась и цель живописи. Ей надо было не изображать совершенные тела, героических людей, выдающиеся с земной точки зрения действия и положения, а призывать к молитве и подымать души над всем земным.
Этой цели была подчинена и художественная форма. Ради этой цели было принесено в жертву все, что могло бы действовать в направлении светской ориентации искусства. Мысли и чувства должны были быть направлены только на одно, на образы и знаки, которые бы выражали христианскую духовную тайну, дело искупления и новые сверхземные цели человечества; эта установка не должна была быть нарушаема слишком материальным действием, можно было бы сказать «материальным наличием» фигур и положений. Лишенные уже раньше импрессионизмом материальности, воспринятые, как естественные оптические явления, фигуры переносятся теперь в катакомбах по ту сторону земной обусловленности в сферу свободной, неограниченной, вневременной пространственности. Пространство превращается из физического и оптического феномена в метафизическое понятие, и вместе с тем делается не изъясняющим элементом изображения, а его неотъемлемой частью. Местом изображения видений и знаков становится уже не обусловленная и ограниченная землею обстановка, а идеальное свободное пространство, в котором все ощутимое, измеримое, механически связанное потеряло всякую власть и значение. Пространство уводит глаз в неограниченные глубины, и в этом движении вглубь возникают фигуры, которым не мешает трехмерность, которые далеки от всякого подражания действительности, фигуры, ставшие похожей на видение проекцией персонифицированных идей искупления и потустороннего мира, отражением молитвенных чувств, они вращаются в зонах трансцендентного бытия, где законы земных взаимосвязей теряют свое значение.
Таким образом, в этом новом единстве формы и пространства нет непосредственного прогресса в смысле классической или новейшей передачи природы, а налицо новое по отношению к античности, — как и всем другим более древним периодам искусства, — покоящееся на новых метафизических потребностях и воззрениях, полное переосмысление всех художественных ценностей. Оно заключалось в том, что все, направленное на телесное бытие и жизнь чувств, как цель художественных устремлений, должно было уступить место новому, «психоцентрическому», восприятию мира, а вера в сверхчувственную связь вещей была поставлена выше чувственного опыта. Из этого положения дел и объясняется упомянутое уже расположение фигур. Только в сценах, которые должны были в рамках новой духовной значимости вызвать воспоминание о земных событиях, как, например, в истории Ионы, остался след старых натуралистических композиций, тогда как во всех изображениях, которые должны были непосредственно вознести мысль и чувства зрителя над всем земным, можно наблюдать новый композиционный принцип.
Фигуры отдалены от всего того, чем в земном бытии люди связываются между собою в бренных событиях и поступках. Образцы катакомбной живописи как бы исключены из земной физической и психической жизни и переживаний, благодаря чему кажутся застывшими и безжизненными. Эта застылость не основана, однако, как в древневосточном искусстве, на неподвижности идола, противопоставляющего отношениям действительности с их смущающим многообразием глыбообразно недифференцированную первобытную силу, — она основана на подчинении физических моментов движения высшим духовным факторам, при встрече с которыми физические события должны отступить на задний план.
Физические и психические контакты фигур между собою отсутствуют; но в их фронтальности и в их жестах выражена связь со зрителем, с одной стороны, и с высшими духовными силами — с другой. Они не обездвижены, не являются недостаточно органично расчлененной массой, — они только отрешены от того, что связывает людей между собою на основе волевых актов и действий. Все это стало второстепенным по сравнению с высшей организующей силой, господствующей в мире вечных ценностей и познаваемой людьми благодаря божественной благодати. Они не являются фетишеобразными объективными созданиями или отражениями религиозного философского и художественного культа природы и сопутствующих ему стремлений связать художественное изображение с естественной закономерностью, — они являются символами этой внутренней благодати и возвышения, символами того, как представляется дух, освобожденный от времени и земной ограниченности в мире бесконечности. Кроме того, они не совсем лишены связи между собою. То, что их соединяет в одно целое, — это, с одной стороны, абстрактный принцип композиции, ритмически прерывающееся чередование, а с другой стороны — лежащее в их основе общее им мысленное содержание. Фронтально поставленные одна рядом с другою фигуры, как будто лишенные связи, производят все же впечатление единства, потому что создается ощущение, что они скованы наполняющей их духовной значительностью, которую они и представляют, в одно целое, в единый взлет. Они образуют друг с другом и вместе с молящимися священное сообщество во времени и вечности; впервые мы встречаем здесь в качестве основы изобразительного порядка понятие трансцендентного единения, которое в последующее время всегда будет в центре художественных представлений в те периоды, когда христианское учение о потустороннем оказывало сильное воздействие на силу воображения.
Во всем этом выражается новое значение, которое приобрело для искусства чисто духовное и идеальное начало. В то время, как в классическом художественном творчестве это начало должно было подчиниться формальной красоте и совершенству, или по меньшей мере примкнуть к формальным и материальным преимуществам в гармоническом равновесии с ними, теперь оно вытесняет все остальные точки зрения и становится решающим содержанием художественного изображения.
Это естественно должно было оказать влияние и на передачу каждой отдельной фигуры. Почти не обращаешь внимания на то, сколько утеряли из формального богатства своих классических предков производящие такое впечатление фигуры молящихся — «оранты» — в катакомбах, когда учишься понимать их новое духовное содержание, наполняющее священным огнем их широко открытые большие глаза, как будто отрывающие их от земной тяжести не физически, но чудесно, рационально непостижимо. «Душа — все, тело — ничто» — это учение, которое постоянно встречается нам в учениях родоначальников христианства, наполняет также собою живописные создания искусства катакомб. Духовное высказывание — это самое главное, с чем искусство катакомб обращается к зрителю, при этом речь идет не об индивидуальных психических обстоятельствах, а о всеобщих, надындивидуальных духовных силах и истинах, что возвещаются христианам церковью, и по отношению к которым любая материальная форма является не более, чем промежуточным звеном. Нужно было давать не чувственные радости, а растворять духовные переживания в согласии с новым «почитанием бога в духе», занявшим место прежнего идолопоклонства .
Если мы теперь привлечем для сравнения современное катакомбам языческо-классическое изобразительное искусство, то мы найдем ту же принципиальную разницу, какую мы могли наблюдать между декоративной системой христианского искусства погребений и художественными намерениями современной ему классической архитектуры.
Я могу сослаться на классическое изложение Ригля[4] . Ригль не привлекал живописи катакомб, так как тогда еще не было их исчерпывающей публикации, а оригиналы были доступны иностранному исследователю только в очень ограниченной мере. Его картина развития второго и третьего столетий основывается исключительно на языческих памятниках. И там он привлекает нарочно только те, которые представляют более прогрессивное течение; «вульгарное искусство, к которому следует отнести также и религиозное», держалось в общем далеко от последнего. Правильнее было бы сказать «официальное искусство», потому что (за исключением портретов, которые и тогда, как часто было и потом, почти полностью предвосхищали развитие) там господствовало консервативное направление вплоть до IV в., например, в триумфальных рельефах.
Это течение не имеет с катакомбной живописью вообще ничего общего, но сохраняет все признаки эллинистической и римской традиции, от которых в катакомбах совершенно отказались. Так, мы замечаем в многочисленных рельефах, которые были сооружены в прославление Траяна или в честь Антонина Пия и Марка Аврелия, а также в третьем столетии на арке Септимия Севера, черты развития, которое полностью идет в направлении прежнего восприятия формальных проблем. Мы видим образы, в основе которых лежат прежние типы и идеалы телесного совершенства и пластического воздействия, композиции, которые исходят от старой, тесно ограниченной пространственной сцены и от распределенных по ней в различной глубине фигур; точно так же и передача внутреннего духовного содержания не нарушает границ, которые были ему поставлены в течение всей древности. И то, что еще сто лет спустя произведения этого ретроспективного направления по меньшей мере не вызывали отвращения, доказывается, наряду с другими фактами, особенно ясно применением на арке Константина рельефов, всецело принадлежащих к тому же течению, что и рельефы с построек Траяна и Марка Аврелия.
Но и то, другое, направление, которое Ригль называет «модным», являет полную противоположность по отношению к живописи катакомб. Правда, это направление, объемлющее несколько различных течений, во многих пунктах соприкасается с теми новшествами, которые мы могли наблюдать в катакомбах. Сюда может быть отнесено (мы можем в подчеркивании этих моментов следовать Риглю) прогрессирующее внедрение оптических элементов во все формальные представления, с чем связано известное освобождение материала большая субъективизация искусства; «художественно руководящая часть тогдашнего человечества начала находить удовольствие в том, чтобы при восприятии произведения искусства одновременно обрекать себя на духовное напряжение» — уделяя больше внимания духовному, — «проблемой портрета сделалась способность выражения изнутри направленного взгляда»; наконец, сюда может быть отнесено ослабление интереса к проблеме обнаженной натуры, к телесной красоте и совершенству, как и преобразование композиции, которое состояло в том, что ее стало пронизывать свободное пространство, что фигуры оказывались по возможности втиснутыми в одну и ту же плоскость, и в связи с этим изображались преимущественно en face.
Несмотря на это неоспоримое родство стремлений, катакомбную живопись все же отделяет от всего остального доконстантиновского искусства непреодолимая пропасть. В том и другом мы находим частично одинаковые изобразительные средства и новые художественные устремления, но в высших художественных целях и намерениях, в художественном исповедовании христианское искусство остается столь же отличным от современного языческого, как и в религиозном смысле. В противоположность живописи катакомб фигуры в языческом искусстве даже там, где они подменяются оптическими ценностями, остаются верны старым, лежащим в их основе кубически-пространственным представлениям о форме, и несмотря на внедрение свободного пространства, даже в самых передовых случаях, фигуры «изображаются словно в четырехугольных нишах как можно меньшей (т. е. приближающейся к плоскости) пространственной глубины, достаточной как раз для того, чтобы показать в ней фигуры с их пространственной изоляцией, а с другой стороны — настолько ограниченной, чтобы не могла возникнуть мысль о вырезе из бесконечного свободного пространства». Восприятие основной плоскости изображения, как выреза из неограниченного идеального пространства, которое везде налицо в живописи катакомб, отсутствует в остальном доконстантиновском искусстве; не иначе обстоит дело и с чередованием и фронтальностью фигур, примеры чего, правда, можно было найти не только в катакомбах; но только там это сделалось решающим композиционным принципом. Полный жизни, физически подвижный, коренящийся в человеческих действиях и волевых актах принцип продолжал и дальше существовать в римском искусстве второго и третьего столетий, правда, частично теряя свою материальность, но никогда не будучи отстраняем так же принципиально, как в катакомбах. Этот принцип нигде не был заменен трансцендентной значимостью, тем новым искусством, в котором чувственный опыт учитывается лишь постольку, поскольку он мог быть связан с надмирным предназначением человечества. Прогрессирующее одухотворение, которое можно проследить в портретах среднею императорского времени, остается вплоть до времени Константина в рамках светской характеристики. Сверхкультура, жестокость, тщеславие, усталая расслабленность, мания величия во всех формах, затем снова дикая брутальность или безвольная резиньяция и отчаяние смотрят на зрителя с портретных голов императоров второго и третьего столетий; но нигде всему этому не противопоставлена сверхиндивидуальная одухотворенность, душевное начало телесной бренности в качестве чего-то, что было истинно божественным и неизменным. Поэтому и портреты доконстантиновского искусства остаются связанными с натуралистическими основами классического искусства и с передачею индивидуальных физических и психических признаков; в живописи же катакомб, даже тогда, когда речь идет об изображении определенных лиц, эти основы принципиально отвергаются и уступают место обобщенным антинатуралистическим идеальным типам душевной красоты и нетленности.
II
Что же вытекает из этого различия? Прежде всего можно было бы спросить, действительно ли явления, сопоставленные нами, одновременны, что действительно ли несомненна обычная датировка катакомбных фресок? Этот вопрос покажется тем более правомерным, т. к. против подобной датировки недавно были высказаны сомнения с патрологической стороны. В исследовании о вопросе изображения в древнехристианском искусстве, основанном на литературных источниках, Гуго Кох, опираясь на высказывания отцов церкви и апологетов, заключает, что вплоть до IV в. церковь последовательно отклоняла вопрос об использовании изображений, что, однако, как отмечает и Г. Кох, противоречило бы высказывавшимся до сего дня мнениям о времени возникновения катакомбных росписей и их, непредставимого вне церковного согласия, расцвета в первые три века христианской эры.
Указания Г. Коха на то, что голос отцов церкви в пользу «стен» были приглушены и постепенно слабели[5], несомненно справедливо. С другой стороны, нельзя не обращаться непосредственно к самим монументальным памятникам древнейшего христианского искусства, и только попытка вместе изучить обе группы источников может привести к прояснению положения дел. Это вполне возможно.
И с искусствоведческой точки зрения имеются веские сомнения касательно существующей датировки катакомбной живописи. То, что приводится в пользу их возникновения в первом столетни, не является несомненным. Стилистические же обстоятельства еще меньше могут быть согласованы с ранними датировками.
1. За исключением фресок, которые явно стоят под влиянием нового, послеконстантиновского развития, стилистический характер всей итальянской катакомбной живописи в общем и целом так однороден, что ее возникновение в первом столетии, в связи с чем надо было бы ожидать больших изменений в стиле, в высшей мере неправдоподобно.
2. Как ни самостоятельны в своем контрасте доконстантиновскому языческому искусству катакомбные фрески, они все-таки покоятся на определенных художественных предпосылках, которых не существовало еще в то время, каким датируют древнейшие катакомбные фрески; эти предпосылки возникли только в искусстве среднего императорского времени.
С другой стороны, развитие катакомбной живописи в основном проходит до эпохи Константина Великого, начиная с которого христианское искусство — к чему мы еще вернемся — начинает идти по новым путям.
Это ограничение может быть хорошо согласовано с литературными свидетельствами.
Около конца второго — начала третьего столетия Тертуллиан выступает против изображений «доброго пастыря», из чего мы можем заключить, что символическое изображение библейских персонажей было уже тогда распространено, но не было еще древним, или прочно укоренившимся, или общепринятым.
Также и в писаниях Климента Александрийского есть указания на изобразительные символы; рассуждение о проблеме отношения христианства к искусству, при этом — в форме отклонения художественного изображения божества — уже до него, в первой половине второго столетия, можно найти у Аристида, во второй половине — у Юстина, Татиана, Иринея и Минуция Феликса; после же Климента, в третьем веке, — у Оригена и Мефодия Олимпийского, в четвертом столетии — у Лактанция, Евсевия Кесарийского, Епифания, Арнобия, Макария из Магнезии и еще в конце четвертого века — у Астерия из Амазеи. Это предостережение не распространяется на символические изображения, — против которых у Климента возражений нет и которые, без сомнения, оставались в употреблении и у его преемников, — а относится главным образом к опасностям, которые были заключены для христиан в язычески-материалистическом восприятии религиозных образов и всего искусства. То, против чего восстают все названные писатели, — это отождествление в античности образного изображения с самим божеством и та преобладающая роль, которая давалась в античности чувственно воспринимаемому, материальному, телесному, по сравнению с чисто духовным, внечувственным. Характерно, что произведения искусства древних обозначаются как мертвые и безжизненные, потому что они лишены того, что христианам единственно представлялось жизнью. Их натуралистический характер воспринимается и утверждается как ложь и обман, тот, кто «любит истину и мудрость» не примет такие изображения, т. к. истинный образ Бога нужно искать не в подражании земному, а в человеческой душе. Подлинный божий образ — это Логос, поэтому его нельзя изображать с осязаемой физической схожестью. Это бессмысленно — поклоняться изображениям божества, неподвластного времени. В нас, в нашем духе, в наших убеждениях мы несем истинный образ Бога, и там надо ему поклоняться — «in nostro immo consecrandus est pictore» (Минуций Феликс). Не надлежит искать священное и бессмертное в осязаемом и бренном, в картинах и статуях, но должно поднимать глаза к небу.
Речь идет здесь не о ненависти к искусству, не о презрении к нему или отрицании его. Антиспиритуализм и сенсуализм языческого искусства, неразрывно с ним связанное художественное и религиозное идолопоклонство, взгляд на художественное произведение как на независимое от субъективной жизни, предметно и объективно существующее воплощение высшей, основанной на чувственном опыте красоты, совершенства и закономерности, почитание изображений — вот каковы были опасности, против которых боролись церковные писатели и при том еще в период, относительно которого (на основании наличия памятников) едва ли можно сомневаться, что тогда существовало христианское, формально и содержательно спиритуалистическое искусство, принципиально, как мы слышали, отличное от языческого.
Почему же это специфически христианское, спиритуалистически направленное искусство до Тертуллиана и Климента и после них нигде не упоминается? Почему на него не ссылаются, чтобы поддержать отстранение от языческого?
Сначала можно было бы указать на конвенциональный и диалектический характер полемики, исходившей в большей мере из принципиальных теологических воззрений, чем из определенных обстоятельств; эта полемика проходила в различных вариантах, в основе своей очень шаблонных, переходила от одного автора к другому, и в конце концов была оставлена позади реальными обстоятельствами и стала беспредметной. Несмотря на это, даже в этой шаблонности можно заметить определенное отражение реального развития, если опираться на памятники. Большая доля протестов падает на второе столетие, т. е. на время, в котором, по всей вероятности, действительно не существовало как-либо развитого и общераспространенного христианского искусства, что может быть установлено по точному смыслу литературных источников. Распространение его в конце второго столетия является вполне возможным н соответствует тому, что мы заключили на основе стилистического характера катакомбной живописи. Этим же временем датируются и высказывания, где упоминается христианское искусство, Тертуллианом отвергаемое, Климентом допускаемое.
В последующий период, в течение всего третьего столетия, эта старая проблема рассматривается всего двумя писателями, Оригеном н Мефодием Олимпийским, что контрастирует уже само по себе с многочисленностью авторов предшествующего времени. Как это снижение литературного интереса, так и содержание, и общий характер высказываний обоих греков свидетельствует о том, что положение дел изменилось. Ориген, как позднее и Данте, выводил искусство от Бога, но в своих отповедях на попреки Цельса о том, что христиане не воздвигают алтарей, храмов, изображений, он вообще не упоминает искусство. Он ограничивается противопоставлением языческого идолопоклонства христианскому религиозному и нравственному психоцентризму. Однако его отрицание антропоморфного культа Богов, исходящее из ветхозаветного запрета изображений наполнено многими размышлениями, настолько тесно соприкасающимися с древнейшим христианским искусством, что они звучат почти как разъяснения к нему. Так, к примеру, он говорит, что противоборство антропоморфного поклонения Богам и христианской веры, состоящей в том, что человек создан по образу Божию, не содержит в себе противоречия, ведь это сходство не телесного, но духовного порядка; или он противопоставляет произведения язычников и молитвы христиан и пишет о том, что христианские алтари и изображения — не безжизненны и бесчувственны и созданы не для похотливых и преданных безжизненному демонов, а открыты к восприятию божественного духа. Все это зависит от человеческой души, но ведь почти теми же словами это можно было бы сказать и об одухотворенных изображениях в катакомбах. Я имею в виду, само собой разумеется, не прямые связи, но речь идет, очевидно, о двух различных, внешне независимых эманациях одной и той же фазы духовного развития христианства, той фазы, когда христианство соединилось с позднеантичным философским идеализмом, и когда было обосновано хрнстианско-идеалистическое миропонимание и восприятие чувственного окружения, отражение чего можно также найти в живописи катакомб. То, что Ориген не упоминает ни эти, ни другие памятники этого спиритуалистического христианского праискусства, легко объясняется тем, что он писал после великого императорского мира, в период гонений, когда явно несвоевременно было особо указывать на христианские символы и изображения.
Не столь глубоко, но в схожем ключе писал об искусстве и Мефодий Олимпийский. Тот, кто красоту разумной и бессмертной души, созданной Богом по своему образу и подобию, — таковы его мысли, — «хранит в непорочности и целостности и таковою, как художник или скульптор, сам ее создает в подражание вечной и духовной природы, образом и подобием которой является человек, тот станет похожим на высший и священный божественный образ и будет унесен с этой земли в обитель блаженных, на небеса и будет жить, как в храме». Мефодий Олимпийский определяет церковь как «образ небесного жилища», ветхозаветный свод как «отражение образа», что отвечает основополагающим идеям изобразительной системы катакомбной живописи[6]; он же, явно противореча названному, подчеркивает, что искусство предается проклятию не благодаря его сущности, но лишь из-за намерения почитать изобразительные образы и обращаться к ним как к Богу.
Лишь с начала четвертого века полемика церковных писателей об искусстве становится оживленнее. Она сводится в первую очередь к вопросу о реализме и материализме в религиозном искусстве (Евсевий Кесарийский, Лактанций) или поднимается до запрещения изображений (36-й канон Эльвирского собора) и до страстного призыва запретить любое изобразительное произведения религиозного содержания (Епифаний). Литературные рассуждения приближаются к своему исходному пункту во втором веке, что может показаться тем более странным, ведь они приходятся на время, к которому абсолютно бесспорно относятся некоторые произведения христианского искусства, среди них есть даже и просто датированные.
Противоречие, однако, разрешается, когда мы учитываем происходивший тогда процесс развития искусства. Искусство победоносного христианства было во многом непохоже на то, памятники которого сохранились в катакомбах. Аллегорические и символические изображения уступают здесь место историческим и репрезентативным, стремление к бестелесному олицетворению религиозных тайн и ощущений часто связывается с реалистическими и материалистическими формами представлений официального классического искусства, из которого бесспорно включаются в христианское искусство элементы античного образного культа. То, чего христианские писатели вначале боялись и с чем они боролись, а потом — в горделивом сознании превосходства христианской точки зрения над языческой — считали ничтожным и преодоленным,делается со времени Константина (в связи с превращением церкви в государственную религию) снова угрожающей ясностью, против которой церковные писатели выступали более или менее настойчиво, не будучи, однако, в силах, как раньше, вполне ее заклясть. Кроме сохранившихся памятников, доказывают это и слова, которыми (во второй половине IV в.) Григорий Назианзин, Пруденций или Григорий Нисский описывают христианские изображения, восхваляя их великолепие и верность природе; в то самое время, когда иссякла живопись катакомб, окончилась и борьба, которую в течение трех столетий вели церковные писатели с языческим восприятием искусства.
III
После этого хронологического рассмотрения мы можем вернуться к нашему исследованию содержательного и формального характера катакомбной живописи. Оно показало нам (повторим еще раз сказанное выше) большое расстояние, отделяющее живопись погребений от современного ей искусства среднего императорского времени. Древнейшее христианское искусство нельзя воспринимать просто как «христианскую античность». Его история соприкасается, правда, с перерождением, совершавшимся в позднеантичном искусстве, но не совпадает с ним и не исчерпывается им. Точкам соприкосновения противостоит огромная самостоятельность, которая придает революционный характер древнейшему христианскому искусству и выявляет его в свете сознательного отрицания классического. Речь при этом идет не только о тематике изображений, но в не меньшей мере и о новом понимании искусства, получающего для людей новое значение, ибо оно строится на новом отношении к чувственному миру и духовному содержанию, на новом восприятии истины, красоты и величия. Ничто не является более ложным, чем разговор о безыскусственном или примитивном характере катакомбной живописи: это имело бы смысл только, если бы мы подходили к ней с масштабом художественного реализма и религиозного материализма язычески-классического искусства. Такой масштаб, однако, совсем неприменим, поскольку он основан на ценностях, к которым христианские художники не стремились, с которыми, наоборот, они боролись, которые они преодолели и заменили новыми, с ним прежнее или современное им языческое искусство совершенно несоизмеримо. Является ошибкой, когда рассматривают живопись катакомб как ремесленную, как создание второстепенных декораторов, которые огрубляли «хорошие» образцы классического искусства. Таких образцов не существует. То, что в катакомбной живописи художественно и содержательно является самым важным, то новое, чем композиционные и формальные изобретения и средства выражения отличаются от классических, означает не неумение или упадок, а воплощение новых художественных идей и намерений. Рассматриваемая с такой точки зрения катакомбная живопись воплощает духовный и художественный прогресс, уводящий в будущее, который в противоречии с упомянутой точкой зрения разрывает путы классической формальной традиции, ставшей, правда, и для языческого искусства того времени более или менее ремесленным балластом; его пытались согласовать с новыми идеями, но от него не были в состоянии вполне освободиться.
Катакомбная живопись в свете ее собственных ценностей также не может считаться примитивной или народной, как не является она и упадочным искусством классики. Древнейшие символические знаки, которыми христиане обозначали идеал спасения и мистическую общность, соответствовали позднеантичному движению мистерий, которое вливалось в христианство II в. и имело базу в социальных низах. Знаки эти были, однако, простым средством узнавания, больше эмблемами, нежели художественным изображением, и связаны они с живописью катакомб лишь постольку, поскольку они являются введением в ее символизм и сами входят в него. Но ни развитый круг образов катакомбной живописи, ни ее художественная сторона не могут быть выведены из этого одного источника. Так же, как сочинения Климента и Оригена отделены от писания святого Иринея знанием позднеантичной философии и всем интеллектуальным наследством древности, так и между живописью катакомб и скромными иероглифами христианских культовых мистерий лежит классическое искусно последнего периода его развития. Это касается не только декоративной системы. Равным образом недостаточно считать живопись катакомб соединением новых религиозных представлений со светским языческим искусством. То, что связывает искусство катакомб с современным ему языческим, гораздо значительнее, чем отдельные иконографические мотивы или декоративные схемы. Великое художественное движение, которое происходит в искусстве среднего императорского времени и которое можно рассматривать в качестве плода высшего образования и художественной культуры этого периода, обнаруживает свое действие также и в катакомбной живописи. Последняя представляет одно из проявлений этого движения, но отличается от языческих новых течений в искусстве тем, что, будучи связанной с новым религиозным мировоззрением, как его художественное выражение, она не довольствуется отдельными попытками сочетания старых норм с субъективным и спиритуальным отношением к окружающему миру, но всем движет стремление перенести искусство как целое в его глубочайших и высших предпосылках и целях в сферу чистой духовной идеальности. Другими словами, живопись катакомб олицетворяет в соответствии с определенной направленностью самое радикальное, прогрессивное и наиболее последовательное художественное течение III века, которое в стремлении одухотворить художественное изображение приходит к тем выводам, на которые языческое искусство не решилось и не могло решиться вследствие своей предопределенности, своей духовной направленности и своего прошлого.
Возможность того, что искусство катакомб продвинется так далеко, была заключена в трансцендентности христианского мировоззрения, позволившего христианским художникам преодолеть предметность, чувственное воздействие и природную закономерность. Так же возрастала и радикальность этого искусства и при этом не постепенно, с какого-то момента, а с самого начала, в резком противоречии с современным ему языческим художественным творчеством. В антиматериальности этого нового направления христианство нашло то восприятие искусства, что сделало возможным соединение его с христианским отношением к миру. И благодаря этому слиянию те новые передовые течения позднеантичного искусства, что были направлены на дематериализацию и одухотворение изображения, получили новое содержание, заключавшее в себе абсолютно новое понятие художественного, отрицавшее всю эволюцию античного искусства. Земная обусловленность, ограниченность во времени и пространстве, исходящее от чувственного ощущения духовное переживание окружающего мира, которые определяли поступательную эволюцию натуралистических основ античного искусства в его последний период, сменились независимостью от чувственного восприятия, безграничностью во времени и пространстве, переживанием вечности, преодолением любой природной закономерности, — т. е. теми новыми художественными характеристиками, что могли возникнуть лишь на останках античной культуры и ее наследия.
Таким образом, живопись катакомб означает решающий перелом в истории искусства. Выросшая на позднеантичной духовной и художественной жизни, она не только по содержанию, но и по форме и по всему пониманию художественных проблем является новой. Благодаря соединению прогрессивных художественных тенденций среднего императорского времени с ниспровергающими идеями и общим духовным наполнением раннего христианства возникает поворотное художественное течение, которое с полным правом могло бы быть названо христианским, т. к. его художественное отношение к классическому искусству аналогично соотношению новой религии и классического культа богов, классической философии и науки, всей духовной и материальной культуры древности. Во всей предшествующей истории искусства не найдется периода, сопоставимого с этим, ведь все возможные аналоги бледнеют, когда глубже начинаешь изучать художественное значение этого времени.
Вследствие этого и при ответе на вопрос, где возникла эта новая христианская живопись, проявляются непреодолимые сложности. Бросается в глаза, что ее памятники дошли до нас и в большом количестве почти только в Италии, внеитальянский же материал скуден, относится к более позднему времении обычно родственен только внешне. Этот аргумент, конечно,не слишком убедителен, так как вообще возможно, что памятники этого направления не сохранились в тех областях,где их не предохранил от уничтожения обычай устройства катакомб. Многое говорит и за александрийское происхождение отдельных символов, но этого недостаточно для выяснения происхождения нового стиля, радикализм которого, кажется, говорит больше в пользу Рима, чем торговых центров старой эллинистической культуры. Основные воззрения нового течения, во всяком случае, во все последующее время продолжали действовать на Западе, в то время как на Востоке они никогда не смогли всецело победить более древние традиции.
По всей вероятности, художественный цикл, который в таком законченном и полном виде дошел до нас в катакомбах, не был единственным циклом доконстантиновской христианской живописи; это можно заключить по следам циклов, сходных по идее и формально с катакомбными фресками, но все-таки отличных от них, циклов, которые не один раз можно проследить в искусстве константиновского периода. При данных обстоятельствах, однако, можно предположить, что христианское искусство третьего столетия развивалось в различных центрах на основе единой новой тенденции, но различалось по видам, из которых особенно обильно представлен в дошедшем до нас материале только один вид — итальянская живопись подземных кладбищ. Если это так, то вопрос о месте возникновения новых художественных идей усложняется до такой степени, что мы едва ли можем надеяться получить когда-либо на него ответ. Нам приходится удовлетвориться фактом, что во времена до Константина существовала христианская живопись, в основе которой лежало противоположное классическому восприятие, и в ней — притом с самого начала — были сделаны самым решительным образом шаги по пути, к которому впоследствии постоянно возвращалось христианское искусство.
Бросим еще взгляд на последующие столетия. Как мы слышали, в первой половине четвертого столетия снова возгорелась борьба против христианского изобразительного искусства, которая возникла при изменившихся обстоятельствах. Христианство перестало быть преследуемым или терпимым меньшинством, стоящим вне государства духовным движением, а сделалось государственной религией, т. е. само взяло в свои руки бразды правления. Подобный процесс никогда не проходит без компромиссов, и мы можем наблюдать это также и в области искусства. Константин Великий, первый император, который учел новые обстоятельства, творит молитвы перед «Лабарумом», христианским символом своего государства; то, чего когда-то боялись писатели второго столетия — перенесение поклонения образам в христианство, — снова стало ощутимым. Отсюда и возникает страстный протест строжайших богословов. Но на этот раз тщетно. Частичного компромисса с язычеством нельзя было избежать, и второе столетие христианского художественного развития (IV в. н. э.) характеризуется классической реакцией. По содержанию она выражается в том, что на место чисто символических и аллегорических тем встают взятые из официального языческого искусства репрезентативные и исторические изображения. Получают распространение воззрения об антропоморфном присутствии Христа и святых, и их изображение начинает связываться с представлением, на которое можно смотреть как на применение к христианским потребностям классической культовой мысли, нашедшей себе последнее «языческое» выражение особенно в обожествлении императоров. Христос изображается как властитель мира, как настоящий светский повелитель; он издает законы, сидит на троне, посредине своих сановников, облик и поведение которых согласованы с их светской миссией. Такою предстает нам репрезентативная христианская живопись в обеих «Законодательных» сценах из святой Констанцы, из крещальни святого Иоанна в Неаполе, в Сан Аквилино в Милане и в святой Пуденциане (Рим). В то же время библейские рассказы одеваются в героический стиль римских или позднеэллинистических языческих эпических или триумфальных повествований. Миниатюры кведлинбургских фрагментов Библии, или изображения древнехристианского свитка Иисуса Навина, или мозаики нефа в Санта Мариа Маджоре стоят гораздо ближе к изобразительному эпосу римских триумфальных колонн или к иллюстрациям древнейшей рукописи Вергилия в Ватикане или «Илиады» в Милане, нежели к фрескам катакомб; поднятая над всеми земными событиями духовность последних заменена изложением исторических, ограниченных местом и временем событий. И подобно тому как это было в репрезентативных, так и в исторических изображениях, рядом с этой попыткой перебросить мост между новым христианским искусством и старой классикой, происходит усвоение формального аппарата, который был в поздней античности предназначен для подобного рода изобразительности.
Это частичное «обращение в язычество» древнехристианского искусства не было, однако, полным, и противопоставленное языческому христианское художественное мировоззрение III в. продолжает действовать не только наряду с этим процессом, но и в нем самом, мало-помалу преобразуя языческие элементы в своем духе, так что христианское искусство V в. снова приобретает новый характер.
В репрезентативных композициях снова получают перевес символические изобретения. При этом речь не идет больше (или не только) об олицетворении сверхчувственной веры в потустороннее посредством условной передачи ее простейших основных мыслей, как в III в.; с символикой теперь связывается огромная богословская система истории откровения и искупления человечества, христианской доктрины и церковного авторитета; благодаря этому символика сейчас гораздо больше, чем в искусстве катакомб, переплетается со светскими мотивами. Если в катакомбах искусство было в этом отношении зеркалом молитвы благочестия и чисто эмоционального духовного подъема над земным, то теперь оно становится глубокомысленным и поучающим, становится образно представленной теософией и догматикой, получающими слово также и в исторических сценах. Мы можем наблюдать эту перемену как в литературе — в сочинениях Пруденция, в дидактическом истолковании картин у Паулина Ноланского, в известном письме святого Нила, — так и в сохранившихся памятниках — на мозаиках святой Сабины, на арке церкви Санта Мария Маджоре, в святой Матроне церкви Святого Приска в Риме, в мавзолее Галлы Плацидии, в крещальне православных и в архиепископской часовне в Равенне, в капелле святого Виктора в Сант-Амброджо в Милане и в других памятниках, первоначальную композицию которых мы знаем по копиям (как со св. Агаты в Субуре или на абсиде базилики св. Павла «за стенами города» в Риме) или в современном реставрированном виде.
Исторические сцены принципиально изменились также в другом отношении. Новое будет для нас ясно, когда мы сравним миниатюры венской «Книги Бытия», самого значительного памятника этого совершающегося в пятом столетии процесса, с фрагментами Библии из Кведлинбурга или свитком Иисуса Навина. В этих последних, как было уже указано, все образное содержание развивается в рамках классического искусства. Библейские герои — это античные героические образы, созданные по подобию античных идеалов телесной красоты и совершенства, в соответствии со стилем и воплощением их наиболее важных действий. В них решают сила и воля; так что они являются христианскими представителями классического понятия величия, достоинства и человеческой возвышенности, как это и соответствовало языческой реакции IV в. Но совсем иначе в миниатюрах венской «Книги бытия». Здесь исчезает героический характер всех древнейших иллюстраций, изображавших значительные эпические события. Тот, кому неизвестны изображенные сюжеты, мог бы подумать, что речь идет о безмятежных буколических сценах и повседневных незначительных историях или поэтических вымыслах. Пастухи пасут стада или собираются ночью у своих шатров, женщины достают воду из колодца; по дороге медленно тянется караван; больной лежит на постели, окруженный друзьями; мужчины совещаются или говорят с каким-то властителем — нигде нет содержательной концентрации, больших событий, героев, которые бы выступали все снова и снова, чтобы приковывать и держать в постоянном напряжении фантазию зрителя. Новым является не жанр — он достаточно часто встречается и в предшествовавшем классическом искусстве. Новое скорее в том, что простые сценки играют ту же роль, какую в античности играли подвиги богов и героев. Как и эти последние, они уводят нас в мифические времена и излагают примечательные события; только их содержанием является не слава, основанная на физических или материальных преимуществах, не материальное обожествление, а история избранного народа, который во благо всего человечества направляется божественной рукой (это также и наглядно изображается в некоторых миниатюрах) через многочисленные повороты судьбы и опасности вследствие самому этому народу неизвестного, провидением определенного предназначения в вечности. Исторические сцены получают здесь в силу этого новое значение:
Необычайное, эпически значительное и возвышающее отыскивается теперь не в пределах естественных физических и духовных особенностей людей, а во вмешательстве сверхъестественных и сверхчувственных сил.
Героические фигуры и действия как бы низводятся с трона; новое толкование исторических событий не нуждается в этих фигурах, ибо решающим фактором в судьбах человечества сделалось божественное провидение, выявленное не в определенных идеальных фигурах, а во всем земном бытии — касается ли дело истории народа, или его духовных вождей, или судьбы отдельных людей. Образы превращаются в свидетельства, поэтический вымысел заменяется понятием исторической правды. Как пишет Пруденций, «non est inanis aut anilis fabula, historiam pictura refert, quae tradita libris veram vetusti temporis monstrat findem»[7] . Здесь, с одной стороны, принципиальный трансцендентальный идеализм нового христианского искусства побеждает языческое обожествление жизни, а с другой стороны — перебрасывается мост к реальностям земного бытия, ведущий гораздо дальше тех предметных и формальных границ, с которыми был связан классический культ богов и героев.
Таким образом, возникает еще в рамках античности, и все-таки совершенно не античный, целый мир новых образных композиций. Возникают большие христианские исторические циклы картин, к которым вновь и вновь возвращалось искусство средних веков. Чрезвычайно важно, что они возникали во время, когда новые образные представления были еще связаны с общими формальными достижениями классического искусства, которые тем самым были переданы новой христианской культуре как основополагающие элементы изобразительности. Правда, они потеряли большей частью свой классический характер уже в V в. Ибо в той же мере, в какой по своим предпосылкам и задачам христианское восприятие вытесняет классическое, в такой же мере и формальные идеалы античного искусства теряют остаток своего старого значения, сохраняемого ими и в христианском одеянии, благодаря реакции IV в. С победой «истины» над inania rerum somnia[8] Гомера и Апеллеса стремление к красоте и гармонии телесных форм теряет всякое влияние на фантазию, при этом не к пользе натуралистического подражания действительности, а ради некоей антинатуралистической типичности, приближающейся к образцам природы лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания новых реалистических сюжетов. В то время, как раньше признаком героя было его телесное превосходство, теперь вообще больше не обращают внимания на индивидуальные черты. Неважно, как выглядел тот или другой персонаж в тех исторических событиях, которые только и считаются сейчас достойными изображения, — все решает божественная воля, а люди являются лишь ее орудием.
Подобным же образом вся окружающая обстановка доводится до отвлеченной схемы. Не возвращаясь к абстрактной идеальности представления о пространстве в живописи катакомб, эти схемы ограничивают «обман» натуралистических подробностей только намеками, задача которых — не подражание реальным формам и явлениям, но которые, подобно надписям на сцене во времена Шекспира, только указывают, в какой ситуации совершалась последовательность чудесных и достойных знания событий, ограниченных во времени и месте и все же важных для всех людей, т. е. в этом cмысле универсальных событий, не «ложных», а исторически неоспоримых.
Вместе с этим живо и антиматериалистическое и сверхъестественное направление, которое мы встретили в живописи катакомб — преддверии христианского искусства — в качестве обоснования и программы последнего. По отношению к реакции IV в. оно остается не только анти-античным, но продолжает и дальше свое стилистическое развитие, постепенно превращая в течение V в. свои композиции и формы в совершенно далекий от природы, основанный на возможном преодолении телесного воздействия великий иератический стиль; его высшей точкой в пределах искусства древности является искусство VI в. В мозаиках церкви Сан Витале или Аполлинария Нового в Равене, в церкви свв. Косьмы и Дамиана, в оратории святого Венанция в Риме, как и в миниатюрах кодекса Россано и других рукописей VI в., замыкается круг полнейшей переоценки искусства, которая началась в катакомбной живописи.
Исторический процесс, который заполняет триста лет, нельзя больше толковать как «упадок» искусства, но это и не последовательное общее развитие, как думают сейчас. Этот процесс воплощает возникновение, борьбу и победу новой идеи в области искусства, нового понимания искусства, идеи и понятия которого революционно противопоставили старому пониманию искусства духовную концентрированность и чистоту формы; они представляют параллель новой вере и сами воплощают новую веру. Типичным для подобных событий образом, по мере того, как новое течение распространяется и занимает ведущую роль в художественном творчестве вообще, оно должно идти на уступки традиционным воззрениям и объединяться с консервативными течениями, чтобы в конце концов все же получить перевес и изменить все искусство в своем духе. Тем самым исчезает и противостояние старого и нового искусства. Остается только одно искусство — и оно больше не классично: старый мир и в области искусства принадлежит теперь уже исчезнувшему и преодоленному прошлому. И на новой основе начинают действовать новые силы.
II ИДЕАЛИЗМ И НАТУРАЛИЗМ В ГОТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ И ЖИВОПИСИ.
ВВЕДЕНИЕ
Все более глубокое вникание в политическую, правовую, хозяйственную и религиозную жизнь Средних веков принадлежит, без сомнения, к числу наибольших заслуг нового и новейшего исторического исследования. По выражению Белова, историческая наука никогда не была так объективна, как сейчас, причем под этим надо понимать не только поднятую до высшей меры достоверности критику источников. Многосторонность мировоззрения и способность приблизить к нашему пониманию давно исчезнувшие, чуждые нам по существу периоды, никогда не были раньше так велики. И нигде не виден яснее этот прогресс, который возник в беспрестанном взаимовлиянии расширения и углубления исторического изучения, с одной стороны, и растущего богатства нашего культурного сознания — с другой, чем в трактовке истории Средних веков.
Но это ни в коей мере не касается истории средневекового искусства. Правда, новая литература об искусстве Средних веков велика, хотя еще далеко не так велика, как об искусстве Античности или Возрождения. Нет недостатка также и в множестве новых фактов, относящихся ко всем областям средневековой художественной практики, фактов, которые закладывают во многих отраслях образцово-прочный (стоит только указать на монументальную работу Дехио о церковной архитектуре средних веков) фундамент для всякого позднейшего научного использования материала.
Но внимательный наблюдатель, конечно, заметит, что истолкование фактов никоим образом не поспевало за обнаружением их.
Особенно это бросается в глаза в рассмотрении произведений средневековой пластики и живописи. Что касается изучения внешней эволюции, наблюдения над временными и местными связями, выделения и обоюдостороннего разграничения школ, вопросов иконографии и критического обращения с памятниками, то в этом отношении сделано много превосходного; к сожалению, мало сделано в области историко-художественного объяснения общей художественной данности, которую памятники воплощают как индивидуально, так и в целом. И едва ли что-либо может и сегодня удовлетворить нас с этой стороны.
Достойная всяческого уважения грандиозная попытка Шнаазе — вывести средневековое искусство, как целое, из его «внешних и внутренних мотивов», — сделана в середине XIX в. и покоится большей частью на предпосылках, которые должны быть сочтены сейчас превзойденными и несостоятельными. Но как мало мы с тех пор исторически приблизились (при всем более точном знании традиции) к художественному смыслу средневековых скульптур и картин! Как мало научились мы понимать их в их своеобразии, как свидетельства художественных стремлений, специфичных для средневековья, но не менее важных и объективно замечательных, и оказавших на дальнейшее развитие искусства не меньше влияния, чем искусство классической античности или итальянского возрождения. Внутреннее величие и творческая сила большей частью признаются только за средневековой архитектурой, произведения же изобразительного искусства допускаются сюда только в ограниченной мере и только опосредованно[9] . За немногими исключениями (о которых мы еще будем говорить), сознательно или бессознательно (против чего восставал уже Шнаазе), их воспринимают в большей или меньшей степени как «только исторические документы», и «свидетельства примитивных степеней развития», как относительные ценности переходного времени, и только в самых редких случаях их исследуют с точки зрения их особого средневекового художественного содержания. Когда же стараются отдать должное художественным достоинствам средневековых статуй или живописи, то слова часто звучат пусто, как условные формулы вежливости. С ними связывают оценочные представления, которые произвольно перенесены на средние века. Это, естественно, влияет и на общую картину средневекового искусства, которая делается оттого неопределенной и поразительно безжизненной, делается царством туманных, хаотических сумерек, из которых выделяются — в сильной, но, скорее, неопределенно воспринятой, чем ясно очерченной действенности и значительности — отдельные вершины художественного творчества, великие соборы, статуи Реймса, Наумбурга, витражи Шартра. В то же время большинство памятников представляется безразличной массой, с которой связываются антикварные вопросы, неясные представления стиля или современные, основанные на ощущении ассоциации, чему, однако, почти всегда недостает того исторического и художественного оживотворения, которое заставляет нас даже самое незначительное произведение греческого искусства воспринимать как необходимый плод определенного, замкнутого и самоценного, духовного и культурного развития.
Причины этого положения дел становятся для нас ясны, когда мы отдаем себе отчет, как создан масштаб, по которому обычно оценивается художественное значение средневекового пластического или живописного создания. Если оставить в стороне вопросы о содержании, то надо признать, что средневековое произведение пластики или живописи главным образом обсуждается в том плане, является ли оно еще античным или уже верным природе; при этом под «верностью природе» обычно понимаются те требования предметной объективности описания и передачи форм, которые вырабатывались в искусстве XV и начала XVI вв., и с тех пор в общем представлении остались низшею ступенью того, что можно требовать от предметно верного и естественно правдивого изображения. Другими словами, о средневековой живописи и скульптуре судят с точек зрения давно минувшего прошлого или гораздо более позднего развития и забывают, что между ними лежали столетия, заключающие в себе целый мир. По существу — это точка зрения итальянских теоретиков искусства эпохи возрождения и барокко, до сих пор играющая свою роль, это — теория об упадке и возобновлении искусства, теория, возникшая из художественного осуждения готики в эпоху кватроченто, пережившая чувствительно романтическое и историческое открытие средневекового искусства в прошлом столетии, а теперь только принявшая новые научные формы. Конечно, было и будет плодотворным следить за продолжением жизни античности в средние века и за начинающимися в разное время, в различных областях движениями возрождения, византийскими и другими влияниями. Исследования средневековых ранних этапов верности природе, допускающей объективную проверку, могут быть одинаково интересны и важны, как хотя бы изыскания относительно состава позитивных, естественнонаучных знаний средневековья. Но не надо думать, что исследования такого рода могут каким-либо исчерпывающим образом вскрыть «отставание» и «прогресс» в средневековом искусстве и осведомить нас насчет его общего историко-художественного положения, его существа и его целей. Дело не в том, что (как это утверждалось некоторое время тому назад в парадоксальном противоречии общепринятому методу) натуралистические завоевания средневекового искусства были несущественны по сравнению с лежащими в их основе художественными задачами. Но эти натуралистические завоевания были так многосторонне и разнообразно связаны со специфически средневековыми предпосылками и проблемами, что, будучи оторваны от них, они не могут удовлетворительно объяснить ни устремлений воли и способностей средневековых художников в другом направлении, ни быть понятыми правильно сами по себе. Подобно принципу верности природе обстоит дело и с отдельными композиционными признаками, которые мы (под влиянием классического искусства и исходящих от ренессанса художественных течений) привыкли рассматривать в качестве неотделимых от понятия каждого «больше уже не примитивного» образного построения, но которым далеко не всегда и всюду воздается должное. Во многих отношениях средневековая пластика и живопись просто несоизмеримы с античной или нового времени, как, например, крестовые походы не могут быть сравниваемы с античной или новейшей колониальной политикой. Если их сопоставить друг с другом, то было бы нетрудно доказать,что античность пережила свой официальный конец и что возрождение началось до своего официального начала, но при этом проходят мимо того, что было специфично только для средневекового изобразительного искусства и в чем состояла его собственная ценность и принципиально новая направленность, данные им пластическому и живописному творчеству.
Это, естественно, не должно означать, что никто никогда не занимался специфически средневековыми художественными качествами хотя бы романских или готических скульптур и картин. Их неоднократно выделяли и исследовали по отдельными памятникам, школам и периодам. Но как раз в этом господствующая неуверенность, колеблющаяся между субъективной подчеркнутостью и бессвязными наблюдениями, ясно доказывает, как не хватает прочных основ и исторически выясненных точек зрения для изучения средневекового искусства. Это начинают сейчас понимать, и все больше вступает теперь в свои права потребность преодолеть эту неуверенность углубленным пониманием художественных ценностей, лежащих в основе средневекового искусства и характерных для него, — целостным и живым постижением его общего характера, чем в известной мере обладал период романтизма. Дело, однако, в том, что это романтическое восприятие было фантастично и односторонне строилось на духовных течениях современности. Поэтому когда художественный натурализм и исторический критицизм стали определяющими и в отношении к старому искусству, романтическое восприятие средних веков должно было мало-помалу распасться без того, чтобы его в последующем заменило какое-либо иное. Но как быстро и сильно в последние годы распространилось осознание этого пробела и недостаточности прежнего воззрения, доказывает благоприятный прием попытки Воррингера, пожелавшего одним взмахом приподнять занавес, за которым была доселе скрыта для современного зрителя художественная сердцевина средневекового искусства. Не считаясь с историческими фактами, произвольно ограничившись одною, правда, очень характерною чертой средневекового искусства, Воррингер положил в основу своих блестяще написанных размышлений построенное по приемам «психологии народов» понятие «готической формальной воли»[10] . Последняя отличает все то, что создали собственной силой в области искусства новые северные народы, от древневосточного и классического художественного творчества, так что на готику можно смотреть как на скрытую или явную отличительную черту всего художественного развития, вплоть до того момента, когда оно было прервано влиянием итальянского возрождения, позднее — с момента и в той мере, как оно освобождалось от этого влияния. Сколь ни ослепительными представляются на первый взгляд доказательства Воррингера, однако при ближайшем рассмотрении его исходная точка зрения (существование априорной, враждебной действительности и потому также всякому натурализму, «готической» концентрации искусства новых народов на моментах сверхчувственной повышенности выражения) превращается в произвольную конструкцию. Она может приблизить к нашему пониманию многие важные феномены средневекового искусства, но, будучи поставлена лицом к лицу со сложным историческим положением дел, представляется еще фантастичнее, чем абстрактные стилевые понятия романтиков. Более плодотворный путь избрали некоторые отдельные исследователи в области древнехристианской и средневековой архитектуры и скульптуры, к которым мне хотелось бы возвратиться позднее. Но и они дают не больше, чем только разрозненные предпосылки для независимой от общепринятых и несостоятельных представлений концепции художественного значения средневековой пластики и живописи.
То обстоятельство, что мы с таким трудом находим путь к более близкому пониманию того, чем же были статуи и живопись для средних веков в художественном отношении, основывается в первую очередь на нашем недостаточном знании общих духовных предпосылок средневекового искусства или на недостаточном учете последних. Правда,постоянно указывается на то, что средневековое искусство покоилось всецело на некоем религиозном мировоззрении. Пои этом не обращают внимание на то, что это мировоззрение только негативно, но и позитивно воздействовало на развитие искусства и тем самым создало те точки зрения и ценности, что несоизмеримы со всеми предшествующими. Оценивая их с точки зрения истории искусства ниже, чем другие, мы оттого еще менее правы, ведь эти ценности решающим образом повлияли на последующее искусство нового времени. Вряд ли сегодня кто-либо усомнится в том, что средневековая теология была не бесплодным застоем в истории духовного развития, не связала человеческий дух жесткой догматикой, как могли это представлять себе ранее, но ознаменовала собой важный этап в духовном развитии европейских народов, на котором сегодняшняя духовная жизнь покоится не менее, чем на Ренессансе. Это же относится и к средневековому искусству.
Глубоко идущие различия, которые при всех аналогиях все-таки повсюду принципиально отличают искусство нового времени от классического, имеют по большей части свои корни в средних веках и притом как раз в тех моментах развития средневекового искусства, которые, будучи в одинаковой мере противоположными античности и далекими от всякого нового мышления и чувствования нового времени, объясняются своеобразным отношением средневекового человека к чувственной жизни.
Но как мы сумеем понять и научимся толковать это явление, не поддающееся как будто совсем нашему вчувствованию, ибо возникло оно из художественного настроения, с которым мы едва ли можем найти непосредственные точки соприкосновения? В то время как античность, благодаря давней и целенаправленной духовной работе, сделалась неотторжимой частью нашей культуры и оформила большую часть того, что выработалось после победы возрождения в области общих духовных точек зрения; в то время как она, в существенном, продолжает жить в нашем интеллектуальном и художественном сознании, духовная культура средних веков остается для нас, при всем воодушевлении романтиков, в полном смысле слова чужим миром, к наглядному образу которого мы должны еще с трудом пробиваться. В этом отношении может оказать несомненно неоценимые услуги предметный состав памятников, т. е. чувственное отражение того, что представлялось средневековью достойным художественного образцового оформления и увековечения из всего запаса духовных и материальных благ, и я не хочу упустить возможности подчеркнуть, что то самое важное, чего мы можем ожидать в этом отношении от истории искусства, должно проистекать из ее собственных задач, из наблюдения художественных устремлений и средств выражения в их имманентном и автономном развитии. Это, однако, совершенно не означает того, что, преисполняясь гордостью за подобное решение искусствоведческих проблем, следовало бы замкнуться лишь в круге собственной деятельности, к чему иногда призывали в последнее время, ведь для оценки общей духовной ситуации средних веков можно было бы привлечь результаты других научных исследований, будь то прогрессирующая разработка других областей духовной жизни средневековья или изучение литературных памятников того времени. Это требуется не для того, чтобы, как это пытались сделать во времена Шнаазе, установить причинные взаимосвязи между художественными явлениями и возникновением новых хозяйственных, социальных, религиозных обстоятельств (что уже давно признано неплодотворным), и не для того, чтобы выводить духовное содержание произведений средневекового искусства, к примеру, из писаний великих средневековых теологов, чье воздействие на искусство, если таковое имело место, едва ли является исторически как-либо постижимым. Однако то, что может предложить нам ценнейшую отправную точку для истинной оценки средневековых произведений искусства, ее в первую очередь ускользающего от нашего глубокого понимания духовного содержания и обусловленной им своеобразной и исторически бесконечно внешней эволюции отношения к трансцендентной идее, с одной стороны, к реальным фактам и благам жизни и природы, с другой, т. е. важнейшие источники внутренних преобразований средневекового искусства, все это, естественно, не было ограничено только искусством, но совокупно всеми течениями времени и историческими фактами на которые оказывало влияние лежащее в их основе средневековое христианское мировоззрение. Однако мы встречаемся и с такими моментами развития, когда под покровом изображения полностью теряется связь с тем, чего обычно требуют от искусства; по большей части это либо недвусмысленно выражено в самих памятниках, либо из исследования соответствующих областей становится ясно, что вряд ли можно подвергать сомнению значение для искусства аналогий из таких сфер как: средневековая литература, большие теологические споры и системы, научные устремления и общие элементы образования в эпоху средневековья. Теоретическим комментарием к возрождению идеалистического монументального искусства в средние века и к заключенному в нем новому вдохновению природой являются не такие жалкие подспорья, как работы мастерских — «книги рецептов»[11] , на которые обычно ссылаются, но работы великих средневековых мыслителей, для которых проблема соотношения человека и мощных духовных абстракций и определенное ею восприятие мира чувств стояли в самом центре духовных интересов.
Имеющие в истории искусства нового времени решающее значение художественные цели и взаимосвязи предстают во многом более ясными, будучи дополненными в то время, когда они были значимыми, рассмотрением художественно-теоретических вопросов. Эти последние рассуждения, вне зависимости от того, как много они несут в себе формально или произвольно сконструированного, будут иметь своим последствием то, что позднейшие историко-искусствоведческие исследования с самого начала смогут опираться на твердые знания о важнейших изменениях в восприятии художественных проблем. Все это почти полностью отсутствует в средние века, когда формальные задачи во многом должны были подчиниться всеобщему духовному содержанию, однако частичной заменой могут служить нам посвященные этому содержанию работы великих теологов.
Если даже высшие цели искусствоведческого размышления везде одинаковы, то все же, без сомнения, великие периоды истории искусства требуют разной научной разработки, отношения, и поэтому было бы просто неумно отказываться от тех названных вспомогательных средств лишь оттого, что они лежат несколько в стороне, или потому, что их не всегда удачно применяли. Ошибаются тогда, когда используют их без отбора для мнимо окончательной картины художественных обстоятельств определенного времени, но они могли бы нам помочь эвристически, как я и попытаюсь показать в последующем исследовании одного конкретного вопроса, могли бы помочь выйти на новый уровень в оценке произведений искусства, что, как уже было выше изложено, должно рассматриваться сегодня как одно из важнейших пожеланий в области изучения искусства средних веков.
ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Идеализм готического искусства. Что понимать под этим?
Отличный от идеализма классического искусства, идеализм готического искусства имел свои корни в спиритуализме христианского мировоззрения и покоился на победе абстрактно-духовной значительности, над формальным совершенством, на господстве духа над материей. Это господство было, правда, не ограничено одной готикой (оно наблюдается на протяжении всего средневековья) и даже, будучи старше ее, являлось характерным продуктом позднеантичного духовного развития принадлежало к числу мостов, связывающих христианство с классической культурой. Чисто семитическое, т. е. отрицающее всякую связь между божественной идеей и образным представлением, христианство было бы для средиземноморских народов столь же непредставимым, сколь нелегко для христианства было бы принять материальный антропоцентризм греческо-эллинистического искусства. Однако в этот момент неоплатоническая философия и новое иллюзионистическое искусство и предложили желанный компромисс и сделали возможным соединение новых религиозных идей с культурным миром на почве искусства. Искусство, которое знает тело только как бесконечно текучее и меняющееся оптическое впечатление, которое все больше превращает реальное бытие в отражение субъективного ощущения, могло также и в другом направлении передвинуть центр тяжести в художественном творчестве, поставить ударение на духовном субъективизме и заменить сенсуализм раннего классического искусства господством спиритуализма, на котором должно было бы быть построено все средневековое искусство[12] . И из этой новой ориентации фантазии, благодаря которой также стал возможным и вход германских народов в круг старого средиземноморского искусства, и возникло, меняясь, шаг за шагом, в резких переменах, новое искусство. Оно представляется регрессом, потому что оно двигалось в другом направлении, нежели то, которое мы до тех пор единственно привыкли признавать за движение вперед. Это новое искусство отнимало у художественных форм все, что могло бы быть воспринято как выражение художественного апофеоза чувственного облика человека, и рациональных движущих матернею сил, для того чтобы математизировать мертвую архитектоническую массу, чтобы принципиально идеализировать ее в ее мощной аморфной «варварской» бесформенности «тайной» конструкцией и ритмикой, чтобы претворить ее в выражение абстрактных идей с тем, чтобы требовать от наглядного образного изображения более глубокого смысла принципиального одухотворения, с тем чтобы поднять его другими словами, от объективного культового образа — in ovo[13] и в решающей степени для всего будущего — до степени исповедания. Все это и многое другое, что с этим связано, заставит нас, — когда мы попробуем положить в основу рассмотрения объективные исторические точки зрения, — воспринять в новом свете также и раннесредневековое и романское искусство, воспринять не только как результат античной традиции, как опыт и искание новых натуралистических и технических решений, но как самостоятельную фазу большого спиритуалистически-идеалистического художественного периода, создавшего для развития человечества новые ценности и основы как в сфере искусства, так и во многих других областях культуры.
При этом готический идеализм существенно отличался от этого позднеантичного и средневекового антиматериализма. В то время как для последнего материя была ничем, абсолютно незначительным или по меньшей мере второстепенным (что следовало из духовного возвышения через искусство) и по возможности элиминировалась, то в позднем средневековье соотношение между чувственно постижимым и надчувственным в высшей степени усложняется.
И это относится не только к искусству — для прояснения этой проблемы могло бы быть полезным, если бы мы обрисовали это соотношение, исходя из всего мировоззрения позднего средневековья. К гуманистической литературе восходит та кардинальная ошибка, когда полагают, что humaniora[14] были единственным наследием античности для последующего времени. Humaniora были разрушены основанными на естественном праве милитаристскими и политическими, национальными и захватническими государствами, и остались лишь membra disjecta*; коренящийся в их наивном материализме смысл был утрачен, и они лишились своего значения, как письменность, которую не умеют читать. То, что их заменило, было учением об абсолютной ценности человеческой души, исполненным этоса, основанного не на силе или праве, но на убеждении и общности образа мыслей. Это учение было совместным продуктом античной философии и христианства, и в том, что оно переняло главенство, заключается значительно больший разрыв, чем во внешних обстоятельствах, разрыв, отделяющий новую эпоху и новое человечество от античности. Новые духовные цели как единственная истина и руководство представлялись этому человечеству настолько значимыми, что все остальное сразу же было отброшено в сторону как нечто второстепенное и незначительное. Античная культура распалась не потому, что потеряла лучших (Seeck), но потому, что для лучших выросли другие задачи, отличные от тех, что содержались в античных институциях и в античном восприятии жизни. Позитивные науки, национальные литературы, натуралистические искусства распались, т. к. великих мыслителей стала занимать всеобщая, выходящая за пределы названных тем постановка вопросов. И то, что эти мыслители сделали, было значительно больше, чем лишь внутреннее и внешнее выстраивание новой религии: если античность, по словам Дильтея, произвела на свет чувственно-эстетическую культуру, то благодаря властной многовековой концентрации мыслей и фантазии на чисто спиритуалистических идеалах (что характеризует духовную жизнь христианской античности и раннего средневековья) стало возможным достижение того пронизывания всех жизненных соотношений и проблем чисто духовными ценностями, тот перевес исходящих из субъекта объективных истин и этических чувств, что означало важнейшую предпосылку всего дальнейшего культурного прогресса.
Это смещение центра тяжести от чувственного восприятия и от покоящейся на воле и власти организации жизни к основанной на духовных течениях и чувствованиях не обладало бы столь сильным воздействием, если бы оно не начало свое победное шествие в качестве обязательного религиозного требования, знающего лишь одну, надприродную цель. К тому же безграничный спиритуализм, гробница старых, обесцененных им культур, должен был по мере своего проникновения в церковной форме во все жизненные состояния вступать во взаимодействие с реальными соотношениями, освободившимися в результате великой духовной катастрофы от старых классических культурных условностей и по-новому развившихся под воздействием новых народов. Из этого выросла, однако, та проблема, в которой перекрещиваются все духовные интересы средних веков, проблема, занимавшая всех мыслителей средневековья и заключающая в себе ключ ко всему средневековому мировоззрению и миропорядку: проблема соотношения между надчувственными идеалами и «миром», между естественным и сверхъестественным законом, между абсолютным духовным принципом трансцендентного жизненного предназначения и всем тем, что ему противопоставляют природа, жизнь, историческое развитие с его земными благами и предпосылками[15].
Из этой проблемы или, лучше сказать, из этого комплекса проблем развивалась примечательная система позднесредневековой духовной жизни, исходным пунктом и одновременно воплощением которой была средневековая церковь — хранительница и посредница благодати и откровения, тех глубочайших и идеальнейших духовных благ, что, согласно христианским воззрениям, стояли выше всех остальных. Однако в то же самое время и именно благодаря отмеченному выше церковь была и посредницей в полной переоценке всех мирских ценностей. Она, церковь, покоилась на теософском представлении о божественном государстве, на представлениях о потустороннем мире. Эти последние, однако, обрели в соответствии со стоическим наследием, под воздействием обстоятельств и прежде всего вследствие последовательной, самостоя-ной переработки и приспособления основополагающих христианских идей не только негативное, но и позитивное отношение к земному миру с его благами и правами, задачами обстоятельствами. Эти представления уже не отрицали земной мир совершенно и во всем, как это было в раннем средневековье, но дали ему новый смысл и содержание. Мир был по-новому открыт и обрел новое значение не из новых начал или старых остатков, но принципиально, исходя из точки зрения всепроникающего средневекового спиритуализма; возник новый светский этос, новая наука, новая поэзия, новое мировоззрение, главной чертой которого является религиозный, философский и исторический релятивизм. Жизнь обрела новую собственную ценность как место действия совершенно достойной работы, природа — новое значение как свидетельство божественного всемогущества и мудрости. Природные, социальные и политические учреждения с их ступенчатой системой обязательств и прав включаются как творение провидения и как необходимая промежуточная ступень надземно предопределенного развития человечества в выстроенный до самых высших и конечных последствий мировой институт церкви. И эту церковь можно рассматривать (при том, что она часто была принуждена к насильственному или софистическому выравниванию противоречий) в качестве первой большой осуществленной и в своей дерзости и энергии непревзойденной попытки объединить всю культуру с ее естественными и природными обусловленностями, исходя из духовных основ и с точки зрения идеалистического объяснения мира, объединить в одну единую духовную организацию человечества.
Эта церковь основывалась на важнейших философских и этических завоеваниях древности, на Платоне и Аристотеле, на Цицероне, на Стое и на римском праве, на развитии христианской идеи так же, как и на всех различных новых территориальных и национальных элементах образования и культуры[16].
Результатом этого соединения, последовавшего, подобно слиянию гетерогенных химических веществ, при высокой температуре, под давлением развившегося до высшей энергетики и концентрации отношения к основным проблемам бытия, было, однако, нечто абсолютно новое и самостоятельное. Возникла не просто Politeia или civitas Dei[17] , как о них ни Платон, ни Августин дерзостней и не мечтали, но произошло полное преобразование всех путей к познанию и к нравственному сознанию, родилась новая, целостная, мощная система мыслей и чувств, в которой была переработана вся масса старых духовных ценностей, система, в которой содержались ростки всех как рационалистических, так и идеалистических течений нового времени, система, в которой античность была не только отодвинута на задний план, но потенциально, в качестве настоящего, навсегда преодолена.
И эта примечательная, бесконечно искусственная и сложная система отражалась в искусстве позднего средневековья. Его часто называли, обыгрывая тонкость его конструкций, окаменевшей схоластикой, что справедливо лишь в той мере, что речь идет о параллельных явлениях более глубоко лежащего всеобщего культурного переворота. И в готическом искусстве находим мы то фундаментальное примирение между надчувственным толкованием жизни и относительным признанием жизни, что лежит в основе этого переворота. Свое наиболее полное и высшее выражение это искусство нашло в громадных церковных постройках. Но не потому, что, как древнеегипетское, это искусство было чисто иератическим, да и в столь же малой степени вследствие того, что из религиозного искусства проистекали решения, составлявшие просто-таки единственный источник художественных представлений, но по той причине, что грандиозные соборы были чистейшим воплощением мирового института церкви, как бы символом эпохи, как сегодня таковыми являются громадные города. Однако же следует остерегаться переносить в эти вопросы современные представления: уходя от любых сравнений, готические соборы были абсолютно исключительным, специфически средневековым творением. Люди жили в тесных маленьких городах с узкими улицами и темными жилищами, стиснутые духовно и телесно, и те же самые люди возводили строения, которые представляются разрывающими все рамки земной связанности, которые пространственно широко и легко подымаются в головокружительные высоты, не имея ничего или мало почвенно-земного, в строительстве которых принимали участие художники из близка и далека, и эти постройки, совместный труд поколений, народов, всего христианского мира возникли как символ царства божия на земле и как выражение идей, что прямо, перед глазами вели человечество через очищение от земного в высшее бытие.
В этих постройках перед нами предстает соотношение государства божия и мира как новое соотношение между духом и материей.
Готическая архитектура никоим образом не пыталась преодолеть материю. Готические соборы — огромные каменные сооружения, которые должны воздействовать как таковые. По своей художественной направленности они принципиально отличны от древнехристианских базилик, в которых материальная сердцевина здания не должна была существовать для зрителя художественно и поэтому должна была исчезать в антиматериальной игре движения, перспективного пространственного воздействия, света и тени, перемены красок.
Обо всем этом не может быть и речи в готических зданиях, которые никогда не отрицали своего «каменного» характера. В этом они соприкасаются с предшествовавшей им романской архитектурой, но не без того, чтобы одновременно быть разделенными с нею глубоко идущим отличием. В то время как в романских постройках дуализм миросозерцания выражается в резком противопоставлении материи, оформленной в элементарном виде, как стены и столбы, и абстрактной композиционной закономерности, — в готике материал, строительная масса, камень в качестве элемента здания, не выпадая как фактор воздействия, теряет все же свою самостоятельность и значение и делается без остатка только выражением целостной, вышестоящей художественной идеи. То же мы наблюдаем и в греческой архитектуре, только с той решающей разницей,что в то время как в последней речь шла о приемах художественного воплощения и выяснения объективных, лежащих в основе здания материальных сил — тяжести, физического противодействия и его преодоления, механического оживотворения материального состава, — в готике как раз эти силы по возможности отстранены и скрыты, и материя должна подчиняться другим силам, которые по своей природной сущности и положению не являются присущими ей. Благодаря в высшей степени остроумной конструкции, которая уже как технический прогресс означает новый отрезок в истории человечества (эта конструкция была придумана, правда, не в качестве технического достижения как такового, — что является значительнейшим memento для всех позитивистских систем и объяснений истории, — но исключительно во благо чисто духовных целей)[18], оказалось возможным преодолеть две основные особенности материала: его постоянность, связанность с землею и его слитность или компактность, тем самым подчиняя материю — без совершенного ее уничтожения — надматериальной художественной воле. Последняя, правда, была не индивидуальной, как в эпоху барокко, а покоилась на общих, господствующих в человечестве идеях. Словно совсем не касаясь земли, подымаются готические соборы в необузданном «вертикализме», огромные и все-таки нетяжелые, над городами, растворяясь в пространстве, свободно вырастая, как растение, и все же до последнего фиала будучи сдержаны имманентной упорядоченностью, которая как божественный закон и ее во всем представляющая в государственной и светской жизни духовная и светская власть организует и объединяет в универсальную и идеальную целостность.
В этом художественном организме, который мог расти в течение десятков и сотен лет без потери своего единства, потому что оно покоилось не на изолированной, ограниченной в себе форме, а на нематериальном принципе, изобразительное искусство не могло иметь самостоятельного значения[19]. Это звучит парадоксально, когда мы думаем о необозримом количестве пластических произведений, которыми были украшеныготические соборы и которые означают возрождение монументальной скульптуры; или когда мы вспоминаем множестворажей и фресок (как дошедших до нас от готического времени, так и недошедших), общее число которых по богатству предметов и изображений образовало бы, пожалуй, самую подробную изобразительную хронику всех времен.
И все-таки это богатство было связано, было внешне и внутренне несвободно как по отношению к зданиям, с которыми оно было соединено, так и в его отношении к природе и жизни. Произведения искусства ренессанса — статуя Донателло, картина Рафаэля или Тициана — являются микрокосмом, миром в себе, не только в том смысле, что их ценность и действенность в незначительной мере зависят от действия здания, что большая часть их художественного содержания была автономна и могла быть понята и оценена без связи с вышестоящей художественной системой. Об этом не может быть речи в готических скульптурах или картинах. Ряды статуй, украшающие готический фасад, образуют неотделимую часть этого фасада, и притом не только в качестве декорации, как утверждалось порою, когда говорили о декоративном значении готических скульптуры и живописи; декоративными являются художественные формы (если только не совсем перевернуть смысл слов), которые составляют «агрегат», составляют нечто «прикладное», имеющее задачей повышение действия художественного произведения, но что можно было бы также и опустить без того, чтобы основная форма потеряла свое формальное значение. Готическое же статуарное украшение является частью основной формы и вместе с архитектоническими частями выражает движение здания и его тектонический смысл, выражает непринужденный рост, свободное растворение компактной массы, а готическая монументальная живопись остается несомненным выражением архитектуры, которая освобождает ее от господства твердой стены, объема в замкнутом в себе пространстве.
При этом было бы, однако, совершенно неверно видеть в готической скульптуре и живописи только воплощение архитектонической мысли их времени. В рамках архитектонической связанности готическое изобразительное искусство означает в то же время также самостоятельное новое решение пластических и живописных проблем, причем сначала на основе идеалистического характера раннеготического искусства, от которого нам надо исходить при нашем рассмотрении. Здесь наталкиваешься на немалые трудности уже в терминологии художественных особенностей, так как наша обычная терминология возникла в эпоху, которая ничего не хотела знать о художественном смысле древнейшего готического искусства, да и не могла знать. Но объясняется это и объективными причинами.
Наше восприятие искусства всецело определяется со времени тех изменений, которые оно претерпело за период, истекший от средних веков до нового времени — отношением к реальному бытию, к природе и к чувственному человеческому переживанию, причем это остается в силе и тогда, когда мы имеем дело с ирреальными мотивами. Поэтому нам не легко представить себе мир, который все ценности действительности, все воспринимаемое чувствами или рассудком, все конечное, ограниченное, видел только в зеркале абсолютного, вечного, бесконечного и смотрел на конечное только как на проявление чувственно и рационально непостижимой божественной мысли, находящейся, по словам Гильдеберта из Лавардина, «надо всем, подо всем, вне всего, во всем». К последней следует сводить всю причинность, все создаваемое и созданное; но своеобразие средневекового художественного развития заключалось не только в религиозном характере (на что постоянно и указывают). Искусство контрреформации, например, было религиозным не в меньшей мере, и все-таки — несмотря на многие точки соприкосновения — оно далеко от готического. Своеобразие готики заключалось во всемогуществе находящейся вне материального переживания духовной конструкции, влияние которой было так велико, что всякое непосредственное прибегание к чувственному опыту в духовных вещах (подобно тому, как ныне всякое своевольное пренебрежение им) воспринималось как бессмысленный и заслуживающий порицания проступок против истины и человеческого рассудка. Ансельм Кентерберийский писал, ступая против Росцеллина и его учеников: «В их душах пиление столь переплетено телесными вещами, что оно никак не может из них выпутаться».
В этой подчиненности всех телесных вещей, то есть всех чувственных ценностей и материальных отношений, под углом зрения чисто духовной и надчувственной значимости, сохранялся первоначальный источник прогресса, происходившего в средневековом искусстве, и благодаря которому это искусство - не менее, чем древневосточное, классическое или современное — предстает самостоятельной и законченной фазой во всеобщей эволюции искусства. Это искусство показывает нам тот путь, что вел от сновидческого одухотворения материи и всего универсума в античном христианстве и раннехристианском искусстве к варварски вулканическому, неистово революционному отказу новых народов и новой культуры раннего средневековья от чувственной красоты и привел к резкой границе между новой духовной истиной и убеждением, так же как и покоящейся на них жизнью фантазии, с одной стороны, и «мнимым существованием» старых мирских благ и впечатлений, с другой, к разрыву вплоть до разрушения всех старых культовых понятий[20] . К ним начали обращаться в эпоху Каролингов после того, как безусловное трансцендентное религиозное содержание жизни перестало образовывать единственный масштаб жизни человека и под влиянием новых политических и социальных образований должно было стремиться к новому примирению с земной жизнью и ее ценностями, в чем и надлежит искать глубочайшую причину каролингского возрождения. Однако эта эпоха была и временем господства спиритуализма, господства, которое при всех новых требованиях и целях оказывало решающее воздействие на искусство и которое вместо того, чтобы вести обратно к античности, вело к постепенной переоценке чувственных элементов на новой духовной основе.
Было бы очень заманчиво и важно по отдельности проследить, как из этого процесса во всех искусствах в качестве первого этапа проистекает примечательный параллелизм ограниченно материального и абстрактно надматериального художественного воздействия в романском искусстве и проследить, как достигается второй этап и одновременно завершение перестройки традиционного искусства в готике на основе полнейшего пронизывания и преобразования всех реальных сущностей и взаимосвязей новыми понятиями духовно значимого для человечества и достойного увековечивания. Проследить, как тем самым меняется все отношение к окружающему миру, как возникают новые художественные представления, формальные цели и точки зрения, как основывается новое, принципиально отличное от классического возвышение телесного мира, идущее не от чувственного к духовному, как это было в древности, но наоборот, от духовного и при этом в первую очередь от надмирно духовного к чувственному, как заново возводится телесное, преходяще ограниченная материя через формальную красоту и художественную отвлеченность в царство идеальных благ человечества! Проследить, как через этот универсально исторический, прокладывающий новые пути взлет нового искусства из нового мировоззрения перетолковываются все традиции, как возникают новые проблемы, новые законы монументальности, художественного совершенства, величия и всеобщности!
Если бы все это было положено в качестве движущей силы исторического рассмотрения средневекового искусства и пеоеплетено с богатством реальных фактов, то возникла бы картина художественного развития, которое, исходя из последовательности его внутренней структуры, цельности остроты его характера и значения для всего будущего, можно было бы сопоставить лишь с тем, чем мы обязаны грекам.
Однако же это — задача будущего; сегодня мы хотели бы в той степени, как это требуется для нашей цели, представить лишь некоторые из особенностей готической скульптуры и живописи, происходящих из их надчувственного идеалистического источника.
Так как изображение фигуры стояло вначале всецело на переднем плане, то рекомендуется исходить от нее и прежде всего исследовать решающие для создания отдельной фигуры точки зрения.
Объективное формальное содержание готических фигур, происходящее из двух источников — из традиции и, как подчеркивается порою, «из личного отношения к природе», — по наглядным словам Фёге, «как бы перерисовывается художником в вогнутом зеркале»[21] , т. е. другими словами, подчиняется формальной схеме. Эта схема покоилась, однако, не на примитивных образах воспоминания, которые принимаются за исходную точку архаически-греческого и всякого первобытного искусства Юлиусом Ланге и Эмануэлем Леви. Ее нельзя также просто вывести из структурных и эстетических предпосылок новой архитектуры, как это до сих пор наиболее остроумно пробовал сделать Фёге; она была необычно сложным продуктом всего развития средневекового искусства, для объяснения которого скорее можно было бы указать на идеалистические нормы высшего расцвета греческого искусства. Но только искусство готики стремилось завершить в идеальных образах не естественную функцию и соответствующую ей красоту и выразительность форм, как греческое искусство, а хотело переработать традиционные или покоящиеся на наблюдении природы формальные представления и связи в средства для выражения сверхматериального восприятия художественных идеальных созданий. Не только художественно усиленные впечатления от действительности и естественные живые силы, господствующие над организмами, должны были быть воплощены в художественных созданиях, но реальная форма должна была быть наделена такими качествами, которые ставят перед глазами зрителя субстанцию божественного, ее действие, ее трансцендентную закономерность.
Без сомнения правильно, когда указывают на дидактический смысл средневековой скульптуры и живописи «Библии нищих духов», как на одну из важнейших черт средневекового искусства. Нельзя, однако, забывать, что рядом с историческим и догматическим содержанием изображений на зрителя должна была возвышающе действовать покоящаяся на (если допустимо такое выражение) метафизическом перевоплощении всех формальных элементов и связей очевидность господства духовной интуиции и откровения над «нечистым в себе» и «вводящим в заблуждение» чувственным восприятием; «закон божий» выдвигается против «закона мирского». Понятие forma substantialis[22] как отражение скрытых, независимых от всего меняющегося и постижимых лишь внечувственным сознанием изначальной красоты и синтеза тайных, открывающихся лишь «духовному взору» причин и действий играет (перенятое из неоплатонической философии и перенесенное в христианское мировоззрение[23]) в средневековой литературе от Августина до Фомы и далее, постоянно углубляясь и развиваясь, похожую, но еще более значимую роль, чем классически-материальный идеал красоты в теориях искусства нового времени. То, что это было более, чем только апологетической попыткой спасти изобразительное искусство[24], нас учит весь путь развития в средние века, путь, кажущийся неустойчивым лишенным цельности, если судить критериями поступательной эволюции в решении задачи объективной передачи природы, выстраивающийся в последовательный, если в основу рассмотрения положить присущее готической системе фигуративности стремление к тем ценностям выражения, которые бы подходили для наглядного показа нового метафизического отношения к окружающему миру. Для этого стремления чувственное восприятие было лишь мутным источником художественной истины и красоты, который можно очистить лишь через высокое понимание человеческого духа с тем, к тому же, чтобы охватить не переживание природы, но переживание Бога; глубочайшим смыслом художественного творения будет самосознание и художественное «доведение до сознания» чудесного устройства мира, основывающегося на отражении божественных мыслей в земных вещах[25]. Другими словами, на место естественной причинности и закономерности приходит другое понимание и, при этом, не субъективно определенное, но сверхъестественно данное, в отношениях душевной жизни имеющее своим источником не сводимую к материальным и временным ограничениям первооснову всякого бытия. В чем же это выражается художественно? Наверно, наиболее бросается в глаза сознательный отказ от верности природе и от подражания ей. В средневековой литературе постоянно повторяется, что художественное произведение должно быть правдивее природы; можно с уверенностью принять, что то, что представляется нам в средневековых художественных произведениях с нашей натуралистической точки зрения неумением, большей частью означает хорошо взвешенное художественное намерение.
Само собой разумеется, что вследствие такой переориентировки искусства вместе с интересом к природе должен был понизиться также и опыт, позитивное умение передачи природы. Подобным образом явление, более узкое по времени и месту, исторический идеализм классицистов и «назарейцев» прошлого века был связан с утерей известных, более ранних живописных достижений. Но как в этом случае, так и в средние века эта утеря была намеренным отказом от вещей, потерявших цену под влиянием новых задач и воззрений. Это не причина, а следствие развития, исходной точкой которого было презрение культа природы в любой форме, как признака языческой установки, заслуживающей осуждения. Таким образом, каждое приближение к природе — путем ли традиции, или новой жизни фантазии — было только средством к цели, средством, заранее предназначенным для служения высшим художественным намерениям и исключаемым там, где оно им противоречило.
Если мы поставим вопрос о содержании этих намерений, то в первую очередь нам, пожалуй, надо будет указать на первенство теологической иерархичности и значимости по отношению к естественным связям. Если божественные или святые персонажи изображаются как достойные поклонения символы, а чудесные события как свидетельства дела спасения, то происходит это вместе с тем согласно тому, как подобная цель ставится художественной фантазии. Не учитывая опыта, не обращая внимания на действительную возможность изображенной ситуации, на первое место ставят иллюстративную задачу, причем все моменты предметной передачи или совершенно подавляются, или сводятся к минимуму, поскольку они не связаны непосредственно со словесным рассказом или каким-либо теософским, агиографическим, литургическим значением изображенных лиц. Напротив, все, что имеет касательство к этому, раскрывается с возможной определенностью, ясностью и обозримостью. В той же мере, как великие нововведения греческого искусства — изображение естественного соответствия в пространстве, обоснование каждого фигурного образа в реальном действии, положении и движении, — не то что были забыты (как можно было бы их забыть?), но сделались неважными, изображение превращалось как бы в ребус, характер и композиция которогоопределялись задачами демонстративного порядка, и только во вторую очередь — реальными положениями и исчерпывающей передачей форм. Деревья обозначаются тогда отдельными листьями, строения — некоторыми бросающимися в глаза частями зданий, причем изображаются они противоестественно маленькими, как «сокращения», имеющие только относительное самостоятельное значение. С другой стороны, все средства художественного оформления сосредоточены на том, чтобы сделать наглядно понятными духовный центр композиций, достойную почитания личность или чудесное событие в их покоряющей сверхматериальной условности, сущности и действии, зримо представить бессмертное и невидимое, открывающееся лишь духу, и силой искусства претворить глубочайшие тайны дела спасения, всевластие надчувственных сил в захватывающую и возвышающую реальность.
Ради этой примерности и ирреальной иллюзии не только должны были быть растворены и пересозданы традиционные позднеантичные, основанные на природной закономерности и восприятии изобразительные достижения, превращены в трофеи, из которых будут построены новые, иные творения фантазии, но и все приемы передачи форм, весь живописный и пластический язык также должен был измениться. Объяснялось это тем, что тот язык, который был принят от старохристианского искусства и в котором были выполнены древние образцы, покоился на предпосылках, совершенно противоположных средневековому искусству. Эта разница состояла не в различии способности передавать природу, — дело идет о совершенно разнородных вещах. Позднеантичное растворение формы в красочных ценностях, в свете и тени, крайняя граница, которой достигло классическое искусство в стремлении объективировать явления природы, осознанные им в их обусловленности преходящими фактами пространства и отношением к ним зрителя, — все это означало уничтожение собственного прошлого и таинство собственного смысла. Ведь это можно связать с древнехристианским экстазом, пребывающим вне всех материальных благ, и до известной степени еще и с раннесредневековым отказом от любого объективного формального содержания. В полнейшем растворении древнего духовного и общественного строя, в неограниченном субъективизме и спиритуализме и состоял мост, ведший от старого мира к новому. Однако в той мере, как начали в искусстве, равно как и во всех других областях жизни, вводить старые элементы, уходя от первоначального, полностью освобожденного от мира материальных ценностей радикализма чувств, в новую, построенную не на природной причинности систему, то старый, покоящийся исключительно на чувственной силе убеждения иллюзионистический стиль потерял всякие смысл и ценность и стал непригодным именно исходя из точки зрения по-новому понятой художественной силы и воздействия[26] , так же, как, к примеру, и наоборот, средневековое, покоящееся на сверхъестественной связи событий изображение было бы неприменимо для целей современной научной иллюстрации.
Так в средние века, однако, постепенно возникла другая передача форм, которую были склонны определять как «первые попытки графической, пластической и живописной передачи вновь пробуждающегося зрительного восприятия природы[27] .
Это определение, однако же, абсолютно неправильно и ошибочно. Совершенно нельзя говорить о некоем «начале», о средневековом искусстве, которое где-то и когда-то начало по-детски пытаться подражать природе. Это было и невозможно, да и повода к тому не было. Ведь к наиболее бросающимся в глаза историческим чертам средневекового искусства принадлежит ее изначально столь малая оригинальность и долго продолжающаяся большая зависимость от формальной и иконографической традиций, восходящих к античности. Исходим пунктом этой традиции было древнехристианское искусство, развивавшееся совершенно в рамках данных позднеантичных культурных и художественных обстоятельств, не в малой степени являясь их плодом и изменяя их лишь настолько, насколько это было обязательно необходимо с точки зрения нового, направленного не на мирские вещи восприятия. Также и в последующие столетия, на всех стадиях дальнейшего развития новой христианской культуры, при всех этнических, политических, социальных переворотах нигде и никогда не было стремления полностью заменить данное наследие образных представлений и формальных решений другими, независимо от него почерпнутыми из природы и из нового, принципиально отличного светского сознания. Как должно было бы возникнуть подобное стремление? Нельзя забывать, что великой ниспровергающей, устремляющей вперед и по-новому строящей силой в возникновении средневекового мира было религиозное движение, борьба за внутренне нового человека, за новые моральные обязательства, за духовное преобразование мира. Но предметные и формальные достижения предшествовавшей светской культуры не отвергались принципиально, не уничтожались и не вытеснялись другими достижениями, которые бы возникли из какого-либо нового объективного отношения к земным вещам; эти формальные достижения стали чем-то второстепенным, стали условным аппаратом различных областей духовной и материальной деятельности, аппаратом, потерявшим объединяющую связь мировоззрения, из которого он возник, и вместе с тем утерявшим также и предпосылку для своего дальнейшего развития благодаря превращению во внутренне несвязанные фрагменты. В варварском искусстве докаролингского времени, то есть в искусстве тех народов, что были мало отягощены старыми материальными культурными потребностями и взяли на себя руководство в переоценке всех ценностей благодаря новому спиритуализму, эти фрагменты старого, не исчезая полностью, были сведены до уровня «теневого существования» , так как подобного рода вещам вообще не уделялось внимания. Но когда после этой духовно еще более, чем внешне, бурной эпохи, начиная со времен Карла Великого, реальное развитие обстоятельств требовало примирения с миром, постройки материально объективных, покоящихся на отношении к естественным условиям учреждений и творений духа, то опять начали использовать осколки старого, но не с присущими им жизненной силой, значением и связностью, а как данные средства выражения, как формулы для определенных моментов созерцания. Их употребляли как словарь, ведь они были в наличии, и для искусства этого периода, несмотря на его сравнительный возврат к миру объективной природы, они были вспомогательными средствами, достижение же собственных задач духовной значимости, как и прежде, искалось где-нибудь в другом месте. Их использовали так же, как употребляли мертвые языки, так как собственная ценность языка не принималась во внимание в сравнении с решающим для всех людей духовным содержанием. И так же, как заимствовали эти формулы, так и исходили из них, но не из независимой от прошлого, совершенно новой и примитивной передачи природы, где бы речь шла о том, чтобы выразить новые моменты созерцания.
Все это, конечно, не означает, что старые формальные элементы, которые, почерпнув их из различнейших источников, нес с собою широкий поток сознательной и бессознательной традиции унаследованного капитала художественной деятельности (поскольку она должна была изображать естественные факты), что эти элементы, обогащенные к тому же постоянно новыми заимствованиями у старых образцов, означают только возвращение назад, упадок и не становятся наряду с этим развитием старых способов изображения. Подобно тому, как «глыбно-пространственная» архитектура древнехристианского периода в средние века не была постепенно заменена новой, а была художественно перетолкована и заменена врастающим в эту новую архитектуру организмом новых архитектонических факторов воздействия (которым должны были подчиниться также традиционные формы классической тектоники), так и в живописи и скульптуре можно мало-помалу отметить врастание нового восприятия формальных ценностей в живописную и пластическую традицию. Это новое восприятие постепенно в корне изменило то, что потеряло первоначальный смысл, превращая все это в новые живые факторы. Оно создало из старых и новых элементов совсем новые фигурные композиции и формальный язык, означающие шаг вперед по сравнению с античностью. Возникновение этого восприятия простирается, подобно готической архитектуре, на все средневековье. Оно состояло в том, что в различные периоды и в различных областях, на первый взгляд независимо или в переменной зависимости от старых образцов (и все-таки последовательно развиваясь), пробивались новые требования передачи и изобретения форм, чтобы, наконец, преображая все формальные средства в готике, которая и в этом отношении означает не начало, а завершение нового искусства, доставить полную и повсеместную победу новому принципу изобразительности.
Этот принцип отличается, на первый взгляд, от позднеантичного бросающимся в глаза ограничением изобразительных приемов. Подробная, по возможности исчерпывающая передача пластического и красочного вида объектов, которая была признаком унаследованных от античности живописи и скульптуры и сохранилась в мало связанных между собою остатках в искусстве, предшествовавшем готическому, эта подробная передача совершенно исчезает и заменяется абстрагирующим отбором определенных линий, пластических форм и красок. В силу этой упрощенности передачи изображение как будто приближается к давно минувшим художественным периодам[28] ; и оно действительно связано с ними постольку, поскольку между периодами, в которые искусство искало свои идеалы по ту сторону естественной закономерности, налицо не меньшая историческая последовательность, как и между такими периодами, когда искусство находило свои высшие цели именно в этой природной закономерности.
Однако также и об обратном движении не может быть и речи. Основные нормы античной художественной реконструкции естественных формальных образований и соответствий, как, например, внимание к органическому построению тел, к единству фигуры, к ее естественным пропорциям, членениям и окраске, или же обусловленность ракурсов положением объектов в пространстве, — все это ни в коем случае не было совсем потеряно, а оставалось техническим умением, которым пользовались повсюду, поскольку это позволяли высшие правила новой художественной значительности.
Источником последней была, однако, без сомнения, все снова и снова подчеркиваемая связь с человеческой способностью познания, с vis cognoscitiva[29], которая позволяет людям, благодаря божественной благодати, духом проникнуть в тайны явления спиритуально глубже, чем лишь посредством многократно вводящих в заблуждение органов чувств, обманам которых искусство должно противопоставить очищенную высшим духовным пониманием форму. Исходным пунктом этого понимания для средневековых людей была при этом не природа, но божественное учение, хранимое божественной милостью человечеству сознание того, что над только лишь относительными природными ценностями стоит мир надчувственного порядка, предопределения и целесообразности, постижимый лишь размышляющему духу и внутреннему опыту, творение отвлеченного бытия, в котором сохраняются истинно реальные субстанции (в то время как чувственно постижимые явления означают лишь ero последние и самые простые эманации), и именно исходя из него надлежит понимать и оценивать мир. В соответствии с этой основной чертой средневекового спиритуалистического мировоззрения также и искусство не могло продвигаться от подражания природе к его высшим идеальным благам, но поступало наоборот, пытаясь истолковать данную a priori идеальную концепцию через природные формы. Признается, что художественная форма должна противостоять форме природной не как образ (imago — изображение); что только сходство (similitudo) должно связывать их; задача состоит в том, чтобы заменить «несовершенное» (imperfectum) чувственного восприятия «совершенным» (perfectum) божественных помыслов, лежащих в основе видимого облика и открывшихся человеческому духу. Поэтому это зависит не от соразмерности степени созерцания природы, но от внутренней дисциплины абстрактного строя: в то время как — что является важным для нашего последующего рассмотрения — приближение к действительности остается нерешительным, то новые идеальные схемы последовательно развиваются, и предписания настолько их связывают, что используются они даже там, где намерение передачи природы означает цель изображения, можно было бы сказать как раз там — как норма глубокого знания дела, то есть примерно так, как и сегодня при научном изображении обычно пользуются линеарной абстракцией с акцентом на «существенном», исключая все другие моменты видимого облика явления[30].
Теперь же надлежит задаться вопросом, продолжая это сравнение, что же было «существенным» для средневекового художника. Или, другими словами, как возникли нормы изображения природы, которые были поставлены выше, чем сама природа? Чтобы понять их возникновение, надо еще раз представить себе, что они происходят не из новых впечатлений природы или образных представлений, а развились путем постепенного пересоздания старых художественных изобретений, главнейшие из образов которых были в то же время идеально высшим синтезом христианского мировоззрения. Если проследить развитие этих иконографических центральных типов христианского искусства средних веков, хотя бы изображения божественных персонажей или святых, то мы найдем, что они в первом периоде средневекового развития потеряли первоначальный характер натуралистической или исторической определенности, превратились в абстрактные и — в сравнении с их первоначальною формою — почти бесформенные символы понятий. Но сами эти понятия, духовные основания, о которых пластические или живописные образы должны были напоминать, не были иератически зафиксированы (в чем состоит принципиальное отличие от всех последующих периодов, в которые искусство также являлось в первую очередь выражением абстрактных идей), но, напротив, постигались в непрерывном новообразовании, которое должно было иметь силу и в отношении представляющих их символов. Оно состояло в том, что, с одной стороны, воплощало в этих образах мир религиозных, нравственных, исторических сил, сверхъестественных, независимых от событий, ограниченных во времени и пространстве, действительных для всех людей, времен и обстоятельств, с другой же стороны, с верой в подобные силы было связано стремление соединить эту веру как с классическим наследием мысли и видения, систематически обученных на наблюдении естественной закономерности, так и с требованиями и взглядами, происходящими из неистовой энергии новых, принесенных развитием силы и жизнью фантазии молодых народов, социальных и политических учреждений и духовных культур, стремление соединить их и согласовать. Так возникли напряжения, в которых надлежит искать объяснение бурного внутреннего движения средневекового отношения к изобразительной форме, объяснение его ищущего, часто едва ли не непосредственно друг подле друга или одного за другим тяжеловесно консервативного и бешено радикального характера, объяснение его внезапных поворотов и столь далеко заходящего разветвления на, по-видимому, стремящиеся разойтись школы и области искусства.
И все же речь идет о различных следствиях и стадиях везде в его движущих силах единого процесса, так же как и различные формальные решения можно без большого труда определенным образом категоризировать. Формальные элементы изобразительного искусства и отдельные части изображений постоянно выделяются из целого, из тех естественных связей, в которых они были обоснованы, и вводятся в другие сочетания, которые возникли не из подражания действительной ситуации, а как отражение духовных процессов, возникли в «глубокомысленном» расположении линий и плоскостей, в ритмических комбинациях и динамических сериях движений.
Наряду с этими метаморфозами, которые можно было бы сравнить с диковинной переработкою классической философии в средневековой теологической спекуляции, — частью в связи с ними, а частью независимо от них, — менялся также и предметный характер форм. На место подробных изображений зрительных и осязательных, материальных и функциональных качеств приходят сокращения, которые, однако, не произвольны, а состоят в систематическом редуцировании объективного положения дел. Их можно было бы обозначить как закономерно прогрессивное упрощение[31] . Их исходной точкой было совместное восприятие всех земных и сверхземных вещей в построении, указывающем каждой вещи ее ступень по ее значению. В соответствии со средневековыми воззрениями ничто в универсуме не является малозначащим, так как любой, даже самый крошечный объект находится в какой-то связи со все управляющей мудростью божественного миропорядка. Степень значения разных объектов различна и развивается в иерархическом порядке от низких, ограниченных и предметно дифференцированных вещей ко все более высоким существам, причем более высокая ступень характеризуется увеличением общезначимого, постоянного сравнительно с единичным и преходящим. Во всеобщности высших ступеней есть вместе с тем и возрастающее упрощение: на место обусловленного временем и местом разлада приходит единение всеохватывающей идеи, постоянно подымающейся вплоть до высшей идеи вечного божественного бытия, что возвышается над всякими различиями[32].
С этой конструкцией, которая, как бы она ни колебалась в объяснении и применении, все-таки в общем остается основной чертою средневекового мирообъяснения, можно сравнить также и систему художественных абстракций. В то время как в фигурах и сценах, которые изображают людей и события в их земной ограниченности, меняющиеся и бессвязные намеки на индивидуальную действительность встречаются чаще, чем в древнейших периодах античного искусства[33], постоянно делались попытки представлять фигуры, означающие неизменные идеалы христианства, как парадигмы «концентрированной сущности» также и в их телесном явлении. Вместо временно и индивидуально обусловленного они дают только соответствие идеальным конструкциям высшей общей ступени бытия, и к этому сводятся линии, пластические формы и краски. В этом смысле и надо понимать то, что Фома Аквинский (учение которого как во всех вопросах, так и в вопросах эстетических, нельзя воспринимать только как спекулятивную систему, поскольку оно содержит объединение всех духовных достижений человечества в средние века) требует от художественного изображения ясности в качестве первого из трех критериев красоты[34]. Эту ясность нельзяпонимать материально. Она означает приблизительно «просветленность» или «просвещение» и состоит в том, что художественное создание, с одной стороны, претворяет чувственные признаки вещей в адекватное выражение лежащих в их основе идей, с другой же, превращает в свидетельства «духовного» видения, во внечувственные свидетельства лежащей в основе всего бытия высшей организации, открывшейся человечеству через духовное познание.
Этот путь должен был бы все больше отдалять искусство от природы и заменять форму природы все больше условными знаками. Однако вторая из упомянутых составных частей средневекового развития — классический объективизм — не как цель, а как прием воззрения на мир, наравне со всеми другими моментами, которые требовали учета естественных качеств вещей, постоянно вновь и вновь противодействовала этому. Согласно учению «ангелоподобного доктора» (Фомы Аквинского), с «ясностью» (claritas) должна сочетаться также «цельность» (integritas), т. е. завершенность, имеющая отношение как к духовному, так и к телесному. Что касается последнего, то она налицо, когда телам недостает ничего из того, что является по их природе их существенным свойством[35]. Это значит, — в применении к изобразительному искусству, — что для достижения высших формальных созданий требовалась также определенная степень естественной закономерности. Этот постулат тем самым, что он специально должен был быть подчеркнут, особенно ясно показывает, как далек в принципиальном отношении был отход от античности и как отношение искусства к природе и жизни стало иным.
После уже вышесказанного не стоит понимать это положение дел таким образом, как если бы идеализм и натурализм, в нашем значении этих слов, были разделены в предготическом средневековье. В основе обоих направлений лежало главенство духовно идеалистического построения мира. Этот дуализм средневекового искусства и проистекающий из него в долгих муках прогресс, состояли в достижимом различными путями соединении старых или новых элементов естественного опыта с символами трансцендентной духовной общности. Так как исходный пункт обоих течений был один и тот же, то и контраст их не был непреодолимым. Стремление заменить его гармоническим единством превращалось мало-помалу не только в третий фактор стилистического развития средневековых живописи и скульптуры, но и сделалось в конце концов самой важной проблемой, решение которой, в той мере, в какой оно было достижимо, следует отнести к основным завоеваниям готики. Она соответствует третьему качеству, которое Фома Аквинский связывает с понятием красоты и называет «согласованностью» (consonantia). Объясняет он его так, подобно тому как мы называем человека красивым, когда его члены находятся в правильном соотношении с телом, так и от всякой красоты следует требовать отражения гармонического взаимодействия между первоначальными замыслами творения и их излучениями в земных вещах, истину, красоту и благо которых надлежит искать в согласии с божественными идеями[36]. В этой отыскивавшейся всем поздним средневековьем и достигнутой в готике гармонии между настоящим земной обусловленности и отдалением разрывающей ее оковы души, гармонии, покоящейся на уравнительном одухотворении материальных и на материализации духовных моментов, и заключалась та связь, которая объединяла в необходимом единообразии готическую скульптуру и живопись. Так следует понимать и «вогнутое зеркало», в котором великие мастера «Королевской двери» Шартрского собора видели и изображали природу. В изобразительных искусствах этот знаменательный процесс вел к тому, что священные фигуры, бывшие главнейшими носителями указанного развития, не остались только олицетворениями сверхчувственных понятий, какими они сделались в эволюции от их первоначального, исторического или конкретно символического значения, а сделались одновременно, — как некогда греческие боги, только при других обстоятельствах и в другой связи, — ведущими типами нового восприятия природы. Так как они по средневековому воззрению воплощали высшую точку передаваемых в искусстве поучения, возвышения и познания, то их типичность вообще сделалась масштабом идеальности Я одновременно с этим правдивости в ее художественном преломлении, сделалась образцовой для каждого изображения, которое должно было придать естественной форме печать подымающейся над случайным и второстепенным художественной интуиции и всеобщей значимости[37]. Из убеждения в абсолютной идеальности и обязательности найденной, наконец, нормы объясняется ее быстрое распространение во всем европейском искусстве — идеалистические схемы стали на все времена едва ли не общим духовным достоянием и сглаживали различия удаляющихся друг от друга в натуралистическом стремлении школ и художественных регионов. Но так как в готическом искусстве к его содержанию относилось и известное приближение к природе, то в них одновременно содержалась и возможность нового натуралистического развития, которое, правда, не может быть сравниваемо с передачею природы древних. Отличие состояло прежде всего в том, что объективность смещается от объекта к субъекту. Именно так надлежит это понимать, когда mens и scientia artificis разъясняются как causa efficiens[38] художественного произведения, согласно чему элементы чувственного восприятия располагаются в определенном порядке[39], но не по отдельности, произвольно и изолированно, а в соответствии с требованиями одной из открывшихся человечеству высших истин. Таким образом, одновременно происходили новое открытие и художественное покорение природы — и в этом состояло следующее отличие от античности — на основе общих духовных истин, провозвестницей которых сделалось искусство, и с ними соотносился с того момента прогресс в передаче природы, и даже тогда, когда начали возводить их более не к божественному откровению, но к естественному, рациональному познанию действующих в мире и постижимых лишь духом взаимосвязей.
Но ничего не было бы ошибочнее, если бы мы подумали, что при возникновении готического языка форм дело шло только об изложенных точках зрения. Не менее важную роль играли и другие моменты, которые менее связаны с проблемами познания, нежели со стремлением пробудить образным изображением чувства и представления полной отрешенности от реального бытия ради сверхматериального и духовного становления. Богатые мыслями работы Виттинга[4]0 и превосходные исследования Пиндера по ритмике внутреннего пространства в нормандской архитектуре[41] показали, как (позитивизм прошлого века не мог понять этого) из своеобразного духовного значения церковных пространств раннего христианства и средневековья (а их особенность состояла в том, что они должны были вызывать определенные физические впечатления, которые были бы способны поддерживать и управлять ощущением духовного соучастия в сверхчувственных и надрациональных мистериях) могут быть объяснены основные стилистические факты и эволюционные ряды. И в скульптуре, и в живописи подобные моменты также действовали, без сомнения, определяющим образом на творения фантазии, которые не только пробуждают образные представления в качестве символов понятий, как воплощение божественной и через это познанной земной истины. Нет, эти произведения должны были также посредством динамики абстрактной художественной организации сообщать душам торжественное и набожное настроение, сознание пребывания на месте действия священных и освящающих событий и более глубоких, избавляющих от гнетущих печалей повседневности тайн. Как в молитве и в песне, так и в рядах картин и статуй христианской церкви происходил принадлежащий сути новой религиозности процесс соотнесения человека и бога. Таким образом, в изобразительном искусстве, как и во всех других областях духовной культуры, специфически духовное содержание, стоящее над всем объективным бытием, поступками и событиями, и не связанная с ним художественная абстракция были соединены с громадным комплексом массы чувств, порожденных христианством и выдвинутых в центр богатого духовного развития.
Художественные средства выражения этой непосредственности приобрели таким путем абстрактно закономерные формы, задачей которых было вызывать душевные эмоции, давая им определенное направление. Это — самостоятельность, которою они никогда не обладали в античности, когда они были гораздо теснее связаны с объективным содержанием изображения.
Из данной особенности средневекового искусства (в которой надлежит искать начало позднее все снова и снова всплывавшего и столь плодотворного противоречия между изначально абстрактной художественной идеей и природной закономерностью), возникло множество стилеобразующих процессов, без исследования которых мы едва ли сможем получить представление о внутреннем богатстве средневекового искусства и обозреть ширину его пути, пройденного то в буре возбуждения, то в медленном прорастании.
В готическом изобразительном искусстве, означающем и здесь результат предшествующего развития, элементы композиции, проистекающие из источников стремления к сверхчувственным связям в духовном сознании, особенно ясно выражаются в трояком отношении: в чередовании фигур, в их движении и в их отношении к изображению пространства.
Группы святых, украшающие готический собор, образуют по содержанию воспринятое «sub specie aeternitatis»[42] священное собеседование («sacra conversazione»), единение во времени и вечности, в земной изменчивости и в небесном пребывании. Формально они объединены не группировкою, участием в событии, обусловленном определенным временем и местом, а ритмическим чередованием. Словно магически заколдованные, стоят фигуры в массовой композиции, как равноценные по существу вертикальные схемы, одна рядом с другой, или порою так же в нескольких рядах, одна над другой, как соподчиненные члены, без какого-либо соответствующего реальной ситуации объединения, словно паря в пространстве, порою связанные в аккорды или в ряды аккордов, но без заключительного формального ограничения, так что ряды могут быть в нашей фантазии продолжены до бесконечности.
Обычно указывают на тектоническое принуждение как на причину этого расположения. Но речь идет, как это предполагали, не о конструктивном понуждении, которое, без сомнения, позволило бы и другое распределение и расчленение статуарных украшений. Скорее это духовное принуждение, господствующее над строением и его украшением, являющееся настолько сильным, что оно сохранило свое влияние даже в рельефах и картинах в противоречии с тем, что там должно быть рассказано. Это духовное понуждение связывает строительные организмы со статуями, но выражается и самостоятельно властвует как в тех, так и в других. Как раз эта относительная самостоятельность пластических произведений может быть воспринята, как существенный шаг готики вперед по сравнению с романским искусством. В последнем скульптура была — вне ее буквального значения — более или менее созвучным тоном в хорале архитектонически ритмизированных строительных масс. В готике же она была представительницей их и могла в собственной сфере воздействия взять на себя художественную функцию последних. Это и было происхождением и смыслом новой монументальной скульптуры и статуарного искусства. Свобода и будущность их заключались не в возвращении к их античному назначению, а в том, что для них в рамках нового, внутренне прочно устроенного мира художественной значительности могла быть найдена новая задача, а через нее — мост к монументальному действию и к статуарным проблемам. Статуи принимали форму столбов, потому что это был путь выполнения ими художественной цели, стоящей над подражанием телам. Об этой цели мы получаем особо наглядное представление в упомянутых ритмических чередованиях.
Статуи, каждая в отдельности, в группах или в их всеобщности, вписывались в идеальный строй художественных соотношений, словно в геометрическую схему каких-либо леонардовских пирамидальных композиций. Этот строй не покоился на внешнем формальном единстве, как у мастеров высокого Возрождения, где силою воплощенной в нем художественной интуиции естественные связи и чувственные впечатления должны были оказывать повышенное художественное воздействие. Он был построен на предпосылке трансцендентального единства, к которому приводились тела по ту сторону их природных механических и органических функций и связей, становясь по общей форме и по расположению возбудителями и представителями проецированных в бесконечные пространства мыслей и воли чувства. Через соединение с художественно расчлененной серией тектонических и пластических основных форм, бывших пригодными к воплощению духовного движения, люди были перенесены в мир чисто духовных событий и субстанций. Художественное отражение последних было создано так (в этом также заключался прогресс готического искусства), что в его идеальную концепцию и структуру могли быть также вовлечены статуарные решения, тем самым приобретающие новую монументальность. Так фигуры были вкомпонованы в столбы, а фигуры столбов поставлены по отношению к зрителю в ряды, как ритмические фуги подымающейся к небу и звучащей во все стороны симфонии.
К их воздействию примыкало и движение, которое, — независимо от естественных мотивов покоя и движения, а частью даже в противоречии к ним, — объединяет линии, формы и тела в целостное сверхъестественное направление движения. Оно представляет их как бы схваченными широким потоком мощного двигательного устремления, по отношению к которому тяжесть так же, как и действие механических и органических сил, должна была потерять всякое решающее значение.
Это стремление к движению вначале воплощалось, как и в архитектуре, в вертикализме и в пропорциях фигур и форм, которые — в противоречии действительным соотношениям тел — вытянуты в высоту. Их стройность и их изящность, избегающие всего давящего и всякого указания на землю, представляются преодолением материальной связанности духовными силами.
К этому присоединилась (когда в течение общего подъема ввысь все больше завоевывали место специфические статуарные задачи и вместе с ними стремления к идущему дальше статуарному оформлению и оживлению тел) также и более узко скульптурная и мало-помалу вообще фигурная норма движения изогнутой, гибко и мелодично подымающейся телесной линии. Ее подымающийся в обычно мягких дугах, а порою также и в страстной подвижности бег звучит во всех контурах членов и одежды, и позднее он был перенесен также и на декоративные формы.
Эта готическая аксиома движения не возникла, как обычно думают, из необходимости вписать подвижные фигуры в определенную данную форму каменной глыбы[43], но воплощала в себе подобно figura serpentinata маньеристов XVl в. некое идеальное, с господствующей художественной точки зрения, решение статуарной подвижности фигуры. Преимущество его заключалось в том, что оно позволяло выводить тела во всех частях, как выражение стремления ввысь, из состояния покоя, и при этом (в противоположности к искусству барокко) без помощи естественной телесной динамики, которая бы противоречила в готическом искусстве антиматериалистической идеальности изображения. В этом смысле изогнутая готическая линия тел и форм, — где наряду с новыми устремлениями видны уходящие далеко назад эстетические энергии и достижения[44], — принадлежит, без сомнения, к признакам новой сверхчувственно-телесной красоты, что в божественной имманентности поднимала смертные формы на легких крыльях лирически мягкого, мистически неустойчивого и одухотворенного преодоления всяческой земной тяжести в сферы бессмертной реальности сущностей. Она была поэтому связана прежде всего с силами, которые были для средневековой фантазии высшим понятием небесно одушевленной и благотворящей красоты и грации. Не случайно, что в их высшем и самом чистом воплощении — в изображении мадонны — можно одновременно наблюдать этот канон движения в его самой выразительной и совершенной проработке[45].
Это изображение не было единственным. Изображения Христа и апостолов, пророков и отцов церкви — фигур, которые должны были сделать наглядною возвышенность божественной мудрости или воплотить основанную на вере в потустороннее этику христианства, обычно лишены плавного легкого изгиба, который заменен тяжеловесным вертикальным положением, производящим, однако, впечатление не придавленности (подобно прочному и уверенному стоянию, как в родственных античных мотивах), а, наоборот, неудержимого роста вверх, порою кажущегося прямолинейным воспарением. Это впечатление поддерживается противоестественным контрапостом верхней и нижней частей тела фигур, представленных с ногою, выставленной вперед в диагональном направлении по отношению к зрителю. Контрапост так мало бросается в глаза, что он едва воспринимается при беглом наблюдении в качестве несоединимого с органическим движением тела. Вместе с тем его хватает на то, чтобы слегка сдвинуть все формы из их спокойного, определенного естественной игрою сил положения и превратить выявление господствующих над фигурою вертикалей в выражение независимого от этих сил, свободно развивающегося движения. В связи с тем, что фигуры стоят на узкой базе или часто punto de' piedi[46], в связи также с незначительным подчеркиванием телесного, античный мотив статуарного, твердого или эластичного стояния на земле превращен в иллюзию парения в свободном пространстве.
Одним из наследий старохристианского искусства было изображение божественных и святых фигур (когда они должны были являться перед зрителем, увлекая его к себе в качестве представителей власти сверхъестественных сил) парящими в похожей на сон дематериализованности. Этому наследию оставались верными еще и тогда, когда статуарнаятелесность вновь вошла в круг художественных интересов. Из его основной концепции развились две ведущие схемы движения в статуарном искусстве готики, одна — как новое создание, другая — как новое толкование наиболее важного классического мотива стояния согласно требованиям этой концепции. Обе были выводами из действующих в духовной жизни средневековья элементов, более старых и новых, классических и христиански-средневековых, соединенных в некое внутреннее единство высшими инстанциями идеалистической системы готического периода. Вместе с тем они были также исходной точкой наиболее важных статуарных решений и всего последующего статуарного искусства, происхождение которого должно нам в силу этого представиться в новом свете.
Из вовлечения телесного бытия в объединяющий миры и времена полет в трансцендентное, который покорил субстанциальную форму масштабам и законам искомой бесконечности, возникло новое понятие и содержание статуарной монументальности, которое не было возвращением к классике и также не воспринималось в качестве такового, но должно было представиться его создателям стоящим выше античности[47]. Художественные планы и проблемы скульптуры в том, как их открыл греческий гений, могли быть для новой монументальной свободной скульптуры средних веков так же, как и система греческой философии для средневекового мышления, только вспомогательным средством в решении задач, которые почитали более высокими. Именно этим путем они были вновь введены в эволюцию европейского искусства и получили возможность в последующем (когда первоначальная связанность в известной мере ослабела и была заменена иною, стоящею им ближе) развиться до степени относительной самостоятельности, приблизившись вновь к достигнутому в античности значению. В проработке формальных достижений могли даже далеко превзойти античность, не возвращаясь, однако,фактически к ней. Ведь никогда более уже не могли в той мере, как в античности, изображать монументально неизменное объективно и воплощенным субстанциально вне нашего духовного отношения к этому после того, как осознали, что его надлежит выводить в конечном итоге из идеального познания взаимосвязей, выходящих за пределы единичного объекта, и научились соотносить его с внутренней жизнью людей, чего, впрочем, теоретически требовали уже в идеалистических рассуждениях греческой философии, но что стало постоянным духовным достоянием человечества лишь на основе христианского идеалистического мировоззрения, охватывающего все жизненные ценности.
И в изображении отношения фигур к их пространственному окружению мы можем также наблюдать подобное положение дел. Три внутренне связанные особенности бросаются при этом главным образом в глаза; наиболее ясно можно наблюдать их в живописи. Передача пространственной сцены — по сравнению с колеблющейся между полнейшим растворением и приближением к античным формулам беспорядочностью предшествующих стилистических ступеней — стала целостнее и упорядоченнее, стала в отдельных мотивах ближе к природе и органичнее в их связывании. При этом данный прогресс совершенно не был связан с более последовательным построением природной сцены и с ее более сильным пространственным воздействием в соответствии с изображенной ситуацией! Наоборот, прилагались старания по возможности исключать всякое пространственное углубление картины, так что фигуры и сжатые наподобие кулис здания кажутся приклеенными друг к другу, а архитектура часто является только тектонически расчлененным обрамлением фигурной композиции и придает картине вид плоской декорации, отказывающейся от передачи пространственной глубины.
Это, однако, не означает, что ранняя готическая живопись и пластика отказывались от всякого пространственного воздействия. Об этом не может быть и речи. Только отношение фигуры к пространству было построено иначе, чем в античном или новом искусстве, из которого мы обычно исходим в суждении о передаче пространства. К характерным чертам раннеготической живописи принадлежит стремление не строить композицию в глубь плоскости изображения, как мы это привыкли, а выдвигать ее из плоскости картины наружу к зрителю[48]. Фигуры, по меньшей мере те, которые являются наиболее важными в изображенном событии, — как правило, не размещаются на горизонтальной поверхности уходящего вглубь отрезка почвы, а стоят на самом внешнем краю изображения, пересекая внутреннюю рамку изображенной сцены; таким образом они кажутся находящимися не сзади, а перед переданной в виде живописного фона картинной плоскостью. Они как будто подчиняются силе, которая выдвигает их из глубины картины навстречу зрителю, тесно приближая к ним и находящиеся за фигурами предметы.
Можно ли вообще при этих обстоятельствах говорить о глубине изображения? Следует указать здесь на вторую особенность готического изобразительного искусства — на изобретение коврового фона, который, как правило, связывается с описанным расположением фигур. Его, конечно, не надо воспринимать натуралистически, хотя бы как завершение внутреннего пространства, так как он применяется также и при пейзажных сценах, или как обрамление для обозначения атмосферных явлений. Таким образом, он вряд ли означает что-либо иное, чем то, чем он является на самом деле, а именно: орнаментально украшенной плоскостью, перед которой стоят и связываются в пространстве фигуры приблизительно так же, как готические статуи перед стеной фасада. Можно было бы привлечь для сравнения «Отцов церкви» Корреджо, как бы парящих в пространстве церкви перед массой стены, а также все их барочное потомство; но в готике речь шла не так, как у Корреджо и его последователей, об изображении единичного, чудесно привидевшегося события, а об общей композиционной закономерности, значение которой не может быть неясным, если привлечь во внимание ее возникновение, а также ее совпадение с похожими явлениями современной ей скульптуры.
Ее начала надо искать в позднеантичном искусстве, к числу наиболее важных новшеств которого, по Риглю, «следует отнести изоляцию форм в их трехмерной полнопространственной замкнутости по отношению к основной плоскости, а также получающуюся отсюда эмансипацию промежутков». Нечто похожее можно, пожалуй, сказать и об отношении готических фигур к «фону», от которого они отделяются так, что пространственный план между ними и задней плоскостью может вызвать представление о свободном пространственном окружении трехмерной формы. Но если в этом фундаментальном изменении и можно, без сомнения, искать корни готической пространственной композиции, то все же ее нельзя воспринимать только как продолжение существования древнехристианских принципов.
Обратим внимание на различие. В позднеримском искусстве развитие пространственного изображения было основано на том, что кубическая, трехмерная форма была превращена в ценности, соответствующие преходящему явлению в пространстве, и как таковая поставлена в связь с оптическими ценностями окружающего ее свободного пространства. Все измеримое, ощутимое — все, что указывает на кубическое вытеснение пространства, — потеряло свою силу и власть и было заменено оптической видимостью, растворением форм в красках, свете и тени, в линиях, которые означают не ограничение форм, а представление о пространстве. Это естественно должно было привести к тому, что в изображение было втянуто также и отношение фигур к окружавшему их нематериально ограниченному пространству, к тому пространственному плану, в котором они находятся. Почти бестелесно, в одухотворенной дематериализации, фигуры отделяются от фона и организуются повсюду, где они должны представлять мысленное единство, в идеальном зрительном плане, в котором они выделяются подобно ряду параллельных оптических фантомов из идеальной, также представленной только как оптическое впечатление пространственной зоны.
Пространство стало, таким образом, идеальным задним фоном, выражением ориентации в глубину, которая дана не замкнутым отрезком пространства, а представляется абстрактным движением в глубину неограниченного пространства, в котором расположены фигуры, чтобы — поскольку они задерживают на миг движение — приковать взор зрителя бестелесной, как сон, и все-таки живою мгновенностью и непосредственностью, — а затем направить его в искомом направлении. Подобную роль играло пространственное окружение и в позднеантичном искусстве, там, где оно получало свое значение в промежутке между отдельными фигурами, как «интервал», и там оно обозначает в первую очередь обрамление формы и в качестве такового разъединяющее начало. Поскольку оно становится самостоятельным эстетическим фактором, его функция оказывается соподчиненной материальной форме и ведет к характерному для древнехристианского искусства ритмическому чередованию формы и пространства, света и тени, чередованию, превращающему объемную форму в плоскость, а эту последнюю — в зеркало определенно направленного или излучаемого во все стороны движения пространства и формы.
Таким образом, прогресс в передаче пространства по отношению к классическому искусству состоял главным образом в том, что эта передача из атрибута ограниченного местом пространственного соотношения в его предметно объективном значении превратилась в общехудожественное средство выражения. Мало-помалу лишаемое своего первоначального натуралистического значения пространство в новом христианском искусстве должно было все больше служить тому, чтобы «растворить» материальную консистенцию и механическую связь тел и отдельных форм некоей материально-пространственной конструкцией, чтобы заменить их связь с индивидуализированным пространственным окружением универсальным пространственным действием, чередуя это последнее с абстрактными пространственными ценностями. Благодаря всему этому было получено средство для подчинения в живописных и пластических изображениях всего, что было связано с телесным бытием и жизнью чувств, новому психоцентрическому восприятию, которое, исходя из веры в сверхъестественную причинную связь вещей, должно было стремиться и в искусстве к абстрактной надприродной закономерности и значительности на антиматериалистической основе.
Ясно, что это открытие свободного пространства как неотделимой обратной стороны каждого формального замысла не должно быть смешиваемо с натуралистическим требованием новейшего искусства — представлять каждый предмет как часть какого-либо пространственного отрезка. Однако основополагающий базис для этого принципа в искусстве нового времени был создан в эпоху тех великих духовных переворотов, что вели от античности к средневековью, и именно таким способом в полном значении этого слова искусству открылся новый путь, на котором оно, как когда-то архаическое греческое по отношению к древневосточному, невзирая на степень достигнутого совершенства, могло двигаться вперед действительно с «самого начала» из некоего первичного состояния к новым возможностям и завоеваниям, заключавшимся, когда речь идет о средних веках, бесспорно, не в приближении к природе, но в общем развитии новых художественных пространственных функций, история которых могла бы предоставить возможность глубоко заглянуть в существо средневекового искусства и его развитие.
Чтобы еще раз обозреть путь, проделанный от готики в этом направлении, следует еще раз вернуться к монументальной скульптуре готического периода. Основное новшество заключалось в том, что фигуры не расчленялись больше на скрывающие их материальность совокупности оптических намеков на форму и пространство, затененные впадины и светлые возвышения, нейтральные плоскости и бестелесные линии, производящие впечатление антиматериального рефлекса пространственного события. Из этих элементов, — как того требовала художественная игра или, лучше сказать, сверхнатуральное исповедание, — они были вновь составлены без учета естественной верности, но даже более того — они были пересозданы как кубические тела, которые должны действовать как таковые в их отношении к пространству. Нетрудно узнать в их — по возможности — фронтальном чередовании, идущем в глубинной зоне параллельно к заднему плану (которое не имеет ничего общего ни с классической рельефной пластикой, ни с античным изолированием статуй в себе), следы происхождения от позднеантичного и действовавшего и дальше, на протяжении всего средневековья, композиционного принципа помещения фигур в зрительный план, идущий параллельно вертикальному разрезу идеального пространственного заднего фона. Но фигуры стоят теперь материально во всей своей осязательной пластической оформленности перед стеною фасада или какой-либо другою стеною, от которой они фактически отделены пространственным слоем; т. е. речь идет не об общем идеальном понятии пространства, как в позднеантичном или раннем средневековом искусстве, но о действительном трехмерном пространстве, в котором располагаются кубические тела, в котором могут развиваться пространственные события и которое прежде всего и зрителю предстает в многообразной относительности, свойственной индивидуальному восприятию реального отрезка пространства.
Сюда включаются линии развития романского искусства, в котором начали играть новую роль материальность и материальная пространственность форм, их спокойная неизменность и свободное пространственное раскрытие. Целью стремлений стало более сильное объективирование трехмерной функции тел, что частично должно было привести к новому приближению к классическому искусству, и еще больше — к его христианизированной «внучке» — византийскому искусству[49]. Античная верность природе и формальная завершенность оставалась, как раньше, по ту сторону художественных интересов, но пластическое окружение тел (как это можно было наблюдать на древнейших античных памятниках и как его еще более верно сохраняло новоэллинизированное позднеантичное искусство в Византии) и мотивы стояния, пригодные для того, чтобы делать наглядными фигуры в качестве расчлененного в компактном объеме и подвижного единства, — все эти специфические проблемы пластической формы стали в романской скульптуре и живописи (при новых предпосылках и наряду с другими новыми моментами развития) мало-помалу снова живыми факторами[50]. Они оказывали влияние на то, что в рамках старых композиций фигуры все больше развивались от схемы пространственного явления до передачи осязательной телесности и полной пространственности.
К этому присоединилось еще и кое-что другое.
Описанное развитие не было связано с отрывом новых формальных образований и лежащих в их основе проблем от высшего комплекса пространственных ценностей, которому, начиная от времени императорского Рима, принадлежала ведущая власть над художественным созиданием. Под этим не следует понимать остатков передачи натуралистических сцен, ограниченных случайными предметами, намеками или принужденных также включаться в высшее композиционное единство, — пространственное подчинение состояло в охватывающем все части и определяющем их художественные задачи идеальном пространственном соответствии. По отношению к нему новая, — покоящаяся на элементах осязаемой субстанциональности и вытеснения пространства, — система форм оставалась неантичной, оставалась в основе своей несамостоятельным коэффициентом. Романскому художнику никогда бы не пришло в голову нарушить ради нее то соответствие между формой, пространством и его ограничением, между статическими силами и ритмическим движением в пространстве, между мертвой массой и организующим и отрывающимся от нее потоком одухотворенной упорядоченности и значительности, которые были глубочайшим смыслом и целью романского искусства. Правда, подобная метаморфоза охватила как фигурное построение, так и большое, созидающее пространство искусство, благодаря чему тектонические и пластические члены и формы получили измененное значение для всего пространственного целого, для самого пространства и его ограничения. По отношению к этим последним, а значит также и в связи с целостным большим пространственным построением, эти члены и формы в большей мере, чем раньше, заменяли пространственную иллюзию объективным, реальным объемно-пространственным бытием и действием. Столбы романской церкви — не только члены ритмической линии движения, но в не меньшей мере и тяжелые массивные тела, вызывающие представление объемного стояния и распространения в реальном пространстве. Стена распадается на отделения («травеи»), благодаря чему то же стремление разложить композицию на кубически действующие единицы переносится и на ограничение пространства, на гладкую до того по существу плоскость заднего плана, переносится в известной степени даже на само ограниченное пространство, превращающееся из неопределенного идеального пространства в систему пространственных единств, в основе которых лежало представление измеримого, действующего, как пространственное тело, отрезка пространства[51].
В готике из этого были сделаны самые радикальные выводы, которые вместе с тем означают разрыв с прошлым и начало нового развития. Ограничивающая стена в принципе исчезает, т. е. перестает быть эстетическим средством и — где только возможно — заменяется пластическими телами и даже свободным пространством. Преграды между внутренней, отграниченной от всего касающегося земли сценою религиозных и художественных действий, протекающих в пространстве, а также духовных переживаний, с одной, и внешним миром — с другой стороны, — преграды между идеальным и реальным пространством исчезли, и вследствие этого естественно должна была исчезнуть и вся искусная игра, благодаря которой в романском искусстве план базилики превратился в «связанную систему» геометризированных пространственных схем. Как колонны в древнехристианской архитектуре, столбы включаются в готических соборах в ряды, подобно неразрывному ритмическому чередованию тектонических отдельных тел. Это могло бы вызвать представление, будто христианское искусство в этом отношении снова приближается к своему исходному пункту. Но как много лежало посередине! Дело в том, что не из отношения к данной и ограниченной, отделенной от всего другого идеальной области пространства вытекали художественное назначение и образ этих готических пери-стильных композиций, если мы их можем так называть. Они были связаны только с бесконечным, универсальным свободным пространством в его реальном величии и протяжении, с его априорно неограниченными масштабами, которые делали все остальные относительными. Они вырастают со сверхъестественной силой и упорядоченностью из земли ввысь, простираются в далекие глубины, склоняются друг другу навстречу, образуя огромные залы, будучи эманацией материальной конечности в вечном, безграничном мировом пространстве, и смыкаются, чтобы отграничить божий дом, жилище устремляющегося ввысь сознания, в сферы чисто духовного, как священную рощу, от всего мирского. Но это отделение не означает некоего конца, непреодолимо разводящего несоединимые и несравнимые миры. Отграничение пространства покоится не на противопоставлении, а на связи, и то, что оно обрамляет, но не изолирует, — это вырез из неограниченной вселенной, который, будучи наполнен связями надчувственной закономерности в области чувственного восприятия, превращен в художественное средство, в источник художественного ощущения и значительности. Отсюда вытекают следующие стадии средневековой эволюции в отношениях между формальной и пространственной композицией:
в христианской античности и в начинающемся средневековье: абстрактная духовная связь и движение дематериализованных форм и идеальном пространственном окружении;
в романском искусстве: включение соподчиненных объемных форм и идеальных, но кубически замысленных пространственных тел в абстрактную композиционную схему;
в готике: идеальная связь объемных форм в реальном вырезе из бесконечного пространства.
Этот знаменательный ход развития имел следствием первый шаг к открытию естественной, все охватывающей, неограниченной вселенной, первый шаг к господствующему в новое время воззрению, которое видит в ней высшее единство, по отношению к чему все отдельные вещи и феномены природы являются только частичными явлениями. Какие горизонты этим открылись художественному видению и духовной жизни, — начиная от открытия величия «расширяющего душу вида с горы Венту» Петрарки до преодоления геоцентризма и Евангелия того мировоззрения, для которого вечные процессы во вселенной означают происхождение всех форм жизни, а их исследование — путь к познанию и погружение в них — духовное возвышение, — какие этим открылись горизонты, не стоит, очевидно, рисовать, напротив, мне представляется важным подчеркнуть, что надлежит искать причины этого развития, и это относится также к его умозрительным началам, т. е. в трансцендентном отношении средневековья к вечному, бесконечному космосу, необходимому дополнению к бесконечному божественному воздействию.
Таким образом, чтобы вновь вернуться к исходной точке настоящего рассмотрения, ориентированная по отношению к зрителю связь пластических и тектонических форм в неограниченном, реальном свободном пространстве оказывается лежащей в основе пространственного построения готических произведений искусства. Отсюда объясняются их многие черты: более глубокий смысл включения фигур в глыбу, в пространственный объем, включения, которое не только господствовало в готике, но к которому вернулись и позднее, когда речь зашла о том, чтобы выразить полное пространственное действие тел убедительно и художественно подчеркнуто. Также и новые художественные отношения статуй к зданию, которые они должны украсить, становятся в силу этого понятными. Стена, перед которой стоят статуи, поскольку она вообще является объектом внимания, по возможности расчленяется, причем пропорции фигур обычно не принимают в расчет иначе построенных (подобно ландшафтным задним планам картины) мотивов этого членения, а согласовываются с проходящим свободно пространственным расположением здания. Стена заднего плана не должна была действовать ни как рельефная плоскость, ни как заключающая архитектоническая рама, а как нейтральная декорация заднего плана, которая наличествовала, поскольку без нее нельзя было совсем обойтись, и художественно была не больше, чем пространственное промежуточное звено; последнее в то же время в качестве непреодолимого препятствия по пути направленной от зрителя проекции в глубину (mutatis mutandis, подобно фигурам среднего плана в позднейших перспективных конструкциях) тем более действенно выявляло желательную пространственную связь и воздействие статуй, но только не натуралистическим путем. Порою, однако, там, где это возможно, от стены отказывались совсем, ставя отдельную фигуру или (особенно часто в рельефах) всю фигурную композицию в нишу, как на сцену, стены которой исчезают в тени, т. е., ставя фигуру в настоящий, кажущийся неограниченным и все же художественно связанный с изображением отрезок пространства. Это особенно наглядно показывает нам принципиально новую связь искусства и действительности, духа и материи, связь, из которой оно проистекало и которая должна была стать колыбелью нового художественного восприятия природы в ее элементарном, идеалистически обусловленном, первичном виде.
Теперь могло бы стать понятным также и отношение между формой и пространством в раннеготической живописи. Задний фон и зачастую также и обрамление изображения имели для него второстепенное значение. Задача живописи состояла в том, чтобы подчеркнуть свободу фигур от пространства; между фигурами и задним планом вводился пространственный слой; последний, однако, — что выражается в их красочной трактовке и орнаментации, — не может быть истолкован ни как реальное ограничение пространства, ни как означение пространства идеального так, как в древнехристианском искусстве. По отношению к действительным пространственным соответствиям, свободной связи трехмерных тел в вырезе из неограниченной вселенной, этот слой остается тем, чем является материально, — фоном живописи, плоскостью стены или пергамента, которая порою чрезвычайно роскошно украшается золотом и великолепными красками, но всегда так, что характер материально данной, но по отношению к желаемому изображению объектов и их связи в пространстве самой по себе глубоко второстепенной живописной плоскости остается вне сомнений.
Есть доказательство этого толкования, замечательнее и убедительнее которого нельзя себе представить. Наиболее самостоятельным созданием эволюции живописи в переходе от романского периода к готике, наиболее чистым примером существа живописных целей последней были картины на стекле. То, что этот хрупкий, трудный и необычный род живописи получил такое большое значение и достиг такого совершенства, объясняется не в последнюю очередь тем, что он во многих отношениях, как никакой другой, соответствовал требованиям, которые в первую очередь художественно предъявляли к живописи. Большие готические стеклянные окна образуют стены, которые не являются стенами, они ограничивают пространство церкви, но в то же время образуют связь с неограниченным мировым пространством. Связь обусловливается здесь (и в этом состоит не менее далеко идущее новшество, чем в завоевании свободного пространства) естественным светом, который, однако, вследствие того, что он должен проникать сквозь красочные стекла, сам красочно изменяется и предстает как сверхъестественное сияние, излучающееся от фигур на картинах. И сами эти фигуры, в контуры и плоскости которых убедительнейшим образом переведена та монументальная отвлеченность и гармония, что были готическим идеалом персонификации божественного, выступают, как бы выходя из дальних далей, как небесные гости, излучая из сумерек свет, стирающий все границы, «как ничто другое», появляются как посланцы временной и пространственной бесконечности, и происходит чудо духовного, сверхъестественного «преображения», чьими орудиями становятся видения в реальном безграничном пространстве и заполняющем и ограничивающем ero свете.
Во всем видимом мире вряд ли найдется впечатление, более властно создающее настроение, — это слова Юлиуса Ланге37, которому мы обязаны блистательной характеристикой средневековой живописи на стекле, — чем то, что охватывает зрителя в интерьере какого-либо большого готического собора, когда все лишь неясно мерцает в сумеречном пространстве, и глаз не может ничего различить дальше тех ясных, светящихся фигур, что парят наверху, с западной стороны, строгими праздничными рядами или в мистических комбинациях линий, когда их пронизывает горящими лучами вечернее солнце. Тогда вспыхивает ощущение пламени, и все цвета поют и ликуют и рыдают. Это, истинно — другой мир».
И ведь этот другой мир, добавим мы, тот, что вздымал к себе души, дал непосредственному чувственному переживанию также и новое художественное содержание, и если Ю. Ланге по праву отмечал [52], что гениальность готической живописи на стекле состояла в том, что «люди средневековья вследствие господствовавшего духовного направления нашли естественное средство, чтобы вызывать впечатление сверхъестественного», то это можно было бы дополнить тем, что и наоборот, новые природные коэффициенты этого апофеоза стали через связь с возвышенным (видеть которое, исходя из средневековых взглядов, было отказано человеческому глазу) также и его частью и с того момента образовали постоянную составляющую высших духовных благ человечества.
Когда трансцендентная обусловленность отходит на задний план, эта составляющая приобретает самостоятельное значение: уводящая взгляды вглубь за границы видимого на горизонте, через божественную природу и человеческие создания, широта пространства, волшебство света, окутывающего земные вещи праздничным сиянием или словно бы сказочным покровом, а, переплетая их своими нитями в пространстве, являющего все эти создания в зеркале вечного космического бытия и жизни, лишенными индивидуального воздействия или самоопределения, света, пробуждающего представление о чудесном покое, находящемся по ту сторону поступков и воли, все это само становится захватывающим чудом, которое искусство смогло открыть людям.
Было бы заманчиво и дальше проследить творческую силу средневекового спиритуализма, на которую (и не только в искусствоведении) до сих пор слишком мало обращали внимание, но для нашего рассмотрения должно быть достаточно представить ее на примере важнейших стилистических особенностей ранней готической живописи и скульптуры.
Общим для всех этих особенностей было нерасторжимое единство духовного и формального содержания произведений искусства с субъективными, психическими процессами, что было наследием всего христианского искусства с самых его начал, но обрело новое значение через включение природных ценностей бытия, о чем мы еще услышим. Слова св. Фомы о «гласе Божьем в нас, что учит нас познавать правильно и верно» — это не только признание религиозного откровения, но в них заключено одновременно и то всеобщее учение о познании, в котором содержится начало конца всего гордого томистского строя мышления.
НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
На огромном фундаменте средневекового спиритуализма, значение которого для искусства мы пока что больше предчувствуем, чем действительно знаем, совершался не только предметно, но и формально, начиная с XII в., возврат к природе, к чувственному миру[53] . Он покоился, как уже указывалось, на всеобщем духовном примирении с земным миром, который допустили в качестве места действия весьма достойных дел и как необходимую первую ступень вечного бытия избранных. В искусстве это примирение выразилось в том, что на природу перестали смотреть как на принципиально не имеющую значения для понимания художественных задач, но, с определенными оговорками, заново открыли ее для искусства.
Яснее всего выступает перед нами это изменение, со всеми связанными с ним новшествами, в изображении человека, причем этот прогресс, по крайней мере в первый период, мы опять-таки лучше можем проследить на примере творений пластики, чем живописи, где старые, покоящиеся на других предпосылках композиции действовали более долго. (Позднее это соотношение становится обратным). Концентрация интересов на надмирных истинах имела в раннем средневековье то следствие, что тело играло совсем подчиненную роль и приобрело в художественных изображениях, как в древнегреческом архаическом искусстве, безжизненный, негибкий, глыбообразный характер. Не сильно подвижные фигуры, — которые там и здесь применяет средневековье, как наследие больших исторических циклов древнехристианского искусства (подобно тому, как в искусстве современности продолжают жить барочные мотивы), — а строгие «осевые» фигуры, также являющиеся наследием древнехристианской античности, которые поворачиваются к зрителю и между собою лишь слабо связаны жестами, а в большей мере внутренней общей духовной потенцией, воплощают стилистический прогресс средневекового искусства как в скульптуре, так и в живописи.
Когда духовная ориентация снова начала обращаться к человеку в земном его бытии, застывшие символы людей снова ожили, но произошло совсем не так, что их снова вернули к их классическому происхождению или что искусство пошло по дороге, похожей на путь греческого искусства, когда последнее старалось придать древневосточным и собственным архаическим созданиям большую степень непосредственной жизненности. У греков это оживотворение покоилось в первую очередь на наблюдении и изображении физических мотивов движения, которые, будучи даны в определенных образных представлениях, были сведены к их природной закономерности и причинности, к их органической связи и к лежащим в их основе волевым актам; человек как духовное существо художественно вскрывался только в зеркале материальных событий. Но в новом готическом искусстве (по всему ходу его истории, состоявшей в преодолении античного художественного материализма) это сначала совсем не могло быть принято.
Таким образом, статуи или написанные отдельные фигуры еще долго сохраняют глыбообразный характер, и в изображении физических мотивов движения можно наблюдать — вплоть до вторжения ренессанса — сильнейшую связанность[54], по отношению к которой отдельные маленькие достижения едва ли могут быть приняты во внимание. Было избрано, таким образом, другое средство, при помощи которого преодолевался безжизненный, кристаллический, неподвижный характер древнейших средневековых фигур, и этим средством было духовное оживление. Путем выражения духовного, будь то в целом, как изображение связующей духовной тенденции, будь то в особенности, как передача духовного соприкосновения или духовной характеристики, в мертвые создания вдохнули новую жизнь. Новый послеантичный натурализм исходит от восприятия человека как духовной личности: это было исходным событием нового художественного развития, которое должно было оказать решающее воздействие на все отношение к природе. Это было тем неизбежным следствием всего развития христианского искусства, которое с самого начала, на что уже указывалось, положило в основу изображения фигур и их композиционных связей не действия, но духовные ситуации. Однако же на ранней стадии этого развития основная психическая составляющая художественной концепции была почти имперсональной, той высшей духовной силой, что властвует надо всем происходящим, отчего временами и возникает то резкое противоречие между психическими и физическими событиями, что современному зрителю, привыкшему сводить их к некоему единству, должно показаться варварским и противным здравому смыслу. Хотя метафизическое мировоззрение было уже связано с относительным признанием земных чувственных ценностей, однако же психоцентрическое восприятие бытия осталось, как и прежде, определяющим для всех областей жизни, тем самым — и для отношения к природе, причем разница состояла в том, что эту одухотворенность искали не исключительно в трансцендентных субстанциях, ее толковали не как некую господствующую по ту сторону естественных явлений и событий силу, но как по возможности связанную с ними, с чувственным восприятием и психическим опытом[55]. Рассмотрим важнейшие следствия этого развития.
В нем заключался, наконец, существеннейший шаг к полному изменению идеальности в изображении человека. В основе этого изображения лежал не художественно освоенный до степени высшего совершенства механизм тела, но оно покоилось, в основном, на духовных, в первую очередь спиритуально этических достоинствах. Целью нового искусства были не телесные идеальные образы, через материальную красоту и соразмерность которых должно было быть художественно достигнуто среди всего бытийного нечто более высокое и возвышающее, нет, целью были духовные индивидуальности, что противопоставляли повседневности понятие интеллектуально и этически более высокого человечества. Это нельзя толковать так, будто земная телесная красота была принципиально исключена. Вплоть до готики с нею, правда, боролись или по меньшей мере она не играла никакой роли[56]. Только божественные фигуры и ангелы сохранили в раннесредневековом и романском искусстве отблеск классического совершенства форм. В общей же массе фигур нельзя найти и следа от этого. В большинстве они представляются искаженными, непропорциональными, гротескными и карикатурными, как в начале развития в VII и VIII вв., так и в своих последних романских вариантах, так что нельзя говорить ни о постепенной утрате классического канона, ни о постепенно преодолеваемой примитивности[57]. При этом вовсе не хотели достигнуть, — как порою в новейшем искусстве, — безобразно-характерного, а только подавляли все, что напоминало о достоинствах телесного, о культе тела и жизни; этим и объясняется мумиевидный характер изображений. Старый классический формальный канон превратился, поскольку его лишали всего жизненного и материально действенного, в старчески сморщенное привидение, и эта черта, соответствующая основному направлению художественного восприятия, выступала и там, где в связи с новым средневековым развитием формальных проблем снова, как это было в девятом или одиннадцатом веках, делались попытки принять вместе с классическими формальными решениями также и классические конструкции форм. Раннее средневековье имело идеалы, независимые от таких конструкций, и то, что мы видим вплоть до XII в. в качестве следов художественного прославления человека, было скорее остатком прошедших времен или рабочей формулой, нежели новым достижением.
В этом, конечно, можно отметить и начавшееся вместе с более светской ориентацией духовных интересов изменение, которое также вполне осознавали. Греческое понятие красоты было вновь введено в литературу, причем ссылались главным образом на Августина и на «неоплатонического псевдоапостола, эстетика между отцами церкви», Дионисия Ареопагита[58], объяснение писаний которого играло важную роль в рамках художественного учения Фомы Аквинского и которому Данте воздвиг непреходящий памятник. Старые темы эстетической спекуляции были подняты вновь, получив, однако, новое содержание. В то время, как для Августина исходной точкой всех художественных идей была абсолютная сверхчувственная красота бога, выражающаяся как «живой ритм и чисто духовная форма и целостность грандиозной мировой поэмы»[59] , мыслители готической эпохи отвели красоте чисто светскую сферу, причем она, разумеется, должна быть связана с honestum, что, по словам Фомы Аквинского, толковалось как «духовное украшение и красота[60]. Из этой связи возникло новое понятие художественной красоты и возвышенности, в котором материально красивая форма представляется выражением духовных преимуществ. Готические мадонны являются образами прекрасной женственности, святые рыцари — благородной молодой силы, апостолы и исповедники — воплощением несокрушимой мужественности. Святые фигуры должны обладать доступной чувствам телесной красотою: отсюда был найден путь как в искусстве, так и в его теории, не только к миру чувств, но и к античности, путь, выходящий за рамки средневековья. Однако ударение делается не на телесной характеристике, а на связанных с нею духовных свойствах, на очаровательности нежно чувствующей женщины, на крепкой, но преданной богу воле христианского борца, которому чуждо всякое высокомерие, на мягкой, зрелой мудрости основателя и учителя нового человечества.
В этом союзе спиритуалистического идеализма средних веков с новым утверждением мира заключено происхождение нового художественного восприятия человека, которое мы обозначили как стремление раскрыть духовную личность, и которое должно было привести также и к новым предпосылкам в передаче натуры в изображении человека. Духовные индивидуальности требуют естественным образом также и телесной индивидуализации, и если в этой индивидуализации сначала замечается сильная, заданная основными линиями христианских жизненных заповедей типичность, то в таких схемах речь шла не так, как в античности, — о синтезе индивидуального в едином телесном идеале, — а о сходстве сущности отдельных индивидуальностей, сходстве, которое, хотя, возможно, и придавало созданиям первого периода этого нового искусства условный характер, но вело не к последовательному синтезу, а вместе с сильнейшим ростом новой духовно-светской организации человечества к прогрессирующей индивидуализации, тем самым знаменуя начало процесса, который, несмотря на некоторые более поздние отступления, и сейчас не может быть признан законченным.
Но изменилось не только понятие личности. Стало иным и отношение ко всему внешнему миру, как только им начали опять интересоваться, на основе смещения акцента на психические феномены, что отделяет христианскую эпоху от классической. В развитие этого переворота, берущего свое начало в философских и художественных проблемах поздней античности, христианство с его верой в спасение и этикой человеческого мышления научило людей подчинять восприятие мира делу спасения души и христианской жизни или, другими словами, индивидуальной жизни чувств, индивидуальным религиозным, то есть духовным интересам. Индивидуальное ощущение и вера, видение и мышление, лично обусловленные духовные потребности и переживания сделались мерилом отношения к окружающему миру, который стали понимать как произведение духа. Это открытие мира в зеркале индивидуального сознания было, однако, вторым фундаментальным достижением, которое проявило себя, когда взор снова был направлен на этот мир.
В изображении человека новое одухотворение и проникновенность получили выражение трояким образом:
1) в изображении душевного контакта между отдельными фигурами. Психические взаимоотношения или конфликты еще долгое время не были, правда, самостоятельной художественной проблемой; но они, как это выявлялось из изображенного повествования, подчеркивались несравненно сильнее, чем раньше, превращаясь в интегрирующую часть художественного изображения человека. Так, посещение Марией Елизаветы — сцена, которая еще в романском искусстве воспринималась в античном смысле как материально подвижная группа, — в ранней готике превращается в почти недвижимое духовное соприсутствие, которое потом было заменено душевным диалогом;
2)в изображении ощущений, выражение которых не только было усилено (что можно наблюдать хотя бы в фигурах групп распятия), но которые также в первый раз в развитии искусства сделались (в качестве пассивных душевных процессов, начиная от тихого, обращенного вовнутрь самопогружения вплоть до самых сильных потрясений радости или страдания) самостоятельным содержанием художественного творчества наряду с действиями или на месте их;
3)в отношении к внешнему миру. В рядах статуй, украшающих фасад готического собора, мы можем сделать наблюдение, что фигуры в большинстве случаев стоят без какой-либо связи друг с другом и, за исключением символических намеков, вне всякого действия; но вместе с тем эти фигуры исполнены внутреннего напряжения, которое только покоится не на волевом акте, а на рецептивном психическом процессе: на созерцании, на осознании впечатлений, связывающих каждую отдельную фигуру с внешним миром. Ничто не может ярче осветить принципиальное различие нового искусства от антич ного, чем эта особенность, которая в состоянии объяснить старое выражение, что «готика открыла людям глаза». Но «готика открыла глаза» не только изображенным людям, а и изображающим. В связи с тем, что «приятие в себя», наблюдение, субъективное видение, взгляд на мир, как продукт духа,получили ведущую роль, естественным образом должно было в корне измениться и отношение между искусством и действительностью. Место объективной законченности, желания воплотить высшее понятие формальной данности, место всеобщего решения связанных с данностью проблем, решения,противопоставляемого единичным явлениям действительности, — это место заняло восприятие многосложности явлений природы и жизни[61], т. е. изучение природы в совсем новом, ранее никогда не существовавшем значении слова. Человек сделался центром искусства совсем в другом смысле, чем в античности: не как объект, а как субъект художественной правды и закономерности. Мерилом художественного достижения является сейчас не отыскиваемая художественной работой поколений норма, а вновь постоянно приобретаемые наблюдение и опыт. В то время как античность как можно больше оттесняла субъективное, оно теперь становится важнейшим исходным пунктом художественного творчества, и при этом во всех реальных областях жизни, т. е. не только так, как это было в первый период развития христианской культуры — лишь через отношение к метафизическому объяснению мира.
Это должно было иметь колоссальное влияние на искусство в двояком отношении. Прежде всего экстенсивно. Образные представления классического искусства были при всем своем многообразии ограничены; теперь же не было принципиально никаких границ, ибо мир того, что может быть наблюдаемо, — мир субъективных впечатлений, — неограничен. Таким образом, хотя в фактическом художественном овладении только постепенно (этот процесс также продолжается вплоть до современности), но в принципе, как художественно данная и разрешимая задача, уже в средние века для искусства был завоеван весь мир видимости и все, что с ним связано. Это новое, более широкое открытие природы ставили в связь с прирожденной любовью к природе новых германских народов. Но в противовес такому утверждению можно подчеркнуть, что ни поэзия, ни изобразительное искусство этих народов в предшествующие столетия не дают тому повода. В самом крайнем случае можно говорить лишь о предрасположении, тогда как фактическое расширение художественных задач неограниченными наблюдениями природы, без сомнения, было исторически обусловленным событием, подобно возникновению эмпирических наук.
Равным образом невозможно объяснить весь этот исторический процесс, из которого проистекает новое отношение к природе или, другими словами, открытие природы и человека, как это обычно называют, как некое обретение самостоятельности новыми народами по отношению к церковной жизни или как независимое от этого светское ренессансное движение человечества. Об этом не может быть и речи, так как новое всецело коренится в христианском спиритуализме средневекового мира, без которого новое художественное восприятие было бы столь же мало представимо, как и новая наука, новая поэзия, новое мирское, социальное осознание долга или новая светская жизнь чувств. Хотя на основе невероятно сложного исторического развития и происходит определенная секуляризация духовных сил, но не в противоречии с религиозной культурой средневековья, а исходя из ее основ и в ее рамках; и такие определяющие точки зрения как новое значение духовной личности и новое восприятие природы покоились на тех линиях развития, что не могут быть отделены от той перестройки человечества, что нашла свое выражение в христианстве.
Ясно, что с такой переменой должно было быть связано далеко идущее преодоление традиционных образных представлений. В то время как в предшествующем периоде мотивы изображения были ограничены определенными старыми циклами, которые расширялись или сжимались и многоразлично редактировались вновь, но всегда проходили в крайне ограниченном кругу образных представлений (который был ясно беднее, чем его ранние христианские предпосылки), начиная с середины XII века это ограничение пропало, и новый мир фантазии в необозримой, казалось, полноте влился в искусство. Не только были заново пересмотрены старые мотивы изображения, но были изобретены и новые, к которым присоединились многочисленные новые эпические и лирические, религиозные и светские темы. Тематическое обогащение искусства было не менее велико, чем то, которое произошло в XIX в. по отношению к искусству ренессанса и барокко, только с той разницей, что расширение изобразимого коснулось менее предметности природного наблюдения (хотя и здесь произошел большой переворот), нежели литературно-повествовательного элемента. Все средневековое искусство имело, как часто справедливо указывалось, сильно выраженный литературный и иллюстрированный характер[62]; и это было вполне естественно, что в той мере, как менялся и расширялся круг литературных интересов, как церковная и светская литература оказывалась пропитанной новым расцветом жизни фантазии, это находило свое выражение также и в изобразительном искусстве. Речь при этом идет не только о потребности снабжать новые произведения иллюстрациями, но также и о самостоятельном параллельном явлении. Бесконечные рассказы картин на стекле были церковным вариантом рыцарских романов. Но все-таки зависимость от литературного круга мыслен была не только в изображениях исторических или поэтических событий, но и в каждом изображении природы и жизни или в передаче отдельных объектов[63]. Без сомнения, не случайно, что между великой энциклопедией средневекового знания, «Зерцалом» Винцента из Бовэ, и поздними средневековыми изобразительными темами налицо величайшее соответствие; общий корень лежит в основе школьной книги и распространенных предметов изображения[64]. Не чувственные впечатления и первичные образные представления, как в античности, а теоретическое знание и почерпнутое из литературных источников образование были исходной точкой великого тематического обогащения, которое совершилось в готическом искусстве XII и XUI вв. И указало путь не только ему, но и всему дальнейшему ходу развития европейского искусства. В отличие от древневосточного и классического искусства, — где область художественного изображения с самого начала была ограничена определенными материальными отношениями и художественными проблемами, — европейская художественная жизнь приобрела в этом как почти безграничную программу, так и научно распространенную основную черту, вначале, пожалуй, выражавшуюся только в наивном расширении интересов, но потом переродившую все понятие художественного.
Еще более радикально, чем выход за пределы традиционных мотивов изображения, было преодоление традиционного формального восприятия. Это преодоление можно установить даже в самых неблагоприятных случаях, например, даже там, где, — как, например, в изображениях Христа или мадонны, — налицо был в качестве образца издревле принятый, как бы освященный тип, оказывавший в предшествующие эпохи самое большое сопротивление каждому изменению.
В то время как романское изображение Марии или Христа ясно представляется звеном развития как во всем типе, так и в трактовке одежды, форм тела, в рисунке и моделировке, в отношении между формой и плоскостью, между светом и тенью (развития, генеалогическое древо которого может быть прослежено вплоть до античности), в готическом искусстве эта непрерывность совершенно теряется, и если традиционная композиция иногда и сохраняется, то все же формы и решения, которые оно подсказывает художникам, оказываются новыми. Они покоились больше не на традиции, а на новом самостоятельном восприятии природы. Это совершенно ясно в изображениях, которые более или менее независимы от старых образных идей.
Вместе с перенесением акцента в отношениях между художником, природой и произведением искусства сделалось необходимым также изменение и в отношении формальных проблем, в том, что составляет вопрос о «как» в изображении природы. Решающие моменты субъективного восприятия и наблюдения должны были сыграть большую роль также в передаче формы и всех формальных и пространственных соотношений.
В качестве верного природе воспринималось не познание природы, поднятое до степени нормы, понятия и совершенства формы, а единичное наблюдение и индивидуально характерное. Таким образом, вместе с готикой победила не только предметно — по своему духовному содержанию, — но одновременно и стилистически — до последней линейной черты — Другая, новая верность природе, которая, несмотря на многие кажущиеся отступления, на все времена безоговорочно преодолела античность. Не в отдельных формальных или предметных достижениях или прогрессе, а в этом основном факте, решающем для всего будущего культурной сферы Запада, заключается значение нового готического натурализма. Подобно тому как в греческом искусстве по отношению к древневосточному, так и в готике достигло победы новое, коренным образом отличающееся от классического восприятие природы. Новое человечество, вышедшее из величайших духовных переворотов, заново начало, исходя из новых точек зрения и духовных интересов, художественно открывать природу. Развитие искусства нового времени нельзя понять, если постоянно не иметь это перед глазами.
Можно было бы, конечно, спросить, почему этот новый натурализм, влияние которого можно наблюдать во все последующие времена и который может быть нами назван индивидуально-рецептивным, почему в готическую эпоху он, несмотря на то, что он был абсолютно преобладающим в том, что касается наблюдения природы, все же не достиг полного развития помимо ограниченных начинаний? Это объясняется его уже раньше отмеченными трансцендентно-идеалистическими предпосылками. Ведь над миром чувств, над жизнью, над верностью природе и радостью от нее в нашем значении этого слова везде стояло еще и откровение, сфера надмирной, религиозной отвлеченности, бытие, которое следует не тем законам, что познаются чувствами и поддаются пониманию, бытие, которое нельзя мерить только преходящими мирскими ценностями[65]. И искусство должно было приближаться именно к этому вечному и беспорочному над-миру, должно было поднимать его до уровня зрителя. Возвышать не только через идеальную абстракцию, как это было в предыдущий период христианского искусства, когда тело и дух шли раздельными путями, но через соединение духовного содержания с обусловленным и ограниченным им чувственным воздействием идеальной и телесной красоты, при должном господстве первой.
Так, изображение Марии должно было быть большим, нежели только отображением красивой женщины, по-человечески любвеобильной матери; она одновременно должна была в бессмертной отвлеченности воплощать сверхземную благодать матери Бога. Когда апостолы и мученики характеризовались как духовные личности, то в основе этой характеристики наряду с натуралистическими вспомогательными средствами лежало также стремление наглядно показать зрителям представителей метафизически абсолютной, вечной, святой общины. Дело при этом касалось не только поучительных целей (на что привыкли односторонне указывать), не только написанной или высеченной из камня теологии и церковного воспитания человека, но и — в не меньшей мере — созданий фантазии, в которых бы оказались сконцентрированными до степени образных идеальных фигур человекоподобные религиозные представления. Средневековые образы представляются нам менее новыми, чем греческие, потому что они не были, как последние, новыми иконографически, а по большей части восходят к старым, часто также античным замыслам. И все же они были новы, как и новое восприятие природы! В их основе лежало в корне отличное от античного понятие идеальности, исходной точкой которого была не метафизическая проекция чувственного опыта, как в греческом искусстве, но в котором, наоборот, общая значительность художественных результатов чувственного опыта устанавливалась согласно ее отношению к сверхчувственным духовным ценностям. Как мало внимания обращали на эпохальную значимость этого факта! Чувственная форма в искусстве как адекватное выражение абстрактных психических событий, им подчиненная, согласно им идеализированная — какое богатство новых горизонтов, бесконечно новых возможностей художественной концепции и воздействия было в этом заключено! Классическое искусство могло достичь высокого расцвета, объективируя телесную и космическую закономерность, красоту и гармонию в определенных созданиях фантазии. Оно могло добиться глубокого влияния на жизнь, но в его чувственном объективизме заключено было также ограничение, которое рано или поздно должно было обозначить конец подъему. В чистом спиритуализме поздней античности и раннего средневековья снова налицо была опасность для искусства — потерять в конце концов всякую возможность движения дальше, движения, коренящегося в чувственном переживании, в живом восприятии и опыте. Этим обеим основным системам художественного идеализма позднее средневековье противопоставляет третью, повышая объективную правду и красоту материальной формы до степени послушного выражения «сверхматериальных» духовных ценностей, всеобщей и индивидуальной борьбы за идейный и этический прогресс человечества.
Подобно тому как из принципиального одухотворения всех жизненных связей возник новый натурализм, так из тех же источников возникла и новая светски идеалистическая ориентация искусства, возникло новое отношение искусства к движущим человечество идеям и чувствам. Было положено начало развитию, которое привело к тому, что художественное творчество, — не утеряв своих отношений к чувственной жизни, — в последующую эпоху в большей мере, чем раньше, стало принимать непосредственное участие в мирских духовно-идейных движениях, черпая непосредственно из захватывающего пафоса новых всеобщих идеалов человечества вплоть до тихого признания субъективного душевного переживания, заимствуя от них, как и от природы, возможности внутреннего превращения и обновления.
В готике, правда, речь сначала шла о связи, что существует между художественными ценностями земного бытия и трансцендентным миропорядком, между светской красотой и христианским идеалом жизни.
В этом соединении заключался, однако, дальнейший источник преобразования основных древнехристианских образных типов, прародительский ряд тех олицетворений одухотворенной, связанной с глубиной чувств или с определенными этическими достоинствами красоты, которые (подобно тому как в старом искусстве идолы телесного совершенства) при изменившихся предпосылках и помимо последних оказывали во все последующее время снова и снова влияние на идеализирующее изображение человека, а в готике они были как бы образцовыми инкунабулами одухотворенного понятия красоты, игравшего большую роль также и в современной им церковной и светской поэзии. Только этим объяснимо то, что эти олицетворения предстают перед нами предметно ограниченными даже еще и в то время, когда определенно нельзя уже говорить о робости в передаче природы.
Но дело касалось не только идеальных типов. Также и вне их мы можем повсеместно наблюдать возникновение нового восприятия красоты, в котором, по сравнению с античностью, завоевывается новый масштаб, и причем не только в его духовных, но и в его чувственных составляющих. Нельзя сказать, чтобы формы, выражающие силу и энергию, совсем исчезли, но как выстроенные на основе равномерной гармонии систематической культуры тела эллинистические образы, так и массивные, плотные властные римские типы, да и неуклюжие фигуры, характерные для раннесредневекового ухода от любой телесной красоты, все более и более уступали место стремлению к нежному изяществу и грациозной легкости, стремлению, постоянно удерживавшему, несмотря на многочисленные превращения с двенадцатого до шестнадцатого веков, связь с идеальностью, для которой душевные превосходства, аскеза и задушевность, возвышенные ощущения, альтруистское настроение и покоящееся на духовной общности устройство жизни были важнее, чем телесное совершенное и индивидуальное (или публичное) сознание власти.
В сильной зависимости от духовного содержания была заложена одновременно и слабость, то чередующееся приближение к природе и удаление от действительности, что было незнакомо последовательному совершенствованию классического искусства с его объективными проблемами. Великие реалисты северного портала Шартрского собора[66]. лишь только на одно поколение моложе тех мастеров, которые «создали в Муассаке, Суйаке, Везелэ образы, рожденные из ненависти и гнева, образы, как ничто другое в мире, отвергающие античный идеал прекрасной телесности и языческого культа героев, образы, чьи тела стучат под одеяниями как скелеты, и которые показывали обитателям монастырей с их пустыми глазницами то, чем каждый из них хотел стать: чистую, выжженную огнем мистического экстаза душу, колышащуюся в теле, как пепел ладана, колеблемый воздухом, душу, унижающую себя в смирении и вздымающуюся в тоске, душу, лежащую на земле как согнутый, сломленный бурей стебель и поднимающую к небу свой взгляд, как лилии их соцветия»[67]. За этим следует властный духовный пафос пророков хора св. Георгия в Бамбергском соборе, это можно обозначить как первый акт трилогии могучих изображений образов христианских провидцев, вторым будут пророки и сивиллы в Сан Джованни в Пистойе, а третьим — «на все бросают тень грядущие событья»[68] — божественные образы Сикстинской капеллы, тонкий эпос искусства, черпающего свои благородные образы вне всех духовных конфликтов из успокаивающей уверенности полного покоя божественного сознания, и наоборот, разница лишь в одно поколение отделяет созданные ранее с болью и преданностью Богу, лирически отошедшие от мира фигуры на кафедрах в Вексельбурге и Хальберштадте[69] от почти что брутальных, исполненных жизни изображений донаторов в Наумбурге. Это начало великой гибкости духовного содержания основывалось не только на противоположности школ и мастерских, но в не меньшей степени происходило и от большей и более непосредственной (в сравнении с античностью) зависимости художественного творчества от всего того, что определяло духовную жизнь эпохи, что неизбежно проистекало из присущей самому характеру христианского искусства оценки всех вещей с точки зрения требований душевной жизни.
Из тех же источников вытекает, однако, также достойное удивления богатство фантазии готического искусства, та беспокойная жажда нового в изобретении мотивов, которые не только содержат новые впечатления природы, но и дают фантазии постоянно новую пищу. Сколь принципиально отличной от ограниченности классического духа, «находившего покой в бороздах триглифа и позволявшего себя этим умиротворять, была странная радость нового искусства все снова и снова создавать новые, похожие на мечты образы и изобретать формы, обладавшие достоинством быть не просто новыми, но и нести в себе ростки последующих новшеств»[70]. Эпоха великого искусства фантазии, которая, по Дильтею, продолжается от середины XIV до середины XVII в., фактически еще раньше была начата готикой. Подобно тому как крестьянские картины Питера Брейгеля, Рабле или Караваджо, бесконечный ряд северных жанровых живописцев кисти и пера коренится в готическом натурализме, подобно этому протягиваются также нити от мира фантазии готики к Апокалипсису Дюрера, к историям с привидениями Босха, к идиллиям Альтдорфера, к сказкам из Гетто Рембрандта, к миру духов «Макбета» и «Сна в летнюю ночь» или к тем фигурам, в которых величайший поэт Испании — Сервантес — сделал теневую игру самой фантазии (в зеркале своей захватывающей иронии) предлогом своего гениального создания. Речь идет не о простом продолжении готики! Глубоко идущие перевороты духовных интересов, которые надо было бы обследовать в другой связи, лежат посередине; но все же решающее значение для развития нового искусства имело то обстоятельство, что в период готики было налицо огромное духовное возбуждение, проистекающее из двойного источника умирающей и возникающей культуры и стоящее на пороге средневекового обновления мира; это духовное возбуждение оказалось направленным в область художественного толкования природы и жизни, чтобы, с одной стороны, благодаря связи с остатками антично-объективной художественной реконструкции чувственного мира, — а с другой — вместе с первыми попытками их превзойти, достичь некоей, основанной на субъективном восприятии и убеждении картины вселенной.
Эта весна всемогущества фантазии, как и все другие новые пути готического искусства, была ограничена трансцендентными предпосылками, из которых она развивалась. Этим самым мы, однако, снова приходим к исходной точке нашего рассмотрения, а именно к тем стилистическим особенностям готического искусства, которые, коренясь в принципиально идеалистическом мировоззрении, априорно поставили определенную грань каждому подражанию природе и обогащению искусства.
НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСКУССТВУ
Внутреннее развитие средневекового искусства вело к разорванности не в смысле натурализма и антинатурализма, а постигаемого пониманием и субъективно наблюдаемого. Эта разорванность основывалась на постановке вопроса, занимавшего все средневековье во всех духовных областях и нашедшего свое выражение в великом споре об универсалиях. Основные проблемы борьбы, которая шла на протяжении веков и играла в средние века примерно ту же роль, что критика опыта в новое время, были наследием античности, из которого средневековье переняло их главным образом в редакции неоплатоников. Однако же отношение этих проблем к всеобщей духовной жизни было в средневековом мире совершенно другим, чем в античности. Вследствие тесной связи с глубочайшими тайнами и учением христианского мировоззрения они были передвинуты из области теоретической системы познания, разработанной ранее, в самый центр всего отношения людей к бытию, они могли и должны были стать действенными в значительно большей мере, чем в античности, непосредственно во всех духовных связях с окружающим миром. Благодаря этому впервые было не только ясно осознано и сформулировано внутреннее противоречие возможностей художественного или научного исследования природы, но также, в отличие от наивного объективизма греческого искусства и научного наблюдения, и практически применено, и, таким образом, через перенесение дуалистического религиозного и философского объяснения мира на область чувственно постижимого и поддающегося разумному обоснованию была выстроена та двойственность путей познания, из которой в первую очередь и проистекал в последующее время научный прогресс, подобно тому, как художественный — из аналогичного большего разделения идеалистически обобщающих и натуралистически субъективизирующих моментов. В высшей степени примечательно то, насколько спор реалистов (для которых идеи были самым реальным — «чем совершеннее что-либо, тем более оно существует», в то время как отдельной чувственной вещи была отведена лишь ослабленная и во всем зависимая форма существования) с номиналистами (для которых универсалии выступали лишь в роли обозначения, звука и знака, flatus vocis для всего многообразия субстанций, в то время как в качестве единственно действительного рассматривалось лишь уникальное в своем роде отдельное явление, источник индивидуального опыта чувств[71]) предлагает комментарий к тому, что стало происходить с начала XIX века в искусстве, как и в других областях жизни, когда обстоятельства потребовали примирения с земным[72]. Не является ли известная формула Абеляра, благодаря которой спор пришел к временному финалу, как бы программой того объединения надмирного и земного взгляда на мир, которое мы можем наблюдать в готическом искусстве? Диалектическое решение великого философа, естественно, настолько же мало могло надолго устранить действительное противоречие, как и новый «стиль». По мере того как в европейскую духовную жизнь стали вливаться (хотя бы сквозь частично открытую дверь) массы основанных на субъективном наблюдении, опыте и убеждении познаний, расхождение обоих путей — противоречие между готическим идеализмом и натурализмом — должно было от поколения к поколению становиться все острее и настойчивее.
Готическое искусство раскалывается с самого своего начала (менее внешне, нежели внутренне, подобно тому как и отдельные науки отделились от их общей метафизической основы) на два направления: готическое идеалистическое и готическое натуралистическое. Стократно переплетаясь, они при более внимательном наблюдении все-таки постоянно могут быть без труда разъединены. Рядом с изображениями, которые с новым восприятием природы и наблюдением связывают основную метафизическую черту средневекового искусства и обусловленный ею выбор форм, мы находим такие, которые, находясь по ту сторону всякой идеализации, дают только единичную действительность. Описанное распространение тем изображения идет по этому пути и дальше. Рядом с новыми этическими циклами появляются все чаще повествования (особенно там, где художественная фантазия могла оставить все побочные соображения), в которых передача простого замеченного положения дел в природе и в окружении художника — простой кусок жизни, — вытесняют все сверхъестественные телеологические интересы. Героическое во всех смыслах слова уступает место предметному реализму, жанр приобретает все больше значения, и даже библейские рассказы и, само собою разумеется, также и исторические рассказы классической и национальной поэзии переносятся полностью в современность и благодаря этому лишаются своего исторического характера ради натуралистически-наглядного представления.
То же самое мы можем наблюдать и в отношении формальных решений. Уже в XUI в. нет недостатка в произведениях искусства, которые напоминают наиболее далеко заходящий натурализм последующих периодов и явно исходят только от стремления художественно закрепить единичное, портретное, закрепить действительность вплоть до ее последней разновидности.
Таким путем развивались из натуралистической составной части готического искусства, искавшей не общего и постоянного, не нормы явления, а индивидуально отличного, развились, следовательно, еще в искусстве готики (по меньшей мере в принципе) та крайняя индивидуализирующая верность природе, тот художественный пантеизм, который, обладая порою большим или меньшим значением, без сомнения, должен быть причислен к самым заметным особенностям новейшего развития искусства, а возможно также к числу труднейших проблем его исторического объяснения. Художественный пантеизм был незнаком всем предшествующим периодам искусства, потому что «сухой натурализм» августовского искусства, на который можно было бы сослаться, был, по-видимому, наполнен схожими стремлениями, но фактически оказывался только относительным расширением предметных задач на основе старых нормативных стремлений классического искусства. В описываемом же течении готики, напротив, должно быть признано решающим стремление преодолеть всякую норму.
Но как мог этот крайний, такой чреватый последствиями для будущего искусства эмпирический антиидеализм (если дозволено такое слово), для которого определяющим было субъективное состояние действительности, как мог он возникнуть в рамках идеалистического по своему существу искусства? Объяснение заключается, без сомнения, в особом характере готического идеализма, который, правда, открыл ворота наблюдению природы, но без того, чтобы природа, реальность, оказалась, как в древности, мерою всех вещей, оказалась единственным источником высшей духовной и художественной закономерности. Эту последнюю искали вне «преходящей» природы, в сверхрациональных отношениях, по сравнению с которыми явления видимого мира были только подчиненными моментами, воплощавшими не постоянное, не вечное, не нормативное, а, напротив, единичное, преходящее, бесконечно многообразное. Факты, сами по себе лишенные значения, нашли себе в великой идеальной системе позднесредневековой духовной культуры индивидуальное оправдание своего бытия — ad maiorem dei gloriam[73] как свидетельства и пояснения сверхъестественного через чувственное, как раскрытие «образа божьего» в самом малом из его созданий[74]. Таким образом, трансцендентный идеализм средних веков вел в своей новой связи со светскими ценностями к крайнему натурализму, подобно тому как позднее (в эпоху ренессанса и в новое время) из этого натурализма выработался новый (связанный с частичным возвратом к античности) антропологический и космический идеализм.
«От тех, кого я вызвал, от духов, избавиться теперь я не могу» (Гёте)[75]. После того как этим путем в средние века был найден мост к самоценности земных вещей, пусть поначалу и относительной, было неизбежно, что различными путями (прежде всего, однако, в силу внутренней диалектики связанных с этим наблюдений и опытов) коренящееся в этих последних мировоззрение все дальше и дальше уходило от своих первоначальных метафизических предпосылок. Мы можем наблюдать этот не внешний, а внутренний процесс секуляризации, начиная со второй половины XII в., повсюду. Латентно присутствующие в христианстве стоические элементы, и вместе с ними вера в естественное право, получили новый смысл и новое значение через духовное движение, подталкивавшее к пока что по меньшей мере теоретически часто подчеркиваемому — несмотря на все попытки примирения — разделению на две части истины и познания. Учение св. Фомы о том, что в разуме содержится и доброе, эта старая сократическая мысль должна была привести при ее новом применении также и к известному освобождению интеллектуализма от всеобщей трансцендентной обусловленности. Однако прежде всего аристотелевское понятие природного, органического развития, снова введенное в духовную жизнь Запада окольными путями через арабскую и иудейскую литературу, сильно ассимилированное в томизме церковной культурой целостности, внесло бесконечно много в тот процесс придания человеческому знанию и исследованию эзотерического, независимого от откровения содержания[76].
Во всех и во многих других похожих явлениях заключено гораздо большее, нежели «История религиозного просвещения в средние века», которую искало в них прошлое столетие. Они означают в развитии человеческого духа начало новой стадии, своеобразие которой мы можем сформулировать в том смысле, что знание, покоящееся на наблюдении и рациональной доказуемости, сделалось самостоятельной областью духовной деятельности, в которой оно было самоцелью и следовало своим собственным законам. Речь идет не о возрождении классической метафизической науки о разуме, но о том, что из средневекового мировоззрения, для которого метафизические истины действительно или pro foro externo[77] оставались в стороне, возникло нечто совершенно новое — то, что основали мыслители шартрской школы и Дунc Скот, аверроисты и Роджер Бэкон сначала как бы на периферии великого средневекового духовного здания мира. Это новое представляло собой обусловленное особыми сложностями средневекового спиритуализма учение о двойной истине, отражение раздвоенного отношения к природе, и было колыбелью новой, автономной от любого априорного объяснения мира, независимой науки.
Поддержкой этому развитию были арабские влияния, которым я, однако, в противоречии с распространенным мнением, хотел бы отвести лишь второстепенную роль. То примирение с философски отвлеченным мышлением, присущим западноевропейскому христианству, никогда не имело места в исламе в той мере, что в христианстве, так что религиозные размышления сохранили свой первоначальный профетический характер, и классическое наследие, определенно не меньше, чем в западной культуре, вело обособленную от религиозных мыслей и чувств жизнь. Показательно (на что уже указывал Виндельбанд[78]), что носителями арабской науки в средние века были не духовные лица, а врачи, носителями науки, сохранившей в том, что касается материальных знаний, значительно больше античного материала, чем ее сестра на Западе, но в восприятии научных задач она, однако же, все более и более удалялась, подобно тому, как и арабское искусство, от своей классической основы. Если еще в эпоху античного христианства греческое понимание науки как антропологической натурфилософии, пытающейся объяснить мир чувств как метафизическую систему, было соединено с пришедшей с Востока религиозностью, и тем самым было обретено новое значение для дальнейшего духовного развития человечества, то для семитических народов средневековья это понимание науки играло совсем небольшую роль и должно было все более и более отходить на задний план, уступая место мистическому или каббалистическому толкованию жизненных взаимосвязей. Но, с другой стороны, кроме остатков аристотелевского позитивизма теории познания, практически полностью вытесненного на Западе раннесредневековым этическим и трансцендентным идеализмом, арабы и иудеи значительно непосредственнее и полнее, чем в монастырях Запада, сохраняли ученый материал, реальные научные знания древности и все более приумножали их на пути практически применяемого исследования природы. Эти сокровища с начала двенадцатого века становились и достоянием христианских народов. Без описанного развития был бы невозможен тот процесс, когда природа и ее закономерности так же, как и земная история людей, поднялись до сравнительно независимой от проблем откровения области науки; не столь уж незначительным было и то, что Запад получил на этом пути такое количество научного материала.
Его значение там, разумеется, быстро изменилось. В то же время как на Востоке естественнонаучные, химические, медицинские, математические исследования представляли собой ряд более или менее невзаимосвязанных знаний и вследствие этого были в высшей степени ограниченными в своем развитии и предоставлены воле случая, то на Западе они могли значительно целостнее и последовательнее развиваться, так как субъективный опыт был включен в целую систему объяснения мира и в связи со всем интеллектуализмом послетомистского времени превратился не только в самостоятельный центр духовной деятельности, но и как бы в целостную осознанную науку о разуме. Вследствие того, что теологи не могли следовать за новым научным познанием, и противоречие еще не было осознано в качестве решающего для одного из двух путей к истине и духовному возвышению, то создалось разделение точек зрения — теоретически сначала уже Дунсом Скотом, практически — Роджером Бэконом[79], при этом вновь воскресшим номинализм в последующее время, естественно, должен был прийти к тому, чтобы воспринимать природу как единственный объект науки. Так самые дерзкие, стоящие в резком противоречии с церковным учением вопросы и познания оказывались secundum rationem (в соответствии с разумом), относительно которых религиозное сознание успокаивали той оговоркой, что они secundum fidem (в соответствии с верой) естественно должны были рассматриваться как незначительные[80].
Я остановился подробнее на возникновении этого нового дуалистического отделения исследования природы и человека от божественного сознания, т. к. оно отвечает тому, что мы можем наблюдать в современном этим процессам искусстве, где противостоят непосредственные и произвольные наблюдения природы, с одной стороны, и однако же выходящий за пределы всего земного идеальный стиль.
И одно уравнение осталось налицо и в позднейшее время: значение (соответствующего в главном принципе номиналистическому восприятию готики) описательного натурализма для всеобщего положения искусства растет или понижается вместе со значением позитивных наук для всеобщей европейской духовной жизни. С победою последних в прошлом столетии она, очевидно, достигла своей высшей точки.
И все же этого едва ли хватает, чтобы объяснить великую перемену, которая стала совершаться, приблизительно начиная с середины XIV в., в отношении значимости верности природе для всего содержания художественного творчества. В первой половине XV в. она имела следствием полнейшую перестановку обоих основных направлений готического искусства. При всех составных элементах средневекового восприятия, на которые очень тонко указал Гейдрих[81], все-таки, например, в портретах Яна ван Эйка нам предстает неожиданная и удивительно полная переоценка ценностей бытия, и только историческая предвзятость могла бы сомневаться, что одновременно также и в Италии — в живописи Мазаччо, в статуях Донателло — наблюдается отнюдь не только продолжение средневековых линий развития.
В нашем дальнейшем рассмотрении нам предстоит еще разъяснить, как шло развитие в Италии, но на одно можно указать уже сейчас: как на севере, так и в Италии самым существенным в этом повороте было далеко идущее обретение искусством самостоятельности по отношению к любой сверхъестественной закономерности. Стилистические предпосылки этого переворота, которые еще будут внимательнее рассмотрены, были, как я уже пытался представить в другой связи, заложены в готическом натурализме. Другой вопрос касается того, каким образом натуралистическое направление могло добиться по отношению к средневековому художественному дуализму полного перевеса. Потому что, если даже наравне с ростом наблюдения над природой должно быть учтено своеобразное чувство действительности, — которое принадлежало к числу важнейших факторов в искусстве нового времени и было налицо в качестве особого течения в готике уже в XUI и XIV вв., — то все же оно имело в общей картине художественного творчества вплоть до конца XIV в. только вспомогательное значение, подобно тому, какое новые научные стремления того же времени имели для всего жизневосприятия. И в исторической особенности этого союза обоих основных направлений готического искусства содержится, кажется, и их нерасторжимость. Хотя новое восприятие природы и было обусловлено средневековой идеальностью, но союз этот было бы также не столь легко ослабить (на примере других областей культурной жизни мы можем наблюдать его воздействие далеко за пределами средневековья), если бы к вышеупомянутым причинам не присоединилось и новое понятие художественного произведения, которое поначалу хотя и не стояло вне всех средневековых стеснений, но по сравнению с ними оно означало нечто новое и самостоятельное.
Это понятие возникло на юге.
Может быть, нам станет более ясным, о чем идет речь, если мы привлечем для сравнения параллельное развитие в литературе. Как изобразительное искусство, так и литература в средние века была всецело связана с прочным трансцендентным строем, с метафизическим царством сверхчувственных субстанций[82]. В поэзии, в истории не было никаких отношений к чувственному миру, к человеческой жизни и к переживанию, которые бы не имели каким-либо образом своего начала и своей границы в сверхъестественно-спиритуалистическом идеализме средневеково-христианского мировоззрения, вне которого не было никакой поэтической или исторической значительности. Не от чувственной жизни и основанного в ней ощущения, не от причинных связей материального существования подымается сознание к более высокому поэтическому и историческому пониманию, а, наоборот: вера во всемогущество и единственную ценность сверхчувственных духовных сил была исходной точкой поэтического творчества и исторического рассмотрения, исходной точкой нового поэтического, исторического открытия мира и истории человечества. Повсюду, где в средние века выходили за пределы сырого материала хроник в его местной, временной и социальной ограниченности[83], — повсюду в легендах, в эпосе и во всеобщих исторических изложениях пытались ввести события в систему сверхматериальных точек зрения.
В другом смысле, чем это представлено Бэдье, следует выводить chansons de geste из религиозного спиритуализма средних веков[84], подобно тому как их церковное отражение, большие легендарные поэмы и мировые истории, являются чистейшим выражением исторического понимания средневековья, означавшего столь большой прогресс в направлении идейно целостной истории человечества! Гораздо ближе, чем все, что только приводится в качестве литературных предварительных этапов «Божественной комедии», стоят к величайшей поэме средневековья — по своему художественному восприятию и духовному построению — каменные эпопеи готических соборов, в которых все, что только было значительно для людей того времени в прошлом, настоящем и будущем, было включено в рамки духовного единства победоносно преодолевающего мир чувственного, построенного на отношениях к надмирному и от этого единства получающего глубочайший художественный смысл. Но и в важнейших источниках светского содержания нового «сладостного» стиля царит подобное отношение зависимости, поскольку, — как это убедительно показано Векслером, — понятие любви, лежащее в основе этого стиля, должно быть воспринимаемо как перенесение спиритуального отношения между богом и человеком на поклонение женщине[85]. Здесь эротика впервые включается в качестве чисто духовной силы, отрешенной от чувственности, в духовную эволюцию человечества. Этому происхождению соответствует то, что любовь появляется у Данте в образе ангела в белых широких одеждах[86].
Так, и в изобразительном искусстве, и в литературе новое отношение к миру было связано со спиритуалистическим и трансцендентным идеализмом средневекового объяснения мира, при этом, однако, опять-таки, как и в изобразительном искусстве, благодаря перенесению на чисто земные ограниченные области поэтической фантазии и жизни чувств было достигнуто определенное условное обособление поэтических и исторических тем и проблем, заключенных в земных жизненных ценностях. В этих общих для всей Европы условиях в Италии начинается особая линия развития как в литературе, так и в изобразительном искусстве.
Чтобы понять это развитие, следует обратиться к его территориальным предпосылкам, так же как и ко времени его возникновения. Хотя Италия и произвела на свет величайшего организатора, величайшего мыслителя и величайшего поэта средневекового примирения между божественным и природным законом, но содержащиеся в этом учении идеалы и связанное с этим объединение духовной (и материальной) культуры добились там менее всеобщего и решающего воздействия, чем к Северу от Альп. В развитии средневековой теологии[87] и учения о познании и связанного с этим понимания этического и общественного долга Италия принимала столь же малое или опосредованное участие, как и в создании нового антиантичного готического искусства, ведь с точки зрения последнего и во время его мощного становления с XI по XIV века итальянское искусство в целом можно рассматривать как малоразвитое и отсталое. Для этого итальянцы сохраняли, что схоже с семитическими народами, слишком много материальных знаний древности, стойкие остатки формальной культуры, независимой от метафизических идеалов, пронизывавших все на Севере, культуры, чье влияние мы можем наблюдать в хотя и очень жалком, но все же продолжении жизни светского образования, в основе которого лежало последнее прямое излучение не потревоженных христианством позднеантичных риторических идеалов образования, это же влияние можно увидеть в значении старых правовых понятий и вообще в предпочтении юридических штудий, в хозяйственно трезвом практическом уме, столь сильно удаленном от внутренней преисполненности средневековых людей на севере; не в последнюю очередь это влияние заметно и в итальянском искусстве, предстающем в другом свете, если пытаться мерить его не исходя из масштабов северной готики, но согласно ero собственным. Все это, однако, как и остатки классического знания, требовало нового смысла и ценности, когда в описываемый период в мировоззрении средних веков начали расходиться пути познания, основанного на откровении или на разуме и созерцании.
Из этого проистекали последствия в отношении к искусству, которые сознавали, примечательным образом, уже величайшие мыслители средневекового духовного дуализма еще до того, как эти следствия начали оказывать решающее воздействие на развитие искусства.
Именно Фома Аквинский гениальнейшим образом провел острую понятийную границу между содержанием религиозно-морального и художественного устремления, указав на то, что хотя этическое благо и художественно прекрасное надлежит рассматривать как идентичное в субъекте или в их конкретном содержании при том, что они, однако, понятийно — in ratione — различны по своим целям и своему воздействию, так как благо надлежит толковать как recta ratio agibilium, как добродетельную жизнь и поведение, ведь оно соотносится с высшим и последним предназначением человека, искусство же, напротив, надлежит рассматривать как recta ratio factibilium, как закон формообразования, и прекрасное — как основывающееся на формальных моментах (in ratio formali)[88].
В этом разделении, проистекающем до известной степени из Аристотеля, но отражающем одновременно и все новое положение вещей в том виде, как оно развилось в христианской духовной жизни, и, таким образом, далеко от него уходящем, содержалась программа, которая в своем последовательном осуществлении должна была привести к полному разделению религиозного и художественного взглядов на мир, и вместе с тем это была программа, для задач которой итальянское наследие античной традиции было особенно подходящим, исходя из выше изложенных оснований.
Так через всеобщее развитие европейской духовной жизни в ходе тринадцатого века была достигнута та ситуация, что позволила итальянской литературе и искусству именно на основе суеверий, что до тех пор способствовали отсталости, достичь самостоятельного значения и интенсивного совершенствования, а вскоре также и большого воздействия на все западное искусство. Мы не хотели бы останавливаться на началах этой эволюции в литературе. Обратимся сразу же к ее первым великим результатам. В стихотворениях и прозаических произведениях «отца поэзии», Петрарки, художественная форма (которая не обладала в раннем средневековье ни самостоятельными задачами, ни важностью по отношению к общей духовной или конкретно предметной значимости, в роли коррелята которых она выступала, и вследствие этого постоянно была более или менее типичной), предстает перед нами сначала достаточно внешне, но, несмотря на это, довольно определенно, как собственный смысл и цель художественного творчества. К двум мирам, которые господствовали над человеческою волею, чувством и мышлением в средние века, — к миру ограниченного посюстороннего бытия и вечной потусторонности, — теперь присоединился и третий мир — художественной концепции. Он следовал своим собственным законам, находил свои задачи, цели и масштабы в себе самом. В то время как в средние века поэтическую профессию избирали клирики или бродячие певцы, теперь поэт возвышается до степени «пророка» и «автора»; мир творчества придавал поэту благородство, которое было не меньшим, нежели даруемое государством или церковью[89].
В искусстве также совершилась эта перемена.
Еще раньше — можно вернуться даже к XII в. — в итальянском искусстве архитектоническая, пластическая и, пожалуй, также и живописная форма приобрела известную самостоятельность, основанную на художественно автономных интересах[90]. Совершенно разработанною и ясною выступает перед нами эта третья духовная мировая сила позднего средневековья — сила автономного произведения искусства — в живописи Джотто. Задача, которая была положена в ее основу, — рассказать о жизни Христа, Марии и святых, — была стара, почти так же стара, как само христианство; но приемы, которыми разрешил Джотто эту задачу, были новы как с точки зрения средневекового натурализма, так и с средневековой идеалистической точки зрения. Эти приемы были в корне различны от всего, что создало в подобных изображениях предшествующее искусство. Прогресс в наблюдении природы, — как бы он ни был велик, — далеко не был при этом самым главным, как это справедливо подчеркнул Ринтилен в своей прекрасной книге о Джотто[91]. Священные истории, которые Джотто так чудесно рассказывал заново, в ero произведениях представляются не реалистическими жизнеописаниями, а перенесенными в героический идеальный стиль, часто сознательно уклоняющийся от исчерпывающей верности природе.
Этот идеальный стиль не был, однако, следствием иррациональной сверхъестественности, как в готике, а художественной парафразой и преображением, был монументализацией чувственной действительности, как к этому стремилось античное искусство. И все же это восприятие в корне отлично от классического. В античности образные представления и формальные достижения искусства развивались в нерасторжимой связи с мифом, который был олицетворенной и героизированной природой; и таким образом дальнейший рост искусства был в то время продолжением развития его художественно объективизированного религиозного содержания и заключенного в нем восприятия природы. В христианском искусстве вместе с перевесом духовного содержания и полнейшего подчинения ему формальных решений это соотношение изменилось. В Италии же последовало дальнейшее изменение — искусство начало строиться в своих формальных задачах как самостоятельная третья область по отношению к природе и религии, как мир в себе, в котором фантазия творит
свои собственные ценности[92]. Как наука, так и искусство сделались не только выражением, но и самостоятельным, независимым от метафизических предпосылок источником мировоззрения.
К числу причин господствующей неуверенности и запутанности в суждениях о произведениях искусства старых периодов, — возникших при других общих исторических предпосылках, чем создания искусства наших дней, — принадлежит вера в некие постоянные основные понятия искусства, что основано на предположении, будто при всех изменениях художественных целей и художественного умения, самое понятие произведения искусства может быть рассматриваемо как нечто в принципе постоянное и неизменное. Но ничто не является более ложным и неисторичным, нежели такое допущение. Понятие «произведения искусства» и «художественности» в течение исторической эволюции претерпело самые многоразличные изменения — и притом вплоть до самых своих основ. Оно было всегда временно и культурно ограниченным, изменчивым результатом общей эволюции человечества. То, что понималось под искусством, то, чего в нем искали и чего от него требовали, было в древневосточном, классическом, средневековом и современном европейском духовном мире, не говоря уже о других культурных регионах, столь же различно, как хотя бы восприятие религии, морали, истории или наук. Только на основе ясного постижения обусловленных этим положением дела исторических особенностей «основных понятий» в различные времена и разных областях можно найти дорогу сквозь туманные представления о некоем «искусстве в себе» к историческому пониманию художественных феноменов прошедших эпох. Автономное положение искусства в рамках господствующих над человеческим бытием сил представляется нам сейчас настолько само собою разумеющимся, что мы, как правило, забываем сравнительно позднее возникновение этой установки, которая после длительной подготовки достигла полной проработанности только в итальянском искусстве на рубеже XII и XIV вв. Каждая из картин Джотто — вселенная сама в себе, в которой власть сверхземных сил выражается только в описываемых событиях, вселенная, которая, однако же, следует в художественной реконструкции этих событий своим собственным законам, определяющим художественное значение фигур, их концепцию, распорядок, положение в пространстве и взаимную связь. При этом независимая от метафизики художественная закономерность не рассматривается (как в античности) в качестве основанной только на объектах, на их материальной красоте и причинности, в то же время в гораздо большей степени, чем раньше, связывается с субъективным художественным усмотрением, с индивидуальным художественным творческим актом в определенной требованиями искусства парафразе материальных данностей. Принципиальный субъективизм христианского искусства переносится, другими словами, также и на художественные проблемы. Царство художественных ценностей было теперь выстроено также по-новому, в зеркале субъективной, из себя исходящей силы воображения, а не только, как раньше, в зеркале субъективной веры в откровение и субъективного наблюдения; эти художественные ценности противопоставляются действительности и надмирной значимости, чем — как в литературе, так и в искусстве — достигается новое значение художественной личности.
В новом понятии «художественного» было неизбежно заключено также и новое понятие как художественной правды и оживотворения, так и особой, начиная с этого времени, специфично художественной идеальности. Оба несравненно теснее были связаны одно с другим, нежели «идеальное» и «естественное» в предшествовавшем готическом искусстве.
Правда, прогресс искусства Джотто был значителен и многообразен также и со стороны покоящейся на наблюдении индивидуальной формы единичных объектов готической верности природе. Важнее, однако, было новое внутреннее единство изображения, которому эти объекты должны были подчиняться и в котором в скрытом виде содержалось также новое восприятие естественных соответствии и связей. Нетрудно показать на примере современных Джотто миниатюр, фресок или пластических декораций к северу от Альп наличие мотивов, в которых конкретная действительность изображена вернее, чем у Джотто, с его такими далекими от действительности скалами, деревьями или обобщенными архитектурами. Зато у Джотто все приобретает новую, художественную, только слабо связанную с действительностью фактичность и убедительность. Его современникам должно было представляться волшебством, когда великий художник развертывал перед их глазами — на основании старых священных рассказов — некое новое бытие и жизненный процесс, где из сырого материала чувственного опыта создавались новые формы и соответствия! По отношению к случайностям повседневной действительности эти последние должны были представляться как откровения небывалых типических истин и взаимоотношений, лежащих в основе чувственного восприятия. Они делали возможным перенесение рассказа в сферу более углубленной и ясной передачи господствующих в природе формальных сил и причинных норм их взаимосвязи. Но таким образом наблюдение — в замысле, пластическом действии и композиционном значении фигур, а также и в их слиянии с изображенным пространством — перерабатывалось в некую естественно нормативную художественную закономерность. Она не была больше отражением трансцендентных предпосылок, а имела своим истоком чувственное переживание. Раньше, чем духу исследования, в этом переживании художественному восприятию открылись новые общие категории истины и формальные системы ценностей. Последние — подобно античности и, должно быть, также под ее влиянием — возникали как критерии земной действительности, но также и как выражение личной борьбы за художественное овладение видимым миром, и не в последнем счете как путь к формальной значительности. В них независимо от глубочайших тайн церковного откровения художник как творец через свое искусство, основанное на земной чувственной жизни, через свободную власть фантазии мог облачить божественное и человеческое содержание священных повествований.
Таким образом, в новом искусстве прогресс совершался в двух направлениях.
1.Общие проблемы и нормы передачи природы и ее
парафраз приобрели самостоятельное значение и сделались
наиболее важным содержанием специфически художествен
ного стремления и успеха.
2.В их автономно-художественной, подвластной чувствам
закономерности был найден новый исходный пункт для худо
жественной идеализации и монументализации. Так, например,
замыкание пространства, как основная форма естественных
пространственных соотношений и вместе с этим также как
один из важнейших признаков естественности живописного
изображения, сделалось необходимым требованием каждой
живописной композиции. Вместе с тем это замыкание стало
и главнейшим средством (в свободном применении к замкну
тому, взвешенному в плоскости и пространстве концентриро
ванному действию картины) возбудить в зрителе впечатление
ясно освобождающего и возвышающего художественного
решения. То же относится и к новым идеальным типам, в
которых к средневековой схематичности прибавлялась осознан
ная художественная правильность, а также и к идеализации,
основанной на общих духовных моментах и соответствующих
им представлениях прекрасного, к которой присоединялась
иная идеальность, коренящаяся в чисто формальных моментах
и связанных с последними представлениях о величии, стиле
и художественных приоритетах. В этом сознании и открытом
признании автономной игры фантазии, как собственной само
стоятельной задачи искусства, и состояло то перерождение,
которое должно было представиться сопереживавшим его след
ствия писателям XV и XVI столетий, как обновление искусства
и возврат к истинной доктрине, к утерянным в средние века
правилам. «Искусство живописи начало подыматься в Этру
рии, в одном городе, близком к граду Флоренции», — писал
ясно и определенно Гиберти, как пишут только о фактах, в
отношении которых невозможно сомневаться, и что — при
наличии многочисленных, бывших, конечно, известными
Гиберти, более ранних памятников — было бы непонятным,
если бы только речь не шла как раз о новом понятии живописи.
Оно осталось, однако, не без влияния и на севере, как и учение Петрарки о сущности литературы. Его можно наблюдать на примере различных следующих друг за другом или также существующих параллельно воздействий.
Рука об руку с иконографическими и отдельными формальными заимствованиями шло сближение изобразительного искусства с новыми итальянскими принципами образной концепции, причем вначале совершилось сильное смещение в сторону самостоятельного значения формальных точек зрения как в идеалистическом, так и в натуралистическом отношении.
С новыми итальянскими изобразительными нормами были, без сомнения, связаны новые представления о формальном совершенстве и красоте и первые шаги мировой платоновской идеальности, которые начали влиять также и на севере. Так, например, нетрудно заметить в изображениях мадонн, ставших излюбленными в связи с растущим культом Марии (в этом заключен также знак изменения), влияние джоттовских и сиенских идеальных типов. Их антикизирующий канон красоты, связанный с теми представлениями о грации и миловидности, которые развились в рамках церковного искусства средних веков, сделался также и на севере исходной точкой понятия красоты. При этом акцент был перенесен в нем с религиозной идеальности на чисто художественную, так что в таких мадоннах или подобных им изображениях святых в первый раз после античности и на севере стал господствовать в искусстве человеческий идеал. Здесь выше всех других точек зрения были поставлены благозвучие и миловидность форм, связанные, правда, — благодаря предшествующему средневековому развитию, в противоположность античности, — с более сильным подчеркиванием психической характеристики, но не только как светский пример божественных истин, а и ради них самих, как выражение чисто художественной радости от всего человеческого и земных благ.
Но не только в таких прелюдиях к более поздней борьбе за классический стиль (отражения которых мы можем к северу от Альп наблюдать в древнейшей «гуманистической» литературе), формальные задачи приобретают новый смысл и значение также и в рамках старого готического мира форм. Готическая игра линий, грациозное парение или патетический шум готического движения, все более богатая и искусная, но порою также повышенная до степени барочного преизбытка жизнь пластических форм и конструкций, эффекты дружелюбно цветистой или пышно светящейся красочности картин начинают приобретать (как и ритмика, действие пространства и декорация в архитектуре) все большую самостоятельность и всеобщность художественной значимости, стоящей по ту сторону идеального средневекового единства. Наравне с итальянизирующими возникают также новые северные идеальные типы, в которых абстракция и обобщение, как и связывающиеся с ними понятия индивидуальных достоинств, покоятся менее на априорном ограничении изображения христианским субъективным и надмирно обусловленным восприятием личности, нежели на формальных моментах. И подобно тому как внутренняя диалектика новых положений и точек зрения становилась все более действенною в теологическом и философском мышлении того времени рядом с средневековой целостной и авторитарно абсолютной религиозной идеей, точно так же можно было бы говорить и о подобной диалектике в искусстве, о диалектике линий, форм, типов и проблем, которая, правда, вначале не вполне смогла совсем разорвать великое спиритуальное единство средневекового искусства, но которая все же нарушила его и проложила путь для нового положения искусства в культурной жизни. Знаменательно, что это развитие, как и параллельное ему в литературе, было на севере вначале связано с личной проницательностью, с более высоким образованием, с особенным «знаточеством», и может быть впервые прослежено на картинах и статуях, которые не стояли в тесной связи с великим наследием готического искусства, архитектоническим синтезом церковных зданий. В станковых картинах, миниатюрах, отдельных статуях (в то время как архитектоническая скульптура и живопись развивались дальше еще в пределах трансцендентного готического идеализма) были созданы произведения, сделанные для ценителей искусства или, быть может, уже и без заказа, как исповедания художественной веры, произведения, в основе которых лежала уже новая, специфично художественная закономерность[93]. Едва ли случайно, что, начиная с этого времени вплоть до сегодня, дальнейшее развитие искусства гораздо больше зависело от станковых произведений, нежели от монументально связанных с архитектурой, причем только искусство контрреформации образует исключение, приближаясь и во многих других отношениях к готическому.
Наиболее важным было теперь, что эта автономизация была перенесена не только на общеформальные проблемы, но и на передачу природы, а именно на старый готический натурализм.
Мы уже отмечали, как в связи с установкой христианского человека по отношению к чувственно воспринимаемому окружающему миру в позднем средневековье, исходя из лежащего в основе этой установки психоцентризма, возникло новое восприятие верности природе как отражение индивидуальных явлений в субъективном наблюдении, и поначалу это восприятие было обусловлено и ограничено надмирной закономерностью, связывавшей все земные феномены. Мы указали дальше, как этот номиналистический натурализм (соответствуя учениям о двойной истине) мало-помалу сделался важным источником обогащения в области содержания и формы искусств, познания и мировоззрения, а также и на то, как в общей духовной жизни параллельное явление было не вызвано, но все же поддержано приятием остатков позитивных знаний природы, которые сохранялись в качестве античного наследства в научной литературе семитических народов. В этом процессе, в котором позитивные науки начали конституироваться в качестве независимого от философии и теологии органа выяснения для человека его отношений с окружающим миром, в искусстве естественно также должна была оказаться ослабленной тесная связь нового наблюдения природы с великой средневековой системой объяснения мира.
И в этот момент на севере начинает свое воздействие новое понятие автономности художественного произведения. Начинают подражать образцам, внутренняя структура которых была независима от этой системы. Мы можем здесь наблюдать в высшей степени замечательное и поучительное для позднейших явлений подобного рода положение дел.
Несмотря на то, что северные художники XIV столетия — подобно более поздним романистам — порою довольно точно примыкали к итальянским образцам в их новых натуралистических достижениях, все же почти никогда заимствования не встают перед нами в том применении и в тех образах, которые были в Италии важнейшим признаком новых достижений. В то время как в Италии и то и другое было обусловлено художественным микрокосмом, который был связан с действительностью лишь как бы свободною сценической игрою, руководимою требованиями общей художественной правды и внутренней логики; в то время как этот микрокосм получал из этого замкнутого взаимодействия между образным единством и всеми его частями необходимые ему смысл и образ, истину и красоту, — в это время на севере заимствованные новые формы и нормы образного замысла в явном противоречии с их происхождением оказывались связанными с мотивами, которые развились из старого готического стремления к передаче индивидуальной действительности. Но еще примечательнее, что итальянские композиционные схемы на севере оказались не только смешанными с чертами субъективного натурализма северной готики, но и были восприняты — как целое — так же односторонне — только с точки зрения наблюдения природы. Так, например, в последовательном замыкании пространства (которое было введено в живописи в Италии не без влияния античного искусства, как требования высшей художественной закономерности, превосходящей простое подражание действительности) на севере от Альп увидели прежде всего прогресс в передаче субъективного наблюдения. Его сочли возможным распространить и на естественные связи фигур между собою и окружающим их пространством, и таким образом то, что в Италии должно было давать художественную, обусловленную общим желаемым воздействием композиционного замысла реконструкцию пейзажа или внутреннего помещения, на севере скоро приобрело характер подражания определенному куску пространства. Парадоксальное утверждение Буркхарта, что без Джотто Ян Стен был бы другим и, по всей вероятности, менее значительным[94], можно было бы в этой связи распространить также и на всю пейзажную живопись нидерландцев и дополнить указанием на античность. С точки зрения всеобщего развития духовной жизни представляет весьма большой интерес понимание описанного круговорота, показывающего, как то восприятие искусства, которым мы обязаны духу Греции и ero стремлению к художественной и научной объективизации мира, окольным путем, через итальянские искания формально-автономного художественного совершенства, пробилось на север и там оказалось примененным к взаимоотношениям между человеком и природой; как это понимание развивалось в средние века у западных народов и стало исходной точкой нового открытия мира, ero пейзажной красоты и поэзии в зеркале субъективного сознания.
Вначале, впрочем, дело касалось, как было сказано, только определенных шаблонов реальных связей, которые заняли место готической сверхреальной связи явлений, и того, как последние были связаны с натуралистическими наблюдениями.
В этом состояло новое достижение, но также и новая проблема!
Прогресс заключался в том, что как в Италии формальная красота и закономерность, так на севере признаком большого художественного произведения, художественной самоцелью, становится основанная на субъективном наблюдении, как можно более правдивая передача действительности. В этом сказывается не новый интерес к действительности, отличающий произведения нового «реалистического» направления XIV в. (как, например, портретную статую Карла V, бюсты Мастера королевской фамилии в Праге, памятник епископу Альбрехту фон Бейхлингену в Эрфурте и тому подобные работы) от более раннего искусства, а сознательное изучение натуры, стремление сделать искусство в первую очередь и без оглядки на все другие точки зрения в наибольшей степени способным к честной передаче действительности, заключенной в каждой отдельной модели. То, что до этого времени являлось одним из средств выражения средневекового дуализма, превратилось в самостоятельную цель, в важнейшую задачу художественного прогресса, по сравнению с которой все остальное должно было отступить на задний план. Это — тот самый путь, который почти одновременно проложили в теории познания неономиналисты и терминисты Дюран, Уильям Оккам и Джон Буридан, сделавшие попытку свести всю область знания и всякую достижимую силами отдельного человека правду к единичным чувственным поступкам. «Наука ориентируется на внешний опыт, а так как на свете нет универсалий, то источник познания лежит не во всеобщности, а только в своеобразии», — так поучал Оккам, великий предшественник Бэкона и Спинозы; и эти учения могут служить комментарием к тому, что произошло в скором времени, главным образом во Франции, являвшейся идейным центром новых теорий познания.
Однако внезапного перехода к непосредственно новым формам не было. Все, что в области наблюдения над действительностью было завоевано искусством с тех пор, как возникло новое художественное творчество, черпающее вдохновение непосредственно из природы, — все это получило новое значение и сделалось подлинно эстетическим фактором; к его развитию и обогащению были всюду направлены бесчисленные усилия отдельных художников, так что эти усилия постепенно не только в значительной степени разрушили и преодолели готический характер трактовки формы, выражение идеалистической условности посредством тщательного воспроизведения индивидуальной предметности, но и взорвали старые композиционные единства, наполнив их множеством фактических наблюдений. Подобно этому и в XVIII и XIX столетиях огромные построения барочной фантазии были постепенно изменены или растворены, с одной стороны, благодаря новым требованиям советской жизни, ее идеям и значительности, коренящейся в ее исторических ценностях, а с другой стороны — благодаря новой волне натуралистических задач и усилий к достижению документальной точности в передаче природы и жизненных явлений.
Таким образом, это развитие в XVI столетии выглядит как едва заметный переход, несмотря на то, что оно явилось исходным моментом в неизбежной переоценке всех ценностей в области искусства. Наблюдение над действительностью из дополнительного коррелята превращается в источник и благороднейшую цель, в начало и конец всего художественного творчества. В этом заключалось нечто неизмеримо большее, чем новая формальная ориентация искусства. Это движение являлось не чем иным, как выражением первой художественной манифестации нового периода в истории духовного развития человечества, отличавшегося от всех предшествующих ему периодов тем, что человеческий дух, придавая наблюдению самостоятельное значение, стало видеть в нем источник художественной правды, предпосылку для поднятия над повседневностью.
Это было ново:
1 ) и по сравнению со средневековьем, поскольку благодаря отождествлению наблюдения и искусства художественной значительности искали уже не в подчинении реальных явлений области иррационального и не в сверхъестественном предназначении человечества, но в самой действительности и только в ней одной;
2) это было ново также и по сравнению с античностью,
так как речь шла не об объективизации всеобщего в сократов
ском смысле, остающегося понятийно постоянным в перемене
явлений, а о перенесении изречения Августина: «in interiore
homine habitat veritas»[95] — на отношения человека к чувст
венному миру, так как речь шла о стремлении развить в высо
чайшей мере способность к тому, чтобы явления природы и
жизни посредством интенсивнейшего осознания и преодоле
ния их особенностей изобразительным путем преобразовать
в постоянный духовный фонд, в источник обогащения миро
воззрения.
Это движение привело почти везде во всех областях западного искусства прежде всего к колебаниям и исканиям (которые можно было бы обозначить словами «буря и натиск»), выразившимся в причудливом смешении элементов старого и нового. Самые характерные черты этого искусства переходного периода, отзвуки которого сохранялись долго у отдельных народов, художников и в отдельных школах, заключались в том, что хотя все разнообразные мотивы и формы развивались по линии приближения к портретной передаче природы в ее индивидуальном обличии, материальности и красочном своеобразии. Об этом свидетельствуют «современные пейзажи», «точные архитектурные изображения» и «правдивые портреты». Характерным для этого искусства являлось также и то, что новые натуралистические требования и достижения получили количественный и качественный перевес, причем, однако, решающие выводы, вытекающие из безоговорочного подражания действительности, не были положены в качестве всеобщих основ изобразительного замысла.
Включить в искусство волю и великолепие чувственного мира в полном объеме и в его неисчерпаемом многообразии стало руководящей целью художественных устремлений; но каким образом должна была осуществиться эта воля в задачах общей изобразительной композиции?
Подобно тому как в реалистических, жанровых и пейзажных изображениях прошлого столетия долго сохраняются следы воздействия барочных шаблонов, мы находим и в начале новой «натуралистической» живописи на территории к северу от Альп (всюду как будто на основе передачи действительности) «готически» взметенные фигуры и старые композиции в стиле Джотто, в средневековом духе отвечающие лишь частично чувственному опыту и являющиеся придачей к наблюдениям над действительностью; и не потому, что художники были еще «беспомощными», но потому, что в этом состояла принципиально труднейшая проблема: как могло новое понимание и требование точности в передаче натуры, в том, как оно развилось из христианского субъективизма и, завоевав главенство, стремилось завладеть всем художественным творчеством, как оно могло найти свое выражение в тех моментах изображения, которые выходили за пределы отдельных предметно-изолированных изучений действительности? Само по себе интенсивное и экстенсивное множество наблюдений над действительностью, наполняющее произведение переходного периода, не могло привести к решению вопроса, для которого не годились как готические композиционные абстракции идеалистического толка, так и новые композиционные схемы живописи Джотто.
Первые не годились потому, что стояли в резком противоречии с естественной обусловленностью, что прежде не только не считалось отрицательным явлением, но к этому, напротив, стремились, теперь же должно было восприниматься как непереносимое (в это время впервые в истории человечества оккамисты подчеркнули несовместимость эмпиризма и веры). Композиции же Джотто покоились, правда, на реальном бытии, но это бытие превращалось ими в художественную парафразу, которая также находилась в противоречии к основному принципу нового понимания верности природе. Этим вызван был конфликт, определявший художественное развитие на грани XIV и XV столетий как на севере, так и на юге, и в этом заключалась важнейшая проблема данного периода, благодаря которой на севере и на юге одновременно различными путями возникло новое искусство.
Итальянское разрешение упомянутого конфликта, в котором ведущая роль принадлежала Флоренции, мы рассмотрим в другой связи.
На севере же нидерландской живописи исторически было суждено указать искусству новый выход из противоречия движущих ею духовных сил.
Явно неслучайно, что этот поворот, знаменующий мировоззренческую эпоху в области искусства, может быть связан с именем большого художника, с первой, ясно постигаемой в своем индивидуальном значении личностью, прокладывающей путь в северном искусстве. Жизненный труд Яна ван Эйка раскроется под этим углом зрения в новом свете. Воплощенное в его произведениях восприятие природы было не ново, и многое, что в его вещах, что благодаря достигнутой им художественной зрелости представляется зрителю чудом, имеет идущие далеко назад корни. Поэтому само собой разумеется, что многие черты и стилевые особенности его работ могут рассматриваться как показатели общего прогресса его времени и родины, прогресса, к которому — также и независимо от него — стремились иметь известное отношение его нидерландские современники. Заслугою ван Эйка и тем новым является смелость, с которой он из измененных предпосылок искусства вывел следствия, прокладывающие новые пути искусства, противопоставив их старым традициям в качестве единственно законного принципа. Это выступает наиболее очевидно в невероятном упрощении композиции. Не без основания картины, написанные в стиле Джотто, называют эпическими и сопоставляют их с «Божественной комедией» Данте, подчеркивая этим повествовательный характер их содержания, что объединяет их до известной степени со всеми современными им произведениями готического искусства. Изображения в рукописях, витражи, ковры или фрески, украшавшие стены в XIV в., — все они похожи на театральные представления с многочисленными действующими лицами и повествовательным содержанием. Правда, репрезентативные изображения с небольшим количеством фигур не вполне отсутствовали и тогда, но они все же являлись исключением, и всеобщее стремление направлено было, несомненно, к тому, чтобы сделать фигурную композицию как можно более богатой, подвижной, содержательно многообразной и интересной. Вместе с преобладанием натуралистических устремлений это привело к тому, что также и наблюдения над действительностью стали нанизываться одно на другое с возможно большей полнотой, превращая картину в книгу с картинками; такою картиной является еще «Поклонение агнцу» в Генте братьев ван Эйк, — totius orbis comprehensio[96], с ее процессией небесных воинств и представителей всех сословий на фоне идеального пейзажа, с преизобилием фигур и роскошеств природы.
Все работы Яна ван Эйка противопоставляют этому композиционную замкнутость, которую можно было бы воспринять как оскудение замысла, если бы не было ясным, что эта ограниченность в такой же мере соответствовала намерениям художника, в какой она содействовала внутреннему обогащению искусства[97]. С особой очевидностью выступает обусловленный этим прогресс в понимании живописных проблем там, где композиция ограничивалась расположением в пространстве одной только фигуры, как, например, в изображении обеих обнаженных фигур (на отдельных створках), по имени которых назывался в XVI в. гентский алтарь, или в портретах работы Яна ван Эйка. Новым являлось здесь не стремление к портретности или изучение обнаженного тела, что уже и раньше имело место, но та решительность, с которою художник изучение обнаженного тела или портретное сходство поднял до степени исчерпывающего содержания и изображения. В этих картинах впервые изучение натуры в нашем смысле слова, то есть кусок реальности так, как он представлялся наблюдателю в его индивидуальном обличье, совпадает в основном с замыслом картины. Другими словами, это сводилось к сознательному отказу от всего того, что лежало за пределами непосредственного чувственного восприятия и к разрыву со всеми метафизическими или эмпирическими, выходящими за грань определенной вещественной данности взаимоотношениями и нормами. Произошла полнейшая победа того субъективного раскрытия мира в его бесконечном многообразии, которое развилось на почве средневекового мировоззрения в сочетании со сверхъестественными предпосылками и которое сделалось самодовлеющим источником художественного творчества.
Все это, безусловно, не может быть объяснено исключительно новыми возможностями, которые, — как это ни странно, — являлись лишь продолжением издалека идущей линии развития и реализовались, — правда, в меньшей степени, — у многих художников данной эпохи: объяснение кроется в новом художественном мироощущении, которое было антисредневековым и пионером которого являлся гениальный художник. В этом мироощущении следует искать происхождение композиционного лаконизма, который не означает оскудения фантазии (как это думали многие писатели, мало осведомленные в истории искусства), но означает революционное достижение, открывшее искусству новое непредвиденное богатство, новый мир в полном значении этого слова. Лондонский «Тимофей» и «Кардинал санта Кроче» в Вене кажутся далеко ушедшими от средневекового искусства и воздействуют на искушенного зрителя как современные картины не потому, что Ян ван Эйк внезапно открыл искусство, в основе которого лежит соответствующая нашим представлениям правдивая передача действительности, и не потому, что он видел действительность по-другому, чем его предшественники, а потому, что он ограничил себя изображением того, что могло быть изображено в пределах современных ему проблемы и искусства теми средствами, которые позволяли наиболее исчерпывающим образом правдиво передать индивидуальные наблюдения художника над действительностью.
Это проявляется также и там, где — как в религиозных изображениях ван Эйка — в основе изобразительного искусства могло лежать не просто изучение модели, но где пространство, традиционные изобразительные представления и верность предметной передачи должны были сочетаться в единое целое с творческой изобретательностью.
Бросается в глаза, что в подобного рода изображениях Ян ван Эйк — в противоположность картинам Джотто — пренебрегает по возможности всеми внешними эффектами. В спокойной торжественности, почти архаически неподвижно изображает он мадонну, восседающую на престоле, и ее свиту — святых мужей и жен, — изображает оберегаемого ими заказчика или супружескую чету, которую он в картинной композиции объединил в один портрет. Если искусство XIV столетия попыталось преодолеть застывшее тектоническое построение рядами, свойственное раннеготическому искусству, большей подвижностью фигур и объективно обусловленными действиями, и если оно выразило вытекающую из этого спаянность в пластических пространственно воздействующих группах, то кажется, что Ян ван Эйк снова принес все вытекающие отсюда достижения в жертву старой неподвижности и изолированности. Можно было бы представить себе это как самоограничение, обусловленное тем, что, с точки зрения наблюдения над действительностью, являлось доступным и разрешимым для его времени: сложные мотивы движения и группы (если только построение их не покоилось на устаревших схемах) требовали знания телесного организма и его изучения, покоящегося на способности к составлению отвлеченных понятий, подобно тому как одновременно в Италии такого рода познания признаны были важнейшей задачей изобразительного искусства, а на севере должны были отступить на задний план прежде всего в угоду индивидуальной правдивости передачи. Все, что в этих картинах окружало фигуры — одежды, посуда, архитектура или растительность, — и все то, что своей материальностью, колоритом и освещением передавало зрителю свое чувственное обличие, возникло из стремления создать слепок с действительности, похожий на тот, который в готическом искусстве связывался с понятием точности передачи натуры: и теперь, правда, все еще в староготической манере, но с возможно большим устранением всех моментов, которые с точки зрения новой художественной правды не могут быть изображены, он придавал всей композиции видимость целостно воспринятого и портретно написанного куска природы.
Это, однако, было бы невозможным, если бы художнику такой целостно воспринятый кусок природы a priori не представился в качестве образчика идеальной целостности; и в этом была дана вторая предпосылка для решающих новшеств в истории искусства на севере.
Ясно, что для создания портретного изображения определенного куска природы в его раз данной случайности — или даже для иллюзии такой целостности — не годилась как античная, так и итальянская система пространственных объективных воздействий и изобразительных средств. Художественно уравновешенная игра, в которой пластические тела сочетались с построением пространства в целостное и убедительное пространственное воздействие, могла быть построена, как и в современном ему итальянском искусстве, по принципу закономерной и открытой к пересмотру правильности; однако это не годилось в тех случаях, когда требовалось создать для зрителя иллюзию свободного отрезка из бесконечности окружающих человека и непрерывно текущих пространственных впечатлений; являясь в высшей степени пригодной для вспомогательной роли, как это выявилось впоследствии, итальянская система, как самоцель, в основном противоречила тому принципу в изображении пространства, который развился на севере.
Изображение обусловленной этим принципом волшебной игры, создание впечатления свободного, композиционно несвязанного отрезка безграничного пространства с наполняющими его бытием и жизнью — все это требовало другой системы, других средств.
Однако прежде всего надо задать себе вопрос, каким образом возникли подобные устремления? Объяснялось ли это действительно чем-либо совершенно новым? Или же все это примыкало в значительной мере к явлениям, которые были старше и, разумеется, имели раньше другое значение, примыкало к художественной установке, которая базировалась на сущности готической живописи и только благодаря итальянским влияниям в XIV в. была до некоторой степени оттеснена назад?
В противоположность сложной композиции в картинах Джотто пространственное построение в картинах Яна ван Эйка кажется бесконечно упрощенным: вертикальные и горизонтальные кулисы, идущие параллельно фигурам и заключающие их как бы в ящик; видимый, иногда ограниченный кусочек пейзажа, дающий возможность от осязаемой близости вертикального построения перейти (без оглядки на ограниченную и уравновешенную игру сил) в безграничный простор горизонтального глубинного плана, в котором случайными узорами разбросаны пейзажные мотивы; или попытки связать с этой глубинностью первопланную фигурную композицию без помощи неких промежуточных звеньев — все это, однако, в соединении с фронтальностью и простым построением фигур рядами, на которое указывалось уже и раньше, напоминает композиционную систему прежнего готического искусства, которая возникла в скульптуре и в живописи на севере до внедрения итальянских влияний, а впоследствии все еще сохраняла господствующее положение в области церковной живописи. Все это напоминает тот принцип, согласно которому ряды статуй на фасадах больших готических соборов или вытянутые фигуры раннеготических росписей на стекле располагаются не объективно-построенными материальными группами , но объединяются в безграничном пространстве на основании иных моментов; таким образом, лишенное материальности пространство, с которым связываются представления о безграничности и широте, кладется в основу общей композиции в качестве высшей пространственной целостности и так овладевает ею, что всюду, даже в содержании, переданном посредством рельефов и миниатюр, мотивы конкретной пространственной декорации изображаются не в качестве подлинных носителей пространственного объединения, но лишь как его промежуточные звенья!
Однако в новой нидерландской живописи изменилось применение и значение этого старого готического композиционного принципа. Если христианство благодаря вере в закон божественного откровения, господствующий везде и во все времена, постоянно учило связывать бесконечность с важнейшими предпосылками мировоззрения поначалу в качестве трансцендентного идеального понятия, затем в готике — в качестве реального мирового пространства, в котором властвуют сверхъестественные силы и заключены надчувственные взаимосвязи, то в новой нидерландской живописи изображение окружающего освобождается от трансцендентных предпосылок и трансцендентного содержания и под влиянием автономизации художественных проблем и самостоятельного значения, присвоенного наблюдению, превращается в исходный пункт естественно и чувственно воспринимаемого объединения вещей в безграничном пространстве.
Принадлежность пространства к безграничности и бесконечности сделалась, другими словами, основным естественным эстетическим фактором, который раскрывался зрителю посредством широких горизонтов и который в не меньшей степени обусловливал построение малейшего отрезка, выхваченного из универсальности изобразительной фантазии. Вместо классической и итальянской объективной реконструкции и замкнутости пространства выступает такое его построение, которое представляется переживанию и наблюдению действительности в своем неисчерпаемом многообразии и беспредельности; в этом заключается более глубокий смысл, скрывающийся за кажущимся упрощением пространственных композиций Яна ван Эйка и других художников, упрощением, сохранившимся от старой готической системы.
Как в изображении объектов, так и в передаче пространственных взаимоотношений, понятие субъективно познанного и пережитого факта является определяющим для дальнейшего развития искусства на севере; это понятие в противоположность античности и итальянской композиционной абстракции возникло из спиритуалистического отношения средневекового человека к окружающему миру; теперь, однако, оно уже не связывалось больше с трансцендентным миром идей, как им обусловленное и ему подчиненное, но сделалось под влиянием духовной и формальной эмансипации искусства чисто художественной проблемой и источником художественных воззрений, чувственного охвата и понимания окружающего мира, который увидели благодаря этому новыми глазами и в котором начали открывать посредством искусства явления, отношения, тайны и воздействия, о каких даже и не помышляли ни в древности, ни в итальянском искусстве треченто.
Особенно очевидным станет это взаимоотношение, если мы представим себе, как тесно соприкасаются не только композиция и отношение к безграничному пространственному отрезку, но также и средства объединения фигур в пространстве, как тесно соприкасаются они с теми точками зрения, которые рассмотрены нами в качестве характерных нововведений средневекового искусства по отношению к античности.
Так же, как и в готическом искусстве, это были прежде всего нематериальные моменты, объединявшие почти неподвижные фигуры в безграничном пространстве между собою и одновременно со зрителем, а именно:
1. Причастность к духовному сообществу. Сцепление фигур в замкнутую композицию посредством оживленных действий и соответствующих им физических отношений, как это было свойственно искусству Джотто, снова исчезает, уступая место, с одной стороны, более сильному подчеркиванию исключительно душевной близости, а с другой стороны — такому построению, которое противопоставляет всем индивидуальным психическим или физическим происшествиям властную силу стоящей над ним высшей духовной значимости, подчиняющей себе эти события и проявляющейся не в действии, а в спокойном существовании. Теперь она не является лишь отражением трансцендентной идеальной системы, как в более раннем готическом искусстве, монументальная торжественность которого основывалась на возвышении светских вещей до уровня надмирного вневременного существования, она состояла не только в тех узах, что соединяют избранных Богом в надчувственное, стоящее надо всем данным, ушедшим, настоящим и будущим царство вечных ценностей, — которое выводит персонажи Яна ван Эйка из повседневного и пробуждают отклик в сосредоточенности зрителя.
Фоном для этого являются наблюдение и восхищенное удивление перед неисчерпаемостью природы и перед «тихим», независимым от человеческой воли бытием, становлением и увяданием вещей, на котором лежит как бы отблеск вечности. Из готики, с ее представлениями о неограниченных временем и местом силах божественного господства в истории человечества и природе (благодаря чему заново были открыты источники фантазии) происходит та радость, что вызывается широкими горизонтами и сценами, расширяющимися беспредельно в глубину и в ширину и раскрывающими зрителю красоту природы и многообразие жизни, поскольку оно может быть охвачено взором; этим же объясняется также и радость, вызываемая богатством наблюдения, которое представляется художнику даже там, где изобразительный материал требует ограниченного окружения; последнее же происходит тогда, когда художник погружается в картину бесконечного волшебного мира, который содержится даже во всем самом малом и повседневном нашем окружении и который, будучи любовно наблюдаем, раскрывается в незначительнейшем из явлений посредством чувственных впечатлений, облегчая размышляющему сознанию понимание бытия и жизни, стоящих над индивидуальными желаниями и поступками. Этими двумя моментами объясняется то торжественное настроение, которое как бы бесшумно овевает фигуры и переносит зрителя в мир, где умолкают страсти и все празднично проясняется. Человеческая душа с ее потребностями и тайнами и комплекс природы и жизни, как исходный момент отношения к преходящему миру и как зеркало его более глубокого смысла, — эти два основных критерия нового христианского искусства средневековья выступают снова на первый план в качестве объединяющего духовного содержания композиции; однако они являются уже не отражением сверхъестественной закономерности в человеческом внутреннем мире и в природе, как в готическом искусстве, а наоборот — естественным понятием ценности, сохраняемым в земной жизни и в переживании, в размышлении и наблюдении, благодаря чему только искусство и может, отвечая своему религиозному назначению, духовно возвысить людей и пробудить в них переживания религиозного характера.
2. Но и второе средство пространственного объединения в новой нидерландской живописи находится в аналогичном отношении к великому наследию готического искусства. Речь идет об освещении, которое наполняет пространство нематериальным движением, которое, играя, касается отдельных форм, бросает блики на фигуры, борется с сумеречной темнотой и как бы ищет то тут, то там возможности соревнования с тенями. Здесь следует также указать на ту роль, которую играл свет в качестве композиционного средства в предшествовавшем развитии христианского искусства: сначала, в раннем средневековье, он является абстрактным идеальным фактором, а затем в готике — настоящим светом, который в сочетании с живописью на стекле должен был усилить воздействие на зрителя, вызываемое впечатлением свободного сверхъестественного парения фигур, усилить, объединяя последние со зрителем и с неограниченным внешним миром. Таким образом, однако, естественный свет превращался в часть колористически воспринятого и изображенного отрезка вселенной и в средство связать в пределах этого отрезка явления с пространством; таким он остался даже тогда, когда интерес к сверхъестественным взаимоотношениям заменялся естественными связями в пределах реального отрезка пространства, превращенного в самостоятельную живописную проблему. То, что было открыто в средневековье, то есть стремление непосредственнее приблизить к людям чудесное в призрачных видениях, становится теперь источником созерцания природы — еще весьма удаленном от полного перерождения всех явлений в феномены освещения и их целостного и последовательного обосновывания и разработки, но, будучи, вне всякого сомнения, первым шагом в этом направлении, — первым шагом к тому северному искусству, которое как никакое другое начало выстраивать образное единство на внематериальных элементах преходящего оптического явления.
Не следует вновь указывать на то, как изменились благодаря этому задачи в области колорита и моделировки, утративших свою абстрактность и изолированность и сделавшихся через свой облик, подверженный влиянию освещения и окружения, элементами объединения предметов в пространстве. Это вещи известные. Однако не мешает снова подчеркнуть, что предпосылкой для всех этих нововведений, и поэтому, в конечном счете, основным источником фантазии в области изобразительного искусства, является не — как в итальянском искусстве — логически сконструированное и допускающее рациональную проверку (а потому в последнем итоге абстрактное) единство, а сила субъективного созерцания.
3. Последнее наполняет целиком все произведение, придавая каждому предмету характерное для него жизненное своеобразие. Мы почти не спрашиваем о том, является ли эта связь рационально допускающей опытную проверку, — она действует убедительно потому, что все предметы предстают перед зрителем в их чувственно своеобразной ценности, материальном обличии и сопоставлении, предстают в качестве живописно-однородно воспринятой и верно воспроизведенной действительности. Таким образом, мы снова подходим к тому общему исходному моменту художественного переворота, который выступает в работах Яна ван Эйка.
Мы уже знаем, что Ян ван Эйк разрушил старые идеалистические нормы изобразительной композиции, не отвечавшие больше новой духовной установке по отношению к искусству и действительности, и последовательно заменил их изучением натуры, которое соответствовало тому, что являлось достижением нового понятия верности природе новыми народами средневековья в связи со всем их духовным развитием и мировоззрением.
Из этого же понятия он исходил и тогда, когда надо было связать отдельные моменты изучения действительности в изобразительное единство. Правда, при этом, как это было умно замечено Гейдрихом[98], все еще сохраняются остатки старого понимания конечной цели изобразительного искусства и все еще наблюдения над действительностью не развиваются последовательно в духе натуралистического позитивизма нового времени, исходя из естественной причинности, но часто «сверхъестественно» соединяются одно с другим посредством абстрактной композиции. При этом, однако, положение вещей совершенно изменилось. Речь идет уже не о действительно достигнутом, но о новых целях и воззрениях, о новой духовной позиции искусства и ero отношении к природе и жизни.
Из растущей убежденности в самостоятельном значении
основывающегося на субъективном наблюдении восприятия
природы и жизни, развившегося в эпоху средневековья в
качестве условной части трансцендентного объяснения мира,
после того как оковы этой обусловленности ослабли, в
ситуации гениального духовного переворота возникло новое
художественное исповедание, новое понимание того, что в
первую очередь приносит славу искусству, того, в чем состоят
его важнейшие проблемы, благодаря чему искусство и может
вследствие силы своего воздействия поднимать людей в более
высокие сферы духовного осознания мира, и, наконец, то,
что составляет важнейшее содержание художественной
ответственности.
Из чувства этой ответственности дерзостным и личным поступком была взорвана средневековая художественная форма, и все внимание сконцентрировано на предметной правдивости, которая из дополнительного момента превратилась в важнейшую задачу художественного творчества. Не средневековая скромность, а современное оправдание звучит в словах «как я умею», которые Ян ван Эйк помещал на рамах своих картин. Пусть все решающие нововведения преподносятся им в духе средневековой наивности, как нечто само собой разумеющееся; но не подлежит никакому сомнению, что искусство, нашедшее чистейшее и величайшее отражение своего своеобразия и правдивости индивидуального портрета в фотографической точности его передачи (как об этом свидетельствуют портреты И. Видта и каноника ван дер Пале), имело не только материальные достижения в области реалистической реконструкции действительности, но означало также и преодоление прошлого (столь же осознанное, как это одновременно, хотя и по-другому, произошло в Италии) и триумф не только более новых средств и навыков, но и принципиально нового понимания отношений между человеком, искусством и окружающим миром — того понимания, в котором нашло выражение новое всеобщее духовное отношение к искусству, далеко выходящее за границы нормального прогресса живописного творчества, связанного определенными предпосылками. Подобно тому, как когда-то в доисторические времена геологические катастрофы привели к образованию новых горных цепей, с вершин которых мы теперь можем созерцать захватывающие панорамы, так на почве духовных потрясений, которыми полна история средневековой Европы, возникли новые духовные возможности познания мира; когда для этого созрело время, гениальный реформатор в области искусства, исходя из этих новых возможностей и разорвав все цепи прошлого, положил в основу художественного творчества в качестве важнейшего руководства содержавшееся в этих предпосылках новое понятие правды и художественного долга, тем самым принципиально преодолев в искусстве средневековый трансцендентный идеализм.
Это явление такого рода, которое вряд ли нас удивит, если мы вспомним, что оно произошло на пороге того времени, для которого определяющим являлся радикализм духовных требований, покоящийся на субъективно познанных правде и убежденности, радикализм, не только придававший каждой прогрессивной мысли во всех областях духовной деятельности огромный диапазон и резонанс, но и создавший новый тип духовно независимых передовых людей. Характерно, однако, то обстоятельство, что в области искусства этот переворот совершился сравнительно очень рано, и притом прежде всего в Нидерландах (одновременно с Италией), где два столетия спустя новая фаза духовного развития северных народов в области живописного творчества также нашла свое чистейшее выражение.
[1915-1917]
III ШОНГАУЭР И НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ
I
Точно так же, как если бы кто-нибудь, излагая духовную историю греков, не принял во внимание греческую трагедию, было бы неполным историческое изображение немецкого искусства, в котором одна из важнейших глав не была бы посвящена немецкой графике. В каждом учебнике, пожалуй, можно прочесть, что предпочтение гравюры на дереве и меди являлось характернейшей чертой немецкого искусства XV в.; однако, обычно оставляется без внимания то обстоятельство, что в графике нашли свое чистейшее и замечательнейшее выражение все художественные изыскания и вся индивидуальная тоска немцев предшествующего Реформации столетия, что благодаря этому для искусства открылись новые пути и реализовались новые художественные ценности, которые имели огромное значение для всего европейского художественного развития. Это опущение обусловлено главным образом тремя причинами.
Во-первых, узкой специализацией большинства знатоков гравюры на дереве и меди, во-вторых, критерием натурализма, с которым до сих пор, как правило, подходят к оценке немецкой графики XV столетия, и, наконец, всеобщей склонностью представлять немецкое искусство как зависимое в основном от чужих образцов. Больше, чем от чего бы то ни было, я далек от отрицания в нем рецептивных периодов; однако они чередуются с временами, когда немецкое искусство было самостоятельным, было наполнено большой внутренней силой, творческой в полном значении этого слова —и вот из этого-то творческого богатства развилась и немецкая графика.
Развилась впервые не во времена Дюрера и Гольбейна, но уже в своих «примитивных» зачатках. Мы сейчас далеки от того, чтобы определять возникновение новой ветви искусства, нового художественного языка случайными открытиями или побуждениями технического порядка. Всегда и везде духовная потребность является первоисточником — в искусстве и всюду в истории духовной эволюции человечества. И это соотношение выступает отчетливо при возникновении немецкого искусства ксилографии. У ее колыбели находим мы в германских землях, и сильнее всего в самой Германии, духовное движение, которое можно обозначить как призыв к воспитанию души. Он раздается громко уже в писаниях немецких мистиков XIV в.: понятия и учение, интеллектуальные и исторические доказательства — это лишь «весьма слабые костыли» на тернистом пути истинной христианской жизни. То, к чему он приводит, это — внутреннее созерцание, замещающее произносимую вслух молитву. Церковь с ее литургиями и статуями, священной историей в красках и увещеваниями, перестает играть роль единственного центра религиозной жизни: в каждом отдельном человеческом сердце должна была возникнуть церковь, богатая образами и наполненная внутренними переживаниями. Слова, отчеканенные мистиками, являются эхом всеобщей перемены, которая произошла в немецкой религиозной жизни и результатом которой явилась всеобщая потребность в индивидуальном религиозном образовании и самоуглублении. На эту потребность откликнулось и искусство, сделавшее «дешевыми» и доступными всем и каждому образные представления посредством массового их распространения.
Стиль наиболее ранних гравюр на дереве этому вполне соответствует. Он основывался на готических традициях, и при поверхностном рассмотрении можно было легко поверить, что он являлся не больше, чем запоздалым отражением живописи XIV столетия, настолько он наивен, неуклюж и не затронут новыми проблемами и достижениями современного ему западного и южного искусства. Но эта примитивность не может быть объяснена народным характером старейших гравюр на дереве, доказательством чего является вся живопись первой половины XV в. Эта живопись была во всех своих областях «запоздалой» и все еще опиралась на идеализм Джотто в эпоху, когда в Италии и Нидерландах он давно уже был преодолен. И так как эта отсталость являлась всеобщим признаком живописи первой половины немецкого кватроченто, возникает вопрос, не сохранилось ли наравне со старым направлением другое, отличное от итальянского и нидерландского, понимание искусства?
Я возьму два примера из Нюрнберга, где развитие можно проследить особенно отчетливо. Главное произведение первой четверти столетия, алтарь Имгоффа, еще всецело основывается на том сочетании североготическнх элементов с джоттовскими, которое в живописи второй половины XIV в. образовывалось всюду на севере от Альп. Это сочетание осталось в основном в пределах готической абстракции: перед нами — золотой фон, еще не замененный натуралистической передачей пространства, простое наличие рядов, как важнейший завет готической композиционной манеры, идеализированные фигуры и готически взметенные выразительные линии. К этому присоединялись итальянские воздействия в виде навеянных влиянием Джотто или живописи Сиены голов, как олицетворения новой (также материально идеальной) красоты, новая ритмичность в построении картины, пластическая округленность и увесистость фигур и стремление к радостно светящемуся, возвышенному воздействию красок. В начале XV столетия подобным же образом писали не только в Германии, но всюду, где царило западное искусство. Однако в то время как в Италии и на западе во втором и третьем десятилетиях этот стиль был полностью преодолен, в Германии он сохранился в своем дальнейшем развитии до середины столетия, что дает нам право противопоставить немецкую живопись этого периода итальянской и нидерландской, как вполне самостоятельную и значительную область.
В большом алтаре Тухера следы прежних итальянских влияний заметны лишь едва. Дальнейшее формирование стиля Джотто пошло здесь совсем другим путем, чем в Италии. Особенно ясно выявлено это в изображении пространства, которое в Италии все больше связывается основоположниками Ренессанса со стремлением к убедительной реконструкции реальных взаимоотношений, тогда как Германия как будто все больше от этого отходит. В алтаре Имгоффа во всяком случае намечена пространственная глубина; в алтаре Тухера она совершенно отсутствует. Фон здесь дан совершенно ирреально. Это — старый золотой фон, который не является, однако, мертвой, гладкой или нейтрально-спокойной узорчатой плоскостью, а преисполнен приподнятой фантастично-неправдоподобной жизни. Плоскость фона покрыта растительным орнаментом, утратившим как натуралистическую вегетативность трактовки XIII в., так и архитектонично-закономерный, антикизированный характер. Он здесь становится почти до жути живым, сплетаясь как змеи в сумятицу линий, которую трудно разобрать, и которая, как пламя, стремится в высь, как бы в высшие сферы, где эта страстная динамика переходит в нежную музыку позднеготического, архитектоничного и все же бесплотного движения. Этому лишенному материальности способу выражения противостоят фигуры — тяжелые, массивные, замкнутые и компактно-пластичные. Как существенно отличаются они от современных им итальянских или нидерландских фигур! От первых они отличаются полнейшим отсутствием интереса к подробной и правдивой передаче натуры, от вторых — своим замыслом. В задачу немецкого художника не входили передача или художественное усиление природной игры сил, не занимал его также наглядный показ функций телесного организма — его задачей являлось лишь подчеркивание массивно-телесного и субстанционально-реального в противоположность чисто духовному. Закономерное построение и формальная красота не играют здесь никакой роли, столь же мало внимания уделяется созданию близкого портретному выражения лиц. Тяжеловесный, плохо расчлененный, застывший и в положении и в движении (изображение последнего ограничивается немногими неповоротливыми линиями и пастозными цветными плоскостями) человек — как смертная ограниченная изменчивая материя, как второстепенная и подчиненная высшему оболочка — противопоставлен выражению душевных порывов.
На почве этого противопоставления развивается своеобразный меланхоличный реализм немецкой живописи первой половины XV в., в основе отличающийся от современного нидерландского натурализма и итальянского эмпиризма. Как на сцене, где разыгрываются мистерии, выступают (например, у Мейстера Франке, у Лукаса Мозера, Мульчера и многих других) наравне с идеальными фигурами такие, которые находятся в резком противоречии с какой бы то ни было идеализацией: представители темных гибельных сил земного бытия и носителя человеческих преступлений, грехов и страстей — тусклая и слепая масса, с которой надлежит бороться высшим силам; все это первый шаг к новому обоснованию трагедии человеческой индивидуальности и судьбы, для которой не было места в рамках средневекового антиреализма.
Всегда и везде, однако, все земное: бытие, все человеческие ощущения, желания и поступки являются как бы скованными и преисполненными гнетущей тяжести, в которой отражается низшая форма жизненного существования. Телесное не является равноценным духовному, как в аналогичном по времени итальянском искусстве, но возникает, как преодолеваемая им сфера сопротивления. Это полярное противопоставление телесного чисто духовному приводит иногда — наиболее гениально у Вица — к монументальной тяжести, напоминающей аморфные массы романской архитектуры, к нерасчлененным глыбообразным символам материи, из которой духовное прорывается лишь с мучительным трудом, для того чтобы, освободившись все же в конце концов от уз преходящей действительности, в высшей полярности наполнить другую, более высокую сферу своей (противопоставленной всякой тяжести и связанности) динамикой. Независимое от изображенного земного бытия и действия, это искусство намечает свою высшую форму выявления, связует, поднимаясь над всем индивидуальным, фигуры во вневременном духовном единении и настроении и звучит, как звон из других миров; так же, как и возвышающиеся над всем реальным и вещественным красота и познание звучат для созерцателя в обусловленных идеалом формах, линиях, красках, светотени, звучат в изображении природы и человека, а также в игре воображения.
Все это имеет свои корни в средневековье, но вместе с тем означает новый этап средневекового идеализма, представляющий собой принципиальный шаг вперед. Источником его было то же стремление к более глубокой связи искусства с субъективным переживанием окружающего, которое лежало в основе развития современного нидерландского и итальянского искусства. Только дороги здесь были различны. В Италии и Нидерландах перемена, — приблизившая искусство к людям, — осуществилась главным образом в области нового светского понимания природы, которая открылась искусству чувственным путем, через наблюдение ее неисчерпаемого многообразия и через познание ее естественных закономерностей, от которых зависит все материальное. В Германии, где религиозное мышление вплоть до Реформации сохранило свою руководящую роль также и в искусстве, искали, напротив, этого очеловечения искусства в пределах его старорелигиозной сверхъестественной обусловленности. Новое начало, характеризующее немецкое искусство XV столетия, состояло в отказе от отражения догматически данной абсолютной истины, стоящей в виде крепко спаянной мощной системы духовных ценностей над чувственным опытом и земным бытием, как это было свойственно готике XUI и XIV столетий. Центр тяжести перенесен был на субъективное размышление и ощущение, посредством которых надлежало, преодолев материю, достигнуть внутренней просветленности и абсолютной духовности. Поэтому немцам было безразлично, какими являются вещи в их естественной обусловленности, и убедительная сила объективной передачи для них не имела значения. Решающими являлись лишь общение духовного с духовным и выходящие за пределы чувственных форм смысл и цель изображения, которое должно было сообщить людям в первую очередь внутреннее углубление и духовные ценности. Внутреннему переживанию соответствует здесь степень верности в изображении природы при напряженном стремлении от наиболее реального к самому ирреальному, так что вместо закономерности итальянцев и нидерландской зависимости от натуры в немецком искусстве первой половины XV в. в выборе средств выражения царила значительно большая свобода,которой может быть объяснено и кажущееся расщепление на независимые друг от друга школы и индивидуальности. Однако именно эта свобода вела к удивительной точности и лаконичности художественного выражения; благодаря этим его свойствам, взятым в качестве критерия, немецкая живопись первой половины XV в. представляется воплощением своеобразного и высокого развитого стиля.
К его лучшим произведениям относятся инкунабулы деревянной гравюры. Скорее поощряемые, нежели задерживаемые еще несовершенной техникою, их анонимные родоначальники, даже больше, чем современные им немецкие живописцы, сосредоточили свое внимание на том, в чем состояла главнейшая задача немецкого искусства, и создавали такие художественные произведения, которые, правда, в области подражания натуре и решения формальных проблем далеко отставали от произведений современной им нидерландской и итальянской живописи, но в которых тем непосредственней и проникновенней, часто в захватывающей чистоте, каждому был указан путь к внутреннему созиданию.
II Своеобразие развития немецкой живописи XV столетия было прервано нидерландскими влияниями. И снова было ошибкой со стороны односторонней точки зрения на развитие искусства, как на постепенное приближение к натурализму, считать, что воздействие Нидерландов осуществлялось в постепенном приближении немецкой живописи к западным достижениям натуралистического характера. Правда, отдельные элементы новой нидерландской живописи еще и раньше проникали в Германию, особенно в западную, однако они всегда оставались второстепенными по отношению к специфически немецким художественным установкам, и только в пятидесятых годах нидерландское влияние стало решающим, определив новое направление немецкой живописи, подобно тому как в восьмидесятых годах XIX столетия романтическая и академическая живопись в Германии подвергалась натиску французского импрессионизма; происходило это не постепенно, но путем внезапно возникшей оппозиции молодежи по отношению к старикам, и носители этой оппозиции вполне сознательно противопоставляли свое искусство обусловленному традицией искусству предшествующего поколения. Точно так же в середине столетия молодые немецкие живописцы получали свое художественное образование непосредственно и косвенно с запада и переносили изученное в Германию. Отличием их от художников старшего поколения являлся их не постепенный, а принципиальный натурализм; искусство первой половины немецкого кватроченто (в основном не натуралистическое) сменилось художественным убеждением, считавшим честную передачу действительности важнейшей задачей художественной практики.
Обратимся к Нюрнбергу. Главою нового стиля являлся сам Иоганн[99] Плейденвурф, который переселился в расцветший город в 1457 г., на два года позже, чем отец Дюрера, и пришел, может быть, как и тот, от «великих мастеров» с территории нидерландских образцов сильнее, чем его портрет каноника Шенборна. Точный — вплоть до тончайшей морщинки — рисунок головы, передача материи в трактовке одежды, изображенная в виде натюрморта книга в руках портретируемого — все это напоминает о нидерландских портретах так же, как и основная установка, поднявшая изучение натуры до исходного пункта живописного изображения. И подобно тому, как в портрете каноника Шенборна наличествует правдивая передача индивидуальных черт, в алтарных образах того же Плейденвурфа мы находим сменившее прежний золотой фон детальное изображение внутреннего пространства, трактованного не в качестве простого обрамления фигур, как это иногда имело место и раньше, но как равноценный фигурам изобразительный мотив, выполненный с величайшей любовью и верностью в передаче натуры, как портрет определенного пространства. Сказанное применимо также по отношению к пейзажу, который, правда, не вполне отсутствовал и в предшествующем направлении, но являлся больше общим композиционным элементом, чем точной передачей природы. Теперь пейзаж сводится к хронике того, что видит глаз, вплоть до самого горизонта, как это имеет место, например, в мюнхенском распятии. Правда, в фигурах видны еще пережитки старого идеализма, но уже здесь стиль меняется; широкие линии, большие плоскости и мощно сконструированные фигуры заменены детальными этюдами с натуры и, что особенно важно, изменилось также духовное содержание картины. Господство внутреннего над чувственным восприятием действительности исчезает, и в изображении психических моментов художник ограничивается передачей конкретных ощущений.
То, чему учит нас нюрнбергский живописец, находим мы всюду в немецкой живописи. В Швабии и на берегах Рейна, в севернонемецкой живописи, так же как в Эльзасе или на немецком востоке, всюду больше или меньше видно наличие первой большой волны нидерландских влияний, так что в течение долгого времени казалось, будто немецкая живопись была полностью выкорчевана и находилась на пути к тому, чтобы сделаться ответвлением нидерландского искусства.
Если же проследить это первое нидерландское течение, проникшее в Германию, то внезапно делается очевидным, что оно очень быстро начинает как бы всасываться в песок. Заимствованные у старонидерландских образцов задачи, композиционные схемы и формы, правда, варьируются и сочетаются различным образом, но развиваются незначительно. Это снова и снова все те же — напоминающие главным образом фламандских мастеров Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса и Флемальского мастера — подражания, которыми обходятся без существенного продвижения вперед. Немецкие мастера, на произведениях которых не лежал отпечаток большого мастерства, как в Нидерландах, и которые должны были изготовлять свою продукцию чуть ли не фабричным путем для повсеместного удовлетворения запросов церкви, превращали в малоподвижный провинциализм то, что вдохновенными адептами нового направления принесено было с запада в качестве нового евангелия. Чувственный натурализм Нидерландов, зачеркивающий природу ради чисто внешнего художественного воздействия и рассматривающий точность в ее изображении в первую очередь как внутрихудожественную проблему, как проблему художественного «как», не смог тогда, очевидно, пустить более глубоких корней в Германии, где, как уже было подчеркнуто и дальше будет выявлено, искусство осталось прежде всего средством всеобщего духовного обучения и образования и все больше развивалось именно по этой линии.
В этом направлении нидерландские влияния сыграли гораздо большую роль, чем в области чисто формальной. Это объясняется тем, что они совпали с новым этапом развития немецкой духовной жизни, который можно обозначить как расширение кругозора по линии приятия вещей светского характера. Для того, чтобы это стало понятным, нужно углубиться несколько дальше.
Рассматривая историю христианского мира в ее совокупности, мы видим, что она отчетливо распадается на два основных периода своего развития. Они не разделены определенным событием резко друг от друга и не совпадают по времени у отдельных европейских народов. Первый период длится в своих последних разветвлениях, продолжая свое развитие, вплоть до середины XV столетия (отголоски его появлялись и позднее); зачатки второго периода заложены в позднем средневековье. Он продолжается вплоть до современности и как будто торопится к своему концу. В течение первого периода люди искали смысла и последней цели своего земного бытия в потустороннем, тогда как для второго характерно то, что вера в это сверхземное предназначение человечества все больше тускнеет благодаря стремлению к земным благам и вытекающей отсюда концентрации человеческого духа на вопросах, проблемах и усилиях, связанных с дальнейшим поощрением светского гедонизма. Это новое духовное направление человечества вело к новым формам, напряжениям и, наконец, катастрофам в хозяйственной и социальной жизни, к мировой торговле, капитализму, национализму и к империализму; в области же духовной продукции — к господству естественных наук и невероятным техническим изобретениям, которые — чем дальше, тем больше, — рассматривались в качестве показателя степени человеческого прогресса, так что этот период в целом позволительно было бы в будущем назвать естественно-научной и технической эпохой.
Однако полное убеждение в необходимости и осчастливливающей силе художественного, научного и механического преодоления природы в целях возможно большего повышения всех внешних условий жизни проникло в официальную и частную жизнь и овладело господствующими над людьми интересами лишь постепенно. Однако прежде, чем это убеждение стало единой отличительной чертой всей европейской культуры и преобразило ее во всех принципах и взаимосвязях, благодаря в целом единому духовному перевороту, в разной форме произошедшему в культуре ведущих народов Западной Европы, утвердилось новое понимание мира и человека.
Италия, опираясь на античное наследство, шла впереди в основании искусства, противопоставлявшего старой, устремленной к потусторонности, духовной общности средневекового христианства естественную жизненную закономерность и гармонию, а также новое познание мира, основанное на наблюдении физических причин и взаимозависимостей. Это вело, с одной стороны, к новому, независящему от религиозной надземности пониманию красоты и монументальности, а с другой — к созданию того плодотворного духа исканий, без которого быстрое развитие современных естественно-научных знаний и технического мастерства было бы невозможным. Превращение духовных интересов в светские шло в западноевропейской культуре главным образом по линии постепенного преобразования философского и теоретически-научного мышления, стремившегося к индукции, все более расширяющейся, и по пути безудержного наблюдения, которое с начала XV столетия приобрело значение также и в области живописного изображения природы. Натурализм и связанные с ним в рамках искусства задачи приобрели такую высокую оценку, какой они до этого в течение всей эволюции искусства никогда не имели; уничтожив границы, поставленные до тех пор перед искусством, они явились исходным пунктом нового художественного открытия видимого мира в его неисчерпаемом предметном и формальном богатстве. И в этом также содержалось быстрое отступление от потустороннего и потеря себя в том, что предлагалось природным окружением для удовлетворения потребности человека в знании и наслаждении.
А Германия? Принимала ли она участие в этом преобразовании европейской духовной жизни? Полагаю, что это участие являлось большим и особенно важным. Мы уже знаем, каким образом развилось в Германии новое стремление к религиозному образованию, благодаря которому то, что являлось прежде церковно-догматическим таинством, должно было глубже внедриться в знание и душевное переживание всех людей. Это уже являлось шагом к «упрощению» комплексов чувств и мыслей, раньше главенствовавших над людьми. Знание есть сила — эта антично-риторическая мысль, связанная с представлением об обогащении индивидуального бытия, овладела духовной жизнью целой нации и наполнила ее лихорадочным стремлением к духовным ценностям — прежде всего к религиозным, — но вскоре, однако, в связи со всеобщим ростом омирщения духовных интересов — к духовным ценностям вообще! Из стремления к религиозному возникло сильное стремление к образованию вообще, ко всему, что могло расширить кругозор и предоставить миру чувств и фантазии новую пищу. Средневековые литература и наука являлись исключительными, т. е. были предназначены только для определенных профессий, сословий или кругов, а потому могли довольствоваться книгой, написанной от руки. Новая всеобщая потребность в литературном образовании повлекла за собой механическое размножение печатной продукции. Отсюда оставался только шаг к возникшему из аналогичной потребности размножению материала изобразительного. Так, из нового духовного направления в Германии вырастает наиболее характерный для этого отрезка времени во всей духовной истории человечества технический прием, подобно тому, как из новых художественных воззрений Италии возникли основы анатомии или базирующиеся на статических, оптических и других законах новые изобретения.
При этом печатное слово отнюдь не оставляло в тени печатного изображения. Уже тот факт, что последнему принадлежит первенство по времени, доказывает, что изобразительный материал являлся не менее значительным средством массовой эрудиции, чем словесный. Благодаря расширению интересов по линии образования печатное изображение также приобрело для себя новые области, как это показывает сравнение новых печатных иллюстраций с первоисточниками искусства ксилографии. Пусть вначале печатное изображение примыкало к старым рукописным изобразительным сериям — все же чрезвычайно существенным является тот факт, что огромное количество образных представлений, в несравненно большей степени, чем прежде, сделалось всеобщим духовным достоянием, и что стремление ко всеобщему образному обучению переросло в стремление ко всеобщему художественному видению.
Его возникновению способствовали достижения нидерландских живописцев в области натурализма, открывшие для немецкой иллюстрации с новой для нее реальной убедительностью все предметное богатство природы и жизни. Благодаря этому чрезвычайно увеличилась радость от изобразительного рассказа и повествования, и вскоре всюду в иллюстрациях к поэтическим, историческим, религиозным, географическим или энциклопедическим трудам появляются новые темы изображений и множество новых художественных изобретений, как будто в Германии мощь фантазии внезапно обрела крылья и решила в течение немногих лет догнать то, чем западное искусство давно уже в полной мере обладало в области рукописной иллюстрации, которая непосредственно или косвенно, но многосторонне влияла на немецкие печатные изобразительные серии.
Однако здесь отнюдь не имеет места лишь простое подражание. До сих пор взаимоотношения между литературой и искусством были чрезвычайно сложными. Новые образные представления, возникавшие в поэзии или историческом исследовании, в трудах научного или дидактического характера, лишь кружным путем попадали во всеобщий художественный обиход. То, что являлось совместным творчеством писателей, рисовальщиков и издателей, было предусмотрено как единство, рассчитанное на то, чтобы посредством печатного слова и образа воздействовать на всеобщее духовное сознание все более широких масс. Это, однако, представляло' собою нечто совсем другое, чем создавшиеся под влиянием Нидерландов шаблоны в области церковной живописи. Это было новое, радостное, смотрящее вперед искусство, больше того — новое средство всеобщего духовного воздействия, олицетворение большого духовного движения, воодушевившего художественную молодежь, которая не хотела довольствоваться кустарничеством в своей профессии и придавала новый смысл заимствованным у Нидерландов стилистическим элементам.
Это искусство быстро выросло за пределы чисто формальной постановки проблемы. Вопрос теперь заключался не только в том, как надо изобразить тот или иной предмет, ту или иную фигуру, сочетание фигур и пространства, чтобы передача действовала на зрителя правдиво и убедительно, как сама действительность; это новое художественное видение было связано со всей совокупностью духовных интересов, являясь средством для их расширения и углубления. Таким образом, оно — мало-помалу превышая понятие новой художественной истины — стало выражением нового знания, нового мира фантазии, нового мира идей, нового образования, другими словами — нового всеобщего взгляда на мир. В этом последнем нидерландский натурализм был не самоцелью, а только средством к цели, и поэтому также не единственным языком искусства, как в Нидерландах; он должен был делить свое влияние с другими средствами выражения, к которым мы еще вернемся.
В пределах этой насыщенности нидерландским восприятием природы, характеризовавшей немецкую живопись, имеются своеобразные художественные проявления, одно из которых заслуживает особенного внимания. Это — развитие немецкой гравюры на меди. Не отличаясь существенным образом в своих начинаниях от гравюры на дереве, резцовая гравюра постепенно отделяется от нее все больше и больше, развиваясь по линии приближения к нидерландской живописи, передача преимуществ которой в ксилографической технике была трудно осуществима. Трудность заключалась главным образом в передаче тонкостей моделировки, разнообразия трактовки материала и атмосферы и почти неисчерпаемого богатства красок. Достижение этих особенностей было до известной степени легче в гравюре на меди, однако они должны были быть получены самостоятельно, поскольку здесь имело место не просто подражание, как в одновременной станковой живописи, но перенесение на язык черного и белого того, что открылось немецкому искусству благодаря его новому — даже в области формальной более глубокому — отношению к нидерландскому искусству.
Посмотрим на творчество Мастера E. S., венчающее первый период гравюры на меди. Обогащение изобразительного материала, разнообразие в трактовке, основанной на новом, более свободном переживании окружающего, — все это не отличает его от других современных ему немецких художников, и так же, как и у них, его композиции уводят назад, к нидерландским образцам. Ко всему этому, однако, присоединяется и нечто другое: усилия, направленные к тому, чтобы, исходя из основных элементов живописной передачи действительности, свойственной Нидерландам, и базируясь на них, по-новому преодолеть разнообразнейший изобразительный материал. Правда, его творениям еще не хватает проникновенной натуралистической тоновости и красочности позднейших немецких гравюр на меди, но в отдельных фигурах и формах, а также в передаче пространственного воздействия он находит и прокладывает новые художественные пути, являясь не только выполнителем задач, поставленных нидерландской живописью, не только творящим из нее и перенимающим ее восприятие реальности природы, но и старающимся самостоятельно пройти тот путь, который она проделала. С каждой новой гравюрой его рисунок все больше соответствует задачам нидерландского наблюдения природы, все больше постигает возможность следовать тончайшим изгибам формы в моделировке, разграничивать глубину посредством светлых и затененных плоскостей и превращать в новую художественную находку то, что для большинства его немецких современников было выученным языком.
III
На этом фундаменте продолжает строить Шонгауэр. Можно проследить любопытную эволюцию ero взаимоотношений с нидерландским искусством.
Прежде всего, следует сказать несколько слов относительно хронологии его работ. Датирование произведений Шонгауэра представляло для исследователей чрезвычайные трудности, поскольку внешние данные для этого почти совсем отсутствуют. Попытки разрешения задачи с непригодными средствами скорее увеличили, чем уменьшили эти трудности. Помощь, оказанная расположением его гравюр в относительной временной последовательности на основании технических особенностей или определенной формы монограммы, должна была оставаться сомнительной, даже, как показало дальнейшее, вводящей в заблуждение, пока для подтверждения этой последовательности не было найдено более веских доказательств. В этом комплексе вопросов, так же как и во многих других случаях, Фридлендер установил ясную правильную точку зрения, указав в короткой и все же содержательной статье, что эти доказательства нужно искать и найти в общем развитии стиля графического искусства Шонгауэра[100] . Однако по этому, безусловно единственно верному пути можно, я думаю, идти и прийти еще дальше, если поближе рассмотреть соотношение между достижениями в работах Шонгауэра и теми внешними импульсами, которые могли иметь место в его творчестве.
Прежде всего следует указать на группу гравюр на меди, которая стилистически настолько близка к предыдущему искусству, что не может быть отнесена к периоду зрелого творчества Шонгауэра, несмотря на то, что она обозначена монограммой, считающейся соответствующей второму периоду его творчества. К этой группе относится прежде всего «Спаситель на троне» В. 70)[101], «Христос, благословляющий Марию» (В. 71) и «Венчание Богоматери» (В. 72); устаревшая композиция и трактовка формы в этих произведениях вызывают предположение, что это ранние работы Шонгауэра. К ним примыкают следующие листы: «св. Варвара» (В. 63), «св. Екатерина» (В. 64), «Мудрые и неразумные девы» (В. 77 до 86) и «Большое распятие» (В. 25). Эти работы преисполнены влиянием устаревшего уже в то время в Нидерландах стиля, следы которого встречаются в предшествовавшей Шонгауэру живописи и в особенности в немецкой графике, являясь отражением первой волны нидерландских воздействий. Об этом свидетельствует характер линий, взметенных на готический манер и не зависящих от устойчивости фигур. Этот стиль мог быть воспринят Шонгауэром у Мастера E. S. B некоторых из этих гравюр, как, например, «в Большом распятии», может быть замечено влияние Рогира ван дер Вейдена и его школы, выходящее за пределы таких общих элементов. В данном листе изображение распятого, мадонны и пейзажа напоминает поздний стиль брюссельского живописца.
За этим направлением следует второе, установившееся в нидерландской живописи после смерти Рогира ван дер Вейдена и носящее в себе признаки некоторого прогресса.
К этому направлению относятся в первую очередь те гравюры на меди, которые связаны с кольмарской «Мадонной в беседке из роз», как, например, «Мадонна с попугаем» (В. 29). Композиция здесь покоится на старых традициях, но выполнение его элементов соответствует установке, новой и для Нидерландов. В свободном разрешении пространства, в естественном взаимоотношении между фигурами и их архитектоническим обрамлением, в весомом треугольнике фигурной композиции, простирающемся до краев изображения, в оживленном движении Иисуса, являющегося уже не беспомощным грудным младенцем, но играющим маленьким мальчиком с более зрелым телосложением, — во всем этом выступают новшества, характерные для южнонидерландской живописи шестидесятых и семидесятых годов и частично уводящие к поздним работам Дирка Боутса и его школы, прежде всего ко вновь расцветшей школе в Брюгге, центром которой являлся молодой Мемлинг. Сопоставление изображений богоматери у Шонгауэра с аналогичными фламандскими того же времени вполне доказывает их взаимную связь, причем при установлении первоисточника могли бы возникнуть сомнения. Ведь дело теперь уж не сводится только к заимствованию, которое немецкий художник ищет в Нидерландах, превосходящих его в области передачи действительности, — речь идет о стимулах, движущих немецким художником, в результате чего получается продукция, равноценная нидерландской и в свою очередь на нее воздействующая, не говоря уже о том, что Шонгауэр в сопоставлении с Мемлингом является несравненно более значительным художником. Однако во Фландрии упомянутые новшества органически связаны с предыдущим периодом развития, откуда их и можно вывести шаг за шагом. Тот факт, что они совпадают по времени с соответствующими новшествами Шонгауэра, говорит о том, что последний в начале семидесятых годов был во Фландрии, где он, как пятьдесят лет спустя Дюрер, посетил наиболее видных художников и с живейшим участием следил за всем, что в качестве нового противопоставлялось ими более раннему нидерландскому искусству.
В подтверждение этого предположения можно привести еще два момента. «Мадонна в беседке из роз» написана не так, как одновременные ей немецкие станковые картины. Она отличается от них более богатой палитрой, более тонкими переходами тонов и легким, плавным нанесением краски. Еще определеннее, чем в репрезентативной картине, в выполнении которой, должно быть, участвовали также и ученики, выявляется эта ненемецкая живописная манера в маленьких работах Шонгауэра, написанных так, как это сделал бы нидерландец, что опять-таки свидетельствует о том, что Шонгауэр пробыл некоторое время в Нидерландах. Одна из этих вещиц, «Рождество Христово» (Мюнхен), возможно, была сделана во время нидерландской поездки. Облик мадонны и младенца Христа дан почти таким же, как в первой группе работ Шонгауэра и как в произведениях Мастера E. S.; все же остальное, как, например, фигура святого Иосифа, широко написанный пейзаж, резкие контрасты между светом и тенью, теснейшим образом связано с фламандской живописью около 1470 г. Таким образом, эта картина является мостом между первой и второй группами его работ, на что указывает также ее совпадение с «Мадонной на зеленой скамье» (В. 30), относящейся, несомненно, к более позднему времени. Побуждение к тому, чтобы написать небольшой молитвенный образ, могло возникнуть у Шонгауэра в нидерландских мастерских, поскольку в Нидерландах такого рода живопись со времени Яна ван Эйка являлась свидетельством индивидуального умения и была широко распространена, а в Германии до этого времени не была обычной. И эту небольшую икону Шонгауэр написал так, как написали бы ее сами нидерландские художники.
К этому присоединяется, однако, и нечто другое: возникающее влияние Рогира ван дер Вейдена. Имя этого художника упоминалось тогда, когда шла речь об отношении Шонгауэра к нидерландскому искусству. Многое напоминает о нем в работах кольмарского художника, что и дало повод уже в свое время Ламберту Ломбарду назвать Шонгауэра учеником Рогира ван дер Вейдена. Однако необходимо помнить о том, что влияние стиля Рогира ван дер Вейдена, уже начиная с середины XV столетия, было в Германии сильнее какого-либо другого нидерландского влияния; элементы этого стиля, многообразно переработанные, были в молодости Шонгауэра уже всеобщим достоянием, которым воспользовался и он.
В большом «Поклонении волхвов» (В. 6), напротив, выявляется более близкое индивидуальное отношение к определенной картине Рогира ван дер Вейдена. Эта гравюра является не только membra disjecta[102] его стиля, но и гениальной вариацией «алтаря Колумбы», мощное впечатление от которого Шонгауэр перенес в свое произведение. Источник этого впечатления следует искать в самом оригинале Рогира ван дер Вейдена, который Шонгауэр мог видеть в Нидерландах или в Кельне. О том, что эта гравюра на меди должна быть присоединена к вышеупомянутым работам Шонгауэра, свидетельствуют формы, в которые была перенесена композиция Рогира ван дер Вейдена. Об этом свидетельствует трактовка младенца Иисуса, которого надо сравнить с младенцем «Мадонны с попугаем», и трактовка самой богоматери — близкая к изображению «Мадонны в беседке из роз», — с которою фигуры «Поклонения волхвов» разделяют также и тяжеловесную крупную игру складок.
Шонгауэр отталкивается от Рогира ван дер Вейдена также и в области композиции и притом в таком направлении, для которого можно найти предпосылки в нидерландской живописи того же времени. Вместо авансцены, отделенной от фона архитектурой в виде кулис, выступает попытка наглядно связать оба плана — передний и задний — посредством процессии конных рыцарей. Аналогичное решение имеется в трех известных нидерландских изображениях «Поклонения волхвов». Одно из них — кисти Дирка Боутса — находится в Мюнхене, другое, написанное Гертгеном, — в пражском Рудольфинуме, и третье — работы Герарда Давида—в Брюссельской галерее. Тесная связь между этими тремя картинами и гравюрой Шонгауэра выявляется, не говоря уже о композиции, в различных деталях, как, например, в типе коленопреклоненного волхва с ниспадающими волосами и длинной бородой, или в группе, образуемой стариком и юношей, стоящими во главе свиты. Наиболее раннее из этих произведений написано Дирком Боутсом, и оно-то, несомненно, и могло послужить образцом для аналогичной по теме работы Шонгауэра. Однако в трактовке фигур Шонгауэр очень заметно отходит от Дирка Боутса и значительно больше приближается к Гертгену, картина которого, по общепринятому предположению, возникла позднее, чем гравюра Шонгауэра.
Является ли это предположение неверным, — что вполне возможно, если принять во внимание полнейшую неточность всех дат, намеченных в отношении работ Гертгена, — или же объяснение кроется в потерянном связующем звене? В пользу второго предположения как будто бы говорит следующее: коленопреклоненный волхв в шонгауэровской гравюре является возвратом к Гуго ван дер Гусу. Совершенно похожую, воодушевленную той же идеей фигуру находим мы в алтаре Монфорте, который по убедительным исследованиям Гольдщмидта[103] возник около 1470 г. Да и другие фигуры в шонгауэровской гравюре во многом совпадают с фигурами великого гентского мастера, так что связующее звено следовало бы искать в кругу, близком к Гуго ван дер Гусу.
Но может быть, этим промежуточным звеном была гравюра самого Шонгауэра? В связи с этим вопросом возникает другой. Подытожим сказанное. Шонгауэр противостоит нидерландскому искусству в качестве самостоятельного гениального мастера (так же, как позднее Дюрер противостоит итальянскому искусству), являясь, другими словами, не подражателем, но творцом, осваивающим и перерабатывающим то, что было для него поучительным в произведениях старого нидерландского искусства, а также в работах современных ему мастеров. Что же, однако, являлось при этом его духовной собственностью? При всех тяготениях и заимствованиях Шонгауэра основной характер его изображений все же существенным образом отличается от всех более старых и современных ему нидерландских параллелей. Совершенно другое искусство сказывается в этом характере, на что с особенной очевидностью указывают два момента. Прежде всего — радость повествования. Тогда как изображение у фламандских художников воздействует, как совокупность этюдов с натуры, у Шонгауэра, напротив, оно является эпически-созерцательным докладом. Этот момент не являлся присущим Германии с незапамятных времен, но возник в XV в., когда, как уже было сказано, всеобщая духовная жизнь наполнилась огромной потребностью в обучении, в пище для знания и для фантазии и в соответствующих зрительных образах. Манеру повествования Шонгауэра отличает первозданность, свежесть, корни которой можно многократно проследить в немецкой живописи, причем тут же мы сталкиваемся и со вторым моментом: с поэтическим углублением темы, создающим впечатление человеческой близости художника по времени к той сцене, которую он изображает.
Эти особенности еще более очевидны в остальных листах, относящихся к серии «Жизнь богоматери» и возникших, вероятно, одновременно с «Поклонением волхвов». В гравюре «Рождество Христово» (В. 43), так же как и в «Поклонении», можно было бы найти элементы нидерландского искусства около 1470 г. Однако вряд ли необходимо повторять вышеуказанные доводы. Гораздо важнее отличительные черты, которые в этом листе выступают с особенной отчетливостью.
Новым является уже то, что сцена переносится в интерьер. У нидерландских художников действие обязательно происходит перед деревенской хижиной, на фоне пейзажа, изображение которого принадлежит к числу тех вещей, при созерцании которых зритель должен восхищаться мастерством художника в передаче натуры. У Шонгауэра сквозь развалины стен виден готический зал, в котором нашли прибежище странники и посредством которых главная группа действующих лиц оказалась обрамленной и изолированной от окружающего мира, так что вместо свободного расширения сюжета выступает большая концентрация его. Эта уединенность сочетается с приглушенным освещением, передача которого заслуживает величайшего внимания. Проблема светотени, на которых она основывается, не были чужды нидерландской живописи — они были поставлены уже Яном ван Эйком, и в их разрешении он поднялся на ступень, которая опередила создавшую ее эпоху и не была достигнута непосредственными последователями ван Эйка в южных Нидерландах. Наиболее характерной иллюстрацией к только что сказанному является портрет супружеской четы Арнольфини и «Мадонна в церкви». Эти проблемы снова становятся актуальными только в последней трети XV столетия. Наиболее отчетливо выступают они в серии изображений ночи в сценах рождества Христова, восходящих к композиции, которая причудливым образом как будто имела ту же самую судьбу, как композиция, на которую опирался Шонгауэр в своем «Поклонении волхвов». И снова по меньщей мере предпосылки угадываются нами у Боутса, и снова Гертген, Герард Давид представляют собой дальнейшую ступень в разрешении упомянутых проблем. В данном случае уже высказывалось предположение, что промежуточное звено следует искать в творчестве ван дер Гуса, которому бы как-то соответствовала гравюра Шонгауэра[104] . В области колористического разрешения проблемы освещения Шонгауэр занимает теперь промежуточное место между Боутсом и Гертгеном, с одной стороны, и авторами позднейших светотеневых изображений — с другой. Эти художники в основном ограничиваются резким противопоставлением черной ночи отдельным ярко освещенным формам, тогда как Шонгауэр, напротив, ставит своей задачей передачу тончайших оттенков и переходов светотени. Он отнюдь не изображает ночной сцены: пейзаж светится и серебрится, как при наступлении дня, и только под сводами еще не светло, так что св. Иосифу приходится освещать сцену при помощи фонаря. Отблеск этого освещения лежит на святом семействе и на животных, однако они не образуют резкого контраста по отношению к темному фону, а выступают из него посредством постепенных переходов и нежнейшей цветовой градации. В этом отношении Шонгауэр превосходит даже ван дер Гуса и представляется подлинным пожинателем того, что было посеяно Яном ван Эйком на полвека раньше.
Это достижение, кроме того, было связано с радикальной переоценкой в области рисунка, являвшегося до сих пор в Италии и в Нидерландах, как и в эпоху средневековья, лишь вспомогательным средством формальной конструкции и бесцветным каркасом для изображения в красках и при определенном освещении. Немецкие граверы, как уже подчеркивалось ранее, начали стремиться к тому, чтобы рисунок приобрел самостоятельное значение. Но путь к этому лежал вовсе не через пассивное перенесение в гравюру на меди достигнутой в станковых картинах реалистической живописности, наоборот, проблема живописности разрешена была Шонгауэром вполне самостоятельно посредством богатых линейных переходов и путем применения перекрестной штриховки, при этом из-за обусловленного техникой выполнения ограничения выразительных средств в целом, было достигнуто значительное углубление живописных возможностей. Таким образом, рисунок, как таковой, становится основой живописности и отражением чувственного опыта во всей его полноте, и это новое понимание и роль рисунка распространяются как большое художественное нововведение всюду, где ход развития направлял внимание в сторону изображения живописных явлений. В последние десятилетия XV в. это нововведение заимствуется Нидерландами, но также и Италией; здесь в этом участвуют сначала умбрийцы (от которых этому учится Рафаэль), затем Мантенья и венецианцы, так что прямой путь, ведущий от нидерландского искусства через кольмарского ювелира и гравера к живописным тенденциям начинавшегося чинквеченто, нагляднейшим образом документирован.
При этом в гравюрах Шонгауэра в области разрешения светотеневой проблемы включена была еще одна задача, которая отсутствовала у более ранних нидерландских художников. Она заключается в том, чтобы передать нечто большее, чем простую запись наблюдений над природой или уточнить интересную в предметном отношении, возбуждающую ситуацию; она заключается в том, чтобы концентрацией главных действующих лиц содействовать композиционной четкости и — в целях создания определенного настроения — повысить впечатление трогательного единения.
Это же подчеркнуто и в композиционных взаимосвязях фигур главной группы. Как и у нидерландцев, Мария, Иосиф и даже крохотный младенец Иисус представляются скорее взятыми из жизни Людьми, чем идеализированными и героизированными божественными персонажами. Но реализм Шонгауэра сильнее, чем у нидерландцев, он выходит за пределы наблюдения над внешней действительностью. Его персонажи из библейской истории являются выхваченными из жизни фигурами не только судя по их внешнему облику, но и передача их поведения уже не покоится на традиционной литургической торжественности, а является более человечно-простой. Их объединяет не какое-нибудь исключительное событие, не какое-либо особенное торжество или приподнятость настроения, а только простое, человеческое чувство; не повышенные аффекты, а только тихое, счастливое созерцание ребенка, только это наделяет изображенных людей из народа чувством сопричастности, отблеск которого ложится, кажется, и на зверей.
Замкнутость, полумрак и проникновенное настроение — все это отделяет святых персонажей от окружающего мира. Они с ним не связаны и не проявляют себя в нем, как в аналогичных изображениях нидерландцев. С другой стороны, окружающая действительность не оттеснена на задний план и не является лишь дополнением к главенствующей в изображении объективно-построенной фигурной композиции, как в Италии. Шонгауэр только устанавливает грань между интимной семейной сценой и окружающим миром, который замыкает ее со всех сторон, со всех сторон в нее заглядывает, соучаствует, и все же некоторой дистанцией отделен от ее тишины. Сбоку смотрят в помещение пастухи не в порывистой молитве, но с пугливой сдержанностью, как бы не смея помешать тому, что представилось их глазам. И утро глядит в интерьер, и сверху сквозь пролом в своде глядит небо, и мы сами — благодаря просвету в разрушенной передней стене — являемся свидетелями этой тихой священной ночи, в которой ничего не происходит и тем не менее все полно жизни, все звучит, как захватывающая сладостная песнь, как песнь ангелов над крышей развалин. У ван дер Гуса ангелы участвуют в поклонении пастухов; у Боттичелли они являются божественными посланцами и пажами богоматери; у Шонгауэра же связь ангелов с тем, что происходит под крышей, над которой они витают, является не телесно ощутимой, но понятной лишь сочувственно настроенному зрителю. Они являются элементом нового субъективного чувственного одухотворения и внутреннего углубления изображаемого; в этом смысле Германия с начала XV столетия сделала большой шаг вперед, причем это одухотворение и углубление связано было при помощи Шонгауэра с нидерландским натурализмом.
Оно охватывает все существующее, во что сила воображения художника вовлекает даже неодушевленные предметы. Ведь даже архитектура, даже какие-нибудь старые увитые плющом развалины проникнуты для зрителя тем же настроением, которым охвачено изображение в целом. Совершенно иначе изображают руины художники в Нидерландах и в Италии. Итальянцам они дают лишь повод для узорных сочетаний строительных форм, а нидерландцы подходят к их трактовке с точки зрения правдивой и точной передачи натуры. Шонгауэр, так же как и нидерландские художники, относится с величайшей добросовестностью к передаче действительности, но разница в том, что он вкладывает сюда другое, духовное содержание. Нидерландские художники изображали растения с натуралистичностью, приходной для гербария; постройки можно было бы по их изображениям выстроить заново; приборы преподносились ими как портреты приборов — все это умеет и Шонгауэр, но он хочет и может еще больше.
Рассмотрим поближе, хотя бы, плющ. Возможно, что современник Шонгауэра в Нидерландах изобразил бы к примеру на полях молитвенника отдельные листочки и ветви с большей точностью, но Шонгауэру этого недостаточно; в неменьшей степени его интересует индивидуальная жизнь, которую можно подметить у такого растения и которая находит свое выражение в том, как оно извивается, тянется вверх, переплетается, цепляется за стену и на ней разворачивается. Или посмотрим, как растет у него подорожник на каменной постройке, как эта постройка, брошенная на произвол судьбы, сама сделалась частью природы, являясь могилой и одновременно колыбелью для новой жизни, вырастающей на развалинах. Средневековое воззрение — «omnia animata»[105] — наличествует и здесь, но только не как в средневековье и как в немецком искусстве первой половины столетия, в трансцендентном смысле, а на базе нидерландского натурализма, как отражение естественного, чувственно-полноценного переживания действительности, всех вещей и всего сущего, которыми она наполнена.
Фантазия получила теперь новую пищу; изображение священной истории приобретает новый характер, как будто художник рассказывает сказки, в которых передается таинственное объединение людей и природы. Силой воображения легенды переплетаются с впечатлениями действительности, конкретизируясь в новых поэтических и живописных образах. Так, например, в гравюре «Бегство в Египет» (В. 7) тропический лесок сочетается с настроением севера; в этих зарослях разгуливает олень, а на опушке резвятся ящерицы, растут лучинник и чертополох, к которому недвусмысленно приближается осел. На небольшой лесной прогалинке, обрамленной густыми тенями, отдыхают странники в идиллическом уединении. Согласно легенде, ангелы нагибают деревья, предлагая усталым голодным путникам отведать растущие на них плоды. Шонгауэр это происшествие изображает иначе. Ветви притягивает книзу крепкий и сильный Иосиф, ангелочки же — маленькие и нежные — помогают ему подобному тому, как дети иногда с ребяческим усердием пробуют принять участие в работе взрослых. Дети являются здесь чисто поэтическим элементом, как позднее у Дюрера и у Альтдорфера, чудо не приходит здесь извне, оно тут (нужно только его увидеть) в поэзии леса (который Шонгауэр попытался изобразить впервые) и везде в природе, так же как и в простой человечности происшествия, не нуждающегося ни в каком чуде для доброго и захватывающего воздействия на зрителя. Корреджо несомненно имел перед глазами этот лист, когда он делал набросок своей мадонны Скоделла.
Но сверхъестественное также не отсутствует у Шонгауэра, о чем свидетельствует знаменитое «Искушение св. Антония» (В. 47), близкое по времени вышеупомянутым работам. Центр тяжести изображения лежит здесь в чудовищности духов, терзающих пустынника. Такого рода нечисти и страшилища являлись отличительным признаком христианского искусства с его дуализмом добра и зла, неба и земли, бога и дьявола, борющихся за овладение человеком. В раннем средневековье изображение чудовищ сводилось к демонизации античных легендарных существ и к восточному мерзкому объединению человека и зверя. Начиная с VIII столетия, подобные изображения стали уступать место другим изображениям, которые основывались больше на линейных сочетаниях, представляющих собою объединение отдельных, выхваченных из животного мира и чудовищно искаженных форм с человеческими, чем на антропоморфных представлениях; эти образы наделены были фантастической жизненностью, причем постепенное развитие здесь заключалось в том, что отдельные формы все больше приближались к своим прототипам. С начала XV столетия хоровод нечистей, монстров и нелепостей исчезает всюду, где действительность побеждала свободно творящую фантазию (в Германии позднее, чем где бы то ни было). И только в последней трети XV в. они снова оживают; наиболее известным примером здесь является искусство Иеронима Босха.
Гравюра Шонгауэра говорит о том, что в процессе возрождения интереса к демоническому участвовал не один только Босх. Была ли связь между ним и Шонгауэром? Голландское искусство XV в. обычно рассматривается слишком упрощенно, как придаток к фламандскому, и недостаточно учитывается тот факт, что оно имело своеобразное развитие, которое во многих отношениях отличалось от южнонидерландского и, наоборот, как это особенно заметно в области скульптуры, имело много точек соприкосновения в период зрелости с немецким искусством. Вторая ошибка состояла в том, что по вине Карла ван Мандера распространилось неверное суждение, приписывавшее работы ведущих голландских художников XV столетия эпохе значительно более поздней, чем это было на самом деле. В произведениях Гертгена новые течения, возникшие в южнонидерландском искусстве, главным образом под влиянием Гуго ван дер Гуса, отражаются не как нечто устаревшее, но как шаг вперед, а потому Гертген примыкает к этим течениям и делится своими достижениями со своим учеником, Герардом Давидом. Из этого следует, что его важнейшие работы должны были возникнуть уже в семидесятых годах[106] . Оуватер же являлся представителем предшествующего голландского искусства, так что его художественная деятельность могла начаться еще до середины столетия. Это обстоятельство мы должны все время иметь в виду. Что же касается Босха, то он начал писать около 1470 г., т. е. в то время, когда Шонгауэр уже вступил на арену художественной деятельности; это доказано Бальдассом[107].
Таким образом, искусство Босха можно представить себе как исходный пункт в творчестве Шонгауэра. Тем не менее, мне лично кажется возможным отдать в данном случае приоритет немецкому художнику. Шонгауэр примыкает к более ранним немецким изображениям демонических образов, какие можно встретить, например, у Мастера E. S. («Архангел Михаил», L. 166)[108] и которым по своему характеру и трактовке вполне соответствуют демоны в «Искушении св. Антония». Любопытно отметить, какой ограниченной оказывается человеческая фантазия, когда задача состоит в том, чтобы при помощи фантастических образов выйти за пределы реальных форм. Даже кажущееся богатство средневековья можно без труда свести к немногим основным типам, которые очень редко пополнялись абсолютно новыми представлениями. Но эти последние, несомненно, фигурируют у Шонгауэра. Новое при этом базируется главным образом на, так сказать, антиантропоморфном и в то же время анималистическом характере чудовищ. Это звери с отдельными частями человеческой фигуры, действующие как люди, — не настоящие звери, а выдуманные, и при том все же не абстрактные символы, а существа, наделенные убедительной жизненностью, которая базируется на том, что в основе этих образов лежат представления, связанные с наблюдением реального органического животного мира. Все то, что в области движения, функций и выразительности характерно для рыбы, ящерицы, для лягушечьего тела, птичьих ног, собачьей морды, крыльев летучей мыши, головы хищной птицы и ее когтей, все это перерабатывается в новые образы чего-то чудовищного, причиняющего душевные и физические мучения. Это особенно показательный образчик того, как из нового натурализма в соединении с более глубоким проникновением в жизненное многообразие произведений природы и человека (как это мы могли видеть в изображении растений и построек) возникали в то же время и надреальные фантастические образы и представления, и как эта фантастика и сказочность обусловлены не только религиозными учениями и человеческими поступками, как это было в Средние века, но и в неменьшей степени наблюдением над жизнью природы.
Многочисленные пути ведут от этого листа, срисованного впоследствии не кем иным как Микеланджело, к последующему искусству, к Босху и Брейгелю на Западе, к Дюреру и Грюневальду в Германии, к новой трактовке демонического во всем мире.
В ранних работах Босха еще не встречается та чертовщина, благодаря которой он впоследствии стал знаменит. Гравюра Шонгауэра не являлась для него неизвестной, так как его основную идею о мучениях Антония на воздухе он развертывает в изображении искушения этого святого, оригинал которого находится во дворце Айуда в Лиссабоне, а в одном из листов Иеронимуса Кока, сделанном с Босха, образы Шонгауэра перенимаются даже в деталях[109]. Поэтому я не сомневаюсь в том, что фантазия Босха, благодаря Шонгауэру, получила толчок к уходу в чуждую до того времени Нидерландам область демонического, позднее все более подчинявшую своей власти нидерландского художника. Благодаря этому чрезвычайно обогатился его репертуар, а его действующие лица получили новое значение и новые роли в гротескных преувеличениях — пародиях на повседневность и на все то, что в ней мучит и терзает человека, — в образах, как бы навеянных кошмарным сном, в гнетущих видениях, так же как это сказалось и в более тесном переплетении с пейзажными мотивами. Босх более современен с точки зрения развития последующих столетий, однако характер его образов нечистой силы навеян Шонгауэром, так что предысторию нового воплощения темных сил в природе и в человеческой жизни следует искать не в голландской живописи, а в немецкой.
С совсем другой стороны, чем в упомянутых выше произведениях, поворачивается к нам творчество Шонгауэра в группе гравюр на меди с историко-драматическим содержанием. Сюда входят «Смерть богоматери» (В. 33), пожалуй последний лист из серии «Жизнь богоматери», большое «Несение креста» (В. 21) и «Страдания Христа» (В. 9 до 20), которые могли возникнуть и позднее.
Во всех этих листах художника интересует передача динамики происшествия. Изображение пейзажа отступает на задний план, ведущую же роль получают человеческие поступки и определяющие их душевные свойства и порывы. При этом выступает отчетливое различие между серией «страстей» и сценой «Смерти богоматери». Ложе Марии окружают мощные образы, наделенные такой монументальностью, которая характеризует отдельные фигуры Гуго ван дер Гуса (и о которой напоминает также композиция заднего плана), и таким пафосом, в котором можно было бы увидеть влияние работ ван дер Вейдена. Гораздо сильнее, однако, чем эти отзвуки нидерландских впечатлений, выступает здесь новый реализм, не покоящийся на нидерландской внешней правдивой передаче действительности, но переносящий старые идеальные образы христианского искусства — и телесно и духовно — в область реально-человеческого. Хотя старые типы в основном сохранились, все же ученики Христа в их облике и поведении, в их корявых и неотесанных фигурах с растрепанными головами ремесленников и скромной проникновенностью, набожностью и участливостью, трактуются не как героические свидетели прошедших времен и не как просто слепок с действительности, но как пережитая человечность и как основанное больше на видимом явлении перенесение рассказа в реальные впечатления современности; таким образом, изображение получает характер передачи захватывающего происшествия, имевшего место в среде простых, но глубоко впечатлительных людей, окружающих художника.
Этот реализм не является чем-то новым, но коренится в немецком искусстве первой половины XV в. и в господствующем в нем противопоставлении трансцендентно-абстрактного и человечески-реального. Этот реализм, оттесненный нидерландскими воздействиями третьей четверти столетия, снова завоевывает себе главенствующее положение после того, как поток этих влияний начал иссякать. Средства выражения в гравюре Шонгауэра говорят о том, что этот художник прошел через нидерландскую школу, но осмысливание духовного содержания соответствует тому настроению, под влиянием которого создавали свои произведения Лука Мозер, Конрад Витц и Мульчер. Только реализм Шонгауэра был менее примитивным, чем у его предшественников в первой половине XV века, которые в элементарно порывистой, иногда грубой первобытности, принципиально противопоставляли вечным и безграничным духовным ценностям осязаемую духовную реальность, тогда как у Шонгауэра она в гораздо большей степени являлась исходным моментом образной инвенции и единства, а также (в силу своей связанности с наблюдениями) источником их обогащения.
Все это становится еще более очевидным в серии «Страстей», которая во многих отношениях приближается к гравюре «Смерть богоматери». Уже тот факт, что эти изображения создавались в порядке цикла, не соответствовал тогдашнему фламандскому искусству, от которого Шонгауэр в сценах этой серии все дальше отходит, хотя во второстепенных моментах изображения пережитки нидерландского влияния все еще остаются. Композиция здесь сконцентрирована; и основной задачей является не изучение натуры, а рассказ о развивающихся и волнующих событиях, который построен на противопоставлении страдальца толпе ero врагов. В отношении последних художника интересует в первую очередь повествование о низости их инстинктов, об их черствости и бессердечности, выраженных посредством необузданных диких движений и жестов, главным же образом через выражения лиц, как это повсюду было свойственно средневековому и даже немецкому искусству первой половины столетия. Только у Шонгауэра — вместо привычной типологии — мы видим результаты изучения физиогномики, изучения, основанного на богатстве жизненных наблюдений. Двенадцать листов данной серии содержат целую галерею образов, которые — судя по характеристике их внутреннего облика — кажутся выхваченными прямо из жизни, образуя темный фон, на котором тем сильнее выделяется спокойный и просветленный идеальный образ Христа. Это искусство не такое, как артистически культивированное искусство живописцев Гента и Брюгге. Подобно тому, как Микеланджело несколько лет спустя отходит от бездушно рабского подражания натуре Гирландайо и возвращается к Джотто, Мазаччо, Джованни Пизано и Кверча, т. е. к первоисточникам тосканского фигурного искусства, так Шонгауэр, пройдя через нидерландскую школу, возвращается к тому, что в более раннем немецком искусстве являлось самобытным и значительным. Почерпнув оттуда противопоставление злого начала в человеке небесным силам в целях углубления религиозного и художественного переживания, он приходит через нидерландский натурализм к реалистически-психологическому изображению человека, к которому позднее примыкает Дюрер и которое так же, как и фантастические видения Шонгауэра, оказало влияние на голландскую живопись, о чем свидетельствуют снова произведения Иеронима Босха. Огромное повышение интереса к выразительности лица можно найти также и у Босха, прежде всего в серии «Страстей»[110] , хотя в первых листах этой серии влияние Шонгауэра лишь едва заметно в композиции, в ее динамике и в отдельных персонажах. Недавно[111] с полным основанием было выдвинуто предположение, что Босх самостоятельно прокладывал новые пути в нидерландской живописи. Но пути эти так отчетливо перекрещиваются с ранними элементами немецкого искусства, и в частности с развитием Шонгауэра, что ни в коем случае не следует говорить о случайности, при этом Босх однако быстро переработал элементы немецкого влияния соответственно голландским художественным представлениям и дальше их самостоятельно развил. Эти взаимосвязи, разумеется, не исключают того, что ситуация одновременно бывала и обратной, что позволяет предположить превосходная работа Шонгауэра «Несение креста» (В. 21). Сопоставление трогательной поникшей фигуры Христа с дикой и грубой солдатчиной напоминает о сценах из серии «Страстей». Своеобразие этого произведения заключается в том, что группа действующих лиц включена в грандиозную мировую драму, в длинную процессию, которая движется, как на сцене, медленно, из Иерусалима по направлению к Голгофе, на фоне фантастически-чуждого зрителю пейзажа, и что в картине проходят многочисленные жанровые мотивы. И не только в области композиции, но также и во многих частностях изображение указанной процессии покоится на схеме, игравшей большую роль в голландской живописи последних десятилетий XV и в начале XVI столетий и исходившей от композиции, которая раньше приписывалась Яну ван Эйку, но которая, по моему мнению, присуща равным образом и голландцам[112]. В том, что эта схема заимствована Шонгауэром из голландского искусства, вряд ли могут возникать сомнения. Группа с плачущей богоматерью, отсутствующая в копии с оригинала, встречается — и притом с большими совпадениями — в позднейших голландских вариантах этого изображения, так же как и у Шонгауэра, причем связь с голландцами выступает особенно отчетливо в трактовке лиц и жанровых фигур. Профили голов с орлиными носами и выступающими подбородками (внешний облик волевых личностей), насупившиеся, тупые, или по-звериному искаженные физиономии Простого народа, сосредоточенно-замкнутые выражения лиц у всадников — все это такие моменты, которые отсутствуют в прежних работах Шонгауэра, но которые свойственны голландской живописи, начиная с Оуватера, вплоть до романистов. К этому присоединяется то обстоятельство, что все персонажи — как действующие лица, так и зрители — являются соучастниками трагической сцены, проявлением тех или иных духовных потенций, связанных единством духовного замысла. В этом отношении чрезвычайно любопытна фигура всадника в левом углу изображения. Как злой рок, напирает на авансцену людская толпа. На мгновение она останавливается, задержанная падающей фигурой Христа, но сейчас же вслед за этим она, однако, снова потащится дальше к лобному месту, над которым нависла большая черная туча. Благодаря внезапной заминке остановился также и юный всадник. Он обернулся, и взгляд ero скользнул по Христу — взгляд, где соединились сострадание и презрение, взгляд, переданный с таким громадным мастерством психологической характеристики, какого не найти ни у кого из современников Шонгауэра, наличие его у самого Шонгауэра было бы невозможным без искусства, которое — подобно голландскому, что прослеживается на протяжении всего его развития изображения человека, — привыкло в большей мере сочетать с натурализмом пассивность психической внутренней жизни, чем страстность и активность[113] . То, что у Шонгауэра раскрывается в определенный момент его развития, является у голландцев характерным признаком их художественной школы, вследствие чего надо полагать, что влияние голландской живописи на немецкого художника действительно имело место; это тем вероятней, что аналогичное сходство можно установить также в жанровых чертах изображения у Шонгауэра.
Подобные черты не были, конечно, новыми. Уже в готическом искусстве при изображении эпизодов из священной истории было принято брать обличия для второстепенных фигур непосредственно из современной жизни, и во всем нидерландском искусстве XV столетия было не редкостью в качестве аксессуаров в произведениях церковной живописи или в качестве материала для светского рассказа прибегать к чисто жанровым фигурам и сценам. В Германии этот прием быстро получил большое распространение, особенно в области иллюстрации, причем он применяется как в иллюстрированных печатных книгах, так и в отдельных гравюрах на дереве и на меди.
Однако в гравюре Шонгауэра «Несение креста» жанр получает новый смысл. Он является не только внешним, натуралистическим придатком, оберткой, но и предпосылкой для правдивого человеческого повествования и таким образом связан неразрывными нитями с общим духовным содержанием изображения.
В этом также можно усмотреть возникшую еще до шонгауэровской гравюры и непрерывно продолжавшуюся вплоть до XVII в. линию художественного развития в Голландии. Ее начало, не говоря о более ранних предпосылках, мы находим в ранних работах Гертгена и Босха, причем в особенности последнему дано было вскоре при помощи сотканного из снов и действительности speculum mundi[114] утяжелить ту чашу весов, которая соответствует ценности человека. Конечно, и у Шонгауэра в известной мере была такая потенциальная возможность как в изображениях чисто религиозного, так и светского характера (стоит только вспомнить его замечательный «Выход на рынок», В. 88), однако между такого рода отдельными фрагментами и абстрактным выделением важнейших для человечества событий из присущих ему свойств, как в «Несении креста», лежит пропасть, которая может быть объяснена только наличием где-либо в другом месте лежащих предпосылок и обусловленного им толчка, пробудившего дремлющие силы; а, судя по всему положению вещей, только в голландской живописи и следует искать этих предпосылок. О простом подражании со стороны Шонгауэра на данном этапе его развития не может быть и речи. Независимо от заимствований и родства в понимании духовного содержания, «Несение креста» представляет собой работу самостоятельную и полную решающего своеобразия, работу, которая особенно в двух отношениях превосходит творения современных Шонгауэру голландцев: в изображении динамики происшествия и в сочетании его с сильным драматическим воздействием.
У голландцев пейзаж является господствующим элементом в образном построении. Фигурная композиция распадается на группы и отдельные фигуры, объединенные пейзажем и духовным содержанием, которое больше проявляется в пассивном восприятии впечатлений людьми, участвующими в происшествии, чем в активном участии в нем. При этом зрителю самому предоставляется установить единую образную связь между фигурами и пространством, с одной стороны, и в пределах самих фигур — с другой. У Шонгауэра пейзаж отступает на задний план, и хотя он и образует раму, замыкающую композицию, акцент лежит все же на последней. Печальное зрелище, которое, подобно римским рельефам с изображениями триумфальных процессий, проходит перед глазами зрителя, является центром тяжести изображения — как в средневековье и еще в больших композициях Джотто — с тем, однако, различием, что вместо хронологического перечисления и определенной последовательности сцен и фигур, выступает единая процессия, непрерывное разворачивание волнующего происшествия — толпа людей, приведенная в движение участием в необычном событии. Тут нет просто стаффажа, все, кого мы там видим, участвуют так или иначе в том, что происходит или должно произойти: одни страдают, другие находятся под влиянием злых инстинктов или по обязанности, некоторые же просто любопытствуют. Этим обусловлена невероятная жизненность целого, которая действует тем сильнее, что она одновременно связана с нарастающим драматизмом. Движение процессии, которая извивается, как змея, ползущая из города через скалы по направлению к лобному месту, нарастает и запутывается в середине. Вместо простого устремления вперед здесь возникает множество моментов движения — кульминационный пункт драматизма, связанный с иным превознесением идеального, чем это было свойственно более раннему искусству. Новое заключается в более тесном переплетении страданий Христа с тем, что сегодня назвали бы «психологией масс». Все происшествие представляет собою нечто большее, чем просто историческое повествование или рассказ, перенесенный в область всемирно-героического, нечто большее даже, чем средство для молитвенного возвышенно-религиозного настроения; происшествие превращается в захватывающую сцену из жизни, трагедию, которая строится на том, что характеризует изображенных людей в области их ощущений, воли и житейских свойств. В начале и в конце процессии эти психологические и социальные различия и градации между людьми изображены в качестве признака «толпы»; в середине — развертывается драматический конфликт, в котором резко противопоставлены благородство и подлость, животная ярость и божественное самопожертвование ради человечества. И надо всем этим господствует высшая сила, руководящая потоком так, чтобы исполнилась судьба. Неудержимо влечет она его из долины, в которой расположен город, сквозь скалистые ущелья туда, где черная туча встречает дугообразное движение губительного рока с тем, чтобы увести его обратно в город, откуда он вышел.
Ничто не могло бы нам яснее показать, как неверно выводить происхождение нового искусства постоянно только из Италии или Нидерландов, чем эта гравюра, в ней дано такое изображение характеров и двигающих толпою стихийных сил, на основе которого покоится эпический и драматический стиль, удержавшийся после принятия и преодоления итальянских влияний и обусловивший понимание трагического в искусстве нового времени.
Сам Шонгауэр не последовал дальше по этому пути. Последняя серия его работ, которая еще подлежит нашему обсуждению и относительно которой я предполагаю, что она была последней также и по времени, преследует совсем иные цели, блестяще выявленные Фридлендером, поскольку речь идет о развитии графического мастерства. В то время, когда Шонгауэр находился под сильным влиянием Нидерландов, он стремился к тому, чтобы передать их достижения в области живописности на языке черного и белого. В тех листах, о которых речь еще впереди, он ограничивается изображением того, что соответствует имеющемуся в области резцовой техники приемам и что без труда может быть исчерпывающе достигнуто изобразительными средствами, лежащими в пределах гравюры на дереве. Этим Шонгауэр приближается к своим более ранним вещам. Но то, что тогда сводилось к примитивным исканиям, превращается в позднейших работах в высокую законченность и уверенность зрелого мастера, которые, однако, являются достижениями не только технического порядка, но, будучи обусловлены новыми художественными задачами, базируются на несравненно более свободном преодолении всех формальных проблем, разрешенных в течение среднего периода его творчества. Вместо широко развернутого повествования перед нами выступают отдельные фигуры или совсем простые композиции. В то время как в листах среднего периода господствовал прямо-таки horror vacui[115] , т. е. перед незаполненным пространством, теперь даже там, где изображен пейзаж, фон трактуется, насколько возможно, как освещенная единая плоскость, весьма скупо расчлененная, без малейшего следа той описательной обстоятельности, которая наличествует в работах современных Шонгауэру нидерландцев. В предшествующем Шонгауэру немецком искусстве такое выполнение часто отсутствовало в силу необходимости. Шонгауэр же в своих позднейших работах пренебрегал им потому, что его интересовало прежде всего воздействие отчетливой рельефности фигур. Прежние натуралистически оживленные движения не укладывались в такую упорядоченную композицию, которая бы давала ясную возможность охвата объемных форм в их пластической выразительности. Теперь же в области композиции вместо расплывчатости выступает концентрация. Вместо нагромождения мотивов появляется гармоническое расчленение изобразительной плоскости и мягкая ритмичность, которая определяет линейную конструкцию, объединяет обе фигуры сцены «Не тронь меня» (В. 26) в формально целостную группу и способствует, таким образом, наиболее отчетливому осмысливанию духовного содержания данного произведения. Реализм, характеризующий средний период творчества Шонгауэра, здесь исчезает: две идеальные фигуры, их облик, местоположение и жесты, преисполненные тихой праздничности и объединенные в единый аккорд, говорят о стиле, который как бы приближается к позднеготическому и, однако, представляет собою нечто совсем другое; это стиль, который не ищет идеалов по ту сторону действительности, по ту сторону человеческого, а возводит и человеческое и действительность в высокую и полноценную сферу идеального.
И далеко неслучайным является то обстоятельство, что Шонгауэр в это время постоянно возвращается к изображению стоящей мужской фигуры, занимающей собою всю поверхность листа. Ряд таких фигур означает возникновение нового статуарного стиля, в котором на место готически-иррациональных мотивов приходят сочетание телесных форм и естественное построение. Представим себе Иоанна Крестителя (В. 54), выполненного в виде статуи: какое произведение современной Шонгауэру немецкой скульптуры подошло бы ближе к Ренессансу?
В гравюрах, изображающих апостолов (В. 34 — 45), Шонгауэр рисует мощные фигуры, которые дают повод говорить о ero сходстве с Донателло с точки зрения выбора тем. Обременительная тяжесть одежды, ее отношение к телу в соединении с различными видами простой монументальной постановки стоящей фигуры, четкие контуры импозантных идеальных фигур — все это показывает, как сильно Шонгауэра начинают занимать формальные проблемы независимо от технических и как они для него становятся важнее, чем расширение зрительного восприятия.
О том, что Шонгауэр в это время интересовался проблемой изображения нагого тела в том виде, как это было свойственно Ренессансу, свидетельствует большая гравюра «Св. Себастьяна» (В. 59). Шонгауэр не ставит здесь своей задачей достижение сходства с образцами, но делает попытку органически-естественного построения тела посредством более резкого подчеркивания его членений и отчетливого возвышения и оформления мускулатуры, в соответствии с основной задачей итальянского искусства со времен Донателло.
Все эти нововведения: самоограничение проблемами изображения фигуры, ритм, построенный на объективных закономерностях, рельефное и статуарное воздействие, идеализация, или, другими словами, — поворот от индивидуального к общечеловеческим ценностям и связанный с этим перевес формальных проблем, противопоставленных субъективному наблюдению, — все это соответствует такому пониманию искусства, которое в Италии являлось результатом длительного развития и которое пытаются охватить названием итальянского Ренессанса. Тот факт, что Шонгауэр направился по этому пути, не удивит нас, если мы вспомним, как в то время (в особенности на Западе) из года в год росло влияние этого направления. Даже нет необходимости предполагать, что Шонгауэр видел итальянские работы (хотя это и не исключено), так как итальянские гравюры могли во многом дать толчок его мысли; совершенно независимо от этого, итальянским влиянием была пропитана атмосфера, и многими не поддающимися нашему исследованию путями идет приближение к духовной культуре Ренессанса еще задолго до того, как появляется возможность говорить о ее непосредственном влиянии.
К этому прибавилось и нечто иное. Если не говорить о соответствии образцам в постановке проблемы, «Себастьян» Шонгауэра действует не как произведение итальянского художника. Проблемы соприкасаются, но эмоции различны. Во всех формах и линиях царит необычайное беспокойство: в раненом стволе и высушенных ветвях, в развевающемся изломанными складками платке и в очертаниях тела. Прямые линии, как таковые, почти отсутствуют, все превращено в кривые, и произведение в целом говорит о заложенных в нем художественных эмоциях, независимых от итальянской закономерности. Чтобы все это стало понятным, необходимо еще раз вернуться к развитию немецкого искусства в целом в течение всего XV столетия.
IV
Если раннее, ориентированное на естественные науки, построение истории искусств любит сравнивать художественное развитие с ростом растения, то в основе нашего рассмотрения представилась бы картина непрерывной борьбы за духовное и формальное содержание искусства. Отцы и сыновья часто образуют противоположность, а это значит, что новое поколение отворачивается от художественных стремлений предыдущего и ищет новых путей, причем часто приближается к отвергнутой позиции, всецело, однако, к ней не возвращаясь. Аналогичный процесс произошел в немецкой живописи конца XV столетия. Тесные отношения, связывавшие ее в третьей четверти столетия с нидерландским искусством, постепенно распадаются, но плоды этих взаимоотношений — любовная правдивая передача действительности и стремление к созерцанию — остаются; по существу говоря, они только теперь и начинают созревать, не исчерпывая, однако, понятия «художественного», которое отныне вновь сильнее обусловлено полетом фантазии, выходящей за пределы непосредственного чувственного восприятия.
Особенно отчетливо это проявляется в области книжной иллюстрации. В той же мере, в какой «изображение окружающего» становится богаче и художественно изобретательнее, растет и радость, заключенная в игре воображения, возбужденная впечатлениями от природы и жизни, однако не ограниченная ими и проистекающая больше из внутренних, нежели из внешних источников художественного творчества. Каким необычайным является, например, танец Смерти в «Мировой хронике» Шеделя. В ней отсутствует все, что составляло славу современной Шонгауэру нидерландской или итальянской живописи: и натуралистический пейзаж, и предметно-богатое повествование, и точность в передаче материала, как это свойственно нидерландцам при изображении натуры, и закономерность построенной композиции, и точность рисунка, и, наконец, выверенная анатомическая и пластическая объективность, которая являлась характерным для итальянского искусства. С этой точки зрения изображение «Мировой хроники» является бедным, однако бедность эта превращается в захватывающую оригинальность, если попробовать приложить к этому изображению иной масштаб и отнестись к нему не как к правдивой записи чувственного восприятия или его формальной идеализации, но как к искусству, в котором форма и линия определяются не столько внешними впечатлениями, сколько фантастическими представлениями, в результате чего получаются образы, полные своеобразной жизни, независимой от впечатлений реальной действительности. Во второй половине XV в. рисунки скелетов встречаются также и у нидерландских и итальянских художников; у первых эти рисунки представляют точное подражание действительности в передаче отдельных частностей, у вторых — стремление к анатомической правильности. Ни о том, ни о другом не может быть и речи в рассматриваемом нами немецком изображении. Схематично, почти чисто орнаментально кружатся ребра, спинной хребет похож на кишку, и кости рук и ног связаны, как у кукол. Поэтому изображение в целом проникнуто жуткой призрачной жизнью; кажется, что слышен стук костей; необычайные угловатые прыжки скелетов переносят зрителя в мир сверхреальных представлений, в котором, однако, каждый контур обладает независимой от подражания природе, ирреальной, проистекающей из духовного напряжения, автономной витальностью. Не иначе обстоит дело в области изображения пластической формы и в передаче пространственного и красочного воздействия. Разница заключается не в том, что изображение там является менее тщательно выполненным, чем в нидерландской или итальянской живописи. Итальянские гравюры на дереве идут еще дальше в смысле линейного ограничения пластической, пространственной и живописной композиции, но только в смысле линейной передачи всех этих моментов изобразительности, тогда как немецкого рисовальщика с самого начала окрыляет другая задача. Он вовсе не стремится к передаче материальной сущности тела, обусловленной силой тяготения закономерности, его естественного членения, его взаимоотношения с пространством (согласно зрительному опыту художника) или его живописности. Все это становится второстепенным. Противостоящая всем этим признакам внешнего мира и выражающаяся в чередовании белых и черных пятен и в одухотворенном движении форм свободная игра фантазии — вот что интересует художника прежде всего. Он привлекает для изображения предметно-реалистические мотивы. И — несмотря на это — изображение лишено материальности, и формы и краски имеют иное назначение, чем подача зрителю наиболее незаметной подмены действительности. Темное пятно раскрытой могилы (следует принять во внимание, что не сделано никакой попытки обозначить линейное ее углубление) образует базу для изображения, но не в статическом смысле, а, напротив, в качестве исходного момента ее неустойчивости, и от этой темной основы отделяются полукругами формы и пятна, обрамляя в возрастающем движении скелеты, в которых телесность и красочность почти целиком заменены линейностью. Продолжение данного хода мыслей делает понятным смысл организации элементов данного изображения. Вместо статического построения или развертывания в глубину возникает призрачное видение, освобожденное от такого рода зрительных норм. Мертвец, дующий в трубу, связан посредством своего одеяния с подымающимся из гроба. Соединяющие их мощные линии усиливают впечатление того, что мертвец вырывается кверху. С другой стороны, в самом лежащем проявляется жизнь. Он поворачивается, его рука подымается, и это движение повторяется, усиливаясь через стоящего справа мертвеца — в соприкосновении рук над головами танцующих ; а потом опять — через зигзагообразное построение рук, за которым глаз следует уже с трудом, — это движение повторяется правой рукой одного из танцующих, звуча, как дикий вопль безумия. Какой контраст по сравнению с эпической широтой нидерландцев, с гармонической уравновешенностью итальянцев! В танце смерти все охвачено одним единым процессом движения, благодаря которому хоровод вызывает содрогание.
Тут выступает иной художественный принцип, чем в одновременной нидерландской и итальянской живописи, который мы не вправе расценивать более низко. Этот принцип проводится не только в отдельных изображениях, но лежит в самом основании немецкого искусства конца XV в., которое, вобрав в себя западный натурализм, снова начинает становиться идеалистическим. Оно стремится не к материальной передаче идеальных форм, как итальянское искусство, которое в эту пору тоже совершает поворот к идеализму, а прежде всего к духовному углублению и к достойным этого средствам выражения. Это во многих отношениях связывает его снова с позднеготической традицией, которая в Германии под оболочкой нидерландского натурализма всюду продолжала существовать, и дремлющие силы которой теперь, кажется, внезапно пробуждаются, наполняя новой жизнью фантазию и ее средства выражения, вплоть до мельчайшего их проявления. Во всяком случае, они приобрели совсем новое значение, о чем свидетельствуют великие художники, выросшие из этого движения, величайшие художники, которыми когда-либо обладала Германия.
Почему Дюрер по окончании своего ученичества не направляется, как когда-то его отец, в Нидерланды? — Нидерландские мастерские вряд ли смогли представить для него интерес. Для немецкого художника искусство Шонгауэра превзошло по своему значению современное ему нидерландское искусство, являясь также и в годы странствований Дюрера большой школой для подрастающего поколения, так что молодого нюрнбергского художника должно было тянуть прежде всего в Кольмар. То, чем он и все тогдашнее немецкое искусство обязаны Шонгауэру, заключалось в невероятном углублении старых стремлений немецкого искусства XV столетия к обогащению духовной жизни посредством изобразительности. Свои образы Шонгауэр создал заново на основе достижений нидерландского натурализма и одновременно обогатил их новым пониманием жизненной сущности вещей, новым пониманием ценности переживаний, заглушённых повседневным существованием с его обычными происшествиями, и новым пониманием психологического реализма в передаче эпических и драматических происшествий. Во всем этом Дюрер был его учеником и остался им в известном смысле в течение всей своей жизни, так же, как и стиль Дюрера в области рисунка и графики Можно рассматривать как дальнейшее развитие достижений Шонгауэра. И, наконец, последние работы Шонгауэра могли привести молодого Дюрера к новому пониманию формальных проблем, которое тянуло его на юг, после того, как он возвратился с запада.
И тем не менее, первый мощный продукт его творчества по окончании странствований, «Апокалипсис», являлся столь же отдаленным от Шонгауэра, как и от Мантеньи, представляя собой вдохновенное признание, откровение внутренней озаренности — бурно вскипающую проповедь в том смысле, как это понимал Лютер.
[1920-1921]
1. Камера в катакомбах Петра и Марцеллина в Риме (по Вильперту).
2. Три отрока в пещи огненной. Катакомбы Присцилла, Рим (по Вильперту).
3. Орант. Катакомбы св. Каликста в Риме (по Вильперту).
4. Смерть Деворы и Рахили. Венский Генезис (fol. XUI, 26).
5. Призвание апостолов-рыбаков. Мозаика, Равенна, церковь Сан Аполлинаре Нуово..
6. Богоматерь. Амьен, собор.
7. Иоанн из Распятия. Леттнер собора в Наумбурге.
8. Свв. Дитрих и Ремигий. Западный фасад собора в Реймсе.
9. Евангелист Иоанн. Западный фасад собора в Реймсе.
10. Проповедь Христа. Псалтирь Королевы Марии (fol. 214); Лондон, Британский музей.
11. Встреча Марии и Елизаветы. Северный портал собора в Шартре.
12. Пророк Иона. Хор св. Георгия собора в Бамберге.
13. Джотто. Оплакивание Христа (фрагмент). Падуя, Капелла дель Арена.
14. Карл V Анжуйский. Париж, Лувр.
15. Ян ван Эйк. Тимофей (портрет Тимотео да Милето). Лондон, Национальная галерея.
16. Христос на кресте с Марией и Иоанном. Гравюра на дереве, первая пол. XV в. (Sсhr. 402).
17. Коронование Марин из алтаря Имгоффа. Нюрнберг, церковь св. Лоренца.
18. Благовещение из алтаря Тухера. Нюрнберг, церковь Богоматери.
19. Г. Плейденвурф. Портрет каноника Шёнборна(ныне определен как портрет графа Левенштайна).Нюрнберг, Германский Национальный музей.
20. Г. Плейденвурф. Распятие. Мюнхен, Старая Пинакотека.
21. Мастер E. S. Мадонна с купаемым младенцем. Гравюра на меди.
22. Шонгауэр. Христос на троне. Гравюра (В. 70).
23. Шонгауэр. Мадонна с попугаем. Гравюра (В. 29).
24. Шонгауэр. Поклонение волхвов. Гравюра (В. 6).
25. Рогир ван дер Вейден.Средняя часть алтаря Колумбы (фрагмент).Мюнхен, Старая Пинакотека.
26. Гертген тот Синт-Янс. Поклонение волхвов. Прага, Национальная галерея.
27. Шонгауэр. Рождество. Гравюра (В. 4).
28. Шонгауэр. Искушение св. Антония. Гравюра (В. 471).
29. Шонгауэр. Смерть Марии. Гравюра (В. 331).
30. Шонгауэр. Несение креста. Гравюра (В. 21)
31. Шонгауэр. Иоанн Креститель. Гравюра (В. 54).
32. «Танец смерти» из «Хроники» Шеделя. Гравюра на дерене.
33. Дюрер. Вавилонская блудница. Гравюра на дереве.
34. Питер Брейгель Ст. Мудрые и неразумные девы. Гравюра (Bastelaer ИЗ).
35. Питер Брейгель Ст. Детские игры. Вена, Художественно-исторический музей.
36. Питер Брейгель Ст. Триумф смерти. Мадрид, Прадо.
37. Питер Брейгель Ст. Морские корабли. Гравюра (Bastelaer 105).
38. Питер Брейгель Ст. Поклонение волхвов. Лондон, Национальная галерея.
39. Питер Брейгель Ст. Калеки. Париж, Лувр.
40. Питер Брейгель Ст. Слепые. Неаполь, музей Каподимонте.
41. Питер Брейгель Ст. Крестьянская свадьба. Вена, Художественно-исторический музей.
43. Эль Греко. Погребение графа Оргаса. Толедо, церковь Сан Томе.
42. Питер Брейгель Ст. Крестьянский танец. Вена, Художественно-исторический музей.
44. Микеланджело. Христос на кресте с Марией и Иоанном. Оксфорд, музей Ашмолеан.
45. Тинторетто. Вознесение Христа. Венеция, Скуола ди Сан Рокко.
46. Жак Белланж. Три Марии у гроба. Гравюра.
47. Эль Греко. Моление о чаше. Будапешт, музей изящных искусств (б. собр. барона Херцога).
48. Эль Греко. Снятие пятой печати.Нью-Йорк, музей Метрополитен.(Б. собрание Суолага, Париж).
IV «АПОКАЛИПСИС» ДЮРЕРА
Дюреру было двадцать пять лет, когда он начал работать над гравюрами к «Апокалипсису». Незадолго до этого он вернулся в Нюрнберг из своих длительных странствий, за время которых он побывал в западной Германии и Италии. На Западе ему открылся мир нидерландского натурализма, главным образом через искусство Шонгауэра, который не только полностью интегрировал его в свое великое искусство, но и придал ему новое содержание и новое направление. В Италии, прежде всего благодаря произведениям Мантеньи, он познакомился с итальянскими достижениями в области изображения человеческой фигуры, и при этом с отличным от нидерландского, хотя и проистекающим из того же источника, способом наблюдения природы и изображения ее, способом, в котором соединились понятие верности природе с понятием природной закономерности и основывающейся на ней формальной красоты.
Как итальянское, так и нидерландское искусство оказали глубокое воздействие на молодого Дюрера, и можно даже сказать, что они решающим образом повлияли на все дальнейшее развитие его искусства. И все же первое большое произведение, с которым он выступает после нескольких лет странствий — кстати, это его первая большая работа в печатной графике вообще — стоит настолько далеко от источников этих влияний, насколько возможно. Ведь те пятнадцать листов, в которых Дюрер представил «Откровение», исполнены такой оригинальности, что по сравнению с ней все усвоенное на чужбине отступает на задний план, и этот цикл не только сразу же выдвинул его на первое место среди немецких художников, но, как мы увидим далее, поднял на новую высоту и само немецкое искусство в общем контексте художественных устремлений европейских народов.
Прежде чем мы обратимся к иллюстрациям, следует сказать несколько слов о тексте. По стилю и содержанию «Апокалипсис» разительно выделяется среди других частей Нового Завета, которые совершенно лишены пафоса, их стиль — литературных претензий, в целом им присущ характер спокойного, объективного повествования об имевших место событиях. «Апокалипсис» же, напротив, как никакое другое произведение мировой литературы, переполняет страстно необузданная и частично, без всякого сомнения, намеренно мрачная фантазия: образ громоздится на образ, символ на символ, видение на видение, и все это написано неистово взволнованным и благодаря этому временами властно увлекающим языком: древний иудейский профетизм доходит здесь до страшных лихорадочных видений. Произведение малоазиатского иудея-христианина, оно было создано либо во время великого нероновского преследования христиан, либо непосредственно после него. То гонение, одно из крупнейших, распространялось на христиан и евреев и привело к великому иудейскому восстанию в Палестине, ужасной отчаянной борьбе, безжалостной с обеих сторон. Взяв власть в Иерусалиме, иудеи перебили всех римлян и про-римски настроенных, а в ответ на это в Цезарее в один день было умерщвлено 20 тысяч евреев. Дни люди проводили в убийствах, ночи — в страхе и тревоге: пишет современник. С глубочайшим волнением следили все иудейские и иудейско-христианские общины за этой борьбой, степень возбуждения еще более усиливалась ситуацией в целом. Повсюду в Римской империи царили смятение и кровопролитие, Малая Азия была поражена землетрясением, Рим — голодом и чумой. Нерон приказал вольноотпущеннику заколоть его ножом в горло, когда легионы выступили против него; но в это никто не верил и все страшились его появления на Востоке. Эти события порождали чувство отчаяния, духовного смятения и ощущение приближающейся мировой катастрофы, как отражение этих настроений и возник «Апокалипсис».
«Откровение» оказало сравнительно меньшее воздействие на искусство, чем другие части Нового Завета. Интерес к нему оживлялся лишь во времена религиозных потрясений и обостренных противоречий, как, например, в конце первого тысячелетия, когда верили в близость Страшного Суда, затем в двенадцатом и тринадцатом веках, когда возникло великое движение мистических сект и ересей, и, наконец, во второй половине пятнадцатого столетия в связи с той религиозной революцией, из которой выросла немецкая Реформация. Хотя некоторые апокалиптические сюжеты всегда влияли на изобразительное искусство, однако полностью «Откровение» отразило лишь одно великое произведение искусства, это — гравюры на дереве Дюрера. Частично это объясняется особенностями текста, в котором христианские элементы сильнее, чем в других частях Нового Завета, переплетены с иудейскими, текста, в высшей степени чуждого изобразительности, он больше основывается на ирреальных фантазиях и медитациях внеизобразительного народа, чем на образном восприятии. Обстоятельства времени, своеобразие немецкого искусства той эпохи, как и его собственного, позволили Дюреру превратить в картины текст, не слишком подходящий для подробного иллюстрирования — ведь предшественники Дюрера ограничивались отдельными фигурами и сценами; образы Дюрера были неизмеримо ярче, чем их литературный источник, а некоторые из них стали неизменным достоянием всеобщей жизни фантазии.
Причины его удачи проистекают в первую очередь из художественного принципа, положенного Дюрером в основу изображений. Из огромного поэтического богатства послания к семи азиатским общинам Дюрер выбирает моменты чувственно изобразимые, те, которые можно соотнести со зрительным восприятием — можно было бы сказать о претворении отвлеченной фантазии изобразительными средствами выражения. Так, из первого видения семи светильников он выбирает образ того, кто был подобен сыну человеческому, голова которого была как белая волна, очи — как пламень огненный, того, кто в деснице свой держал семь звезд, из уст которого выходил острый с обеих сторон меч, а чье лицо лучилось как солнце; далее он выбирает светильники и узревшего это — Иоанна. И эти образные элементы он соединяет в композиции, которые можно было бы охарактеризовать как зримые видения и фантазии, они основываются скорее на свободных картинах, явленных воображению, чем на наблюдениях земного мира, так что перенесенное в чувственную сферу содержание «Апокалипсиса» опять-таки соединяется в образы, опирающиеся не на реальные ситуации и взаимосвязи, но на возникающие силой воображения. Действие происходит где-то в заоблачной выси: на причудливых облаках стоят светильники и среди них возникает радуга с восседающей на ней фигурой Первого и Последнего, перед которым преклонил колени и сам пророк; таким образом, это — видение не Иоанна, но самого художника. Если его перенести в сферу вещественного и реального нидерландцев или в связанную с земным миром область статически-закономерного итальянцев, то изображение подобного рода не станет более убедительным, не обретет большей силы воздействия. Дюрер не затушевывает ирреальный характер видения, но, напротив, подчеркивает его. Извивающиеся линии, не подвластные воздействию земного тяготения, легкие облака, бесплотно отделяющиеся от темного заднего плана и освобождающиеся от всего, что они несут, неопределенность пространства — все это переносит нас в мир, существующий лишь в духе, мир, в котором властвуют иные законы, чем в мире чувственно воспринимаемом, над которым господствует другая истина: это — мир не естественного, но сверхъестественного бытия. В этом проявляется наследие средневекового мировоззрения, которое сохранилось в немецком искусстве в качестве живого и ведущего фактора дольше, чем где бы то ни было. Тем не менее было бы неверным попытаться объяснить стиль «Апокалипсиса» как последнюю вспышку средневекового духа.
Бросим наш взгляд на второй лист: Иоанн получает приказание с небес. В нижней части мы видим тихий, приятный пейзаж, раскрывающий нам красоту и простор земли, а наверху — едва ли не нарушая это спокойное построение — разверзшиеся небеса. Отделенное причудливыми облаками от земного мира, там высится мощное строение, врата его распахнуты; языки пламени вырываются наружу и образуют кольцо вокруг того изображения, в котором все резко контрастирует с реальностью, там — окруженная небесными хорами мандорла, старые средневековые образы и представления, нереально, фантастически сжатые в идеальном пространстве — и с этим видением связан пророк, приближающийся к Трону Господню, чтобы услышать то, что ему надлежит совершить. Я полагаю, — и тогда процесс создания подобного произведения ясно развернется перед нашими глазами, — что художник прочитал текст и теперь размышляет об этом: сначала перед ним предстает красота мира, судьба которого сейчас будет решена, каким он часто видел этот мир во время своих странствий с рисовальным карандашом в руках; затем он размышляет о силах, от которых зависит судьба, и ему в голову приходят удивительные, давно хорошо знакомые представления о надмирных силах, фигуры и образы, виденные им в церкви или в старых манускриптах, те, что живут лишь в воображении и все же являются самым реальным. И обе сферы духовного сознания, одна, творящая на основе чувственного опыта, и другая, исходящая из идеального объяснения окружающего мира и истории человечества, объединяются в воображаемое единство, где художник является и поэтом, и пророком, а созданные его воображением образы противопоставлены как наглядное откровение медитациям, обретшим словесное выражение, и при этом он сам определяет степень реальности отдельных изобразительных элементов, субъективно, по собственному усмотрению соединяя действительное с недействительным.
Этот субъективизм выходит за рамки средневекового наследия, где всеобщей теологической системой объяснения мира были поставлены определенные границы личному духовному отношению к окружающему миру. Дюреровский субъективизм, напротив, теснейшим образом соприкасается с присущим искусству Нидерландов и Италии XV века стремлением обрести через наблюдение и опыт новое отношение к миру. Разница состояла только в том, что на Западе и Юге это пытались достичь главным образом на пути внешнего, чувственного опыта, через подражание природе и познание господствующих в ней закономерностей, в Германии же, напротив, этого искали через внутренний опыт, через обогащение внутренней жизни представлений на путях благочестия и духовного саморазвития. Развитие в этом направлении можно наблюдать в Германии в течение всего пятнадцатого века. Роль искусства в духовной жизни была там принципиально иной, чем на Западе и в Италии. Выходя за пределы чисто эзотерических целей, искусство должно было служить там всеобщей потребности душевного возвышения, всеобщей тяге к религиозному и светскому образованию, и эта всеобщая духовная задача была для него важнее проблем формы. Этим и объясняется тот факт, что художественное развитие на примере больших алтарных картин протекало менее интенсивно, чем в тех видах искусства, что возникли из потребностей духовного воспитания и образования, как то: в резьбе по дереву, гравюрах на меди и в книжной иллюстрации. Как следствие этого развития, в ходе которого совершилось не меньшее очеловечивание искусства, чем в нидерландском и итальянском искусстве, хотя и совсем по-другому, и вырастает «Апокалипсис», с той лишь разницей, что в нем индивидуальный гений в одном произведении искусства воплотил то, что до той поры в большей или меньшей степени было присуще широкому и более или менее однообразному потоку произведений, также как и шедевры Шекспира возникли на основе работ малозначительных авторов.
Так «Апокалипсис» стал первым великим немецким произведением искусства нового времени и одновременно произведением искусства sui generis, проповедью лютеровской глубины и красноречия, созданной до Лютера; в нем дух обращается к духу, это — произведение, к которому совершенно неприложимы другие критерии, масштабы немецкого искусства того времени, но лишь его собственные. После того, как Дюрер однажды находит нужный тон, картины возникают одна за другой. И с нарастающим драматизмом, подобного которому мы тщетно стали бы искать в современном Дюреру искусстве, перед нашими глазами разворачивается то, что художник видел внутри себя: истребление человечества и борьба небес и преисподней. Устрашающе и стремительно, неистово мчатся вперед четыре воплощения смерти — видение неудержимо несущегося фатума, в жертву которому приносятся гекатомбы.
В другом, еще более сильном листе мы видим четырех ангелов смерти, вершащих свой суд; перед нами — бесформенная масса, из которой они взмывают вверх; четыре фигуры и все же только один аккорд; по степени динамики движения итальянскому искусству нечего поставить рядом с этими фигурами. Эти посланцы смерти — не идеальные образы, как у итальянцев, они — не божественные герои, это — викинги, яростью своей жизненной энергии приближающиеся к Божественному.
Но все это слишком хорошо известно, чтобы на этом дольше останавливаться, зато мне хотелось бы сказать несколько слов об общих причинах создания цикла. В тексте «Апокалипсиса» трудно проследить за нитями повествования, это — в большей мере поток бессвязных ужасающих видений, чем ясно развивающийся рассказ. Основная мысль, однако же, ясна и проста: тяжелые испытания человечества под гнетом ужасающих потрясений и распад разъеденного разложением и грехами Рима, причины этих бед; это — песнь, исполненная ненависти к угнетателям и властителям мира, соединенная с аллилуйей в честь окончательной победы истинного и единственного Господа.
«Апокалипсис» святого Иоанна можно было бы назвать тенденциозным произведением, его основная мысль примечательно соприкасается с тем, что в размышлении над религиозными вопросами угнетало как Дюрера во время возникновения этого цикла, так и многих его современников. Не подлежит никакому сомнению то, что Дюрер имел в виду эту взаимосвязь во время создания иллюстраций. Особенно ясно это становится в изображении вавилонской блудницы. Рассказывается о том, что семь ангелов вели провидца в пустыню, чтобы показать ему блудницу вавилонскую. Там он увидел ее сидящей в роскошных одеяниях на семиголовом звере, с чашей в руке, полной мерзостью и нечистотами ее блудодейства. Семь голов зверя — это семь холмов, явный намек на Рим, а десять рогов — это десять царей, которые им правили и кому Бог внушил помысел превратить его в пустыню и пожертвовать их царство зверю, чтобы исполнена была на Земле воля Господня. И придут ангелы и возвестят падение Вавилона, ведь блудница стала жилищем бесов; все цари испили ее вина и все купцы разбогатели от ее сладострастия, поэтому она должна быть уничтожена, дабы товаров ее более никто не покупал, торговля и мореплавание прекратились, голоса мельниц затихли, об искусстве и вовсе более не будет слышно, ведь все это отравлено ею, поэтому великий город должен исчезнуть и уже никогда больше не будет его. И тогда появится Иисус на белом коне и обратится к вам: «Я брат ваш и раб подобно вам». — Я не знаю, пожалуй, никакого другого исторического рассказа, в котором были бы столь наглядно представлены те ужасающие конвульсии, в которых пробивалась новая религия, как в этом поэтическом крике отчаяния. Под воздействием позднейшей церковной точки зрения мы знаем лишь одну сторону процесса: насильственный гнет язычников, пассивная покорность и самопожертвование христиан, это — естественная позднейшая идеализация мирового переворота. Но «Апокалипсис» показывает нам, что это восприятие по меньшей мере лишь частично отвечает историческому положению дел. В нем мир противостоит миру, сторона — стороне: одна, имеющая в своем распоряжении всю власть и мировое господство, и другая, маленькая, но исполненная пламенным воодушевлением и верой в конечную победу своих идей, они готовы под корень уничтожить существующую культуру, чтобы добиться всеобщего признания своей веры.
И именно эта черта нашла большой отклик у молодого Дюрера. Ведь и его «Апокалипсис» был революционной песней и также направленной против Рима. Не против Рима императорского, но против папского Рима. Так, в 1521 году, получив во время своего нидерландского путешествия ложное известие о смерти Лютера, он пишет в своем дневнике пламенные слова против курии, убивающей истинное христианство, высасывающей из него кровь и являющейся источником неправедной жизни, недвусмысленно ссылаясь при этом на «Апокалипсис». И вавилонская блудница превращается для Дюрера в современный ему Рим. Используя один из набросков с натуры, привезенных им из Венеции, Дюрер представил вавилонскую блудницу в облике прекрасной венецианки, изображая ее царственно и обольстительно, как некое волшебное видение; она подманивает к себе усталого странника, показывая ему кубок. При этом она является не провидцу, как в Библии, но целой толпе мужчин и женщин, одетых по моде того времени. Но, кажется, только один восхищается ею — монашек с широко открытыми глазами и сложенными в трубочку губами, молитвенно опустившийся перед нею на колени. На других лицах написаны робость, испуг или протест. Боязливо косятся на нее паж и дама. Презрительное и упрямое выражение застыло в глазах крестьянина. Уперев руки в бок, в центре группы в уверенной позе изображен мужчина, критично и свысока вглядывающийся в блудницу, в нем мы можем предположить самого Дюрера. Призрак является не посреди пустыни, но на родной земле, на которой растут хорошо знакомые растения. Однако призрак приходит из-за реки, из дали, представленной на заднем плане, там виднеются море, горы и великий Вавилон, Рим, весь христианский мир, пребывавший под властью блудницы. Но эти чары скоро будут разрушены. Следуя старому изобразительному принципу, Дюрер соединяет в одном листе идущие один за другим эпизоды повествования. Уже появился на небе ангел с мельничным жерновом, которым будет раздавлена нечестивая грешница. Уже приближается второй, чей голос возвещает: Вавилон, великий, пал, и город пылает. Языки пламени, как при мощном взрыве, взметаются в небу, и перед нашими глазами в обрамлении сгустившихся облаков разворачивается третье видение: во главе с Иисусом, христианским рыцарем, прибыло победоносное небесное воинство, чтобы основать новый Иерусалим, предстающий перед нами в последнем листе, мирном завершении цикла. Один ангел низвергает принесшего несчастья змея древнего, черта, в бездну, а другой показывает Иоанну не небесный рай, как в тексте «Откровения», но царство небесное на земле, красивый небесный город, врата которого стережет ангел мира.
Так «Апокалипсис» Дюрера становится не просто циклом иллюстраций, но по меньшей мере самостоятельным поэтическим произведением, представленным в зримых образах, в котором Дюрер художественно выразил свое собственное понимание важнейших духовных проблем эпохи, так что в этом соединении реальности и мечты, правды и поэзии можно увидеть почти что текст автора о себе, как в произведениях современных писателей. И это также является чем-то новым. В картинах итальянских и нидерландских художников, современников Дюрера, нельзя отыскать ключ к их субъективной духовной жизни; в произведениях Джанбеллино, Рафаэля или Герарда Давида почти все исчерпывается отношением к объективным художественным проблемам, которые были едиными для всех художников их времени и страны. В рисунках это выражается еще отчетливее, едва ли не все без исключения они были созданы во имя этих объективных целей, стоящих за пределами субъективной душевной жизни, в то время как в рисунках и гравюрах Дюрера на протяжении всей ero жизни мы можем увидеть неисчерпаемое многообразие точек зрения, непрерывный диалог с самим собой и с окружающим миром.
В «Апокалипсисе» эта черта его искусства выступает на передний план столь же сильно, сколь и неожиданно в общем контексте европейского искусства того времени. Это — личное духовное исповедание Дюрера, чье содержание лежит не только в области проблем собственно искусства, но относится ко всем тем роковым вопросам, что занимали всех более серьезно задумывавшихся над своим временем людей. Этот цикл был создан в то же самое время, когда во Флоренции проповедовал и был сожжен Савонарола. Но тогда как в Италии речь шла только о движении по восстановлению господства церкви, то в Германии общество, воспитанное в духе более глубокого религиозного образования и чувствования, в ходе целого столетия задумывалось о более глубоких причинах упадка религиозной жизни, а в сознании ведущих личностей осязаемую форму начала обретать проблема духовного обновления христианства в качестве важнейшего требования времени; то же мы видим и у Дюрера, чье первое большое произведение возникло из осознания долга по отношению к этому главному вопросу духовной жизни, вопросу, стоящему выше специальных задач искусства и превратившему цикл Дюрера в пронзительную проповедь. Духовная программность напоминает о средневековье, тогда как личностность высказы вания предвещает то, что спустя несколько десятилетий станет главной чертой, сокрушившей имперсональные художественные идеалы Ренессанса в творчестве Микеланджело, а после Микеланджело подчинившей себе и все европейское искусство. Так «Апокалипсис» Дюрера стоит между двух эпох, являясь завершением одной и вводя в другую, связуя предшествовавшее Ренессансу и то, что должно было за ним последовать. «Апокалипсис» играет особенную роль в творческом развитии Дюрера. В последующее время он создал более или по меньшей мере столь же значительные работы, но никогда более — произведение, до такой же степени исполненное страстности и юношеского воодушевления определенной идеей, как «Апокалипсис». В нем есть словно бы неистово кипящая юношеская сила, ведь в апокалиптическом тексте Дюрера, это вполне определенно, привлекали не только исторические аналогии, но — дух, обуреваемый идеалами будущего и юношески горячо ими увлеченный. Нигде в современном ему нидерландском, итальянском или французском искусстве мы не найдем бури и натиска юности, подобных дюреровским. Художественная карьера — это постепенный подъем, поэтому самые дерзкие произведения возникают не в начале, а в конце жизненного пути. Это, бесспорно, неслучайно, столь же неслучайно и то, что подобное явление повторилось в немецком искусстве, и величайший поэт Германии открыл свое художественное творчество, полный юношеской радикальностью убеждений и страстно увлеченный идеей прогресса, так что возможно было бы говорить о родственном типе художника. Источник этого родства заключен в том соотношении между искусством и проблемами бытия, основы которого были заложены в Германии как раз на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков, которое сохранялось в Германии и позднее, вплоть до настоящего времени. Это связано со стремлением рассматривать окружающий мир как часть внутренней жизни, а искусство как средство диалога с Богом и чертом, потусторонним и посюсторонним бытием, с самим собой и с тем, что движет всем миром, это — тот порыв, что в юности охватывает человека, должно быть, сильнее, чем в старости. Вся жизнь Дюрера была борьбой за обогащение духовной индивидуальности, которой он стремился подчинить все те значительные духовные импульсы и переживания, что предлагало его время: гуманизм и Реформацию, итальянское и нидерландское понимание искусства, теорию и практику, красоту и многообразие жизни и природы. Так возникает тип художника, диаметрально противоположный его итальянским или нидерландским современникам, тип нового идеализма образования и универсализма, покоившегося не только на естественнонаучной эмпирии, как у Леонардо, но основанный — как три столетия спустя у Гете — на никогда не иссякающем соучастии во всем, что владеет духом людей и дает пищу фантазии.
V ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НИДЕРЛАНДСКОГО РОМАНИЗМА
В своем литературном обосновании нидерландский романизм обозначает себя как победу знания над средневековым невежеством. Он неоднократно указывает, в чем состояло это знание: в обладании истинными правилами искусства. Не надо при этом упускать из виду, что это объяснение заимствуется из итальянских источников и было впоследствии применено к процессам, с которыми его, по самому составу памятников, не вполне удается согласовать. В действительности речь идет о комплексе явлений, единство которых может быть обозначено как стремление к освобождению от узко очерченных границ искусства XV века.
Натурализм, основанный великими нидерландскими мастерами первой половины пятнадцатого столетия, обогатил, правда, искусство небывалым множеством новых наблюдений, новым понятием верности природе в качестве решающего принципа при изображении видимого мира, но при этом искусство всюду, где речь шла о рождении из наблюдений духовного и художественного единства, стоящего над видимым миром, определялось границами, которые провело для него средневековье. Это ограничение — в смысле последующего развития — было основано главным образом на связанности внешних и внутренних масштабов. Конечно, неправильно отказывать средним векам в величии мировосприятия и видеть его только в итальянском Возрождении: в средние века мировосприятие покоилось лишь на другом отношении к действительности, нежели в начале XVI в.
Для средневекового художника решающим было величие мысли о надземном мире и о всем, что могло бы быть с ним связано, величие понимания божественного всемогущества и его роли в творении, в природе, в человеческой жизни и в истории человечества, величие представления о божественных образах как о вечном примере людям, величие беспорочной идеальности святых, величие невнимания к чувственному и рациональному опыту, в вере в чудесное; таким образом, для средневекового художника решающим было прежде всего внутреннее единство и замкнутость покоящегося на абсолютных духовных ценностях мировоззрения. Оно сохранялось в силе и тогда, когда новый натурализм находился уже в полном цвету. Разве оно потеряло что-либо в гентском алтаре Ван Эйков, в «Мадонне каноника ван дер Пале», в портрете Арнольфини, несмотря на светский характер последнего? Христианский художник никогда не мог раньше изобразить с подобной верностью природе одежду, сосуд, яблоко на подоконнике, луч солнца. Однако все ли это? Не стоял ли в конечном счете в произведениях «архаического» стиля над действительностью все еще некий высший закон, та ценность вещи, что коренится в благоговении перед сверхчувственными силами?
До известной степени все, что писали эти художники, было натюрмортом: пейзажи, где один мотив был связан с другим, подобно цветам в букете; внутренние помещения — интерьеры, изученные любовно, вплоть до последней пылинки, так, как двести лет спустя голландцы будут писать фрукты и домашнюю утварь; портреты, в которых всякое психическое и физическое переживание сведено до минимума ради точнейшего воспроизведения неподвижного фактического состояния; и все-таки эта вещественность не та, как в последующие столетия. В старой нидерландской картине мы стоим рядом со всеми этими великолепными, добросовестно переданными с натуры деталями и все-таки мы видим их как бы издалека, с какой-то высокой башни, которая поднимается над естественной значимостью и функцией отдельных элементов изображения. Последние предстают лишь как сумма метафизической взаимосвязи, которая и огромные залы соборов превращает лишь в маленькие частички чувственно непостижимой бесконечности.
В течение пятнадцатого века это высокое трансцендентное единство картины мира постепенно теряло свою живую силу.
Процесс был слишком сложным, чтобы мы в этой связи могли заняться рассмотрением его причин. Достаточно указать на его негативные и позитивные последствия. Очень поучителен в этом отношении Мемлинг. Он был наследником высокого стиля, и глядя на его ранние произведения можно было бы подумать, что имеешь дело все же не только с традициями прошлого. Если же проследить его развитие дальше, то быстро открывается его эпигонство: то, что поначалу казалось внутренне пережитым, лишается окрыленности, становится литургической формулой огромной культуры, но все же лишь формулой и в конце концов чистой условностью.
Однако искусство никогда не стоит на месте, и в границах пережитого начинают развиваться новые зерна: субъективно лирическое содержание и оживленный рассказ у Мемлинга, драматическое напряжение и формальный пафос у Гуго ван дер Гуса, захватывающий реализм у Гертгена тот Синт-Янса, мощная фантастика у Босха; и повсюду искание более прочной зависимости искусства от естественных человеческих ощущений, от жизни и духовных потребностей.
Так обстояло дело в нидерландской живописи, когда во всей европейской духовной жизни произошел великий переворот, образующий глубочайший разрыв между культурой средневековья и Нового времени и указывающий вместе с тем художественному творчеству нового поколения совсем новые пути. Как бы ни были различны духовные движения и явления, бывшие следствием этого переворота, все же у них было нечто общее: стремление к новым, общеобязательным идеалам, которые должны быть достигнуты не только на основе унаследованного понимания откровения, но в не меньшей степени и с помощью тех средств и способностей, которые на севере развились в течение поздней средневековой революции, а на юге — в процессе Возрождения.
Этих новых общеобязательных ценностей искали на трех путях: углубления в себя, критики и созерцания. Эти движения в большей или меньшей мере действовали повсюду, но приводили, однако, в зависимости от того, на которое из них ставилось ударение, к разным результатам, к новой, покоящейся на чувстве религиозности, церковной реформе и основанному на ней новому пониманию личных и общественных обязанностей, а также к новому научному мировоззрению, опирающемуся на светское знание и культуру формы. Первое течение было сначала оттеснено двумя другими, объединившимися против него, и восторжествовало только позднее, при новых предпосылках, в искусстве контрреформации. Реформация же привела в своих следствиях к полнейшему отрицанию воплощенного в старой культовой и молитвенной образности художественного мировоззрения. Возрождение сделало это художественное мировоззрение языческим, потусторонние идеальность и закономерность были преобразованы в светские. Эта тройственная новая организация духовной жизни развилась сначала в Германии и Италии, но, конечно предпосылки к ней существовали и в других местах. Нидерланды принимали в ее возникновении мало участия. Однако и здесь это духовное движение было интенсивно воспринято, причем восприятие это было существенно усилено новым значением, которое получили Нидерланды (особенно южные провинции) в первые десятилетия XVI в. в качестве культурных центров. Брюссель сделался самым важным индустриальным центром Запада, Антверпен превратился в мировой город, хозяйственное положение которого можно было бы сравнить с ролью Венеции. Но торговые и индустриальные универсальные центры всегда склоняются к известной всеобщности: до тех пор единый, территориально ограниченный, круг нидерландской духовной культуры оказался разорванным, и почти все наполнявшие рассматриваемую эпоху новые идеи и течения нашли себе сюда доступ. При этом можно заметить интересную особенность. Новые, заимствованные из чужих стран точки зрения не действовали в Нидерландах ни в коем случае, как программа и исповедание, мощно захватывающие сознание людей. По отношению к ним сохранена была известная объективность расстояния, что особенно ясно можно заметить в сочинениях Эразма Роттердамского. Этим объясняется, что новые течения сохранялись долгое время наряду с пережитками старой нидерландской традиции и что, наконец, только во фламандском и голландском искусстве и культуре XVII в. из них возникло нечто совершенно новое.
Вернемся, однако, к исходной точке нашего изучения. Мы указали, что в конце XV и в начале XVI в. нидерландская живопись переживала кризис, из которого художественная молодежь стремилась найти выход в стремлении к новому — идеалистическому — углублению задач искусства. В этом можно снова ясно заметить упомянутую выше новую тройственную ориентацию духовной жизни.
Сначала были сделаны попытки оживить старый большой стиль. Вновь вернулись к композициям первой половины XV в. и по их образцам стали создавать новые, связывая старые и новые образы с новым религиозным чувственным содержанием. К самым значительным созданиям этого течения принадлежат некоторые произведения Квентина Массейса, как например, «Оплакивание Христа» в Антверпене, проникнутое тем же религиозным пафосом, что и «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена; конечно, не случайность, что одновременно и независимо от Массейса этот шедевр религиозной прочувствованности старонидерландской живописи был скопирован родственным ему по духу кельнским Мастером «Алтаря св. Варфоломея», с соблюдением большой точности форм и средств выражения. Если не забывать различия целей, то это явление можно было бы сопоставить с увлечением старыми мастерами — Джотто и Якопо делла Кверча — со стороны Микеланджело в начале его карьеры. У менее значительных художников это течение привело к ретроспективным заимствованиям и к преувеличенному изображению ощущений и страстей, к чему снова позднее часто возвращался маньеризм.
Гораздо важнее были оба других течения — романистическое и реформационное.
Можно было бы задать вопрос, почему итальянское влияние как решающий фактор так поздно проявило свое действие в Нидерландах? Ответ не труден. До начала XVI в. нидерландское и итальянское искусство можно сравнить с двумя параллельными линиями, не имеющими точек соприкосновения. Как в Нидерландах, так и в Италии художники стремились получить как можно больше от природы, чтобы повысить впечатление верности к природе в изображении, но метод наблюдения действительности и его последняя цель были различны. На севере речь идет об общем обогащении созерцания путем экстенсивного изучения природы в рамках прежней религиозной идеи; в Италии, напротив, дело касается распространения и углубления правил, по которым тела и пространства могли быть изображены в их естественных, объективно познаваемых и допускающих опытную проверку функциях. В то время как северный натурализм все больше разветвлялся на индивидуальные варианты форм, его двойник в Италии шел к идейным решениям, приведшим в конце концов — вместе с разрешением лежавших в их основе проблем — к идеалистическим, сверхиндивидуальным типам и положениям, тем более, что это развитие совершалось в теснейшей связи с возникновением автономного научного мировоззрения, построенного по античным образцам, на почве светского знания и на формальных элементах. Италия получила в силу этого преимущества. К тому времени, когда старые трансцендентные идеи начали терять свою объединяющую силу, у итальянского искусства были уже всеобщие нормы, которыми легко было заменить прежние. Восприятие этих норм и образует фактически самое важное содержание «романизации» нидерландской живописи.
Для течения этой романизации особо важными стали три момента. Прежде всего то, что можно обозначить как внешний аппарат итальянского искусства: сумма принципов, правил и основанных на опыте достижений в изображении пространств и тел, перспектива, анатомия, мотивы стояния и движения, рисунок и пластический рельеф. Очень знаменательно, что этот аппарат не был привлечен для обновления собственного старого изучения природы в нидерландском искусстве, а был воспринят как противоположность ему: ero использовали не для достижения большей близости природе (к чему он должен был вести по своему происхождению), а как средство достижения красоты и значительности, стоящих над индивидуальной передачей природы, как средство искусства, которое должно собственными силами поднять человека на высшую ступень человечности, в область высшей духовности и знания. Это вполне соответствовало общим тенденциям северного гуманизма, питаемого невероятной жаждой знания северных народов. Распадающейся системе позднесредневековой, богословски обусловленной духовной культуры, концентрированной в университетах, он противопоставлял свое духовное направление, основанное на самостоятельном филологическом, историческом и художественном изучении, а также новый, соответствующий ему воспитательный метод. Так как в Германии скоро получили преобладание вопросы церковной реформы, а во Франции центром литературных и художественных стремлений пока что оставался королевский двор, то Нидерланды сделались наиболее важной ареной гуманистических реформ, особенно в области искусства.
Гуманисты-художники во многих отношениях были схожи со своими друзьями в области поэзии, науки, риторики и образования. Многие из них, как Мабюзе[116], пишут «образцовые» картины просто в качестве примеров новых художественных средств и дают перспективные построения или нагие тела, которые не преследуют натуралистических целей (как это налицо у их итальянских образцов), и которыми художник как будто только хвастает. У других мастеров на первый план выступает дидактический характер, и это имело следствием, что сравнительно незначительные художники, как Ламберт Ламбард, пробрели большое значение в роли воспитателей нового поколения. То, чему они учили, было не только овладение новыми элементами воображения, но и новым масштабом, как бы педагогикой новой художественной значительности, коренящейся не в сверхчувственных, а в земных, не в чисто духовных, а в материальных отношениях и связях. При этом южнонидерландское искусство стремилось более или менее самостоятельно превратить новые основные понятия искусства в идеализованные образы. Второй момент «романизации» состоял в том, что не только отдельные художественные средства итальянского искусства связывались в новые композиции, но что и в самих композициях начали стремиться приблизиться к целям нового «классического искусства итальянцев. Особенным откровением в Брюсселе стали картоны для ковров, нарисованные Рафаэлем, они были доставлены в Брюссель около 1517 г. Для молодых ведущих художников, как Барент ван Орлей, они скоро сделались высокой школой большого идеального стиля. Им и было обязано нидерландское искусство знанием синтетического значения линий, равновесием масс, патетической концентрацией и равномерной организованностью всех элементов изображения под углом зрения сверхиндивидуальной формальной красоты, законченности и гармонии. На них основывалось в первую очередь новое восприятие исторической живописи, которое открыло новый мир также и для Дюрера, что можно видеть по его рисункам, возникшим во время его путешествия в Нидерланды или вскоре после того. Для молодых нидерландских художников они стали со своей стороны важнейшим импульсом к путешествиям в Италию, ad fontes[117], под чем понимали не произведения кватроченто, не Донателло или Мантенью, а Станцы и сикстинский потолок, как и античные образцы, лежащие в основе их идеализации мира форм природы. К этому присоединялось также влияние поздних вещей Леонардо, которые, впрочем, оказали только преходящее воздействие главным образом на композицию алтарных картин.
Наконец, и влияние Рафаэля отступило перед захватившим всех прообразом Микеланджело. Это не может быть объяснено только ощущением абсолютного, непревзойденного мастерства, которое вызывали произведения Микеланджело по обе стороны Альп (на них смотрели как на недосягаемую вершину красоты), — была тому и более глубокая причина. В произведениях Микеланджело видели лучшее воплощение и решающее слово новой искомой идеальности, видели искусство, которое, как в древности, превращало людей в богов, создавая образы и представления, в которых естественные, телесные и духовные силы бытия воплощались в качестве носителей истории человечества, как сверхчеловеческие, увиденные sub specie aeternitatis[118] силы. Трагическая противоречивость,которая сопутствовала у Микеланджело этой крайне языческой полярности по отношению к средневековой христианской трансцендентности; его разорванность, которая завела творчество его молодых и зрелых лет в тупик, откуда он сам вырвался со сверхчеловеческой силой, — все это тогда было еще вне понимания его северных современников, и только великий гимн в честь заново героизированного человечества гипнотизировал их. При этом речь шла не только об отдельных образах, которым постоянно подражали, потому что они, казалось воплощали в высшей форме все, что только требовалось от искусства: воплощали норму, по отношению к которой непосредственно данный опыт природы представлялся только дополнением. Гораздо важнее этого был художественный пантеизм, в который превратилось влияние Микеланджело на севере. Не только люди сделались подобными богам, но и все вещи как бы одновременно выросли и получили новую ценность, как выражение лежащих в основе каждой материальной формы творческих сил. Им, этим выражением, было заменено старое иллюстративное значение вещей, воспринимавшихся как примеры великих соответствий откровения. Границы между действительностью и идеальностью, между богом и природой, между небом и землей, между сущностью и атрибутом были стерты ради значительности, которая имеет свое происхождение не по ту сторону действительности, а может быть связана со всем видимым посредством его художественного воплощения. Пастухи или солдаты превращаются теперь в героические фигуры, люди — в богов, и каждое нарисованное архитектурное произведение перерастает человеческие масштабы так же, как оно в средневековом искусстве всегда было меньше человеческих размеров. Художник становится всемогущим властелином, он создает напряжения сил и масштабов, его воля и его смысл заменяют трансцендентную и эмпирическую закономерность и взрывают тем самым существовавшую дотоле систему художественных единств и соподчинений. Только такой художник, как Микеланджело, мог решиться на то, чтобы создать объективно единую картину мира, соответствующую этой героизованной, сверхчеловечески повышенной динамике естественного бытия.
У его северных подражателей она распалась на свои элементы, на различные образы, темы и области, в которых субъективный выбор и дарование становились на место прежних, обязательных в средневековом смысле связей.
Еще раз, как в начале XV в., северной живописи открылась многосложность чувственного мира; и если по видимости это новое открытие мира и развивалось мало-помалу из прежнего, то все-таки оно было отделено от прежнего новым пониманием искусства. Природа и человеческая жизнь не являются сейчас, как раньше, только зрелищем, приятным для глаз, зрелищем, которое можно было бы связать со старинными религиозными представлениями в качестве микрокосмоса, которое могло бы быть в этом ограничении источником истины и обучения; действительный мир становится во всех своих формах проявления самостоятельным содержанием «макрокосмоса», в который может погружаться творящая сила представлений, чтобы достичь посредством него идеального представления о вселенной, достичь художественного удовлетворения и духовного подъема, независимого от религиозных ощущений и откровения. Из средневекового натурализма, несмотря на все предпосылки к тому, никогда не могла бы развиться самостоятельная пейзажная или жанровая живопись; только новый, универсально светский идеализм мог разорвать оковы старого сверхчувственного идеализма, мешавшего развитию предпосылок в самостоятельное бытие.
Тот, кто стремится постигнуть более глубокие идейные причины исторических событий, всегда будет с удивлением отмечать, как совпадают в определенное время в определенном устремлении самые далекие и, казалось бы, в корне различные феномены духовной жизни, как если бы их вело метафизическое, человеческому духу недоступное предопределение. Не только романизм и культ Микеланджело вели к развитию в указанном направлении, но и третье большое духовное течение времени — реформация. До сих пор мало занимались ее воздействием на нидерландское искусство, ограничиваясь обычно указанием на оба всплеска иконоборчества в 1566 и 1572 г. Но и эти взрывы уничтожения памятников искусства были не только событием, отразившим исключительно учение кальвинистов, — в них можно видеть и общедоступное отражение всего того, что уже давно подготовлялось в общем положении церковного искусства и что было старше кальвинизма, который, в свою очередь, являлся формулировкой господствующего уже ощущения. Этому нас учит взгляд на превращения нидерландской алтарной картины в первой половине XVI в.
Нам надо прежде всего обратиться к Голландии, где развитие началось раньше и интенсивнее, чем в южных Нидерландах. В то время, когда алтарная картина находилась в Италии на высокой степени расцвета, когда создавались «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Ночь» Корреджо и «Ассунта» Тициана, голландские художники начинают все яснее отходить от изображений, в основе которых лежала древняя, антично языческая идея персонального поклонения. Это можно проследить и еще дальше. Уже у Босха картины культового значения отходят на задний план по сравнению с притчами, аллегориями или фантастическими историями. Как и в графике Нидерландов, так и в Германии развивалась радость повествования. Стали вновь популярны такие библейские мотивы, которые не должны были вызывать ощущения благочестия, а ограничивались изобразительным рассказом предыстории и древнейшей истории христианства. Становятся все более частыми светские, взятые из античного предания темы, а также жанровые изображения, как у Луки Лейденского или Брауншвейгского монограммиста. Этот процесс вновь был прерван во время первой большой волны романизма подражанием алтарным картинам, которые были его распространительницами. Несмотря на это, процесс этот получал, однако, все больше значения и начал захватывать также и Бельгию. Его наиболее замечательным плодом явилось полнейшее подчинение библейских событий рамкам жанрового рассказа, как у Брауншвейгского монограммиста или у Патинира, в чем выразилось, пожалуй, полнее всего отталкивание от идолопоклоннической изоляции священных персонажей.
Эти исторические нити ярко связываются здесь с той характерной чертой голландского искусства, которая была охарактеризована Риглем как предпочтение «внешнему», исходящему от зрителя единству, и как отсутствие в связи с этим симпатии к единству «внутреннему», независимому от зрителя, симпатии к античному культовому способу представления; можно было бы думать, что отказ Голландии от культового образа совершился бы и без учения Кальвина. Объяснение надо, без сомнения, искать в том, что как это учение, так и художественное развитие покоились на далеко уходящих вглубь антиклассических элементах духовной культуры Запада. В границах национальности они стали базой новой позиции по отношению к церковному искусству, а с другой стороны — во всеобщем религиозном движении они привели к разрыву с римским католицизмом вообще.
Реформация в Голландии нашла, таким образом, благодарную почву и встретила искусство, которое шло ей навстречу и которое скоро развилось до степени полярной противоположности католическому. Как в восприятии социальных обязанностей, как в новом понятии праведной жизни, так и в искусстве взор был обращен на земное бытие. Сейчас наблюдается иное, чем в готический период; на искусство смотрят не с высокой башни потустороннего мышления, а с точки зрения пребывания в жизни и в природе, и не как средство «воспитания к богу», а альтруистически — как средство дать людям содержание и удовлетворение, способствовать выработке мировоззрения, и этими путями служить коллективу. Готические соборы, высшее выражение высоко над жизнью стоящего единства средневекового искусства, коллективное создание христианской общины в течение ряда поколений, утеряли свой смысл, и искусство стало, как и новое образование, чем дальше, тем больше, даже и в религиозных изображениях, светским и личным делом. Оно вышло из своих прежних церковных центров в дома цехов и в жилища буржуазии, и единое большое средневековое восприятие мира расщепилось на различные картины природы, прошлого, общественной жизни, определяя тем самым связанные с ними специальные области изобразительности.
VI ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
«Представляется, что мастер занимает в общем мнении не то место, какого он заслуживает».
Эти слова Фридлендера[119] прекрасно характеризуют современное состояние вопроса об оценке искусства и значении Брейгеля. Для «большой публики» он все еще остается в первую очередь «мужицким Брейгелем», т. е. отношение к его картинам все еще почти исключительно определено сюжетными интересами. Но и в кругу специалистов оценка Брейгеля далеко еще не установилась в такой мере, как это желательно и необходимо. Бастелар[120] и Фридлендер[121] со всею настойчивостью указывали на то, что Брейгеля следует причислить к самым большим мастерам, но до сих пор остается невыясненным его положение в рамках современного искусства, как нидерландского, так и всего европейского. Из общего, определенного итальянским влиянием идеалистического настроения искусства он выделяется почти как анахронизм высокой мерою своего своеобразия.
В то время, как Бастелар видел в искусстве Брейгеля революцию позитивного нидерландского духа; Фридлендер выводит его из «подземного течения», которое сохранилось в Нидерландах рядом и в стороне от «большого стиля», находившегося под воздействием итальянцев.
И то и другое представляется мне недостаточным, чтобы правильно и исчерпывающе охарактеризовать значение и величие Брейгеля. Никто не станет сомневаться, что искусство Брейгеля покоилось на нидерландских или — более широко — общесеверных традициях. Почему, однако, и как эти традиции в середине XVI в. — на первый взгляд, в противоречии со всеми остальными течениями искусства этого времени — могли «сгуститься» в превосходящую всех и открывающую новые пути художественную личность; как произошло, что в ней северный дух победил южный, Ян ван Эйк — Микеланджело, а художественно побочная область жанровой картины победила основную — область мифологий и историй; и почему эта победа является больше, чем территориальным или национальным эпизодом, почему она придала всему развитию живописи к северу от Альп новое направление — все это вопросы, которые еле затрагиваются прежнею, чисто нидерландскою постановкою проблемы Брейгеля, но для решения последней обладают фундаментальной важностью. Ведущий, указывающий новые пути художник никогда не стоит вне духовной общности своего времени, и если нам не ясны нити, которые его с ней связывают, то это говорит лишь о том, что мы недостаточно углубились или в восприятие его искусства, или в понимание его времени.
То, что написано Зиммелем[122] о трагическом конце жизни Микеланджело, может быть отнесено ко всему его времени. Искусство как отрешенная от темных глубин и нерешимых вопросов бытия сфера художественного обожествления объективной формы и ее чувственного обличия, достигшая в своем развитии, благодаря независимой силе воображения, сверхреального совершенства, дошла в эпоху Микеланджело до границы, которую уже нельзя было превзойти.
Одновременно с этим сознанием границ, заключенных в ренессансном восприятии искусства, должна была выявиться внезапно, что было еще важнее, огромная пропасть между художественными идеалами и фактическими духовными потребностями и бедствиями человечества. Оно не было, как в древности, предано исключительно культу жизни, а построило на «эсхатологической» вере в спасение искусственную дуалистическую систему духовных и материальных, земных и небесных благ. В духовно ведущих кругах возникла обратная реакция против формалистического идеализма высокого Возрождения, причем речь шла не о той или иной новой художественной цели, а о всем положении искусства и о его роли в духовной жизни. Там, где искусству принадлежала раньше руководящая роль, оно само оказалось внезапно руководимым, и из внутреннего ядра высших ценностей человечества превратилось в вспомогательное средство духовной борьбы человечества. Никто так рано и глубоко не понял этого внутреннего крушения гордого здания, как Микеланджело, никто не пережил этого так, как он, когда он в старости отвернулся от того, что составляло славу его жизни, чтобы, исходя из нового духовного сознания искусства, дать ему новое содержание.
Но дело было не только в том или другом художнике. Как после праздничной ночи, вместе с просыпающимся утром оживают заботы, так повсюду в мире, где царило христианство, во всех областях духовной жизни снова ожил неизмеримый комплекс нерешенных вопросов, противоречий, духовных необходимостей, комплекс, который, идя от средних веков, только дремал под покровом культуры Ренессанса и теперь привел к распылению художественного единства этой культуры на множество старых (ставших внезапно актуальными) и новых точек зрения и течений. Он вел к почти необозримым, на первый взгляд совершенно противоположным и все-таки проистекающим из одного и того же источника попыткам осознать всю сложность жизненных проблем (.Возрождение избегало этой сложности, а реформаторы хотели устранить ее насильственным упрощением, без того, чтобы это им удалось), осознать исторически и психологически, спекулятивно и практически, религиозно и скептически, внутренне и внешне. Было мало эпох, которые были бы так наполнены фактами перерождения, разрушения и оплодотворения, хотя и без внешне блестящего созидания.
Искусство, которое утеряло свою ведущую роль, получило в связи с этим в трех направлениях новую ориентацию:
В идейном отношении. Искусство гораздо больше, чем в предыдущий период, сделалось средством выражения всех духовных интересов и предметов знания. Двойная, основанная на традиции и формальных соображениях ограниченность Ренессанса была сметена. Иллюстративные стремления приобретают теперь роль, которую они некогда играли в Средних веках, с тою только разницей, что место замкнутого круга заданных, религиозно обоснованных образных представлений впервые занимает во всю ширь миросозерцание, основанное как на религиозных, так и на светских положениях, как на знании, так и на силе воображения.
В отношении к субъекту. Субъективное восприятие окружающего мира и духовной жизни приобрело в гораздо большей степени определяющее влияние на искусство, чем идеальная законченность и закономерность созданного. Отсутствовала единая направляющая линия, и отсюда должна была проистекать великая множественность возможностей и полнота напряжений, от самого внешнего артистизма и виртуозничества, соединявшего заимствованные формы, красивые краски и линии, повышенную чувственность и идейные абстракции в искусные, но бескровные создания, до пламенного выражения самого глубокого внутреннего переживания представленной темы или ее видимого облика. Как бы ни были различны такие художники, как например, Шпрангер и Эль Греко, Тинторетто и Хемскерк, они являются представителями одного и того же искусства, того же нового идеализма, отличавшегося от идеализма первой половины XVI в. так же, как стремление Франциска Сальского обновить христианство отличается от Лютера или Савонаролы.
В отношении к природе. В эпоху Возрождения идеализм был неразделимо связан с его чувственным выявлением и физической закономерностью; источником и предпосылкой его было единообразное восприятие природы, а идеалом — повышенная до степени идейного совершенства действительность. Теперь же вырабатывается — в связи с перенесением единства с объекта на субъект — дуалистический способ восприятия. Как и в Средние века, мы встречаем в одновременно существующих направлениях (не далее, чем у одного и того же художника и даже в одном и том же произведении искусства), с одной стороны, безусловный предметный и формальный реализм, с другой — далекие от какого-либо наблюдения природы темы и формы; встречаем портрет рядом со схемою; жанр — рядом с «надземной» значительностью; действительность — рядом с ее преодолением. Богатство противоречивого, различного в своем существе художественного творчества в следующих столетиях совсем нельзя было бы понять без этой принципиальной возможности субъективно выбрать и применить какую угодно степень реальности.
В этих новых предпосылках и заключалась исходная точка искусства Брейгеля. Он начал приблизительно так же, как и многие другие маньеристы его и последующего поколения. К характерным чертам нового положения искусства относилось возникновение издательской торговли, которая должна была обслуживать многоразличные новые художественные запросы общества. Для такого издательства, первого в Нидерландах, работал и Брейгель. Иеронимус Кок, основатель и руководитель предприятия, выпускал различные художественные произведения: гравюры со старых и новых итальянских картин, которые рассматривались как школа высокого искусства, а рядом с ними гравюры с картин Босха, старые и новые редкости, гротески, портреты знаменитых людей, пейзажи и воспроизведения руин, то есть изображения, в которых на первом месте стоял предметный интерес[123]. Для него работали итальянец Гизи, известный фламандский пейзажист Маттиас Кок, голландец Хемскерк и многие другие художники, между ними также и Брейгель, главная задача которого в начале состояла, кажется, в том, чтобы рисовать образцы для гравюр с пейзажами. Он рисует, как это было тогда общераспространенным, виды, в которых этюды с природы связаны в идеальные композиции; и ради такого рода вещей он, должно быть, как и Хемскерк, и поехал в первую очередь в Италию.
Конечно, было бы неверным делать отсюда заключение, что Брейгель ничего не привез с юга, кроме пейзажных этюдов; и в этих последних мы можем отметить влияние современного итальянского искусства. Композиции делаются оживленнее, и вместо нагромождения деталей и спокойных линий, как и единообразного тона ранних произведений, мы видим уравновешенные массы, страстную игру кривых и подвижных очертаний, светлые и темные части в больших плоскостях. Еще яснее можем мы заметить итальянские воздействия в фигурных изображениях. До итальянского путешествия они совершенно отсутствуют, после же него они получают вскоре в продукции Брейгеля перевес, причем ряд открывается произведениями, которые стоят в явной близости к созданиям современных итальянских маньеристов.
«Воскресение Христа», которое может считаться возникшим только во время пребывания в Италии или непосредственно после него, самым наглядным образом свидетельствует об этом. Фигуры и их орудия — нидерландские, но где можно было бы до того найти в Нидерландах такую свободную инсценировку, возвышающую общее впечатление над деталями? Где можно было бы найти такую повышенность контрастов, такую подымающуюся над отдельными физическими моментами подвижность композиции и связанное с этим фантастическое воздействие, которое сплетает реальное с чудесным и сказочным в нерасторжимое художественное единство без того, чтобы надо было пожертвовать ясным эпическим построением рассказа в его безыскусственном и ясном пространственном расположении? Нетрудно установить здесь много точек соприкосновения с современным итальянским искусством, с искусством флорентийских маньеристов, с Пармиджанино и его направлением, со школою Фонтенбло. Но важнее, чем отдельные влияния, были новые пути искусства, на которые Брейгелю открыло глаза его путешествие.
При всех своих преимуществах и достижениях старая нидерландская живопись была во многом стеснена условностями, безличностью старого натурализма и современного романизма, замкнутостью круга формальных проблем, а в области тематики — перевесом религиозных сюжетов и точек зрения. Новое время требовало духовного возвышения над темой и над формой. Равномерность натуралистических или идеалистических воззрений, их закономерность, данное априорно понятие значительности — все это было, как мы уже заметили, отброшено, чтобы можно было дать взамен больше внутренней свободы художественной индивидуальности. Последняя и определяет сейчас масштабы, избирает форму и содержание по собственному произволу, то примыкая к определенным образцам, повторяя канон, то черпая из природы и из многообразия исторической действительности, из прошлого или из собственной душевной жизни.
Колыбелью этой перемены была Италия, где искусство впервые нарушило пределы ренессансных правил, но новая ориентация художественной фантазии стала глубже и богаче во второй половине века вне Италии — прежде всего в Нидерландах, во Франции, в Испании. Сначала она проявляется как непроясненная анархия, и в широких кругах художественной продукции эта переоценка искусства еще долго вызывала неудержимые колебания, но одновременно, с самого начала, в результате этого процесса брожения начинают появляться художественные индивидуальности и стремления, которые не были мыслимы раньше; к ним принадлежит также и Брейгель. В этом смысле итальянское путешествие расширило его горизонт; он возвращается как современный художник, который учится видеть людей, природу и трагикомедию жизни не в свете всеобщих норм, но так, как они отражаются в его собственной фантазии. То, чего потребует для себя через поколения Монтень в ясном философском осознании нового отношения к окружающему мира — «l'imagination assez pleine et assez étendue pour embrasser l'univers comme sa ville»[124], —начинает уже характеризовать творчество Брейгеля, ставшее поэтически самостоятельным.
В больших аллегориях, которые возникли после его возвращения, он связывает самые разнообразные элементы, — старую христианскую символику и реалистические мотивы, «пламенеющую» архитектуру и фигуры, которые приближаются к образцам начала XV в., — с образами рафаэлевской школы и с близкими действительности изображениями современной жизни, — связывает в фантастических вымыслах. В последних еще несколько насильственно соединены те три фантастические области, которые впоследствии подчинили себе искусство Брейгеля, развившись до степени самостоятельного значения. Это то, что было раньше миром гротескного, инфернального, это — природа, переделанная в чудовищное представление, область, в которой пятьдесят лет до Брейгеля его предшественником являлся Босх.
Конечно, ошибочно считать Брейгеля просто продолжателем Босха. Он его не «продолжает», но использует, как и вообще в середине и во второй половине столетия во многом стали использовать старую нидерландскую живопись. От Босха Брейгель заимствовал — по меньшей мере вначале — сатирическую и дидактическую тенденцию таких изображений, понимание которых в первой половине века с его превалирующим интересом к формальным проблемам было весьма ограниченным. Но тон и содержание сатиры у Брейгеля скоро делаются совсем иными, чем у Босха. Сравнивать их можно в том же смысле, как Рабле и Бранта. У Босха мы видим еще средневеково-демоническое, видим символизацию таинственных сил, которыми окружен человек в природе и в жизни, и моралист в Босхе стоит все же (несмотря на неисчерпаемое богатство творческой фантазии) выше поэта.
У Брейгеля, наоборот, акцент переносится на наблюдение и изображение состояний жизни. Он ищет и находит гротескное и странное в них самих. Ему важно скорее не то, какими люди должны быть; грубовато и с юмором рассказывает он о том, каковы они на самом деле, с их ошибками, страстями и чудаковатостями, и предоставляет зрителю самому извлекать отсюда поучения. Еще сильнее, чем у Рабле, отступает у него мало-помалу на задний план все «учительное», поглощаясь чисто художественными интересами. Его картины и гравюры среднего периода рассказывают о том, какие курьезные вещи случаются, когда ближе присмотришься к людям и ко всему их поведению, сколько находишь завлекательного, возбуждающего фантазию, веселого и трогательного, достойного художественного изображения. Здесь уже не нужны преувеличения и чудовищное, и старая религиозно обусловленная дидактическая сатира превращается у Брейгеля в художественно суверенную картину нравов.
Но разве «картина нравов» на севере не имеет длинной предыстории в лице Питера Артсена, Брауншвейгского монограммиста, в Луке Лейденском, в Дюрере и Яне Ван Эйке и — еще дальше — в «забавностях» готической живописи и скульптуры? Все это, конечно, относительно, как и длинная «предыстория» фигур Микеланджело. Но подобно тому как образы Микеланджело отделены от образов не только хотя бы Джованни Пизано, но и от образов его непосредственных предшественников целою вселенной, так и у Брейгеля живопись нравов приобрела совсем новое значение. У его предшественников она коренилась в готическо-натуралистическом подражании действительности. Как звери и растения, здания и пейзажи, так и жанровые фигуры и жанровые сцены изображались раньше со всею верностью натуре, «как их бог сотворил», в качестве неотъемлемой составной части широко их превосходящего понятия внешнего мира и предполагаемого метафизического единства. С ним, по определенной градации их духовного значения, связывались все элементы изображения, начиная от простого повседневного опыта вплоть до глубочайших тайн веры.
Когда же это внутреннее и внешнее единство было разложено Возрождением, из светских комментариев и аксессуаров «святых истин» начинают развиваться самостоятельные области искусства, в которых, однако, на первом плане все еще стоит иллюстративный момент. Запасы форм и типов, с одной стороны, темы изображения — с другой, расширяются за счет реалистических фигур и сцен, способных или повысить впечатление реальности изображения, или возбудить предметный интерес. Часто, как у Артсена, эти реалистические моменты служили, однако, тому, чтобы демонстрировать северной публике в светской одежде новую монументальность и статуарную свободу созданий Микеланджело, искусные группировки Рафаэля или живописный стиль венецианцев.
Жанрово-реалистическое начало остается как бы только на поверхности вещей, является художественным приемом наряду со многими другими, которыми пользовался маньеризм, и не имеет еще более глубокого самостоятельного значения для духовного осмысливания жизненных соответствий.
Это значение впервые было вскрыто для него только Брейгелем. Он пишет народную жизнь так, как ее использовал Шекспир; подобно тому как она у великого поэта эпохи маньеризма является подвижным, распадающимся на множество жизненных выявлений фоном его могучих характерных образов, так и у Брейгеля она образует обратный полюс синтетических идеальных фигур, в которых его предшественники и современники искали художественной значительности. Это соответствовало роли, которую вообще играл реализм в качестве «контрапоста» идеальным созданиям в эпоху маньеризма; но Брейгель был первым, для которого реалистические народные сцены были не только внешним аппаратом инсценировки, но для которого сама жизнь была уже масштабом «человеческого» и источником изучения и познания царящих над людьми инстинктов, слабостей, страстей, нравов, обычаев, мыслей и ощущений. Речь шла при этом не об отдельных индивидуальностях, которые пережили, испытали или совершили что-либо особое, а о массе, о совокупности индивидуальностей, которая в качестве целого заняла место церковных и светских идеальных образов, или же об образах, на которые можно смотреть, как на представителей этой совокупности. Даже слепые и эпилептические женщины представлены Брейгелем не единично, а как целая группа. Изображение человеческой массы принадлежало к характерным чертам христианского искусства, но в то время, как до сих пор масса была или только эхом событий «высшего уровня», причина которых выходила за пределы их нормальной жизни, или средством повысить внешнюю достоверность и впечатление реальности изображения, Брейгель ввел в искусство то, что обозначается некоторыми новейшими писателями как «душа народа»: психическую собственную жизнь широкой народной прослойки во всем ее своеобразии и автономности, в ее антропологической обусловленности и историко-культурной фактичности; тем самым Брейгель утвердил совсем новое понятие внутренней правды изображения человека. Полное непонимание эволюционного значения его картин и гравюр проявляют те, кто называет их «простонародными» и думает, что они созданы для развлечения кругов, откуда Брейгель черпал темы своих изображений[125]. Подобное заключение так же ложно, как если бы мы думали, что Милле писал свои картины с изображением крестьян для деревенских жителей, или что Достоевский писал свои романы для бедных людей и преступников.
Никто, кто знаком со всем духовным развитием Нового времени, не сможет сомневаться в том, что жанровые картины Брейгеля не только по своим живописным качествам принадлежат к самому значительному и важному для будущего из всего, чем мы обязаны искусству XVI в. Они полны того же веселого, идейно смелого земного начала, которое было свойственно наиболее прогрессивным религиозным течениям эпохи и которое состояло в подавлении трансцендентного направления в теологии и в сочетании религии с «естественным» человечеством, не скованным никакими церковными исповеданиями и догмами. Здесь ведущая роль принадлежала нидерландским и английским писателям. «Решает человек, а не вероисповедания», — писал офортист, гуманист и политик Корнхерт, и когда в Амстердаме какой-то бедняга должен был быть осужден на смерть за то, что он считал Христа простым человеком, бургомистр Петер ван Хофт высказал мнение: «не годится ставить жизнь людей в зависимость от тонкостей ученых».
Подобный же поворот видим мы и во всех других областях духовной жизни: в науке, которая начинает сбрасывать последние цепи, мешающие ее самостоятельной идейной независимости, и в которой получали перевес природо- и человековедение; в правоведении, в основу которого было положено Боденом, Гроцием и другими понятие естественного права; в политических и социальных обстоятельствах, для новой фазы которых знаменательны, с одной стороны, основание Нидерландского союза, покоящегося не на отвлеченной идее, а на естественном развитии и общности интересов, с другой стороны — начало новейшего национализма во Франции, но прежде всего видим мы поворот в новом направлении искусства и литературы, во внимании художественного творчества к естественным процессам жизни.
Было уже указано на соответствие между народными сценами Брейгеля и Шекспира. При этом едва ли можно допустить здесь непосредственную связь, родственность между Брейгелем и Шекспиром покоится на новой великой линии развития, к которой принадлежали как великие писатели, так и ведущие художники второй половины XVI и начала XVII в. От Рабле и Брейгеля, с одной стороны, к Сервантесу, Шекспиру и Калло — с другой, происходило великое обоснование нового изобразительного и поэтического реализма, в основе которого лежало открытие и художественное использование жизненной правды, покоящейся на наблюдении фактической жизни народа, как физической, так и психической. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» изображение этой правды пародийно преувеличено и смешано еще с элементами старого стиля. Брейгель же придал ей полностью самостоятельное значение, причем он с гениальной смелостью сконцентрировал свое внимание в первую очередь на том сословии, в котором жизненная правда была выражена в наиболее чистом и наглядном виде. Сервантес, сознательно иронизируя, противопоставляет ее прежним идеалам; Шекспир делает ее пьедесталом великих характерных образов, развивающихся именно из нее, что резко контрастирует вневременным, стоящим по ту сторону действительности героям в духе и стиле Микеланджело, а Калло превращает эту жизненную правду в объективный материал критического, исходящего из альтруистических ощущений восприятия человеческого бытия в том виде, в каком оно впоследствии стало исходной точкой социальных доктрин эпохи Просвещения. Эта линия развития означает высшую точку художественного творчества к северу от Альп в эпоху маньеризма, и именно в ее духе крупнейшие художники и поэты рассматриваемого периода и дали выражение новому мировоззрению. Их произведениями создано новое искусство, которое, правда, было снова во многом оттеснено назад патетически героизирующим стилем XVII и XVIII в., но которое живет в качестве одной из важнейших составных частей во всем последующем искусстве нового времени. Оно налицо в отдельных художественных областях, в отдельных видах искусства и в скрытом виде повсюду, так что оно должно было овладеть всем искусством и должно было быть сочтено одним из важнейших факторов развития последующего периода, принципиально отличая его от предшествующих.
После этой попытки ввести искусство Брейгеля в рамки общего духовного развития мы можем вернуться к его произведениям.
Одновременно с новым восприятием жанрового содержания Брейгель также начал компоновать свои картины по-новому. Его ранние произведения в этом отношении едва ли содержали что-либо, что существенно отличало бы их от искусства его более прогрессивных современников.
Исходной точкой брейгелевских композиций было сложение возможно большего числа отдельных интересных мотивов, которые соединялись исходя из ренессансных правил, в некое объективно построенное образное единство. Пейзажные детали и фигуры соединяются Брейгелем в группы и включаются в пространственные планы, которые, с одной стороны, подчеркивают плоскость картины, с другой — подобно кулисам — уводят глаз перспективным расположением в глубину, что соответствовало традициям нормального противопоставления выреза пространства зрителю.
Этот композиционный прием Брейгель и дальше развил после итальянского путешествия. В произведениях, которые возникли вскоре после его возвращения с юга, — а иногда и позднее — изображение расчленяется ясно в стиле романизма. Массы противопоставляются массам, и в их разделении в плоскости и в пространстве господствует ритмический, уравнивающий силы порядок.
Наряду с этим снова все больше начинают буйно множиться детали, так что картины вызывают впечатление пестрой сутолоки. Они строятся как хроники, и почти со средневекового horror vacui[126] рисовальщик и живописец заполняют плоскости и пространства, не придавая значения какому-либо объективному построению композиции. Если отдельные фигуры, группы или части пейзажа представляются акцентированными сильнее, чем другие, то это происходит ради большей ясности содержания, а не по априорно-формальным причинам. Как правило, перевешивает нестесняемая суматоха, нагромождение единичных равнозначимых мотивов; художник хотел этим как будто выразить, что важны не отдельные люди, а вырез из общего, не то или другое событие, а широкая полнота жизни, которая прорывает и затопляет все границы и конструкции.
Это действие усиливается сильным движением фигур. Оно основано не на статуарных мотивах движения классического и итальянского искусства, не на замкнутых подвижных массах, а на бесконечной множественности жизненного поведения, отражение чего можно найти во всех частях картины. Нескончаемое число жизненных поступков, выхваченных как бы налету из ежедневного бытия человека, поставлены одно рядом с другим; мелькают характерные фигуры, особенность которых, однако, коренится не в их отношении к определенным формальным проблемам, а в их непосредственно увиденной жизненной правде, и сумма которых напоминает перенесенные в человеческие условия подвижность и живость муравейника.
Около конца 50-х гг. Брейгель начал иначе воспринимать свои картины. В главных произведениях этого времени(«Пословицы» в Берлине, «Битва масленицы с постом» и «Детские игры» в Вене) мы находим, что безудержная путаница предыдущих композиций заменена ясной, обозримой и единообразно воспринятой изобразительностью. Правда, Брейгель еще последовательней, чем раньше, избегает выделения особой индивидуальной значительности отдельных фигур. Так например, играющие дети распределены по сцене изображения равномерно, почти как узор ковра. Кажется, что мастер старался противопоставить искусно построенным итальянским композициям их величайшую противоположность, распыляя единство картины на одинаковые основные элементы.
Еще больше, чем в ранних картинах, бросается теперь в глаза отсутствие всякой централизованности. Равномерно, почти как шахматные фигуры, покрывают отдельные фигуры и группы сцену картины, будучи связаны между собой одинаковостью жизненного поведения и веселой, юношески подвижной игрой, которую можно было бы продолжить во все стороны.
При этом, однако, изображение естественной инстинктивной жизненности, которая дается в неограниченных примерах и обусловлена только общими предпосылками человеческого бытия, не является, как в прежних подобных изображениях, хаотическим нарушением границ любого художественного строя и не исчерпывает своего значения нагромождением повествовательных моментов. Несмотря на подвижные группы, общее впечатление изображения спокойно; над шумливой детской возней возвышается спокойствие пространственной сцены.
Эта сцена достойна большого внимания. Над нею господствует широкая плоскость почвы, в которую превращен передний план и которая образует театр изображаемых действий. Здания и перспективы боковых улиц обрамляют, не запирая ее, площадку, которую художник изобразил с находящейся вверху точки, так что мы можем ясно и отчетливо видеть все, что на ней происходит. Основным здесь является не распространение изображения по плоскости и не переход от мотива к мотиву в глубину в связи с перспективной конструкцией, а желание облегчить мгновенный охват ситуации, как это лучше всего сделать с высоты птичьего полета, к которой приближается изображение.
Приемы Брейгеля не были совершенно новы. Подымающаяся поверхность почвы, часто встречающаяся у предшественников Брейгеля, может считаться предварительной ступенью, равно как и обычай иллюстраторов делать яснее изображение сложных событий и мест путем перспективы сверху. Но то, что до тех пор было только компромиссом между обычным изображением пространства и широко раскинутым рассказом или же чисто техническим приемом, у Брейгеля превращается в самостоятельное, сознательно применяемое средство выражения художественного отношения к окружающему миру. Художник стоит над миром, но иначе, чем Микеланджело и его последователи, художественная мысль и воля которых подымались над будничной действительностью в самих изображаемых ими формах и предметах, в сверхчеловечности или идеальности тел, в объединении пластических форм в могучие апофеозы освобожденных и художественно укрощенных сил и энергий, в возвышенной жизни, в пафосе и драматическом конфликте физического и психического.
Брейгель, напротив, ставит перед нашими глазами жизнь так, как она есть, — как определенный отрезок неисчерпаемого, ускользающего от всех абстрактных норм многообразия, как если бы он действительно хотел показать ее зрителю на сцене.
Но одним впечатлением реальности у Брейгеля дело не ограничивается, как у более старых натуралистов, которые вполне подчинялись этой действительности, стараясь ею овладеть всецело путем изучения и тщательного подражания отдельным моментам явлений через эмпирические правила, вплоть до допускающих объективную проверку перспективных законов и анатомической точности. У Брейгеля же точка зрения сдвинута. Он — наблюдатель, перед глазами которого развертывается жизнь, воспринимаемая им как целостное единство. Речь идет не о том, чтобы противопоставить действительности художественно осознанный, идеализированный мир, и не об отдельных факторах явления действительности, а о новом понятии реальности всего человеческого существования так, как оно вскрывается наблюдающему и размышляющему уму. Ударение здесь на интуиции самого художника; он открывает как бы социальную жизнь в ее естественных жизненных отличительных чертах, силах и соответствиях; и организуя эти открытия, — пожалуй, не самые незначительные открытия великого века, — он поднимает художественно (поэтически и изобразительно) и себя, и зрителя до более высокой ступени жизненного сознания.
Это восприятие окружающего мира отражается также в пространственном изображении и в его отношении к художнику и зрителю. В натурализме XV в. художник и изображение были соподчинены друг другу, их связывало представление объективной закономерности, ясно воспринимаемое в художественном произведении. В новом идеализме итальянцев, поставившем произведение искусства над естественными обусловленностями, взгляд, связующий реальное со сверхреальным, все больше обращается ввысь. У Брейгеля же он направлен вниз с высокой башни субъективно-индуктивного восприятия жизни и жизненной мудрости, направлен на общность жизни, изображение и толкование которой сделались одною из главных задач северного искусства.
Брейгель создал всем этим композиционный принцип, который диаметрально противоположен второму великому субъективно направленному принципу XVI в. — принципу Микеланджело; в силу этого он и должен был принести другие плоды. Образное мышление Микеланджело отделяется от исторических и местных границ, его фигурные фантазии — всечеловечны и абсолютны «во времени и вечности». Брейгелевское же искусство рассказа, напротив, все больше обращается к временно и местно определенному, но обращается не ради натуралистических наблюдений или той или другой формальной проблемы, а потому, что сама человеческая жизнь в ее естественной обусловленности и многоразличности сделалась источником значимого для всех и художественно возвышающего.
Это относится не только к изображению общественных состояний, но и к передаче природы в ее связи с человеческим бытием.
Достойно внимания, что у Брейгеля, который как живописец видов ездил в Италию, пейзажные построения после его возвращения с юга играли вначале скорее малую роль. По временам он, правда, рисовал для своего издателя ландшафтные сцены, которые были построены так же патетически, как и возникшие в Италии, или же представляли объединение этюдов с натуры в повествовательное целое; но его гораздо больше занимали образные представления, центральной точкой которых было человеческое бытие. И только в конце 50-х годов, только тогда, когда Брейгель начал воспринимать проблему природных жизненных соответствий в ее глубокой значительности, когда он — в связи с этим переломом — чрезвычайно обогатился содержанием и новыми образными концепциями и вступил на те пути, которые должны были его привести к грандиозным созданиям позднего времени, к новой эпохе в художественном восприятии и изображении жизни, — только тогда пейзаж приобрел новый смысл для его творчества[127].
К числу великих новшеств, которым обязано искусство XVI столетию, относится также развитие пейзажного изображения и придание ему той значимости, которой оно обладало в последующий период развития европейской живописи, как ни в один предшествующий. Это развитие совершалось двумя путями.
Прежде всего оно выразилось в том, что пейзажная живопись стала особой областью живописи. Художественные предпосылки для этого лежали в итальянском Возрождении, новоантичный материальный антропоцентризм которого отводил пейзажу исключительно роль фона и кулис. Но искусство пространственного обрамления фигурных изображений сыграло свою роль в достижениях Ренессанса, в частности, в прогрессе объективной передачи природы и композиции, которая и самостоятельно развивалась дальше в так называемых «poesi». Когда затем Возрождение было воспринято на севере и внутренне раскололось, ландшафтные задние планы начали культивировать отдельно от фигурных изображений, как особый вид живописи. С одной стороны, этот жанр мог служить новым потребностям знания, благодаря его пригодности к передаче фактического материала, что было в эпоху Возрождения плодом сближения искусства с наукой; с другой стороны — в нем «большой стиль» итальянцев был перенесен в область изображения, которая для севера была не менее интересна, чем фигурные мотивы. Так возникла в период маньеризма собственная живопись «проспектов и ведут», — которая и вела Брейгеля в Италию, а также и композиционная пейзажная живопись, к которой он примкнул на юге и художественный смысл которой покоился на связи пейзажного изображения с целями и масштабами современного ему фигурного искусства. По содержанию эти «особые пейзажи» были его полярной противоположностью, художественно же — только его отражением без самостоятельного значения для более глубокого восприятия жизненных соответствий.
К этому, однако, присоединилось другое течение, начала которого могут быть прослежены в глубоком средневековье. Разница состоит здесь в восприятии отношения между изображением человека и природы. Правда, пейзажные мотивы в средневековом искусстве остаются на степени случайного комментария для придания наглядности вечным истинам и силам, но и в этом рудиментарном виде они представляются стоящими на уровне человеческого земного бытия. Для средневекового человека в них также отражается самостоятельно организующий дух провидения, и северное искусство осталось верным этому воззрению и тогда, когда ведущая роль перешла к решению натуралистических проблем. В нидерландской и немецкой живописи XV в. пейзажные изображения были не только дополнением фигурной композиции, но и независимым от нее источником художественного истолкования и значительности жизни. Вначале еще подчиняясь изображению людей и богов, они превращаются мало-помалу различными путями в стоящую выше их сцену земной жизни, которая может предоставить зрителю неисчерпаемую полноту наблюдений, впечатлений и ощущений.
Радость от богатства форм окружающего мира, от широких горизонтов, от атмосферных явлений постоянно растет и приводит к тому, что около конца XV — начала XVI в. почти одновременно нидерландцы, немцы и родственные им по духу венецианцы вводят в живопись поэтическую красоту пейзажного построения и настроения в качестве самостоятельного, ведущего содержания изобразительности; в него включается также и изображение фигур. Но в то время как в Венеции фигурная композиция вскоре затем снова получила главенствующую роль, на севере и особенно в Нидерландах рядом с ренессансными фигурными изображениями продолжает развиваться пейзаж. Не только своим определенным поэтическим содержанием, — как у Гертгена, Джорджоне или Альтдорфера, — но и принципиально, — как исходная точка понимания, как масштаб измерения величин, как объединяющее понятие вселенной, охватывающей природу и человека, — пейзаж у Патинира, Яна Мостарта или у Брауншвейгского монограммиста стоит выше фигурного искусства, задачи которого потеряли свою ведущую роль, выше судеб и поступков людей, которые становятся стаффажем, и выше курьезных происшествий, превратившихся во второстепенные детали больших панорам земли и людей.
К этому течению в области пейзажной живописи и примкнул Брейгель, когда ему открылась его новая миссия в искусстве — изображение естественных жизненных взаимосвязей. Сценическое построение «Детских игр» и «Борьбы масленицы с постом», или широкое пространство «Несения креста» 1564 г., которые смыкают разбросанные фигуры в целостное единство, ясно свидетельствуют о влиянии Брауншвейгского монограммиста.
Но и здесь Брейгель противопоставляет нечто новое своим предшественникам.
У них отношение между пейзажем и фигурным изображением изменилось в пользу пейзажа. Человеческая жизнь растворилась в обстановке, но разрыв между ними остался в силе. У Брейгеля же он исчезает совсем: жизнь и природа для него идентичны. Это чувствуется уже в только что названных картинах, но еще больше в произведениях последующего времени. Можно было создать нормы для стремления изобразить широкую картину мира или интимную красоту тихого земного уголка, но новое толкование Брейгеля было настолько же богато проблемами и возможностями, как и сама жизнь. Так мастер не ограничивается больше рассыпанием жизни по матери-земле, и она для него — больше, чем пестрая арена его игры: она скрывает силы, по сравнению с которыми люди представляются несчастными червяками. В «Битве между израильтянами и филистимлянами» 1562 г. сражающиеся войска покрывают горную долину, как густой, ползущий по земле рой саранчи, вытекая из горных ущелий или взбираясь по горным склонам. Единичные лица выделяются из этой бесформенной массы, но вся историческая катастрофа — ничто, движение пыли перед лицом неподвижного величия гор и лесов, в которые «втиснута» жизненная буря и о которые она разбивается.
Чтобы изобразить нечто подобное, было уже недостаточно далекой, все уравнивающей перспективы сверху, так как пейзаж в качестве интегрирующего элемента изображенного жизненного единства должен был быть представлен так, как того требовало его особое содержание. Впечатления путешествия через Альпы, воспоминания о входящих в облака великанах гор с их узкими проходами, в которых странник осознает свое ничтожество, и вместе с тем с их пронизанными солнцем видами оживают здесь снова; и оживают не как пейзажный курьез, а как отражение сил природы, которые должны предстать перед сознанием зрителя во всей их полной мощности. Пейзаж становится фантастическим, как привидение, как в «Безумной Грете» 1564 г. или в только немного более позднем «Триумфе смерти», позволяющем узнать новые влияния живописца бедствий Босха. Эти влияния не преобладают, однако, в искусстве Брейгеля, а являются только одним из элементов фантазии рядом с другим элементом, получающим слово там, где должно быть представлено грозящее и Жуткое событие. Натуралистическая верность, как выражение тесной связи людей с их повседневным окружением и с родной почвой, со своей стороны, господствует в жанровых картинах, и там, где надо подчеркнуть растворение людей в природе, над всем распространяются идиллические пейзажные настроения. Все то, что было подготовлено в различных направлениях и категориях, собирается в одном большом художнике, который занял новую позицию в вопросах бытия, который творил уже больше не ради новых форм восприятия, а ради новой, всеобъемлющей жизненной интенсивности изображения. Даже безжизненные вещи кажутся здесь оживающими. Как чудесна в этом отношении серия с изображениями кораблей дальнего плавания, из которых одно имеет дату 1564 г.! Данные вместе с бесконечными просторами неба и моря, но так, что они не растворяются в ней, они похожи (полны жизненных энергий и тем самым способны к самоутверждению в великой природе) не на мертвые орудия, как их изобразил со всей технической точностью Леонардо, или на иллюстративный реквизит, как в нидерландских маринах предшествующей эпохи, а на живые существа, на соучастников в жизненной борьбе, на индивидуальные организмы. Их красота и своеобразное величие покоятся не на физической и психической абстракции, как у идеальных фигур Микеланджело, северными антиподами которых они являются, а на жизненном назначении и функции.
Высшей точкой этого нового открытия пейзажа в первой половине 60-х годов являются, однако, картины «месяцев» 1565 г. Знаменательно, что Брейгеля тогда привлекала идея круговорота природы и его отношения к человеческой жизни, старая идея Средних веков, в XV в. опустившаяся до степени банального иллюстрационного клише. Брейгель строит на основе этой идеи также и «Времена года». В Средние века перед этой идеей должны были отступить античные олицетворения: единственный вечный бог стоит над временами, которые постоянно меняются и проходят, но у Брейгеля это становление и исчезновение — не символ ничтожества и преходящести всего земного, а основное понятие жизни и всемогущества природы, которая только и является жизнью. Никогда раньше во всем развитии искусства не было так глубоко воспринята и так убедительно изображена неразделимость всего природного бытия. Меланхолия умирающей природы и бурные признаки ее воскресения, тихая уютность зимы и изобильное плодородие времени жатвы, атмосферные явления, тонкий бледный воздух зимой, и тяжелый, пресыщенный светом летом, поэзия вечера, формация почвы, горы и долины, луга и дороги, растительность, тихая деревня и люди, которые там живут, их повседневная работа, радость и горе — все это одно, это природа, движение, процесс жизни. Это брейгелевское рассмотрение природы возникло в конечном счете из того же воззрения на жизнь, на котором покоилась и его новая жанровая живопись, видевшая в человеке продукт природы, почвы, на которой он живет, и особых культурных взаимоотношений. Но ничто так ясно не свидетельствует о величии художника, как та смелость, с которой он (совершая на протяжении нескольких лет большую эволюцию) делает — от картины к картине — новые выводы из нового видения.
Это особенно ясно в дальнейшем развитии композиции. Уравнительная перспектива сверху, субъективно отодвинутая от изображенных картин жизни, взор с галереи жизни на отделенное пространством, раскрывающееся внизу зрелище не могли удовлетворять, когда дело шло о том, чтобы пережить воздействия силы природы на людей. Зритель также должен был находиться под гипнозом этих воздействий, почему Брейгель и помещает в это время свою точку изображения в самый пейзаж, — не глубоко под линией горизонта, как в юношеских работах, но выше, так, что надо смотреть вниз, в долины, а также и вверх, на горы. С другой стороны, Брейгель отменяет границу переднего плана, фигуры переходят ее, и вся композиция представляется, как, например, в «Лете» или «Жатве», продолжающейся в сторону зрителя, который таким путем непосредственно втягивается в изображенную ситуацию. Вместе с тем изменилась у Брейгеля и внутренняя структура пейзажной композиции. На место спокойно безразличных плоскостей или картографических обзоров без границ и без объединяющего членения встает концентрированное продуманное построение. То, что иногда жизнь строится эпически широко, как широкая река, а затем проходит в горячей борьбе или в ограниченной временем динамике, что природа оказывается теснейшим образом связана с этим — все это выражается в пейзажной композиции: в гармонически-горизонтально расположенных линиях и террасах почвы, в подвижных диагоналях, в клинообразном взаимопроникновении масс, в различных комбинациях всех этих приемов изображения. Они снова вводят Брейгеля в рамки искусственно концентрированной композиции, центром распространения которой была тогда Италия, и это, может быть, было причиной, почему он сызнова теснее примкнул к итальянскому искусству.
В фигурном искусстве, к которому нам надо сейчас снова вернуться, мы имеем монументальный памятник этой второй итальянизации. Это — «Поклонение волхвов» 1564 г., в котором до нас дошел ключ к последней, наиболее замечательной и важной фазе искусства Брейгеля.
Эта картина, на первый взгляд, резко противоречит предшествующему творчеству Брейгеля.
В отдельных фигурах он примыкает к старой традиции теснее, чем мы бы могли ожидать от него в это время. Великолепный негритянский король, например, восходит к Босху, некоторые черты напоминают Луку Лейденского, тогда как мадонна в ее статуарной тяжести и замкнутости позволяет узнать влияние итальянских образцов. Это влияние не ограничивается одной фигурой. Несмотря на натуралистическую характеристику отдельных фигур, картина компонована по-итальянски. Фигурное начало здесь на первом плане, и вместо растворения в пейзаже дана тесная группировка. С этим связан и редкий для Брейгеля вертикальный формат, благодаря чему бросаются в глаза подчеркивания всех вертикалей. Действие развернуто здесь не эпически, а дано в концентрированном виде, и его главные носители ясно отделены от всего, что должно действовать только как стаффаж. Своими пропорциями они доминируют над изображением, и каждый из них выявлен индивидуально, так что с реалистическим действием соединено и монументальное.
Все это не слишком бы удивило нас, если бы Брейгель исходил от этого в своей молодости или после своего итальянского путешествия; подчеркнутые особенности вполне соответствуют тому, в чем многие романисты первой половины столетия примкнули к итальянскому искусству. При ближайшем рассмотрении это совпадение оказывается, однако, только кажущимся. На деле речь идет не о прежних общих связях с итальянским искусством, а о новой позиции Брейгеля по отношению к нему, позиции, которая находится в органическом соответствии с его индивидуальным развитием. В написанном также в 1564 г. «Несении креста» сразу же бросается в глаза группа страдающей Богоматери, которая выделена из массы, свободно расположенной по широкому плато, — величиною фигур и еще более замкнутой пирамидальной композицией. Группа эта очевидно должна была быть подчеркнута как содержательный центр; с другой же стороны, надо было обратить внимание на влияние общего события на определенных героев изображения, помещенного художником посередине своей живописной поэмы. А это самым тесным образом соприкасалось с итальянским восприятием картинного изображения, и таким путем Брейгель попробовал (поддаваясь новым импульсам) в «Поклонении волхвов» скомпоновать хоть раз картину совсем в итальянском духе.
Сделал он это не для того, чтобы примкнуть к тому или иному прообразу — поиски таких образцов были бы тщетны, — а для того, чтобы усвоить самое существенное из итальянских композиционных приемов и достижений и связать их со своим искусством.
В первую очередь это было расположение фигур в пространстве. В его основе лежит система пространственных диагоналей, как ее в итальянском искусстве впервые ввел Корреджо и как она с тех пор — в противовес рельефному построению по планам — завоевывала все больше места и в XVII в. совсем вытеснила прежний прием построения композиции. Главная диагональ ведет в картине Брейгеля от фигуры коленопреклоненного волхва через мадонну к Иосифу, с нею в фигуре Марии пересекается вторая диагональ, которая связывает черного короля с лучником налево вверху. Одновременно главные фигуры образуют круг, центром которого является Мария: т. е. возникает расположение, заполняющее пространство телами и свободным движением так, что это пространство воспринимается не путем вспомогательных конструкций и намеков и не как промежуточный вырез, а становится непосредственно доступным чувствам во всех своих частях и во всем своем пространственном объеме. Все фигуры представляются свободно-пространственными телами, данными не во взаимоотношении с какой-либо воображаемой плоскостью, а в свободном пространственном окружении.
Можно ли придать фигурам монументальное впечатление без того, чтобы от этого не пострадали пространственная связь и иллюзия убедительно показанного куска вселенной? Это было одною из важнейших композиционных проблем итальянского искусства в XVI в., решение которой не менее резко отделяет создания последующих двух столетий от созданий Ренессанса, чем в свою очередь система линейной перспективной конструкции отличает Ренессанс от Средних веков. Итальянское искусство добивалось этого решения двумя путями: первый отталкивался от пластической формы и группы, которую он развивал в свободное построение, вытесняющее пространство равномерно во все стороны; другой путь шел в сторону построения композиции на впечатлениях движения, преодолевающих статическую связанность и плоскостную раздельность, на впечатлениях, как бы непосредственно проникающих от зрителя в глубь пространства. По первому пути шла главным образом флорентийско-римская живопись, школа Рафаэля и Микеланджело; второй путь избрали в Верхней Италии, где он — связанный с применением освещения для повышения иллюзии движения в пространстве — ведет к алтарным картинам и небесным плафонам Корреджо, к нему относится и многое из того, что отделяет Тинторетто от его венецианских предшественников. Оба направления мало-помалу объединились (впрочем, они никогда не были резко разграничены), и комбинацию их дает нам как раз картина Брейгеля, на которую в этом отношении можно смотреть как на отражение определенных композиционных стремлений и новшеств современного итальянского искусства.
И все-таки картина Брейгеля действует совершенно как неитальянская, что главным образом покоится на неитальянском восприятии изображенных событий. Зрители, которых соединило диковинное происшествие, — больше, чем простой стаффаж, больше, чем только второстепенное само по себе дополнение воображаемой и формальной замкнутости, герои которой стоят по ту сторону будничных жизненных дел; зрители эти скорее являются обрамлением и полем резонанса для того, что происходит в их середине. Это обрамление можно мысленно расширить, и по мере того, как мы это пробуем, исчезает граница между идеально и формально изолированным построением и его природным окружением; и прежний Брейгель, — искусство которого состояло в наглядной жизненной передаче народных сцен, — снова встает перед нами. Мадонна, итальянская в своей статуарности, превращается в фламандскую крестьянку; волхвы становятся как бы портретами экзотически наряженных участников процессии «трех королей» во время рождественских праздников; Иосиф и внешне, и внутренне приближается к зрителям, один из которых, кажется, что-то с любопытством спрашивает или шепчет ему шутку на ухо. Пастухи, подчеркнуто данные именно как пастухи (что было обычным в такого рода сценах), здесь отсутствуют; отсутствует также и нарядный кортеж волхвов. Буколические и романтические элементы почти совсем исчезают у Брейгеля. Несколько характерных народных типов — какой-нибудь дворянин или купец, лучник, два горожанина, два воина и два крестьянина или ремесленника — образуют круг около поклонения, а сзади его теснится у узкого входа военный эскорт волхвов, причем это не элегантные всадники, а вооруженный простой народ, «вырез» из массы, связанный с остальными фигурами тою же степенью непосредственной жизненной правды и единообразия ощущений.
Изображение психических состояний составляет, может быть, наиболее ярко бросающуюся в глаза особенность картины Брейгеля. Основной тон здесь задает плоское, глупо оцепеневшее удивление. Но к глазению присоединяется более высокое чувство — застенчивая торжественность, полубессознательная набожность, выражающиеся скорее в неловком стоянии и в отказе от привычной шумливости, нежели в жестах и сильных ощущениях; подобным образом ведет себя, например, народ на воскресном богослужении. Эти переживания массы воздействуют в различной, правда, степени и на трех волхвов, которые кажутся выразителями массы. Волхвам совершенно чужды всякий пафос, всякая героическая поза и субъективная театральность. Их поклонение тяжеловесно и неловко, как это и свойственно деревенским служителям культа; можно было бы над этим посмеяться, если бы как раз в такой грубоватой примитивности не содержалась правда и убедительность.
А таковы именно знаки их почтения Богоматери: деревянный поклон, конфузливое опускание глаз, движения рук, которые, конечно, нельзя назвать грациозными. Но эта неуклюжая деревенская церемония полна захватывающей поэтичности и настроения.
Однако не только верность жизни и истинность, но и многое другое играет известную роль в картине Брейгеля. Таковы, например, краски: есть что-то «чужестранное» и в светящихся костюмах волхвов, диковинное — в нежных, как бы сверхземных тонах, которыми написана Мария и, прежде всего, ребенок Иисус. Это не маленький герой, как у итальянцев, но уже и не маленький человеческий червячок, как у старых нидерландцев. Замкнутый, как бутон, и еще бессильный, лежит он на коленях мадонны, он — надежда человечества на будущее и поэтический центр изображения, от которого распространяется благоговейное смирение, пронизывающее всех присутствующих.
Обобщая, можно сказать, что в «Поклонении волхвов» 1564 г. господствует тот же художественный дух, как и в крестьянских картинах мастера. Дело не в том, что фигуры восприняты жанрово. Это не было бы ничем новым для Нидерландов и не вполне отсутствует даже в искусстве итальянского чинквеченто. Но новым является способ, которым библейский рассказ развит из действительной душевной жизни простых людей.
Здесь Брейгель ближе всего соприкасается с Дюрером, но не только догоняет его, а принципиально идет дальше, чем он. У Дюрера, как и у большинства художников его и предшествующего поколений, речь шла об изображении более или менее индивидуальных психических состояний, тихого счастья скромной ремесленной семьи, внутреннего спокойствия людей, отвернувшихся от мира, или радостей и горя материнской любви, или трагедии самопожертвования за человечество, причем общечеловеческое было априорно данным и только заново иллюстрировалось верными жизни примерами, особенно пригодными для его углубления.
Брейгель же не ограничился такого рода отдельными чертами, но первый построил духовное событие рассказа на том, что мы привыкли обозначать как «народную душу», т. е. на фактах, характерных для духовной жизни широких народных масс. Таким образом, и «Поклонение волхвов» (как и предшествующие произведения Брейгеля), является поэтической культурной картиной в новом значении слова, и разница состоит только в том, что прежние развернутые диорамные композиции заменены были новыми, более сконцентрированными по содержанию и форме. Для усиления последней Брейгель приблизился к итальянской объективно построенной и монументальной композиции, но не с тем, чтобы повторять ее, а чтобы подчинить ее своим художественным целям.
Плодом гениального эксперимента был поздний стиль Брейгеля. Знаменательным для него является новая форма жанровой живописи, решающее значение которой должно стать для нас ясным, когда мы представим себе ее на ярких примерах.
Возьмем картину «Калеки» в Лувре. Множество разнообразных, только внешне связанных сцен и фигур заменено здесь единственной группой. В этой ограниченности можно было бы предполагать возвращение к более старым жанровым изображениям с немногими, как бы репрезентативными фигурами, что было обычным, особенно у голландцев, от Луки Лейденского до Питера Артсена, с произведениями которых картина Брейгеля соприкасается и в изображении пространства. Здесь нет никакой широкой сцены, а лишь незначительно превосходящий массы фигур вырез из их пространственного окружения. Точно так же и сильное затенение пространства напоминает ранние образцы.
Как некогда к Босху, Брейгель через пятнадцать лет обратился к таким произведениям своих «голландских предшественников», с которыми соприкоснулось его новое стремление к предметно концентрированному изображению. Собственно сущность изображения, конечно, полностью изменилась и не находится ни в какой связи с его голландскими предшественниками. Эту странную группу увечных можно было бы счесть за пародию итальянской пирамидальной композиции, но эта пародия метит только в героически идеализированные фигуры, а не в формальные функции подобных построений, которые заключались в Италии в переводе пространства на язык объемных ценностей. И Брейгель преследует эту формальную цель, тогда как применение принципа снова оказывается у него неитальянским.
Рассматриваемая группа не является синтезом игры сил, развитой до степени идеального завершения и выразительности. Возможно, что Брейгеля соблазнила мысль показать в гротескном подчеркивании непрочность механики, на которой покоились те идеалы, и, если рассматривать людей как целое, выразить более сильную, почти растительную привязанность к почве. Кажется, что в каком-то одиноком углу из сырой земли выросла семья ядовитых грибов.
Этой биологической переоценке соответствует также изображение фигур. Ранний стиль Брейгеля обозначали как линеарный. Это выражение неточно, но его достаточно, чтобы наметить контраст с позднейшими произведениями, в которых наиболее важною является передача телесного, но не в том смысле, как это понимали итальянцы, которые аналитически разлагали формы и в этом расчленении доводили их до степени пластической и тектонической значительности. Брейгель стягивает формы до замыкающих кубические построения плоскостей. Даже физиогномический интерес должен был уступить место интересу к замкнутой объемности. Только у двух калек ясно видны лица. А на несколько раньше возникшем рисунке «Пчеловод» герои изображения кажутся в своих предохранительных масках бесформенными колодами на фоне пейзажа.
Ново также содержание движения фигурной пирамиды. У итальянцев оно было центростремительно, у Брейгеля оно центробежно. Итальянцы, выстраивая композицию, включали фигуры в стереометрическую общую форму и замыкали их в ней, чтобы изолировать их от окружающего мира. У Брейгеля фигуры стремятся наружу из временного построения; они намереваются, как улитки, расползтись в разных направлениях, чтобы попасть на свои места из места тайных собраний. Акцент при этом не лежит, как у итальянцев, на движении тел, на легком преодолении статических сил живым телесным организмом, а на движении в пространстве. Мы узнаем о направлениях, по которым будут в дальнейшем двигаться чудовищные телесные обрубки, и по радиальным осям ожидаемого движения пространственное поле фигур расходится в нашем представлении во все стороны изображенного отрезка пространства. Это в полном смысле слова вырез из великой пространственной и жизненной общности, как ее Брейгель раньше изображал в своих, похожих на детские, картинах и которая здесь без того, чтобы мы ее видели, в нашей фантазии все-таки неразрывно связана с изображением бедных пасынков судьбы.
Рассмотрим теперь картину «Слепые» в Неаполе. Брейгель долго занимался этой темой, введенной в нидерландскую живопись еще Босхом. В предварительных этюдах к картине заключено, пожалуй, объяснение того, что в «готически» подвижных одеждах обеих средних фигур звучит более старый стиль, что, конечно, могло бы также иметь значение и в связи со всем замыслом картины. Как уже указал Ромдаль[128], впечатление от замечательного произведения проистекает главным образов из противоположности мирного пейзажа и трагической, неумолимой линии процессии слепых. Пейзаж, как опять-таки уже было замечено, выдает итальянское влияние, и при этом образцы следует искать не в современном итальянском искусстве, а в венецианских картинах второго и третьего десятилетий чинквеченто. В «Любви небесной и земной» Тициана и родственных ей картинах находим мы подобное же спокойствие линий, подобное идиллическо-поэтическое настроение.
Но ренессансное «спокойное бытие» связывается в картине с барочной диагональю! В наброске 1562 г. ее еще не было. Там слепые идут по широкой улице, которая в основном расположена параллельно к горизонтали ландшафта заднего плана. Такое простое расположение и жанрово предметное показывание уже не удовлетворяли Брейгеля в его последний творческий период; и оно должно было уступить место диагональной композиции, которую художник заимствовал у итальянцев уже в «Поклонении волхвов». Но в «Слепых» она уже не только вспомогательное средство нового построения пространства, как в картине 1564 г. и ее предтечах. Опускающаяся плотина насильственно перерезает неподвижные горизонтали пейзажа, отчего возникает контрастное столкновение. В противовес тишине деревенской идиллии плотина означает пространственное движение, начало и конец которого мы только подозреваем, но не можем обозреть. Мы воспринимаем только направление движения: оно идет над сельским микрокосмом, разрывает его границы и противится прежним приемам строить пространство картины плоскими планами. Это косое движение не указывает глазу зрителя пути к задуманному где-либо выше формальному и сюжетному центру, как у Корреджо и его последователей: оно представляет только направление, только движение в пространстве, над которым находится зритель и оно ведет вниз от нормального уровня жизни.
Все это было бы менее ясно, если бы потрясающая процессия слепых не находилась в полном соответствии с этим напряжением пространственного построения. Только благодаря этому нашему сознанию становится вполне ясно ее драматическое содержание. С возвышения, которое подчеркнуто острыми крышами двух крестьянских домов в верхнем левом углу картины, спускаются по плотине слепые. Последние из них движутся еще в привычном темпе, вертикально, медленно, шаг за шагом, как автоматы. Они еще не знают, что случилось впереди. Плотина делает поворот, вожак этого не замечает и падает через откос в углубление, которое в правом нижнем углу образует контрапост подымающимся крышам домов в левом углу. Между этими двумя полюсамии развертывается теперь трагическая судьба. Слепые, связанные друг с другом руками, положенными на плечи, и шестами, образуют цепь, которая внезапно, благодаря тому, что вожак оступился, натягивается с большою силою. Следствием является жуткое, быстрое нарастание падающего движения. Обе средние фигуры уже готовы упасть, и механическое шагание вперед превращается у них в неуверенное спотыкание; слепой сзади вожака падает, а там, дальше, пропасть поглощает уже и вожака. В соответствии с этим наблюдается превращение фигурного мотива от прочного, как глыба, стояния к податливому сдаванию и, наконец, к массе, статически и органически не контролируемой; начиная с управляемого или полууправляемого тела вплоть до катящегося камня, или, в духовном выражении, «в этих жутко индивидуализированных удивительных головах, — как говорит Ромдаль, — видно ступенчатое нарастание страха», и все это делается еще более страшным и захватывающим в связи с тупой безвыразительностью, свойственной слепым.
Так строится на подвижном контрапостном действии барочной пространственной диагонали грандиозная по трагизму тема. Подобно тому, как композиционная диагональ резко и словно безжалостно противопоставлена красивому течению линий и гармоническому распределению масс в пейзаже, так, с другой стороны, безмятежность и неподвижный покой этого пейзажа резко контрастируют с разыгрывающейся на его фоне катастрофой. Кроме охваченных ею, нигде не видно ни одного человека, — только корова спокойно пасется на берегу пруда, в который падают слепые. Природа безучастна и даже покажись она теснее связанной с индивидуальной человеческой судьбой, то это слияние лишь однократно; судьба человека — ничто в сравнении с всеобщностью природы и ее непреложными законами. Гибель слепых — чередование моментов вторжения природы в индивидуальную судьбу, моментов, следующих друг за другом так быстро, что художник мог изобразить их как одно страшное мгновение, однако природа непреходяща и она пребывает по ту сторону от человеческих масштабов, с которыми связано жалкое человеческое существование.
Фигуры старой притчи приобретают у художника всеобщую глубокую человеческую значительность. «У Брейгеля они подняты до степени общезначимости для всех времен и поколений, мы чувствуем себя сами перед его картиной как звенья этой мрачной цепи слепых, ведущих друг друга на погибель, в неумолимой солидарности судьбы», — говорит Ромдаль, который сравнивает — со стороны полнейшей законченности в овладении темой — картину Брейгеля с «Тайной вечерей» Леонардо.
Ближе было бы сравнение «Слепых» со «Страшным судом» Микеланджело. В основе обеих вещей лежит толкование глубочайших вопросов бытия, в обеих силы, стоящие выше индивидуальной судьбы, сосредоточены в фокусе ужасающего события, в основе обеих лежит личное исповедание, одновременно представляющее высочайшее выражение художественных, духовных и этических идеалов времени. Но там пути расходятся. Духовный мир Микеланджело отдален от реальной жизни. Герои его «Страшного суда» — сверхлюди, в которых физические и духовные энергии представляются развитыми до титанических потенций. Это — подобные богам люди, однако же и они — ничто в сравнении с неземными, трансцендентными силами, поставившими вне зависимости от времени и пространства непреодолимые границы борьбе людей. Это — трагедия человеческого рода sub specie aeternitatis[129]. Это — эсхатологическое видение, вневременное и явленное в бесконечности универсума, по ту сторону любой земной детерминированной ситуации; телесность развита до степени высшей художественной силы, однако в молниеносном метафизическом протекании, в сферической бесконечности природного закона это видение преобразуется в исходящее как бы из другого мира откровение.
Брейгель же изображает маленький, потрясающий, но по своему значению повседневный эпизод. Где-то несколько бедных слепых сделалось жертвами несчастного случая. Никто не обратит на это внимания, вряд ли даже, что один или другой их родственник прольет по ним слезу; жизнь в природе и жизнь людей идет своим чередом дальше, как будто только лист упал с дерева. Но в том-то и заключается новое, что такой незначительный факт, с такими незначительными героями поставлен в центр мировосприятия. То, что кажется случаем, единичным, временно и местно ограниченным, то, что представляется исторически незначительным событием, воплощает судьбу, которой никто не может избежать и которой человечество в своей всеобщности слепо подчинено. Вечные незыблемые законы и силы природы и жизни господствуют над волей, страданием и ощущением; они безжалостно определяют жизнь отдельного человека, и там, где мы думаем вести, нас, оказывается, ведет скрытое для нашего понимания назначение, словно незрячих в пропасть. Это выраженное в картине мироощущение соответствовало одному из основных учений стоицизма, принадлежавшего к числу важнейших элементов мировоззрения северного маньеризма, и, таким образом, темы, занимавшие после Монтеня все выдающиеся умы, оказываются увековеченными в «Слепых» с непреходящей образной силой.
Сюда присоединяется еще другое обстоятельство. Не только в «Слепых», но и в других своих картинах Брейгель делает воплощением человечества беднейших из бедных. Конечно, неслучайно, что художник изображал калек, эпилептиков, дурачков, слепых и необразованных крестьян. «Красота простых душ» — старое наследство христианства — стала, без средневековых трансцендентных связей, на место классического геройства и привела к тому социально-эстетическому и альтруистически-реалистическому изображению человека, которое через три столетия должно было достичь своей вершины в «Идиоте» Достоевского.
При этом было бы, однако, совершенно неверно, если бы мы стали смотреть на картины Брейгеля только как на «нарисованную литературу» или класть в основу его изображений ту или иную идеологическую систему. Не из философских догм, а из всего духа своего времени и своего народа, из направлений мысли и чувства, на которых сознательно или бессознательно самые благородные и самые глубокие между его современниками построили новое восприятие Жизни, проистекала и его жизненная мудрость, причем он был не только получающим, но и дающим. Если художественная форма (в чем нельзя сомневаться) является воплощением нашего духовного отношения к окружающему миру, то и работа над ее развитием, — что особенно ясно для нас у великих художников, — означает непосредственное сотрудничество над новым осознанием мира. Иногда это сотрудничество завуалировано, но затем оно внезапно ясно проявляется, чтобы позднее снова уступить место чисто формальным проблемам. Так это было и у Брейгеля.
Переходим к «Крестьянской свадьбе» и «Деревенскому празднику», находящимся в Вене. Картины эти не датированы, однако они могут относиться только к концу развития Брейгеля. Они не изображают никаких заставляющих размышлять событий, а дают хотя и праздничные, но в остальном вполне банальные сцены из крестьянской жизни. Ударение в этих картинах ставится на «как».
В «Крестьянской свадьбе» Брейгель взял за основу новую композиционную концентрацию внутреннего пространства. Множество свадебных гостей собралось в сенях, и другие стремятся туда же. В архитектоническом ограничении перед нашими глазами разворачивается картина пестрой толпы, богатой по своему многообразию и все-таки наглядно расчлененной. Другая линия развития, чем та, которая рассмотрена на примере двух вышеописанных картин, ведет сюда от «Поклонения волхвов» 1564 г. и итальянского искусства. Если в тех двух картинах Брейгеля отношения покоились (в наиболее существенном) на построении пространства и групп, то в «Крестьянской свадьбе» к этому присоединился еще новый род богатой фигурной композиции.
Она соответствует ставшему около середины столетия популярным в Италии глубинному расположению изображений «Тайной вечери» и «Брака в Кане», лучший пример которых дает возникшая до «Крестьянской свадьбы» Брейгеля картина Тинторетто 1561 г. в церкви Санта Мария делла Салюте. Совпадение так бросается в глаза, что можно было бы предположить, что Брейгель видел репродукцию или копию картины. В высшей степени поучительно, однако, как Брейгель изменял этот или другой подобный образец.
Пространственная замкнутость изображения, которая у Тинторетто лишь несколько освобождена, у Брейгеля исчезает почти совсем. Венецианец представляет пространство так, что мы ясно можем обозреть форму, размеры и границы зала. Брейгель, напротив, удовлетворился частичным видом, так что мы только предполагаем, но не можем обозреть общую форму изображенного внутреннего пространства. Перспективная конструкция, т. е. формальное средство определенной глубинности, у Тинторетто подчеркнута чрезвычайно сильно. Даже оба ряда фигур участников пиршества, сокращающиеся, как и балки потолка над ними, под углом к картинной плоскости, представляются частью конструктивной системы, так что можно было бы думать, что она стала самоцелью. Только при более подробном рассмотрении замечаешь, что она должна служить духовному содержанию изображения. Перспективные линии сходятся точно над головою Христа и превращают его таким образом в центральную точку всего изображения. Двумя путями сцена пира оказывается подчиненной, — несмотря на видимую свободу изображения, — крепкому и ограниченному в себе порядку: пространством, внутри которого все происходит, и художественным центром, художественной доминантой, которая является в то же время и духовной, и к которой все стекается. У Брейгеля господствует совсем другой принцип. Перспективная конструкция здесь только вспомогательное средство без самостоятельного художественного значения и оттенения: оба ряда сидящих пересекают ее уводящие в глубину линии; вместе с третьей линией фигур они образуют клин, острие которого достигает двери комнаты, связывая сцену внутри с действием снаружи помещения. В этом заключается дальнейшее средство снять замкнутость изображения. С ним соединена вся жизнь деревни, которая врывается, образовав запруду у входа, в праздничное помещение. Однако новобрачная, главное лицо праздника, не в центре этого движения, а как бы на его берегу: ее надо искать, а жениха и вообще нельзя найти, так что подлинные герои события не господствуют над изображением, как это само собой разумеется в Италии, а представляют только внешний «предлог» образного замысла, собственной целью которого является изображение народной жизни. Но последняя воплощена не в неправильно рассыпанной однородной массе, подобно картинам до «Поклонения волхвов» 1564 г., а дана в духе итальянцев, художественно дисциплинированно, связанная распорядком, который противопоставляет свободно рассыпающемуся впечатлению от действительности сложный синтез и сложное усиление ее. Содержание картин во всяком случае раскрыто совсем по-иному, чем у итальянцев. С художественной принудительностью поставлены здесь перед глазами зрителя не замкнутые сами в себе формальные построения, а вырез из жизни в собственном значении слова, и вырез не только как нечто особенно характерное, но как возведенную композиционным искусством до степени предельно концентрированного действия pars pro toto[130]. В сцене пира, изображенной с упорядочивающей осмысленностью, побеждают в конце концов все же элементарная вольность и разрывающая все путы сила естественного человеческого существования.
И из его глубины возникают новые, главные фигуры, не совпадающие с главными фигурами сюжета: например, оба крестьянина, которые сняли дверь с петель и на этом импровизированном подносе тащат кушанья; парень, наливающий вино, и волынщики — фигуры, которые делают наглядными «массивные» наслаждения деревенских жителей и которые вместе с тем являются типами новой реальности; она так же далека от норм телесной красоты античности и ее итальянских наследников, как и от духовной идеализации готики, бывшей отражением спиритуалистического мировоззрения.
Еще яснее такие типы встают перед нами в фигурах «Деревенского праздника», наиболее остро выраженные в танцующих. Если искать аналогий этим фигурам, которые неуклюже и тяжело и в то же время страстно и полно отдаются танцу, которые кажутся самым крайним отрицанием классического понимания грации в ее античных, готических и гуманистических превращениях, то невольно думаешь о «Танцующих крестьянах» Дюрера. Брейгель, должно быть, знал этот лист. Но как велика разница в восприятии и в значении изображения! У Дюрера дело шло об отдельном натуралистическом мотиве, в котором полнота наблюдения природы сочеталась с гротескными фигурами; кажется, что они были нарисованы для альбома, в котором нашли бы себе место также удивительные этюды зверей и растений или пейзажи Дюрера. У Брейгеля верность передачи природы не является главной целью изображения. Ударение лежит не на отдельном наблюдении, а на общем действии фигур, на убеждающей силе упрощенных линий и плоскостей и на целостном, захватывающем впечатлении движения. Mutatis mutandis[131] можно признать, что между Брейгелем и Дюрером существует почти такое же взаимоотношение, как между Донателло и Микеланджело: из натуралистических этюдов возникает монументальный синтез, причем у Брейгеля возвышение над единичным состоит не в функциональной идеальности и потенциальной силе форм и движений, а в том, что его фигуры производят типичные действия, вытекающие из естественных — внешних и внутренних — различий людей и их общественных прослоек. Они воплощают, к примеру, не власть над телесными формами, телесным членением, телесным движением как определяющую художественную проблему, по отношению к которой индивидуальное отклонение — только платье, в которое закутывается принципиальное знание. Напротив, в явлениях, определенным образом ограниченных общественными обстоятельствами, как то в компактной неуклюжести крестьян и неотесанной некультивированности их движений, и заключены исходная точка и смысл мотива. Это содержание получает, будучи тесно связано со всей композицией картины, типическую значимость. При всей кажущейся свободе композиция рассматриваемой картины вплотную приближается к художественной продуманности остальных картин последнего периода творчества Брейгеля — она снова подчинена диагональным расположениям. Одна диагональ дана направлением деревенской улицы, ведущей слева направо, к церкви в глубине. Спокойные, мало-помалу опускающиеся и затем к церкви вновь поднимающиеся линии домов идут на протяжении улицы, и вдоль этих домов можно видеть население села, собравшееся для веселого времяпрепровождения, полем для которого и является тянущаяся наискосок картины улица. Это направление движения пересечено другим — справа налево, также идущим косо через картину. Его исходная точка — можно было бы сказать, его символ — танцующая пара, находящаяся справа на переднем плане. Обе, видные со спины, тяжеловесно бегущие на площадку для танца фигуры действуют как источник сильного ощущения движения в направлении их устремления. Это впечатление усиливается расчленением композиции как в данном направлении, так и двукратным повторением мотива танцующей пары на свободной площадке. Волна движения достигает расположенного напротив дома, усиливаясь в боковом направлении молодою парою на заднем плане и парою детей — на переднем.
Таким образом, как и в «Слепых», спокойствие ситуации разорвано контрапостной ориентацией движения и благодаря этому наполнено драматически усиленной жизнью, причем место трагической гибели и темных властителей судьбы здесь занимают те силы и напряжения, которые господствуют над жизнью в ее светлых проявлениях.
Эта веселая жизненная драматика является фоном, на котором выделяются танцующие. Связанные с его пестрой тканью и в то же время противопоставленные ей, они дают одновременно и анализ и синтез; это не идеалистическая абстракция или натуралистические примеры, а поднятая до высшей убедительности характеристика, которая больше покоится на духовном проникновении в глубины жизни, нежели на механическом подражании ей.
К новому восприятию типического примыкает также идущий от созерцания к пониманию и от понимания к рассказу язык изображения; он монументально упрощен и построен более на внутреннем живом представлении, нежели на стремлении исчерпывающим образом передать чувственное явление во всех его направлениях.
Изучение модели и, понятно, всякая норма отступают перед «образами» воспоминаний, из которых Брейгель умел выбрать с безошибочной уверенностью самое существенное для противопоставления и различения разных фигур и вещей в рисунке, моделировке и колорите. Рисунок Брейгеля не описывает, как у старых нидерландцев, не является средством разложения и построения форм и композиций, как в флорентийско-римской школе, не служит средством представить оптическую связь тел с их окружающим пространством, как у венецианцев. Рисунок Брейгеля доводит до сознания зрителя то, что наиболее существенно для предметов, то, чем они наиболее сильно воздействуют на фантазию. Это приводило частично к впечатлению плоскостности, так что силуэт кажется господствующим над изображением; частично же — снова к низведению пластического и пространственного действия тел до уровня простых основных форм, в которых все подробности должны отступить перед более суммарным оттенением округлости или плоскостной границы. В связи с этим и в колорите господствуют несмешанные пестрые локальные краски.
Это — отличительные признаки, которые у Брейгеля можно проследить далеко назад и которые выработались в одинаковой мере органично и многообразно из его стремления воспринять жизненные комплексы как в их калейдоскопическом действии, так вместе с тем и разложенные на единичные факторы. Но то, что в ранних картинах ограничивалось более или менее разрозненными штрихами или состояло из мозаичного нанизывания, сочетается в последних картинах в искусство новой, мастерски взвешенной композиции. Его исходной точкой была цельность жизненного отрезка со всем его богатством жизнедеятельности, предметов, форм и красок, с его сосуществованиями друг с другом, и друг для друга, с его внешними и внутренними соответствиями.
Из этого единства выделяются теперь отдельные фигуры и вещи, различные по своему чувственному обличию и еще больше по своему своеобразию и существенности для изображаемой картины жизни в целом.
При этом художник поступает как поэт, выходя за пределы простой передачи случайного положения, строя свое изложение так, что зритель побуждается вычитывать из подобного положения все, представляющееся художественному озарению важным и значительным для толкования жизни и понимания человека. Этот принцип был старым и примыкал к итальянским линиям развития, но его содержание и его применение были новы, были в духе севера. Композиционные моменты движения и противоположности не развязывают тектонических и пластических сил, а заставляют нас глубже воспринимать данное жизненное сочетание. Все участники являются его носителями; они образуют, однако, как бы ряд ступеней в зависимости от того, как они воплощают изображаемое жизненное содержание, начиная от хора, в котором они равномерно звучат, до образов, которые были созданы художником в качестве наиболее ясного синтеза, определяющего их жизненность и типическую значимость. В этих образах сосредоточивается празднично освобожденное настроение, противостоящее в своем подъеме обыденности, и поэтому они являются вершинами движения и радостной игры красок. Одновременно эта кульминация изолирует их от хора. Они — герои представления, герои не в смысле действия, а как самое чистое, противопоставленное массе отражение крестьянства, резко освещенное в его характерных жизненных проявлениях своим страстным наслаждением мгновением; по сравнению с ним все остальное блекнет.
Если остальное и блекнет, оно все-таки сохраняет силу. Бурно подвижная диагональ останавливается компактной неподвижной кулисой группы домов, образующих противовес бегущей паре; танцующие, как крепким кольцом, окружены группами односельчан и неизменно спокойной картиной деревни и природы. Праздничное опьянение пройдет, и деревенская жизнь войдет в свои старые рамки, которые предписаны ей природою.
В этих заметках обсуждены не все стороны искусства Брейгеля. Многое надо бы дополнить, но сказанного должно быть достаточно, чтобы доказать, что его эволюция требует других масштабов, чем те, которыми она обычно измеряется. Значение вещей Брейгеля никоим образом не исчерпывается указаниями на их народную оригинальность. Брейгель был не только оригинальным, — для дальнейшего развития проблем содержания и формы в европейском изобразительном искусстве он был таким же определяющим художником, как Рафаэль и Микеланджело, как Тициан, Корреджо и Тинторетто. В рамках нидерландского искусства XV и XVI в. его можно сравнить только с Яном ван Эйком, чье дело он не только завершает, но и превосходит, как Микеланджело своих флорентийских предшественников. Ян ван Эйк разорвал норму средневековой изобразительности, подняв изучение природы до степени центрального пункта художественного отношения к окружающему миру. Но с этим формальным подъемом действительности у него не могло быть еще связано (в соответствии со всеми духовными стремлениями его времени) господство реального понимания жизни, так что в силе оставался дуализм между внешним наблюдением природы и общедуховным — как раньше религиозно обусловленным — содержанием искусства. Этот дуализм Брейгель преодолел. Его наблюдения простираются за внешние признаки явления до естественных обусловленностей человеческого бытия, сделавшихся для него источником художественной правды и высоты. Мы видим у Брейгеля окончание спора между откровением и опытом, спора, корни которого лежат в Средневековье, дальнейшая стадия которого была освобождением опыта из области формальных проблем и который окончился теперь победой опыта во всем восприятии жизни. Это преодоление формального натурализма жизненным реализмом содержания пришлось на период, общий дух которого был в меньшей мере научным, нежели спекулятивно философским, поэтическим и художественно творческим. Так и у Брейгеля, как у великих поэтов периода маньеризма и последующего времени, изображения людей и человеческих отношений не — еще не — представляются каким-либо сознательным доказыванием, а переплетаются с основными положениями и возможностями влияния искусной художественной композиции и поэтического вымысла. В то время, как Ян ван Эйк в основном отделил наблюдение природы от композиционных проблем, т. е. отвлек неисчерпаемость индивидуальных форм природы от давления композиции, Брейгель снова пожертвовал независимостью субъективного художественного изучения природы ради композиции. Как итальянцы — и под их влиянием, — он противопоставляет бесконечной изменяемости природы замкнутый и целостный художественный организм, в котором наблюдение природы не идет собственным путем, а неразрывно связано с искусной композицией.
Брейгель творил по образцу итальянцев, но с иными устремлениями. У итальянцев замкнутый и целостный художественный организм был основным понятием и часто главной целью искусства, как и сознательный выбор места по ту сторону действительности; у Брейгеля же это было только средством для достижения определенной цели. А последняя состояла в превращении изображения действительности, природы и реальной жизни в истину и возвышенную значимость высшего порядка, в превращении, которое достигалось художественной и поэтической переработкой опыта, путем преодоления фиксирования непосредственной данности.
В этом и заключается решительный шаг к голландской живописи XVII в., расцвет которой был разносторонним осуществлением новой программы, поставленной Брейгелем перед художественным отображением природы и жизни. С другой стороны, от слияния «романистических элементов» с корнями искусства в реальном бытии мост вел также и к Рубенсу, так что обе ветви нидерландской живописи эпохи барокко оказываются связанными с развитием Брейгеля.
Но нити могут быть протянуты еще дальше. Брейгель, как мы уже подчеркивали, был для живописи первым большим, открывающим новые пути представителем той, обращенной к природной жизни реалистической ориентации в искусстве, которая должна быть сочтена одним из существенных факторов европейского искусства в XVII и XVIII в. В XIX в. эта ориентация преобладала и достигла своего зенита, а в XX в. — почти одним ударом — была заменена другой, обратной ей по существу. Но в высшей степени поучительно, что ее возникновение надо искать в духовном движении маньеризма.
[1920 г.]
VII ЭЛЬ ГРЕКО И МАНЬЕРИЗМ
Слава Эль Греко среди его испанских современников основывалась на картине, находящейся в церкви Сан Томе в Толедо и изображающей погребение графа Оргаса.
Помещенная под картиной каменная плита разъясняет изображенное. Дон Гонсало Руис де Толедо, граф Оргас, протонатор Кастилии, был покровителем церкви святого апостола Фомы, в которой он должен был быть погребен после своей смерти. В тот момент, когда священнослужители готовились предать его тело земле, с неба спускаются — о, неслыханное, достойное удивления событие — святой Стефан и святой Августин и собственноручно совершают погребение.
Этот легендарный сюжет ль Греко изобразил в высшей степени примечательным образом. Картина состоит из двух частей: внизу написано погребение, вверху графа встречают на небе. Но однако и нижняя часть делится, собственно, на две половины: церемонию и чудо. Церемония изображена с испанским достоинством и вместе с тем с подробностью, которая может напомнить о современных Эль Греко голландских мастерах. Справа от погребального одра, на котором лежит одетый в латы покойник, священник читает с набожным благоговением молитву; соответственно слева стоит монах, в безмолвной задумчивости смотрящий на покойного, словно бы с ним прощаясь. Между двумя этими угловыми фигурами подобно фризу тянется непрерывный ряд траурных гостей: цвет толедского дворянства, все в черных одеяниях с белыми брыжами; эти идальго предстают строгими и сосредоточенными, как на голландском групповом портрете, но при этом портретное сходство должно слегка отступить перед общими чертами. Есть что-то жесткое и одновременно фанатическое в этих лицах, аскетическая сдержанность и впитанная с молоком матери метафизичность, тот дух, благодаря которому можно понять то, что нельзя увидеть глазами и осязать руками Однако двинемся дальше.
Независимо от этой церемонии происходит что-то, о чем большая часть участвующих и не подозревает. Двое посланцев небес прибыли, чтобы самим совершить погребение верного слуги церкви, но это коснется лишь его земной оболочки: ведь наверху, в том кружении образов и облаков, в котором субстанциальность форм должна уступить место эфирному видению, уже происходит торжественная аудиенция, где графа, уже лишившегося земных покровов, встречают Христос и Мария. Двое из присутствующих на церемонии, однако, видят то, о чем не знают другие: священник в белом стихаре справа, смотрящий ввысь с выражением величайшего удивления, и мальчик слева, на переднем плане, глядящий из картины на зрителя и левой рукой указывающий на обоих святых, словно желая обратить наше внимание на чудо; душа, исполненная веры, затем наивное дитя, от которого отрава сомнения еще не скрыла чудесное в мире, и зритель, который должен благодаря живописи подняться в сферы чисто духовного.
В этом однако и состоит характер своеобразной картины. Как в великолепном букете разворачивает Эль Греко все, что составляло предмет гордости живописи его времени: римское искусство композиции, венецианское мастерство владения цветом, нидерландскую способность к человеческой характеристике. Кто иной смог бы тогда, после смерти Тициана, написать драгоценные одеяния с такой бравурой, как это мы видим у обоих святых, кто после Тинторетто мог с таким мастерством схватывать изменчивость явлений или же после Микеланджело с такой дерзостью разрешать сложнейшие композиционные проблемы? Но надо всем этим стоит и нечто высшее — чудо и дух, поднявшийся над границами лишь земной истины, красоты и закономерности. Где же происходит это событие? Если бы мы не знали этого, то вряд ли смогли отгадать: ночью, в церкви, которой впрочем совсем не видно. Исчезла ясная пространственная структура, составлявшая со времен Джотто неизменный фундамент любого живописного изображения. Какова глубина, ширина этого пространства? Этого мы не знаем. Фигуры скученны, как если бы художник оказался беспомощен в их пространственном распределении. Но в то же время вспыхивающий наверху свет и феерия небесной встречи вызывают ощущение безграничных далей.
Основная идея композиции стара и проста, уже до того времени многие сотни раз она применялась в искусстве для изображения вознесения Богоматери. Однако же как изменился ее смысл одним лишь тем, что художник обрезал передние фигуры краем картины, так что совсем не видно почвы под ногами, и фигуры кажутся откуда-то магически вырастающими — это прелюдия вознесения, которому в нижней части картины еще приходится преодолевать некоторые препятствия, но наверху вздымающегося пламенем над изокефальным рядом траурных гостей. В факельном сиянии этой композиции Эль Греко непосредственно следует за старым симметричным способом построения условных и торжественных небесных сцен такого рода, но, впрочем, он и отрицает его. Ведь если прежде это построение было живописным выражением материальной архитектонической ритмики, то Эль Греко лишает его этого значения. Все выведено из равновесия и на место тектонической ритмики приходит другая. Законы, которым подчиняются облачные массы и фигуры — иные, чем те, что властвуют над земной тяжестью и ее преодолением. В этом апофеозе господствует похожее на сон, нереальное бытие, порожденное внутренним вдохновением художника, и это касается не только построения, но и цвета, и формы, не считающихся с наблюдаемым в действительности и стремящихся не к фиксации представшего перед глазами, но скорее желающих сравниться с лихорадочными видениями, в которых дух освобождается от оков земного мира, чтобы унестись в астральный, сверхчувственный и надрациональный.
Духовидцем называли Эль Греко его толедские современники, и не без основания. «Ya era loco»[132], говорит сегодня церковный служка, провожающий иностранцев к картине. Он был чудак, с этим приговором в более мягкой формулировке — повредившийся рассудком благородный дух — мы встречаемся вплоть до самого последнего времени также и в искусствоведческой литературе, до той поры пока она еще идет в русле материалистического и естественнонаучного мировоззрения. Этим чудаком мы и хотим заняться, не с тем, чтобы взять его под защиту, сегодня в этом более нет нужды, но с целью проследить источники его глубоко примечательного искусства.
Доменико Теотокопули, так звучит настоящее имя художника, был, как известно, греком с Крита, находившегося тогда под владычеством Венеции. Как и многие его соотечественники, и этот критянин обучался в городе на лагуне, обучался живописи в мастерской почти девяностолетнего Тициана, в первую очередь благодаря которому он познакомился с поразительным опытом импрессионистической передачи цветовых явлений. На него также повлияли старый Бассано, художник больших светотеневых контрастов, и Паоло Веронезе, мастер светлых, серебристых тонов. Но все это, кажется, его не удовлетворяло. Итальянское искусство переживало тогда поворотный момент своего развития. Оно, включая молодых итальянских художников, было охвачено новым духовным течением, исходившим из Рима. И так мы встречаем Эль Греко в 1570 году в вечном городе, куда он прибыл с рекомендательным письмом к иллирийцу Джулио Кловио, миниатюристу. С той поры и до 1577 года следы Эль Греко теряются, того года, когда он появляется в Толедо и пишет картины, едва ли имеющие что-либо общее с его ранними венецианскими произведениями, за исключением технического мастерства: мы встречаем нового Эль Греко, пережившего в этот промежуток, как тогда бы сказали, духовный переворот. То духовное возрождение и является ключом к пониманию великого мастера. Так что прежде всего мы должны исследовать корни этого перерождения, ведь именно оно и сделало его тем великим творцом, каким мы знаем его сегодня.
Никакими внешними фактами мы не располагаем. Мы не можем, исходя из дат или произведений искусства, установить, что произошло с Эль Греко в эти семь лет между Римом и Толедо, но мы можем, однако, проследить — и это в конечном итоге важнее — какие новые идеи и впечатления он тогда воспринял.
И тогда мы должны направить наш взор на величайшую фигуру столетия — на Микеланджело, которому, как никому другому, было суждено опередить дух наступавшего времени. В старости Микеланджело создал произведения, по большей части до сего дня выходящие за пределы подвластного пониманию, т. е. того, что можно оценить, исходя из натуралистических критериев, вследствие чего эти работы не раз рассматривались как незаконченные пли же в них видели проявление старческой слабости. К ним относятся «Пьета» в палаццо Ронданини, «Снятие с креста» в соборе во Флоренции и рисунки последнего периода творчества мастера. К ним принадлежит ряд эскизов «Распятия», которые могут дать представление о художественном исповедании старого Микеланджело и его творческом завещании. Что означала для него эта старая патетическая тема, столь вышедшая из моды во внутренне ставшем языческим искусстве высокого Ренессанса? Можно было бы предположить, что он хотел еще раз испробовать себя в изображении обнаженного человеческого тела, ведь оно уже более полутора веков было главным источником развития искусства в Италии. Однако сколь принципиально отличны эти этюды обнаженной натуры, если их еще возможно так называть, от всего того, что под ними — включая и искусство Микеланджело — понимали в Италии.
Рисунки натурщиков времен его молодости демонстрируют максимально возможно верную, натуралистическую передачу индивидуальных и в то же время политичному совершенных телесных форм (подготовительные рисунки к картону «Битвы при Кашине»). Искусство было знанием; оно должно было заменить откровение и раскрыть людям окружающий мир в его природной причинности. Во второй период своего творчества, в росписи потолка Сикстинской капеллы и в надгробиях Медичи, Микеланджело вырывается за пределы индивидуальной модели в тех своих образах, что противопоставляют индивидуальной нормальной форме сверхчеловечески героизированную — породу титанов, на место старых трансцендентных сил приходит обожествление человека. В третий период, в «Страшном суде», власть художника над телом уже столь велика, что он не только преодолевает модель в ее телесности, но, черпая из своего опыта, делает человеческую фигуру в ее движениях и позах свободным инструментом грандиозных индивидуальных концепций. И этот апофеоз формального художественного мастерства, триумфально побеждающего природу и соперничающего с богами, распадается; более никогда Микеланджело не пытался писать что-либо подобное. То, что он рисует или высекает в последние годы, это — вещи, кажущиеся принадлежащими другому миру. Исчезает все, что со времен Джотто все более и более становилось воплощением самого понятия художественного и достигло своей вершины в ранних работах Микеланджело: художественная композиция и драматическое действие, естественно жизненное и объективно убедительное графическое воздействие образов и их пространственная, физическая и психическая взаимосвязь. В памяти могли бы всплыть образы средневековой живописи или скульптуры: простое трезвучие массивных, нерасчлененных фигур, которые почти бесформенны, если вспомнить о том, что раньше понималось под формой, ведь исходным пунктом было воспроизведение материальных образов внешнего мира. Это более не важно для Микеланджело. Фигуры неуклюжи, как аморфная масса, они — словно безразличны в самих себе, как придорожный камень, и при этом все вулканически вибрирует, исполненное трагизма, проистекающего из глубочайших бездн души; постигшему это старые изображения покажутся слабыми и поверхностными, ведь теперь источником является не внешнее, механически постигаемое, но внутреннее переживание, внутреннее потрясение, испытанное художником через таинство смерти Спасителя. И целью Микеланджело становится выразить это потрясение, выстраивать фигуры не снаружи вовнутрь, но изнутри наружу так, как ими овладевает душа, наполняя их без оглядки на преходящую, изменчивую красоту и верность природе независимыми от этого жизнью и смертью.
Или «Пьета Ронданини». То, что отделяет это позднее «Оплакивание» от ранних произведений, больше, чем просто опыт богатейшей жизни художника. Утратило ценность то, что в молодости казалось мастеру высшим, исчезло удивительно взвешенное построение, мало значащим стало мастерство подчинения одной фигуры группе или моделировка поверхности, в чем Микеланджело некогда превзошел античность: мертвая масса, бессильно опадающая вниз без малейших следов стремления к какой-либо индивидуализации или телесной идеализации, и вместе с тем потрясающая элегия. Никогда ранее бог не изображался столь пронзительно, боль столь тупой, так обременяющей душу.
Так в последний период своего творчества Микеланджело отворачивается от искусства Ренессанса, принципиально основанного на подражании природе и ее формальной идеализации, и заменяет объективизацию картины жизни ее художественным пониманием, ставит психические эмоции и переживания выше согласия с чувственным восприятием. Его искусство становится анатуралистическим. Всеобщеисторически это не было чем-то совершенно новым, ведь если мы обратимся к развитию искусства, то обнаружим, что анатуралистические периоды были более частыми и более всеобъемлющими, чем натуралистические, и даже в последних их наследие сохранялось в качестве подводного течения, оттого натуралистически ориентированные времена предстанут почти островками в том великом потоке, для которого внутренние переживания были важнее верности природе. И все-таки тем непостижимее это может показаться, что Микеланджело в конце своей жизни отворачивается от своего собственного искусства и от того искусства, благодаря которому его родина завоевала ведущее положение в мире, возвращаясь к тому анатуралистическому пониманию, что было присущим также и христианскому средневековью.
Этот поворот основывался в первую очередь на его духовном развитии. В середине своей жизни он как бог властвовал над всем, что могло быть построено, исходя из принципов художественной системы Ренессанса, и разрешал все лежащие в ее основе проблемы, доходя до последней возможности, он достиг, как импрессионисты в прошлом столетии, границ, дальше которых идти было уже невозможно, и эти границы не остались сокрытыми для такого глубокого ума, как Микеланджело, который именно в таких работах как «Страшный суд» смог выразить, что попытка передать все, что движет человечеством, через завершенность и напряжение материальных форм была сокрушительной. К этому добавилось и то, что его не удовлетворяло наивное, антично радостное утверждение мира, характерное для Ренессанса. Его глубокий и пытливый ум отходит от этого и возвращается — отражая в этом общую черту времени — назад, к глубочайшим вопросам бытия: для чего живет человек, каково соотношение между преходящими, земными, материальными и непреходящими, духовно надмирными благами человечества? Его образ вырастает в гигантский, если мы представим себе, что он, прославленнейший художник мира, одинокий и уединившийся от других, постепенно отказывается от всего, на чем покоилась его слава, мучится и терзает себя — «non vi si pensa, quanto sangue costa» — цитирует он тогда: «никто не думает о том, сколько крови это стоит», — чтобы в конце концов полностью отречься от материального искусства живописи и пластики, которые ему в том виде, как их понимали его современники, ожидая, что и он будет отвечать этому пониманию, более ничего не могли ему предложить, отказывается, чтобы ограничить себя сотворением здания во славу божию, в котором готически ирреальная линия вздымающегося купола должна была подняться над всем чувственным великолепием императорского и папского Рима, и временами создавать старческими руками рисунки или пластические наброски, в которых на место триумфатора приходит ищущий, в этих работах также видно, сколько крови и душевных сил они потребовали, а на место преодоления, terribilità в них приходит трогательное признание смиренного рвения. Я дольше остановился на Микеланджело не только потому, что его поздний стиль — а это прежде упускали из виду — был началом новой анатуралистической ориентации искусства, из которой проистекали толедские работы Эль Греко, но еще и потому, что в ero личной судьбе отражается и судьба культуры и искусства того времени. Развитие и всю духовную и материальную культуру определяют не массы, как полагало прошлое столетне, но духовно направляющие личности, и хотя, как и прежде, сикстинский потолок, капелла Медичи или «Страшный Суд» представляли собой важный арсенал формальных решений, но именно от рассмотренных поздних произведений Микеланджело исходил тот импульс, что был решающим для итальянского искусства второй половины XVI века, как это нам может продемонстрировать второй великий художник, оказавший решающее воздействие на становление Эль Греко.
То был Тинторетто. Именно в эти семь лет учения толедского мастера и в его творчестве произошло духовное перерождение. То называли переходом от золотого к зеленому стилю и не ломали голову над тем, что же должен был означать этот переход. Он состоял в том, что Тинторетто заменяет цветовое великолепие своих ранних работ, в которых он соперничал с Тицианом, серо-зеленым колоритом, цветом пепельно-траурного покаяния, в котором лишь отдельные тона светятся, словно вдалеке пламенеющие цветы. Важность этого новшества очевидна. До той поры значение венецианской живописи состояло в богатейшем развитии натуралистического цветового сенсуализма. Тинторетто заменяет его призрачной игрой фантазии, в которой цвет с его дымящимися массами, прорезываемыми сверканием молний, становится лишь отражением субъективных душевных состояний, независимых от наблюдения или передачи действительности.
Но дело не сводится только к цвету. Композиция странно переплетается в некие клубки, как, например, в «Медном змие», в которых вытянутые, гибкие фигуры перемешиваются друг с другом согласно таинственным законам страстной патетики, без оглядки на естественность поз или пространственное расположение. Виден ведьминскнй шабаш необузданно сплетающихся тел и линий; форм, светящихся из темноты, словно тела были разорваны на части, и надо всем этим, как обманчивый свет, скользящие вокруг огоньки, словно бы речь шла о нечистой силе. А с другой стороны — видение «Вознесение Христа». Пейзаж и рассеянные в нем апостолы, бывшие прежде основным звеном любого изображения этого события, все вплоть до единого отодвинуты на задний план и, кажется, колеблемы неким мощным дыханием; реальное стало нереальным, и действительно лишь то, что происходит в сознании только одного, евангелиста, который читал, уединившись от всех, и в душе его возникает видение: возносящийся на небеса Христос, не далеко и не близко от нас, это — не физическое взлетание и не оптическая иллюзия, это явлено духовному взору и оттого не имеет ничего общего с законами нашего мира, здесь все нереально: облака, движение, цвет, в которых, как позднее мы увидим это и у Эль Греко, свет и тени не противопоставляются друг другу, но являются общим выражением похожего на сон видения, в котором свет и тени теряют свою естественную функцию.
Возможно, этот переход Тинторетто к искусству внутренних ощущений будет еще заметнее в его рисунках того времени, в корне отличающихся по своему воздействию от всех этюдов и подготовительных набросков Ренессанса, его работы — словно фиксация видений в состоянии высочайшего художественного экстаза, в этих рисунках в пламенном протесте против старого понимания искусства борется новое исповедание, стремление изображать вещи не такими, какими они являются согласно традиционным представлениям о действительности, но увиденными и прочувствованными силой воображения и интуицией.
От Микеланджело Эль Греко перенял анатурализм форм, от Тинторетто анатуралистические цвет и композицию.
Но этих двух компонентов недостаточно для того, чтобы полностью объяснить толедский стиль Эль Греко. Мы должны идти дальше и рассмотреть один всеобщий процесс, центр которого находится не в Италии, но к северу от Альп. «Nescio. At ego nescio quid?». Эти знаменитые слова иезуита Санчеса, в его работе о высшей и всеобщей науке, о том, что можно знать лишь то, что ничего неизвестно, характеризуют положение лучше всего. Еще с начала XVI века на севере шел процесс брожения, прежде всего в Германии. То движение шло, как сегодня против капитализма, тогда — против омирщения церкви и против материализма, которым была охвачена вся религиозная жизнь. Это движение вело, как известно, к Реформации; однако вскоре всем проницательно мыслящим людям стало ясно, что Реформация оказалась неудовлетворительным компромиссом, старавшимся привести откровение к согласию с рациональностью мысли и жизни, и хотя она и изгнала из церкви культ материальных благ, но, что было значительно хуже, перенесла его через новое понятие честной жизни, основанной на публичных делах и труде, на государство и на всех людей в их частной жизни.
Это разочарование привело к скепсису и к сомнению в какой-либо ценности интеллектуальных теорий и разумных нравственных заповедей, а равным образом и к осознанию недостаточности чувств и относительности всех определений. Можно было бы говорить о духовной катастрофе, предшествовавшей политической, и состоявшей в том, что были повержены старые, секуляризированные, церковные или светски научные и художественно догматические системы и категории мышления. То, что мы можем наблюдать у Микеланджело и Тинторетто на примере достаточно ограниченной области постановки художественных проблем, было признаком времени в целом. Пути, которые до той поры вели к познанию и к построению духовной культуры, были оставлены, и результатом был кажущийся хаос, как таковым нам представляется наше время. В области искусства этот период, собственно, не являющийся законченным периодом, но движением, начала которого тянутся в ранний XVI век, и чье воздействие никогда не прекратилось, итак, этот период неудачно обозначили как маньеризм, ведь натуралистически ориентированные историки искусства видели в нем лишь то, что большинство художников отказалось от потребности самостоятельно черпать из природы и довольствовалось унаследованными формами и их переоценкой, как это произошло в искусстве и после распада античности. Но этим, однако, суть данного периода в истории искусства далеко не исчерпывается. Когда мировое здание, каковым и было мировоззрение позднего средневековья, Ренессанса и Реформации, рушится, возникают руины. Художники, как равным образом и всегда слишком многие во всех духовных областях, теряли поддержку всеобщих максим, за которые могли уцепиться их усердие, их тщеславные цели и их маленькие затеи. И мы стоим перед зрелищем исключительного замешательства, и в пестрой смеси старого и нового, в различных направлениях философы, литераторы, ученые и политики и в не меньшей степени художники ищут новые опоры и цели; художники, к примеру, в виртуозной артистичности или в новых формальных абстракциях, сгустившихся в академические учения и теории. С другой стороны, тематика приобретает новое значение, и при этом становится то грубо чувственной, то литературно изощренной. Спектр сюжетов расширяется во всех направлениях, отвечая потребностям художников, чтобы пробудить внимание, то есть чтобы подчеркнуть оригинальность и субъективность их отношения к окружающему миру.
Из этого всеобщего брожения, от дальнейшего рассмотрения которого, сколь бы интересным оно ни было, я должен отказаться, постепенно выделяются два направления, имевшие большое значение для будущего. Оба основывались на желании через психологическое познание обогатить человеческую жизнь и разгадать ее тайну.
Одно было реалистическим и индуктивным и исходило из стремления достичь этой цели через рассмотрение жизненных состояний и господствующих над ними всеобщих и индивидуальных психических предпосылок. Это было именно то направление, которое являлось общим для Рабле и Брейгеля, Калло, Шекспира, Гриммельсгаузена, в последующие столетня оно становилось все более и более доминирующим, пока не достигло своей высшей точки в реалистическом искусстве прошлого века и прежде всего в великих реалистических романах от Бальзака до Достоевского.
Второе направление было дедуктивным. Его источниками были чувства и ощущения, именно в них искалось единственно верное и возвышающее. Его средоточием были католические земли, в особенности Франция и Испания, и это проявлялось преимущественно в религиозной сфере, где мощная попытка Лютера перенести религию в область умственного и внутренне пережитого оказала более глубокое воздействие, как бы странно это ни могло прозвучать, чем в собственно протестантских странах, ведь в последних эта попытка осталась связанной с официальной церковностью, в то время как в католицизме, отклонившем эту связь, глубоко прочувствованное могло тем сильнее раскрыться как раз в тех областях религиозного сознания, в которых старая церковь с самого начала не оказала никакого сопротивления.
Прежде всего, это были благоговение, медитация и возвышение чувств. Пышное весеннее цветение этой области самосознания пришлось на вторую половину XVI века, особенно на две страны — Францию и Испанию. Во французской литературе ее самым прекрасным цветком стала «Филотея» св. Франциска Сальского, произведение, полное жизненной мудрости, соединенной с самыми тонкими психологическими советами, следуя которым люди вызывают внутри себя состояние божественного блаженства, возвышают свою душевную жизнь в направлении ее вечных ценностей и в рамках нормальной общественной жизни могут достичь того жара чувств, который, по словам Монтеня, бывшего в этом весьма компетентным, предоставлял католической церкви щедрую замену за изменивших вере, а в последующее время, перенесенный на светскую почву, он стал важнейшим источником всей сентиментальной поэзии нового времени вплоть до Вертера и Чайльд-Гарольда. Тот новый спиритуализм оказал воздействие также и на изобразительное искусство, как это могут показать нам еще очень мало известные произведения французского маньеризма. Исходя из работ школы Фонтенбло, прежде всего Приматиччо, художники, такие как скульптор Жермен Пилон, Дюбуа, Фремине или живописец Туссен Дюбрейль, гравер Белланж, создавали произведения (как, например это показывает бюст Жана де Морвилье Пилона), исполненные той страшной силы духовного выражения, что после портретов императоров второго-третьего столетий была незнакома искусству, перед нами портрет, в котором физический облик — лишь отражение неистовствующего внутри огня, это подобно тому, что Эль Греко запечатлел в своем автопортрете, написанном несколькими годами позднее. Или они рисуют фигуры и сцены, производящие впечатление иллюстраций к «Филотее». Пример этому — «Три Марии у гроба» Белланжа, в особенности Мария, вся исполненная той духовной концентрации сладостного созерцания чуда, о котором сказано: «тот мир больше не мой и я больше не я, но в сердце сердца моего живут лишь истина и блаженство». Худые, длинные фигуры с маленькими, изящно склоненными головками, с нежным взором и нервными руками встречаются затем и у Эль Греко. Но более того, вся направленность изображения на выражение душевной красоты свидетельствует о том, что Эль Греко знал искусство французского маньеризма и воспринял от него то, что не могло сообщить ему итальянское, а именно — понимание полного преодоления мира через ощущение, что было великим наследием средневекового христианства на Севере. То понимание должно было вести его туда, где это наследие не только дольше всего сохранялось, но и пережило в шестнадцатом веке поразительное возрождение на новых основах, — в Испанию, в страну алюмбрадос и духовных театральных представлений, святого Игнатия и святой Терезы, в страну, где несмотря на Ренессанс и его формы все еще чувствовали и строили в духе готики, и где средневековая мистика, связанная с субъективным углублением, была в полном разгаре.
Две черты были определяющими для личностей, направлявших этот процесс: самонаблюдение и полное преодоление границ натуралистических основ мысли и чувства. «Что я вижу, — говорит святая Тереза, — это — белое и красное такое, как в природе нигде не найдешь, оно светит и лучится ярче чем все, что можно увидеть, и это — картины, какими их не писал еще никто из художников, прообразов к которым нигде не найти, но они — есть сама природа и сама жизнь и самая великолепная красота, какую только можно измыслить». И Эль Греко пытался писать нечто подобное тому, что пережила святая в экстазе, не то чтобы непосредственно следуя за ней, но в том же духе, для которого субъективное духовное переживание стало единственным законом душевного возвышения. Для итальянцев и французов при всех изменениях цели тем не менее всегда оставалась характерной приверженность к последним остаткам объективизации окружающего мира, в Испании, напротив, без оглядки жертвовали последними принципами ренессансного понимания истины и красоты ради выражения внутренней взволнованности; уже до Эль Греко, как можно увидеть на примере «Оплакивания» художника Луиса Моралеса, предшественника Эль Греко в Толедо, соединяли маньеризм Микеланджело с испанской экзальтацией. Подобные произведения, одновременно меланхолические и страстные, конечно, повлияли на Эль Греко, но гораздо больше — общее духовное окружение, оказавшееся способным подвести Эль Греко к тому, чтобы из всех тех элементов нового искусства выражения, которыми он овладел во Франции и в Италии, вывести последние следствия и полностью подчинить природные прообразы своему художественному вдохновению. Его фигуры становятся чрезмерно удлиненными и кажется, будто они не принадлежат этому миру. Вот, его «Святой Иосиф» в Толедо, с прижимающимся к святому Христом и хором ангелов над головой святого: перед нами — не запечатление человека, как это могли сделать тысячи художников до Эль Греко и сотни тысяч после, не считая фотографов. То, что мы видим здесь, ирреально, это — представление, которое не основывается на копировании природы, но в нем внутренние голоса говорят со зрителем. Святой Иосиф и маленький Иисус; о чем мне это говорит? Я вижу человека, некрасивого по своему облику, измученного и изнуренного работой, лишенного грации, плотника и вместе с тем он — не только плотник; он исполнен сверхъестественных смирения и доброты. Этот человек вырастает ввысь через послушание Богу как столб, за который может уцепиться божественный сын человеческий, благодаря этому возникает гармония, льющаяся в сердце зрителя как ангельская мелодия.
Эль Греко часто писал портреты, на которых люди схожи, словно братья, но ведь по сути дела все они более или менее таковыми и являются: маски и тени; иногда же он создавал портреты, которые иначе как трагическими не назовешь, как, например, инквизитора Гевары. Кто не вспомнит перед этим портретом о Великом Инквизиторе, порождении сновидения из «Братьев Карамазовых». Эта съеженная фигура с холодным, пронизывающим взглядом, это не тот или другой человек, но сама судьба. Но прежде всего Эль Греко изображал библейские сюжеты. Иногда в сказочных тонах, как в «Молении о чаше», которое можно было бы назвать цветной сказкой. На заднем плане темная, бесформенная ночь, только на Иерусалим таинственно падает из глубины один луч. Впереди на сцене царят сумерки, в которых, однако, непонятно как, но вспыхивают невероятные цвета: киноварь, желтая охра, краплак. Перед нами — словно волшебный сад, и на этот волшебный сад спускается небесное видение в виде белого облака, на котором склонился на коленях белый ангел.
Чаще, однако, перевешивает характер видения, как в «Воскресении Христа». Словно взрыв подействовало чудо на стражников: один, на переднем плане, брошен наземь, другими овладели пароксизм страха и изумление, тела их дико разметало в стороны, руки их направлены ввысь, будто они схвачены и взметены вверх ураганом. Так возникает страстная устремленность ввысь, которая, усиленная противопоставлением Христа фигурам, отброшенным вперед, делает полет Христа убедительнее, чем это было возможно при помощи всех средств предшествующего искусства, представляя его как сверхъестественное взметание наверх. Еще сильнее «Снятие пятой печати». Пророк зрит наступление великого гнева, видит, как души мучеников и мучениц взывают об отмщении, души тех, кто был удушен, ждут слова Божьего, и каждому из них дается белое одеяние. Но, что прежде всего бросается в глаза, это — разница в величине фигур. Слева, у края, — евангелист, коленопреклоненный, с вытянутыми вверх руками. Позади — воскресающие, в различных позах, частично опирающихся на поздние рисунки Микеланджело, им ангелы приносят одежды. Можно подумать, что Иоанн стоит: это колоссальная фигура по сравнению с другими персонажами. Подняв руки, протагонист смотрит не вперед, но ввысь. В нем происходит нечто страшное, он видит чудовищные явления, на это лишь намекается на заднем плане; это — образ, полный динамики дотоле неведомой искусству всех времен, но одновременно и разрешение проблемы, до той поры, должно быть, казавшейся неразрешимой: глыба, одновременно ставшая духом.
И в заключение один пейзаж Эль Греко — «Толедо в бурю». Это — не портрет какого-то пейзажа, но подобное вспышке молнии раскрытие охваченной демоническими силами природы души, связывающее ее собственное настроение с грандиозным спектаклем, словно бы одним ударом открывшим ей призрачность земных вещей и ее метафизический смысл. В то же самое время, когда Эль Греко писал эти картины, в фантазии его испанского современника Сервантеса рождался образ Дон Кихота, о котором Достоевский сказал, что после Христа он является самым прекрасным в мировой истории. Чистый идеалист, таким же чистым идеалистом был Эль Греко, а его искусство — высшей точкой того всеобщего европейского культурного движения, цель которого заключалась в том, чтобы заменить ренессансный материализм спиритуалистической ориентацией человеческого духа. Тогда это осталось лишь эпизодом. Ведь с семнадцатого века начал преобладать культ земных благ, в особенности когда и папы пошли с ним на компромисс в процессе Контрреформации, а художника из Толедо рассматривали как безумного, так же, как разучились видеть героическое в образе Сервантеса и принимали его лишь за комическую фигуру. И вряд ли нужны еще слова, чтобы доказать, что в последующие два столетия, ставшие временем преобладания естественных наук, математического мышления, суеверия причинности, культурой лишь глаза и мозга, но не сердца, имя Эль Греко все больше и больше должно было предаваться забвению. Сегодня эта материалистическая культура стоит перед своим концом. При этом я меньше думаю о внешнем крушении, бывшем скорее следствием, но о внутреннем, которое уже в течение поколения можно наблюдать во всех областях духовной жизни: в философском и научном знании, где главенство переходит к гуманитарным наукам, и где даже в естественных науках в своих самых глубинных основах сотрясаются те предпосылки старого позитивизма, что казались твердыми как скала, это происходит в литературе и искусстве, поворачивающихся, как в средние века и в эпоху маньеризма, к духовно абсолютному, к независимому от чувственной верности природе, и в конце концов в том согласии всех событий, что, кажется, направляют таинственный закон человеческой судьбы в сторону нового, духовно антиматериального века. В вечной борьбе материи и духа весы склоняются к победе духа, и именно этому повороту надо быть благодарными за то, что мы признали в Эль Греко великого художника и пророческий дух, чье имя и в будущем будет снять в светлых лучах славы.
От редактора
Книга Макса Дворжака «История искусства как история духа» (1-е издание - Мах Dvorak «Kunstgeschichte als Geistesgeschichte», hrsg. von. Karl M. Swoboda und Johannes Wilde Muenchen, 1924) давно стала классикой искусствознания, а ее название - самым броским и известным определением метода ученого. Однако же, ни составление книги, ни авторство названия не принадлежат самому Максу Дворжаку (1874— 1921). Книга «История искусства как история духа» была первым томом из задуманного его учениками после смерти выдающегося ученого собрания сочинений (всего было издано пять, включая известный русскому читателю курс лекции по истории итальянского искусства эпохи Возрождения) и представляла собой сборник самых актуальных в смысле не только времени написания, но и новейшей методологии статей М. Дворжака. Заглавие книги придумал ученик М. Дворжака Феликс Хорб (Felix Horb), составлением книги занимались Камилл Свобода и Йоханнес Вильде. При этом издатели сборника в своем вступлении подчеркивали, что общий замысел книги принадлежал самому Дворжаку, смысл ce состоял в анализе переломных этапов в развитии западноевропейского искусства, начиная с поздней античности. Часть статен была опубликована в последние годы жизни ученого, три были прочитаны в качестве докладов (статьи об Эль Греко, Дюрере и Шонгауэре). Статья о раннехристианском искусстве не была завершена, М. Дворжак предполагал дополнить ее анализом раннехристианской архитектуры. В качестве параллели статье о Шонгауэре была задумана работа «Отцы Ренессанса» , посвященная итальянскому кватроченто. Известно что Дворжак планировал большое исследование европейского маньеризма, в котором намечались три главные составные части - Эль Греко, Брейгель, Тинторетто, но последняя также не была написана. Одной из важнейших идей при этом было утверждение постоянства, континуума в развитии европейского искусства, акцент не на разрыве при рождении абсолютно нового, а на смене координат, Дворжак, в частности, указывал на то, что не может быть «цезур» в развитии духовной культуры человечества. Но значение этих статей состояло не только в рассмотрении поворотных моментов в развитии европейского искусства (хотя Дворжаку принадлежит, к примеру, первенство в изучении маньеризма), но в самом подходе, в самом методе анализа. Hc случайно выход в свет в 1917 году статьи «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи» после почти полного четырехлетнего молчания автора стал этапным событием в истории европейского искусствознания. Как подчеркивал ученик Дворжака Д. Фрей, сравнивая основную методологическую проблематику последних статен М. Дворжака с формальным подходом его первой большой работы «Загадка искусства братьев ван Эйк» (М. Dvořák. Das Rätsel der Brueder van Eyck//Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhoechsten Kaiserhauses. 1904), «в центре рассмотрения теперь находится не форма выражения, но заключенное в ней и с ней связанное содержание выражения. Проблема формального изображения объекта в новом творении субъекта приводит к вопросу о заложенном в самой основе духовном выяснении отношений между объектом и субъектом как таковых. На место художественных форм как объекта исследования приходит выражающаяся через него и в нем история духа. Так история искусства превращается в историю духа» (D. Frey. Max Dvoraks Stellung in der Kunstgeschichte // Jahrbuch fuer Kunstgeschichte (Wien). Bd. I (XV). 1921/22. S. 12). Макс Фрей также указывал на главный определяющий базис методологии Дворжака - «История искусства была для Дворжака прежде всего историей» (Ibid. S. 2). В известном смысле можно сказать, что, вырастая на всеобщем основании, история искусства рассматривалась Дворжаком как путь к всеохватной истории духа.
Эта книга в очень сильной степени отражает время своего создания — первая мировая война, революции, крушение старого порядка, многие отсылки в тексте книги к современной автору ситуации совершенно неслучайны. В искусстве он искал ответы на вопросы жизни, как в старом так и в новом. Самый яркий в этом отношении пример — последняя статья М. Дворжака - вступление к графической серии О. Кокошки «Вариации на тему» (1921 ), в ней он увидел самое настоящее и подлинное искусство явленной абсолютно зримо жизни человеческого духа. История искусства была для Дворжака путем к пониманию современности, к постижению происходившего на его глазах очередного перелома, в статье о Кокошке Дворжак сравнивал его цикл со «Стогами сена» К. Моне и писал: «Целый мир разделяет два этих цикла, переворот в восприятии искусства, какой себе нельзя было даже представить. И речь здесь идет не только об искусстве, но о целом мировоззрении» (М. Dvorak. Variationen ueber ein Thema. Цит. по: H. M. Wingler, Fr. Welz. O. Kokoschka. Das druckgraphische Werk. Salzburg, 1975. S. 41) Поиск континуума и современно-вечных вопросов-ответов выражался и в том, что, как метко заметил О. Курц, когда Дворжак говорил об Эль Греко, перед его глазами стоял Кокошка (цит. по: А. Rosenauer. Nachwort // M. Dvorak. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Berlin, 1994. S. 282).
B 1934 году эта книга была переведена на русский язык А. А. и В. С. Сидоровыми и вышла под измененным названием «Очерки по искусству средневековья» (ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1934). В нее не вошли статьи о Дюрере и Эль Греко, статья «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи» была сокращена примерно вполовину, в остальных статьях купюры были довольно незначительными. Появление ее в тот момент на русском языке было вполне объяснимо, M. Дворжак рассматривался в качестве известного противовеса формализму Вельфлина, об этом писал и И. Маца в своем вступлении и А. А. Сидоров в комментариях. При этом А. А. Сидоров тонко указал на одну из главных характеристик метода Дворжака: «Он ищет в искусстве мировоззрения и объясняет им форму» (М. Дворжак. Ук. соч. С. 73), указал естественно, с негативным оттенком, но точно. Именно этот подход Дворжака впоследствии был почти совершенно нивелирован советским искусствознанием, превратив все в простое разъяснение возникновения искусства из духовных идей эпохи и вульгарного толкования его именно таким образом, ни о какой попытке постижения формы речь и не шла. Тем самым весь метод Дворжака превратился в элементарную попытку вывести содержание искусства из идей того или иного времени, что существенно сужает и обедняет наследие великого австрийского искусствоведа. Нельзя не заметить при этом, что он сам во многом является тому виной. Еще большим подарком И. Маце и аморфной советской искусствоведческой мысли было бы такое высказывание М. Дворжака: «Искусство состоит не только в решении и развитии формальных задач и проблем; оно всегда и в первую очередь является выражением идей, господствующих над умами человечества, выражением его истории не в меньшей степени чем религия, философия или поэзия, оно является частью всеобщей духовной истории человечества» (M. Dvořák. Op. cit. S. X; из доклада «О восприятии нскусства»на конгрессе в Брегенце летом 1920 года). Впрочем, внимательный читатель этой книги оценит проницательность следующего наблюдения современного исследователя метода Дворжака: «Именно тонкость позиции Дворжака делает его выдающимся представителем скептического научного рационализма, каковая только и может соответствовать познавательно-теоретическим проблемам современности» (N. Schmitz. Max Dvoraks Kunstgeschichte der Moderne // M. Dvořák. Idealismus und Realismus in der Kunst der Neuzeit... Akademische Vorlesungen Alfter. 1993. S. 73).
В настоящем издании раскрыты все купюры сделанные в публикации 1934 года, исправлены различные неточности перевода (носящие частично сознательно идеологический характер), стилистика старого перевода практически не подверглась изменениям, в известном смысле текст 1934 года стал сам по себе историческим документом; заново переведены две статьи, пропущенные в старом издании. Также мы сознательно отказались от предисловия и комментариев, в частности, фактического характера. Ценность этой книги совсем в другом - в попытке попять причины и ход развития искусства.
А. Лепорк
Список иллюстраций
Камера в катакомбах Петра и Марцеллина в Риме (по Вильперту).
Три отрока в пещи огненной. Катакомбы Присцилла, Рим (по Вильперту).
Орант. Катакомбы св. Каликста в Риме (по Вильперту).
Смерть Деворы и Рахили. Венский Генезис (fol. XIII, 26).
Призвание апостолов-рыбаков. Мозаика, Равенна, церковь Сан Аполлинаре Нуово.
Богоматерь. Амьен, собор.
Иоанн из Распятия. Леттнер собора в Наумбурге..
Свв. Дитрих и Ремигий. Западный фасад собора в Реймсе.
Евангелист Иоанн. Западный фасад собора в Реймсе.
Проповедь Христа. Псалтирь Королевы Марии (fol. 214); Лондон, Британский музей.
Встреча Марии и Елизаветы. Северный портал собора в Шартре.
Пророк Иона. Хор св. Георгия собора в Бамберге.
Джотто. Оплакивание Христа (фрагмент). Падуя, Капелла дель Арена.
Карл V Анжуйский. Париж, Лувр.
Ян ван Эйк. Тимофей (портрет Тимотео да Милето). Лондон, Национальная галерея.
Христос на кресте с Марией и Иоанном. Гравюра на дереве, первая пол. XV в. (Sсhr. 402).
Коронование Марии из алтаря Имгоффа. Нюрнберг церковь св. Лоренца.
Благовещение из алтаря Тухера. Нюрнберг, церковь Богоматери.
Г. Плейденвурф. Портрет каноника Шёнборна (ныне определен как портрет графа Левенштайна). Нюрнберг, Германский Национальный музей.
Г. Плейденвурф. Распятие. Мюнхен, Старая Пинакотека.
Мастер E. S. Мадонна с купаемым младенцем. Гравюра на меди.
Шонгауэр. Христос на троне. Гравюра (В. 70).
Шонгауэр. Мадонна с попугаем. Гравюра (В. 29).
Шонгауэр. Поклонение волхвов. Гравюра (В. 6).
Рогир ван дер Вейден. Средняя часть алтаря Колумбы (фрагмент). Мюнхен, Старая Пинакотека.
Гертген тот Синт-Янс. Поклонение волхвов. Прага, Национальная галерея.
Шонгауэр. Рождество. Гравюра (В. 4).
Шонгауэр. Искушение св. Антония. Гравюра (В. 471).
Шонгауэр. Смерть Марии. Гравюра (В. 331).
Шонгауэр. Несение креста. Гравюра (В. 21).
Шонгауэр. Иоанн Креститель. Гравюра (В. 54).
«Танец смерти» из «Хроники» Шеделя. Гравюра на дереве.
Дюрер. Вавилонская блудница. Гравюра на дереве.
Питер Брейгель Ст. Воскресение Христа. Гравюра (Bastelaer 114).
Питер Брейгель Ст. Мудрые и неразумные девы. Гравюра (Bastelaer 113).
Питер Брейгель Ст. Детские игры. Вена, Художественно-исторический музей.
Питер Брейгель Ст. Морские корабли. Гравюра (Bastelaer 105).
Питер Брейгель Ст. Поклонение волхвов. Лондон, Национальная галерея.
Питер Брейгель Ст. Калеки. Париж, Лувр.
Питер Брейгель Ст. Слепые. Неаполь, музей Каподимонте.
Питер Брейгель Ст. Крестьянская свадьба. Вена, Художественно-исторический музей.
Питер Брейгель Ст. Крестьянский танец. Вена, Художественно-исторический музей.
Эль Греко. Погребение графа Оргаса. Толедо, церковь Сан Томе.
Микеланджело. Христос на кресте с Марией и Иоанном. Оксфорд, музей Ашмолеан.
Тинторетто. Вознесение Христа. Венеция, Скуола ди Сан Рокко.
Жак Белланж. Три Марии у гроба. Гравюра.
Эль Греко. Моление о чаше. Будапешт, музей изящных искусств (б. собр. барона Херцога).
Эль Греко. Снятие пятой печати. Нью-Йорк, музей Метрополитен. (Б. собрание Суолага, Париж).
Содержание
Живопись катакомб.
Начала христианского искусства5
Идеализм и натурализм в
готической скульптуре и живописи 51
Введение53
Идеалистические основы62
Новое отношение к природе114
Новое отношение к искусству 134
Шонгауэр и нидерландская живопись 177
« Апокалипсис» Дюрера225
Исторические предпосылки
нидерландского романтизма 239
Питер Брейгель Старший253
Эль Греко и маньеризм 299
От редактора319
Список иллюстраций327
Сноски
1
Die Malereien der Katakomben Roms / Herausgegeben von I. Wilpert. Freiburg, 1903.
(обратно)2
Wulff. Die altchristliche Kunst. («Handbuch der Kunstwissenschaft»). Berlin, 1911.
(обратно)3
Поручения души (лат.).
(обратно)4
А. Riegl. Die spätromische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich — Ungarn im Zusammenhange mit der Gesamtentwicklung der bildenden Künste bei den mitelmeer Völkern. Wien. 1901.
(обратно)5
*Hugo Koch. Die altchristliche Bilderfrage nach den literarischen Quellen. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Neue Folge. 10 Heft). Göttingen, 1917.
(обратно)6
«Эти древние жили многообразно в мире "картинок", однако они ими не обладали», говорит Кох (Koch. Op. cit. S. 24, an. 1). С искусствоведческой точки зрения это непредставимое допущение.
(обратно)7
Prudentius, contra Symmachum II, 45 ff. Migne Р. L. 60, 183. Это не пустые бабьи сказки — картина передает историю, которая, изложенная в книгах, являет истинную достоверность древнейших времен (лат.).
(обратно)8
Пустые сны вещей (лат.).
(обратно)9
Ср.: Dehio. Kunsthistorische Aufsätze. München, 1914. S. 6.
(обратно)10
W. Worringer. Formprobleme der Gotik. München, 1911
(обратно)11
Также и недавно появившаяся обстоятельная книга A. Pelizzari о средневековых трактатах об искусстве (I trattati attorno le arti figurative in Italia I. Dall' antichità classica al sec. XIU. Napoli 1915) страдает подобной односторонностью. Ценна несколько многословная попытка Л. Пелицари доказать, что в алхимических, естественнонаучных и технических сочинениях и «книгах рецептов» непрерывно передавались и сохранялись остатки античной практической литературы об искусстве. Но значение этих трудов для искусства средних веков и его исследования при этом сильно переоценивается. Эти сочинения дают мало для оценки живого и постоянного развития взглядов на искусство и становятся лишь тогда важными, когда они, начиная с XIV века, в связи с возрастающим освобождением от средневековой трансцендентной обусловленности искусства во все большей и большей степени соединяются с художественно теоретическими правилами и рассуждениями.
(обратно)12
В церковной и средневековой литературе можно найти нескончаемые примеры для этой принципиальной перемены в восприятии искусства. Лучше всего, пожалуй, она выражена в известных стихах, которыми аббат Сюжер украсил бронзовые двери Сен-Дени (Didron. Iconographie Chrétienne, 9).
(обратно)13
В зародыше (букв. — в яйце; лат.). **Гуманитарные дисциплины (лат.).
(обратно)14
Разрозненные члены (лат.).
(обратно)15
*Наиболее остро, удачно и поучительно для искусствоведов эти всеобщие предпосылки сформулированы в: Troeltsch Е. Die Soziallehren der christlichen Kirchen u. Gruppen. Tübingen, 1912. В связи со сказанным и с последующим изложением ср. особ. S. 181 и далее.
(обратно)16
Ср.: Troeltsch E. Op. cit. S. 182 ff.
(обратно)17
Государство, град Божий (греч., лат.).
(обратно)18
Конечно, неслучайно, что ее начала уходят в древнехристианское время, когда новые духовные потребности возымели следствием стремление к дематериализации зданий.
(обратно)19
"Ср.: Dehio, op. cit. S. 44.
(обратно)20
В самой страстной форме выражено это уже у Тертуллиана («De idolatria liber» с. III, Migne, Р. L. 1,740): «At ubi artifices statuarum et imaginum et omnis generis simulacrorum diabolus saeculo intulit, rude illud negotium humanae calamitatis, et nomen de idolis consecutum est, et perfectum. Exinde jam caput facta est idolatriae ars omnis, quae idolum quomodo edit». (Но где дьявол насадил искусников, создающих статуи, изображения и всякого рода подобия — сей грубый труд погибели человеческой, там и само имя, и дело пошло от идолов. Потому и основа идолопоклонства — всякое искусство, которое каким-либо образом творит идолов (лат.).). Если же на это возразить, что художники должны жить своей работой, то тем самым можно было бы извинить и fures balneanos et ipsos latrones (банных воров и самих грабителей (лат.)). Новая позитивная программа была ярче всего выражена св. Августином: «Non in aliqua mole corporea suspicanda est pulchritudo» (Не следует искать красоту в какой-либо телесной громаде (лат.)) (Epist., ad Consentium, с. 4 п. 20 Migne, P. L. 33, 462).
(обратно)21
*W. Vöge. Die Anfänge des monumentalen Stiles im Mittelalter. Strassburg. 1894. S. 50, 52 и сл.
(обратно)22
Лежащая в основе форма (идея) (лат.).
(обратно)23
«Сейчас пришел век духа», писал в 1200 г. Амальрих из Бены (ср.: Eicken. Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung. S. 605)
(обратно)24
Borinski Karl. Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. Leipzig, 1914. S. 67 ff.
(обратно)25
Так, еще у Данте: «non и se non splendor di quella idea che partorisce, amando, il nostro sire» («лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий своей Любовью бытие дает» — пер. М. Лозинского; Parad. XIII, 53-54 ff). Ср.: Janitschek. Dantes Kunstlehre und Giottos Kunst. Leipzig, 1892.
(обратно)26
Примечательно, что уже у Григория Назианзина можно найти выпад против цветового импрессионизма (Carmen de se ipso et de episcopis v. 739 ff., Migne, P. Gr, 37, 1220) свидетельства превосходства над античными творцами мы встречаем часто в средние века, и то, что античные авторы рассматривались как противоположность знанию, показывает «Битва семи искусств» Henri d'Andely в XIII веке (ср.: R. v. Liliencron. Über den Inhalt der allgemeinen Bildung im Zeitalter der Scholastik. München, 1876. S. 47).
(обратно)27
Особенно часто в этом смысле указывалось на новый графический стиль средневекового искусства.
(обратно)28
«Процесс, которые совершался в Египте, повторяется вновь: мир форм, типично установленный для каждого штриха, теперь со всех стен вещает о благодеяниях религии», — говорит Р. Каутцш (R. Kautzsch. Die bildende Kunst und das Jenseits. Jena und Leipzig, 1903).
(обратно)29
"«Pulchrum respicit vim cognoscitivam» (Прекрасное связано с возможностью быть познанным (лат.). — S. Th. I, qu. 5, а. 4, ad. 1).
(обратно)30
*Начало этого также относится к древнехристианскому времени, где это можно проследить и в искусстве, и в литературных объяснениях по поводу внешнего вида священных персонажей. Так, Климент Александрийский говорит, что «Господь сам по своему внешнему образу был некрасив, о чем свидетельствует нам святой Дух, согласно Исайе: «мы его видели и в нем не было ни благообразия, ни красоты; не приукрашен был образ его и неотличим от других людей. И все же кто милее Господа? Он выделялся не красотой плоти, которая лишь кажимость, но истинной красотой души и тела, это та любовь, что есть бессмертие плоти» (Paedag. 1, 3, с. 1; ср. Jungmann J. Ästhetik, S. 43 ff). Св. Фома пишет, напротив, «Oportet quod omnes nobilitates omnium creaturarum inveniantur in Deo nobilissimo modo et sine aliqua imperfectione» (Следует, чтобы все достоинства всех творений обретались в Боге благороднейшим образом, без какого-либо изъяна (лат.). — 1. Sent, d. 2, qu. 1, ad. 2). И это различие во взглядах является результатом всего лежащего между ними средневекового развития.
(обратно)31
Схоластическая философия богата комментариями по этому поводу. Наиболее красиво и умно сформулировано это учение св. Фомой (S. Th. I, gu. 77, а. 2).
(обратно)32
Dicendum est ergo quod res, quae sunt infra hominem, quaedam particularia bona consequuntur et ideo quasdam paucas et determinatas operationes habent et virtutes. Homo autem potest consequi universalem et perfectam bonitatem, quia potest adipisci beatitudinem. Est autem in ultimo gradu secundum naturam eorum quibus competit beatitudo. Et ideo multis et diversis operationibus et virtutibus indiget anima humana. Angelis vero minor diversitas potentiarum competit. In Deo vero non est aliqua potentia vel actio praeter eius essentiam (Таким образом, следует сказать, что вещи, которые ниже человека, достигают неких частных благ и, таким образом, некой малой и ограниченной пользой и добродетелями. Человек, однако, может достигнуть полной и совершенной благости ибо возможно достигнуть блаженства. Блаженство же в высшей степени соответствует природе тех, кто к нему способен. Душа человеческая, таким образом, желает множества благодеяний и добродетелей. Даже ангелы лишены такого разнообразия способностей. В Боге же нет никакой способности или действия кроме его сущности (лат.). — Фома Аквинский в вышеприведенной связи. S. Th. I, qu. 77, а. 2 с).Сходно также у Hugo de St. Viktor (Expositio in Hierarchiam coelestam S. Dionysii Areopag. P. 3). В популярном изложении можно найти это фундаментальное учение в «Учебнике» Винцента из Бове (ср.: R. v. Liliencron a. a. O. S. 12 ff).
(обратно)33
Ср.: W. Vöge. Eine deutsche Malerschule um die Wende des ersten Jahrtausends. S. 377 — где обсуждается вопрос о связи подобных изображений с общим средневековым запасом форм.
(обратно)34
Известные, часто цитируемые места из сочинений Фомы Аквинского следующие: I qu 39, а. 8, II, qu 145, а. 2 и I Sent. d. 31, qu 2, а. 1 («Красота имеет ясность»), «Pulchritudo habet claritatem». Также следовало бы упомянуть некоторые места из Opusc. de pulchro (к примеру: «Omnis forma per quam res habet esse, est participatio quaedam divinae claritatis» — «Всякая форма, через которую имеет быть вещь, есть некая причастность божественной ясности» (лат.).). Для толкования важен комментарий к псевдо-Дионисию, при этом второстепенным является вопрос, мог ли быть написанный Фомой лично Opusculum de pulchro, найденный Учелли. Содержание сочинения, без сомнения, полностью отвечает воззрениям великого схоластика (ср. Pelizzari a. a. O. S. 303 ff). Старая литература об эстетических взглядах св. Фомы происходит по большей части из-под пера теологов и уже поэтому мало что предлагает искусствоведам, так как она не исследует эти взгляды исторически, но в первую очередь желает на историческом основании в связи с усилиями по созданию нового, религиозно и нравственно содержательного искусства указать на это как на попытку, достойную стремления и для современности. Таковы, к примеру, скорее обширная, чем глубокая попытка Б. Й. Юнгмана (Jungmann В. Y. Ästhetik. Freiburg i. B. 1884), где выстраиваются руководства и система эстетики на томистской основе, или работа П. Балле (Р. Vallet. L'idee du Beau dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin (2-е изд. Paris, 1887). Новые исследования, такие как Менендеса-и-Пелайо (Menéndez ó Pélayo. Ideas estéticas I.Madrid, 1909) и M. де Вульфа (M. de Wulf. Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, 4-e франц. изд., Löwen, 1912) хотя и освещают многосторонне связи теории искусства св. Фомы с развитием схоластики, но ни в коей мере не учитывают соотношения со средневековым искусством, благодаря чему только и возможно объяснить все значение учения. Некоторые указания на переклички между Фомой Аквинским и Джотто можно найти в: Janitschek. Die Kunstlehre Dantes und Giottos Kunst. Leipzig, 1892. Однако же Джотто уже не в полной мере стоит на тех основах развития искусства, что нашли свое выражение в томистской эстетике.
(обратно)35
«Совершенным же считается то, что не имеет никакого недостатка сообразно образу своего совершенства» (Фома Аквинский, I qu. 5, а. 5 с. I), «... то, чему чего-либо не хватает, тем самым постыдно» (Фома Акв. I qu 39, а. 8 с). («Perfectum autem dicitur, cui nihil deest secundum modum suae perfectionis» (S. Th. I, qu. 5, a. 5 c); «...quae enim dimenuta sunt, hoc ipso turpia sunt» (S. Th. I, qu. 39, a. 8 c.)).
(обратно)36
«Ratio pulchri consistit in quadam consonantia diversorum. (Opusc. de pulchra.) Dicendum quod, sicut ad pulchritudinem corporis requiritur, quod sit proportio debita membrorum... ita ad rationem universalis pulchritudinis exigitur proportio aliqualium ad invicem vel partium, vel principiorum, vel quorumcumque... (Ibid.). Deus dicitur pulcher universorum consonantiae et claritatis causa» — «Смысл прекрасного состоит в некоем согласии противоположностей (Трактат о прекрасном). Следует сказать, что как для телесной красоты требуется, чтобы была должная пропорция членов... так и суть абсолютной красоты требует некой взаимной пропорции частей ли, или начал, или чего бы то ни было (там же). Бог именуется прекрасным, причиной согласия и ясности всего.» (лат.).(S. Th. I, qu. 39, a. 8). Для сравн. также S. Th. I, qu 44, a. 4 c. и II sec. qu. 145, a. 8, далее Exp. in libr. B. Dionys de div. nomin. cap. 4, lect. 5.
(обратно)37
Pulchrum in ratione sui plura concludit; scilicet splendorem formae substantialis vel accidentalis supra partes materiae proportionatas ac determinatas (Opusculum de pulchro). — Прекрасное в сущности своей заключает малое, а именно великолепие сущностей (субстанциальной) или случайной (акцидентальной) формы, помимо пропорциональных и определенных частей материи» (Трактат о прекрасном) (лат.).
(обратно)38
3нание творца,.. действующая причина (лат.).
(обратно)39
Ср. к примеру, у Фомы Аквинского: S. Th. I, qu. 16, а. 1 с. (Et inde est, quod res artificialis dicuntur verae per ordinem ad intellectum nostrum: dicitur enim domus vera, quae assequitur similitudinem formae quae est in mente artificis — Посему искусственные вещи называются истинными в силу соответствующего нашему пониманию устройства; ибо дом, например, называется настоящим, если он соответствует форме, обретающейся в разуме создателя (лат.).) или S. Th. I, qu. 14, а. 8 (Scientia autem artificis est causa artificiatorum, eo quod artifex operatur per suum intellectum. Unde oportet, quod forma intellectus sit principium operationis: sicut calor est principium calefactionis — Знание же творца есть причина творений, поскольку творец действует посредством своего интеллекта. Посему следует, чтобы форма интеллекта была началом действия, как жар есть начало тепла (лат.).).
(обратно)40
F. Witting. Die Anfänge, christlicher Architektur? Strassburg, 1902; Von Kunst und Christentum. Strassburg, 1903.
(обратно)41
W. Pinder. Einleitende Voruntersuchungen zu einer Rhythmik romanischer Innenräume in der Normandie. Strassburg, 1904; Zur Rhythmik romanischer Innenräume in der Normandie. Strassburg, 1905.
(обратно)42
С точки зрения вечности (лат.).
(обратно)43
Vöge. Die Anfänge des monumentalen Stiles im Mittelalter. S. 313 ff.
(обратно)44
Cp.: Worringer. Op. cit., S. 48 и след., причем следует, во всяком случае, оставить в стороне обобщения автора.
(обратно)45
Ср.: Vöge. Op. cit. S. 313 и след.
(обратно)46
На кончиках ног (um.).
(обратно)47
Относительно обусловленного христианством, принципиально отличного от античного, значения скульптуры в средние века и в новое время, сравни интересные мысли Виттинга (Ук. соч., т. I). Последних выводов я, правда, разделить не могу.
(обратно)48
Происхождение этого способа изображения позволяет проследить его еще в древнехристианское время. Он испытал в средние века много изменений и приобрел в готике новое значение.
(обратно)49
С этой точки зрения сильные византийские влияния в западной скульптуре и живописи с XI в. представляются целостным движением, которое в Италии, а частью и в Германии, будучи обогащено новыми точками соприкосновения в восприятии формальных проблем, достигло своего предела только в XUI в. Монографическая литература к этой главе византийского вопроса обширна, но общего изложения нет. Оно было бы очень желательно.
(обратно)50
Первые предпосылки этого развития можно найти в каролингском возрождении.
(обратно)51
Ср.: W. Pinder. Zur Rhythmik romanischer Innenräume in der Normandie. S. 39.
(обратно)52
J. Lange. Ein Blatt aus der Geschichte des Kolorits, в: Ausgewählte Schriften. Bd. 2. S. 130 ff.
(обратно)53
Превосходную окончательную формулировку находим у Фомы Аквинского: «Господь радуется абсолютно всем вещам, ведь каждая пребывает в действительном согласии со своим существом» (ср.: Jungmann. Ästhetik, 92).
(обратно)54
Это особенно надо иметь в виду при рассмотрении проблем нового статуарного монументального стиля. Без сомнения, возобновление самой практики статуарного искусства, потерявшего в эпоху художественного антиматериализма все права на существование, связано прямо или косвенно с античными воздействиями, причем нельзя говорить ни об опытах подражания, ни о соперничестве с античными статуями. Но разве действительно люди были совсем слепы и глупы, как это однажды утверждалось, перед красотою классического телосложения? Разве единственная причина, почему от нее отвернулись, состояла действительно в том, что, не имея опыта в изображении тел, потеряли понимание высоких преимуществ античных образцов? Что это было не так, доказывается недвусмысленно тем, что, несмотря на возможность часто наблюдать античные влияния, на севере вплоть до Возрождения — за ничтожными исключениями — нет попыток обогатить в этом направлении художественные решения и противопоставить классическим произведениям искусства что-либо похожее. Даже в статуях, несмотря на сильное движение Возрождения в XIU в., все попытки такого рода оставались очень робкими и были почти безрезультатными, пока в XV в. внезапно не наступил поворот по причинам, которые должны быть рассматриваемы в другой связи. Между Венерой Пизанской и бронзовым Давидом Донателло находится пропасть, требующая более глубокого объяснения, чем только введенное натуралистическим прогрессом новое понимание античности. Натуралистические достижения готики были, возможно, внешней предпосылкой, но ни в коем случае не собственной внутренней причиной этого перелома.
(обратно)55
Ср.: Kurt Freyer. Entwicklungslinien in der sächsischen Plastik des dreizehnten Jahrhunderts // Monatshefte für Kunstwissenschaft IV (1911). S. 261 ff. Это — заслуживающая внимания попытка рассмотреть художественные проблемы готической скульптуры на локально и временно ограниченном примере.
(обратно)56
Так, уже Павлин из Нолы в ответ на просьбу Сульпиция Севера о портрете его и его жены, отказывает таким образом: «Qualem cupis ut mittamus imaginem tibi? Terreni hominis an coelestis? Scio quia tu illam incorruptibilem speciem concupiscis, quam in te rex coelestis adamavit»(«Какое хочешь получить от нас изображение? Земного человека или небесного? Я знаю, ты жаждешь того непорочного образа, который любит в тебе царь небесный» (лат.)). (Epistola XXX. Migne P. L. 61, 322). То, что должно было казаться классически образованному епископу несоединимым с сущностью искусства и вследствие этого исчерпывающим основанием для отказа от него, постепенно трансформировалось в последующее время в исходный пункт нового изображения человека. Подобные мысли снова и снова высказывались средневековыми писателями: «Quid namque eorum, quae in facie lucent, si internae cuiuspiam sanctae animae pulchritudini comparetur, — писал Бернар Клервосский, — non vile ac foedum recto appareat aestimatori?» («Ибо что из того, что кажется прекрасным во внешнем облике, если сравнивать его с вечной красотой какой-либо святой души, не покажется по справедливости оценивающему жалким и уродливым» (лат.)). (В Cant. Serra. 27, Nr. 1. Migne P. L. 183, 913). Также и у Фомы Аквинского: «Perfectissima formarum id est anima humana, quae est finis omnium formarum naturalium» (Qq. disp. q. de spirit. creat. a. 2). («Совершеннейшая из форм, то есть душа человеческая, каковая есть цель всех естественных форм» (лат.)).
Однако же это означает для согласования в искусстве его времени красоты духовной и телесной уже не непреодолимое противоречие, так как он пытается установить некое более близкое разграничение. В то время как для классициста среди отцов церкви, для св. Августина, в его эпоху телесная красота была низшей степенью красоты (pulchritudo ima extrema. De vera relig. c. 40, n. 74, Migne P. L. 34, 155), то св. Фома пытается в соответствии с новым искусством воздать должное как телесному, так и духовному: «Visio corporalis est principium amoris sensitivi. Et similiter contemplatio spiritualis pulchritudinis vel bonitatis est principium amoris spiritualis» («Телесное зрение есть начало чувственной любви. И подобным же образом созерцание духовной красоты или благости есть начало духовной любви» (лат.)).(S. Th. I, sec. qu. 27, а. 2).
(обратно)57
Наиболее отталкивающие современного зрителя, похожие на мертвецов головы были созданы лишь в XII в. на пороге нового готического искусства, и направление, из которого они возникли, господствовало даже во Франции в отдельных школах и тогда, когда новый стиль был уже развит. См.: Vöge. Ук. соч., стр. 44, рис. 15.
(обратно)58
Borinski. Op. cit, S. 73.
(обратно)59
Е. Troeltsch. Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter. S. 112; ср.: Riegl. Das spätrömische Kunstindustrie. S. 211 ff.
(обратно)60
Cp.: Фома Аквинский, I, sec. qu. 5, 27, 39 и II sec. qu. 145, a. 2 и также комментарий к псевдо-Дионисию «De divinis nominibus», cap. 4, I. 5
(обратно)61
Это новое восприятие художественной правды находит себе выражение также в писаниях Фомы Аквинского: «Относительно образа следует полагать, что он происходит из другого, схожего с ним по виду, или же как бы вроде знака вида» (Фома Аквинский, I, 35, а. 1). Схоже также и в комментарии к Дионисию Ареопагиту: «...pulchrum addit supra bonum ordinem ad vim cognoscitivam illud esse huiusmodi» («...прекрасное добавляет к благому порядок и познаваемость, дающую возможность быть каким-то образом тем, а не иным» (лат.)).(с. 4, lect. 5).
Еще дальше идет Дунс Скот: «Nunc autem in toto opere naturae et artis etiam ordinem hunc videmus, quod omnis forma sive plurificatio semper est de imperfecto et indeterminato ad perfectum et determinatum» («Ныне же мы видим во всяком творении природы и искусства тот порядок, который есть всякая форма или умножение, всегда ведущее от несовершенного и неопределенного к совершенному и определенному» (лат.)) .(De rer. princ, qu. 8, а. 4, 28, p. 53 b, Лейденское издание 1639 года).
(обратно)62
Стихи Пруденция «Басня не бессмысленна и не старческая; живопись передает историю, которая засвидетельствована в книгах, показывает истинную веру старого времени» (Peristephanon Hymn IX, Migne P. L. 60, 434) часто перефразировались в средние века, причем в раннее время наивно подчеркивалась практическая цель. «Картины в церкви, — писал Григорий Великий епископу Серену, — должны быть для простых людей тем, что для образованных книги» (L. 9. epist. 208. Mon. Germ. Epist. II, S. 195). Точно так же высказался и синод в Аррасе в 1025 г. (Didron, Iconographie Chrétienne, S. 6). C XII в. место педагогического обоснования заняли, как правило, указания на идеальную ценность искусства. Ср.: Фома Акв., I, qu 75. а. 5с; S. Th. II, sec. qu 167, а. 2 с. и сочинение Бонавентуры «De reductione artium ad theologiam».
(обратно)63
«Деревья и камни научат тебя тому, что ты не сможешь услышать от учителей», — говорит Бернард. О средневековом символизме см.: Borinski. Op. cit.; относительно своеобразной роли «примера» в средневековом искусстве см.: /. Schlosser. Zur Geschichte der kunstl. Überlieferung im späten Mittelalter // Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen. Band XXIII. S. 284; и: /. Schlosser. Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte//Wien. Akad. der Wissenschaften. 1914. Bd. I. 77. Abt. 3. S. 86.
(обратно)64
Cp.: Liliencron. Op. cit. О связях между «Зерцалом» Винцента из Бовэ и современным ему искусством: Е. Male. L'art religieux du XIII s. Paris, 1902; следует, однако, подчеркнуть, что при этом речь не может идти о непосредственных заимствованиях.
(обратно)65
Согласно Винценту из Бовэ, человек поднимается через восприятие сотворенного от низших к высшим ступеням познания, к познанию Бога; от созерцания отражения к постижению прототипа (ср.: R. V. Liliencron. Op. cit. 13).
(обратно)66
Ср.: W.Vöge. Die Bahnbrecher des Naturstudiums um 1200// Zeitschrift für bildende Kunst XXV. 1914. S. 193 ff.
(обратно)67
А. Weese. Die Bamberger Domskulpturen. II. Aufl. Strasburg, 1914. S. 160.
(обратно)68
Цит. по: Байрон Дж. Собр. соч. Т. II. СПб., 1904. С. 131 (пер. О. Чюминой) (прим. ред.).
(обратно)69
Ср.: A. Goldschmidt. Das Naumburger Lettnerkreuz im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin // Jahrb. d. Kgl. Preuß. Kunstsamml. Bd. 36. 1914. S. 137 ff.
(обратно)70
J. Ruskin. Gotik u. Renaissance. Übersetzt von. J. Feis // Wege zur Kunst II. Straßburg, o.J.S. 23.
(обратно)71
Ср.: J. H. Loewe. Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus im Mittelalter // Abh. d. Kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften Folge VI. Bd. 8. S. 44 ff.
(обратно)72
Заслуживающее внимание мнение М. де Вульфа о том, что нельзя говорить о существовании до начала XIU века последовательного номинализма в полном смысле этого слова, т. к. все более старые номиналистические теории следует понимать лишь в качестве предварительного этапа и номиналистических течений в рамках всеобщего реализма, совпадает с тем, что можно наблюдать также и в искусстве. Ср. статью де Вульфа в Arch. für Gesch. der Philos. Bd. II, S. 427 ff. и его же: Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. 4. franz. Ausg. Löwen, 1912. S. 208.
(обратно)73
Ради вящей славы Господней (лат.).
(обратно)74
См. формулу Фомы Аквинского («Господь радуется абсолютно всем вещам, ведь каждая пребывает в действительном согласии со своим существом»).
(обратно)75
Гете, «Ученик чародея». — Прим. ред.
(обратно)76
Ср.: М. de Wulf. Op. cit. S. 323.
(обратно)77
для непосвященных (букв. «для внешнего форума, рынка») (лат.).
(обратно)78
Windelband. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. VI. Aufl. S. 258.
(обратно)79
«Sine experientia nihil potest sufficienter sciri» («Без опыта ничто не может быть достаточно познано» (лат.))— гласит его знаменитое выражение, которое можно дополнить еще такими словами: «non certificat neque removet dubitationem, ut quiescat animus in intuitu veritatis («не дает уверенности и не уничтожает сомнения, так чтобы дух упокоился в созерцании истины» (лат.)). (Opus Majus p. 6, с. 1).
Для познания сверхъестественных вещей он допускает еще и внутренний опыт (illuminatio interior). Ср.: M. de Wulf. Op. cit. S. 332.
(обратно)80
Ср.: М. Maywald. Die Lehre von der zweifachen Wahrheit. Berlin, 1871.
(обратно)81
Altdeutsche Malerei. Jena, 1909. Введение.
(обратно)82
Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung. Leipz., 1910. S. 4.
(обратно)83
Отказывающееся от всякой прагматической связи хроникальное перечисление фактов является, пожалуй, противовесом легендарному и сверхъестественному объяснению фактов, подобно тому как грубая форма глыбы — противовесом спиритуальной системе фигурной и архитектонической композиции.
(обратно)84
J. Bedier. Les Legendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste. Bd. IV. Paris, 1913. Для сравнения см. также: S. Singer. Mittelalter und Renaissance. Die Wiedergeburt des Epos. Tübingen, 1910.
(обратно)85
Wechsler. Das kulturgeschichtl. Problem des Minnesanges. Halle, 1909. Ср. также: Heinzel. Über den Stil der altgermanischen Poesie. Strassburg, 1875.
(обратно)86
Wickhoff. Die Gestalt Amors in der Phantasie des italienischen Mittelalters // Jahrbuch der Preuss. Kunstsamml. 1890. Bd. 11. S. 41.
(обратно)87
K.Voßler в «Die Göttliche Komödie» (II. 1, S. 47) говорит: «Великие итальянские теологи... принадлежат итальянскому народу больше по рождению, чем по их исследованиям, воздействию и трудам».
(обратно)88
Соответствующие высказывания собраны в: Pelizzari. Op. cit. S. 308 ff.; ср.: M. de Wulf. Études historiques sur L'esthétique de St. Thomas d'Aquin. Löwen, 1896.
(обратно)89
Borinski, Op. cit., S. 106; о новом положении художников. Ср.: А. Dresdner. Die Kunstkritik. I. S. 64 и след.
(обратно)90
Ср. исследование К. М. Свободы (К. M. Swoboda) o флорентийском баптистерии (Berlin, 1918). Имеет значение и многочисленная литература об антикизирующей южноитальянской скульптуре XUI в. и о Николо Пизано. Важный материал к истории нового итальянского восприятия живописных проблем можно найти в большой публикации римских мозаик и картин Вильперта (Freiburg, 1916); новые наблюдения — у Ринтелена (Rintelen) (Giotto. S. 68).
(обратно)91
Rintelen.Op. cit. passim.
(обратно)92
Первую попытку теоретического объяснения этого различения, корни которого, как было выше показано, следует искать в философии Фомы Аквинского,можно найти у св. Бонавентуры (в Lib. III, Sentent, distin. 23, dub. 4).
(обратно)93
F. Winkler. Der Meister von Flémalle und Rogier von der Weyden. Strassb., 1913. S. 139.
(обратно)94
Bnrckhardt J. Weltgeschichtliche Betrachtungen. S. 105.
(обратно)95
Истина обитает во внутреннем человеке (лат. ).
(обратно)96
Охватывая весь мир {лат. ).
(обратно)97
3а исключением так называемых «юношеских произведений», которые я не считаю работами Яна (ср. мое исследование: «Die Anfänge der Holländischen Malerei», в: Jahrbuch der Kgl. preuss. Kunstsammlungen. Bd. 39. 1918. S. 51).
(обратно)98
Е. Heidrich. Altniederländische Malerei. S. 15.
(обратно)99
Вероятно, опечатка в тексте М. Дворжака. Имеется в виду Ганс Плейденвурф (ок. 1420—1472 гг.). (Прим. ред.).
(обратно)100
Мах I. Fridländer. Martin Schongauers Kupferstiche // Zeitschrift für bildende Kunst. 1915, S. 105 ff. Уже Вендланд (M. Schongauer als Kupferstcher. Berl., 1907) пробовал положить в основу датировок гравюр Шонгауэра стилистические наблюдения. Но так как его исходной точкой были отдельные формы, он не мог достичь убедительных результатов.
(обратно)101
3десь и далее В. — Batsch A. Le peintregraveur. 21 vols. Vienna, 1802-1821.
(обратно)102
Осколками (лат. )
(обратно)103
А. Goldschmidt. Der Monforte-Altar des Hugo van der Goes. «Zeitschrift für bildende Kunst». 1915. S. 221 ff.
(обратно)104
L. Baldass. Mabuses Heilige Nacht, eine freie Kopie nach Hugo van der Goes // Jahrb. der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. Wien. Bd. 35. S. 34 ff.
(обратно)105
Все живет (лат.)
(обратно)106
L. Baldass. Ein Frühwerk des Geertgen tot Sint Jans und die holländische Malerei des XV Jahrunderts//Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. Bd. 35. S. lff.
(обратно)107
L. Baldass. Die Chronologie, der Gemälde des H. Bosch // Jahrb. der Kgl. Preuß. Kunsthist. Sammlungen, Bd. 38.1917. S. 177.
(обратно)108
L. — Lehrs M. Geschichte und Kritischer Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstiches im 15. Jahrhunderts. 9 vols. Wien, 1908-1934.
(обратно)109
Lafond. Hieronimus Bosch. Brüssel, 1914. Taf. 62. То, что Босх вообще знал гравюры Шонгауэра, доказывает курьезное тропическое дерево, происходящее от шонгауэровского «Бегства в Египет» и находящееся на створке «Садов наслаждений» в Эскориале.
(обратно)110
Следует сравнить сцены «Страстей" на задней стороне картины «Иоанн на острове Патмос» в Берлинском музее и «Ce человек» из собрания Кауфман (теперь во Франкфурте, музей Штеделя). Неслучайно, должно быть, и бросающееся в глаза сходство передней стороны картины в Берлине с изображением Иоанна на Патмосе у Шонгауэра (В. 55).
(обратно)111
См. у Бальдасса в упомянутой выше статье.
(обратно)112
Ср: Winkler. Über verschollene Bilder der Brüder van Eyck // Jahrb. der preuss. Kustsamml. Bd. 37 (1916). S. 287; и мою статью о началах голландской живописи в 39 томе того же журнала.
(обратно)113
Ср.: Riegl. Das holländische Gruppenporträt // Jahrb. der Kunsthist. Sammlungen. Wien. Bd. 23. S. 71.
(обратно)114
Зеркала человечества (лат. ).
(обратно)115
Страх перед пустотой (лат. )
(обратно)116
Ян Госсарт (прозв. «Мабюзе», ок. 1478-1480 - между 1533— 1536) (прим. ред.)
(обратно)117
к источникам (лат. ).
(обратно)118
с точки зрения вечности (лат. ).
(обратно)119
Max J. Friedländler. Von Eyck bis Bruegel. Berlin, 1916. S. 160.
(обратно)120
R. van Bastelaer. Peter Bruegel l'Ancien, son oeuvre et son temps. Brux. 1907.
(обратно)121
Указ. соч. Кроме этих двух ученых, мы обязаны основательными изысканиями о Брейгеле также А. Ромдалю (Р. Brueghel d. Ältere u. sein Kunstschaffen // Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. Bd. XXV. S. 85 ff) и Гюлену де Лоо, опубликовавшему в издании Бастелара критический каталог произведений Брейгеля.
(обратно)122
Simmel G. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. S. 181 ff.
(обратно)123
Ср.: Hedicke R. Cornelis Floris und die Floris — Dekoration. Berlin, 1913. S. 330 ff.
(обратно)124
Воображения, достаточно полного и достаточно всеохватного, чтобы обнять вселенную, как свой город (франц.).
(обратно)125
Ср. возражения против подобного понимания в: G. Glück. Peter Breugels des Älteren Gemälde im Kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien. Brüssel, 1910, S. 5 f.
(обратно)126
Боязнь пространства (лат. ).
(обратно)127
Ср. превосходное исследование: L. Baldass. Die niederländische Landschaftsmalerei von Patinir bis Bruegel // Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. Bd. XXXIV. S. 111 ff.
(обратно)128
А. Romdahl. Op. cit. S. 131.
(обратно)129
С точки зрения вечности (лат. )
(обратно)130
Часть вместо целого (лат. )
(обратно)131
С соответственными оговорками (лат. )
(обратно)132
Он был сумасшедшим (исп.).
(обратно)

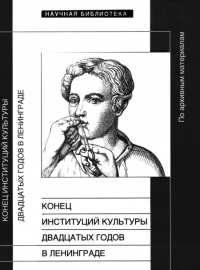

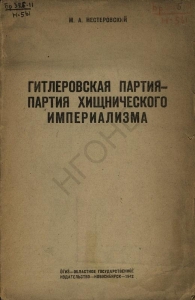
Комментарии к книге «История искусства как история духа», Макс Дворжак
Всего 0 комментариев