Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК
ТЮРЬМЫ и ССЫЛКИ
Памяти
Варвары Николаевны Ивановой
(? 18 марта 1946 года в Рендсбурге),
вместе с которой мы сорок лет
переживали содержание этой книги.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ЮБИЛЕЙ
ССЫЛКА
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя писателя Р. В. Иванова-Разумника известно русским людям старшего поколения. Он был не только современником эпохи расцвета русской духовной культуры и литературы XX столетия, но и деятельным ее участником.
Менее известен Иванов-Разумник молодому поколению русских читателей. Вот почему и хочется отметить основные вехи литературно-общественной биографии этого писателя.
Р. В. Иванов-Разумник (1878-1946) окончил Историко-философский факультет СПБ Университета. Литературной деятельностью начал заниматься в 1907 году. Никогда не был членом какой бы то ни было партии, но всю свою жизнь продолжал (а по мнению ГПУ даже возглавлял) то направление народничества, которое определяется именами Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского. Имя Иванова-Разумника, конечно, занесено было на черную доску. В период 1921-1941 гг. он был многократно арестован советскими властями, сидел по разным тюрьмам, был в ссылке. В августе 1941 г. был освобожден и временно проживал в городе Пушкино (бывшем Царском Селе), которое в октябре 1941 г. было занято немцами. Был вывезен в Германию и вместе с женой помещен за колючую проволоку в лагере Кониц (Пруссия). Летом 1943 г. Иванову-Разумнику вместе с женой удалось освободиться из немецкого лагеря и переселиться временно на отдых в Литву. Вырвавшись на свободу, он торопился писать, и здесь за очень короткое время успел написать четыре книги. Весной {8} 1944 г. Иванов-Разумник покинул Литву и вернулся в Кониц, где поселился уже на частной квартире, у друга. Зимой 1944 г. начались бесконечные скитания по разрушающейся Германии, которые окончились в г. Рендсбурге на Кильском канале. Во время этих скитаний и погибло большинство рукописей.
После продолжительной болезни, в марте 1946 г., скончалась жена Иванова-Разумника, за которой он самоотверженно ухаживал, поддерживая ее физические и моральные силы. После смерти жены, которая была ему верным другом и спутником всей его жизни, он переезжает к родственникам в Мюнхен с уже сильно пошатнувшимся здоровьем.
Скончался Иванов-Разумник 9 июня 1946 г. от удара, проболев всего пять дней и не приходя в сознание.
В основе миросозерцания Иванова-Разумника лежало характерное для дореволюционной интеллигенции стремление осуществить свободное развитие и утверждение человеческой личности и создать такие формы общества, при которых это было бы возможно. Считая какую бы то ни было партийную принадлежность ограничением независимой мысли, Иванов-Разумник никогда не вступал в ряды какой-либо политической партии. Наиболее близким ему было "народничество" и он считал себя продолжателем духовных традиций идеологов этого течения общественной мысли. В продолжение всей своей жизни с редкой последовательностью, а впоследствии и с редким мужеством, он являлся непримиримым и непоколебимым противником марксизма и не раз вел ожесточенные дискуссии с наиболее выдающимся его представителем Георгием Плехановым. Такие его взгляды и послужили причиной пресечения его самостоятельной писательской деятельности уже начиная с 1923 года. Повествуя о судьбах писателей в советской России за последние 25 лет, до Второй мировой войны, Иванов-Разумник делит их на три группы: {9} погибших (физически), приспособившихся ("лакеи") и "задушенных"; к последним он причисляет и себя.
В настоящее время в печати уже появилось немало свидетельских показаний, повествующих об истинном положении вещей в СССР. Однако, книга "Тюрьмы и ссылки" является не только повествованием и человеческим документом огромной важности. Она с необычайной силой вскрывает самую суть явлений. Чтобы создать такую книгу, надо было обладать необычайной зоркостью, присутствием духа и глубокой человечностью Иванова-Разумника.
В "Тюрьмах и ссылках" страшны не только личные судьбы людей, истязания, зверские расправы, - страшна возникающая с неотразимой убедительностью общая картина полного и систематического уничтожения человеческой личности. Это тот "воздух" советской действительности, в котором человек задыхается и за пределами тюрьмы.
Холодно рассчитанная жестокость и бесправие, возведенное в систему, являются методами и целью власти для подавления воли к сопротивлению через моральное унижение и лишение самого сознания человеческого достоинства. Это моральное уничтожение человека проводится по всему необъятному пространству СССР.
Нужно ознакомиться с трудом Иванова-Разумника, чтобы убедиться, что тюрьмы не могли сломать его волю и при всех обстоятельствах он оставался верным себе - человеком редкого благородства, который сохранил даже в "ежовские" времена свою полную духовную независимость.
Г. Янковский
{11}
ОТ АВТОРА
У каждой книги - своя судьба, даже тогда, когда она еще не книга, а только сырая рукопись. Судьба рукописи этой книги была весьма необычной: целый год лежала она закопанная в могиле, и если уцелела, то лишь благодаря стечению маловероятных случайностей.
Осенью 1933 года, после восьмимесячной одиночной камеры в Петербургском доме предварительного заключения, после кратковременной ссылки в Сибирь, попал я на трехлетнюю ссылку в Саратов, - на полную "свободу" (умеряемую ежемесячными семикратными явками в ГПУ), на полное безделье. Никакой работы найти не мог, да особенно и не искал ее: благодаря щедрой денежной помощи друга, жизнь была обеспечена, и я имел свободных 24 часа в сутки. Стал понемногу писать свои житейские и литературные воспоминания, исписал две толстые тетради, всего листов 15 печатных; дошел в них до начала девятисотых годов, до бурных лет нашей университетской жизни. Стал писать большую книгу "Письма без адресатов", собрание статей на разные темы. Писал и еще многое "в письменный стол", без надежды увидеть это в печати: я и до тюрьмы и ссылки был писателем, исключенным из литературы, а ссылка наложила печать окончательной отверженности.
Среди всех этих никчемных работ уделил время и тому "Юбилей", который теперь составляет главную часть настоящей книги: по свежей памяти записал все то, что случилось со мною в тюрьме, все свое "дело", за которое попал сперва в узилище, а потом и {12} в ссылку, все допросы следователей, весь быт тюремной жизни - "в назидание потомству":
То старина славна, то и деяние,
Старцам угрюмым на утешение,
Молодцам на поучение,
Всем на услышание...
Всем на услышание - хотя бы и через десятки лет: авось, рукопись эта сохранится и когда-нибудь узнают изумленные внуки, как в старину живали деды...
Знал, конечно, что очень рискую: если бы при новом обыске и аресте (а их всегда можно было ожидать) "Юбилей" попал в руки властей предержащих, то результатом была бы уже не ссылка, а концлагерь или изолятор. Поэтому старался припрятывать рукопись так, чтобы при предстоящем обыске, буде таковой последует, всемерно затруднить ее нахождение.
Но в Саратове ни нового обыска, ни нового ареста не последовало, и по окончании срока ссылки я в конце 1936 года благополучно увез свои рукописи на новое место жительства, в Каширу. В это время горизонт уже омрачался, наступали "ежовские времена", и держать "Юбилей" у себя становилось все более и более опасным. Я обратился к одному московскому другу, который, казалось, (а потом и оказалось), был вне возможных ударов "ежовщины", - с просьбой взять на хранение мою рукопись, содержание которой было ему совершенно неизвестно. Кстати заметить - о "Юбилее" я ни единой живой душе (кроме жены) не сказал ни единого слова; и этому московскому другу, согласившемуся приютить мою рукопись, я отвез ее в запечатанном конверте, сообщив только, что дорожу ею и не хотел бы, чтоб она пропала.
Друг взял конверт, - но времена были такие, что и он не рискнул держать у себя дома такое взрывчатое вещество, хотя и неизвестного ему {13} содержания. Он взял большую банку из-под консервов, уложил в нее конверт с рукописью, и ночью закопал банку в своем саду... Вот какие были времена и вот в каком унизительном страхе жили все мы в советском "раю".
И времена эти становились все более и более мрачными, а наши настроения все более и более напряженными: 1937 год показал нам такой размах террора, какого мы не испытывали и в годы военного коммунизма. Аресты шли не десятками и сотнями, а десятками и сотнями тысяч. Не было дома, не было семьи, не было знакомых, которые не оплакивали бы своих близких, невинных жертв дикого и безумного террора. Ведь надо было большевистской контрреволюции сравняться с французской революцией 1793 года! Да какое там сравняться! Не сравняться, а превзойти: детские цифры жертв робеспьеровского террора не идут ни в какое сравнение с числом жертв террора ежовско-сталинского. Запуганность людей дошла до предела, страх и трепет царили во всех домах.
Я в Кашире все время ждал ареста: всех бывших ссыльных подвергали новому заточению. Наступал сентябрь 1937 года - разгар "ежовщины", - когда я вдруг получил от московского друга письмо с просьбой приехать и взять у него мой экземпляр Чехова (под таким псевдонимом скрывалась консервная банка с рукописью). Московский друг мой был запуган не менее других. Он выкопал мою рукопись из ее годовой могилы, вернул ее мне и дал понять, что хорошо бы нам "некоторое время" вообще не общаться - ни лично, ни письменно. Я взял "Юбилей" и вернулся с ним в Каширу. Что было делать с рукописью? Благоразумие требовало - немедленно сжечь ее. Велика, подумаешь, потеря для потомства! Но - жалко было: материал все же был характерный. А потом: вдруг меня и минует новая чаша обыска, ареста, тюрьмы и всего {14} последующего? Я понадеялся на русский "авось" и оставил у себя рукопись.
В моей убогой каширской комнатке, где еле вмещались кровать, столик и стул, стоял, вместо буфета, большой деревянный ящик, поставленный "на попа"; между двумя верхними досками его я и втиснул свой "Юбилей", прикрыв сверху доски скатертью. И хорошо сделал, ибо "авось" не оправдался: через несколько дней свершилось неизбежное, явились агенты каширского НКВД по предписанию из Москвы, произвели обыск, забрали все бумаги и рукописи, - а "Юбилея" между двумя досками "буфета" не заметили, - арестовали меня, отвезли в Москву - и начался новый круг тюремных испытаний, продолжавшийся почти два года. Только в середине 1939 года, когда Ежова уже убрали и началась эпоха сравнительного террорного затишья - выпустили меня из московской тюрьмы с документом, что освобожден я "за прекращением дела", ввиду отсутствия состава преступления...
Каким же образом уцелел "Юбилей", остававшийся между двумя досками моего импровизированного "буфета"? Не могу не помянуть здесь добрым словом моего каширского соседа, бывшего железнодорожного кондуктора, Евгения Петровича Быкова. Его долго трепали с допросами в каширском НКВД, требуя, чтобы он показал, какие "контрреволюционные разговоры" вел я с ним в течение года моей жизни в Кашире. Е. П. Быков имел стойкость вытерпеть ряд допросов с угрозами и показать чистую правду, что никаких подобных разговоров я с ним не вел. А для такого показания надо было иметь большое мужество. Ведь показал же мой каширский сосед (и показания его мне были предъявлены следователем, как одно из обвинений), с которым я не был знаком и даже не кланялся при встречах на улице, ведь показал же он по приказанию каширского НКВД, что он своими глазами видел, как ко мне приезжали из {15} Москвы какие-то подозрительные люди, и что он своими ушами подслушал в вагоне поезда из Каширы в Москву, как я, провожая этих подозрительных людей, вел с ними возмутительные разговоры. Нужно заметить, что за весь год моей жизни в Кашире ко мне ни разу никто не приезжал. Несмотря на целый ряд допросов и угроз, Е. П. Быков устоял и показал только правду, - что, по советским нравам, должно рассматриваться, как редкое мужество.
После моего ареста жена приехала в Каширу за моими вещами, и тут, разбирая "буфет", случайно нашла между двумя досками тетрадь "Юбилея": видно не судьба была ему погибнуть ни в земляной, ни в дощатой могиле. Когда в середине 1939 года я вышел из тюрьмы, а еще через год попал в Царское Село, то стал дополнять "Юбилей" новыми главами, описывающими жуткую тюремную эпопею 1937-1939 годов.
К началу войны, к середине 1941 года, я не успел закончить эту работу - и очень сожалею об этом, потому что тогда, по свежей памяти, я мог бы записать многое такое, что за последующие годы скитаний начисто выветрилось из памяти (например, десятки фамилий сокамерников). Всегда ожидая нового ареста - так мы жили! - я держал "Юбилей" запрятанным среди десятка тысяч томов моей библиотеки - и случайно спас его после немецкого разгрома моей библиотеки осенью 1941 года. И здесь, видно не судьба была ему погибнуть. О разгроме этом я рассказываю в другой книге ("Холодные наблюдения и горестные заметы") и здесь не буду повторяться.
Прошли года. Вместо советских концентрационных лагерей, война занесла нас с женой за проволочные заграждения немецких "беобахтунгслагер" в городках Конице и прусском Штатгарте - на полтора года. Работать в них было немыслимо. В середине 1943 года вышли мы на свободу и поселились у {16} родственников в Литве, где я в течение восьми месяцев успел написать, дописать и обработать три книги, частью привезенные в черновиках еще из России - "Писательские судьбы", "Холодные наблюдения" и "Оправдание человека". Окончательно обработать "Юбилей" все еще не приходилось. В начале 1944 года вихрь войны погнал нас на запад, нашли приют и привет в семье новоявленных друзей, в городке Конице; там я теперь и дорабатываю многострадальный "Юбилей", дописываю свои воспоминания о тюрьмах и ссылках.
"Юбилей" остается основной частью всей книги. Дописываю лишь страницы, посвященные тюремным переживаниям и впечатлениям 1937-1939 гг., а в виде введения - рассказываю о двух первых моих тюремных сидениях, имевших место задолго до "Юбилея". В тетрадях моих воспоминаний, погибших в чреве НКВД, рассказ был доведен до студенческих лет, до известной в истории русского революционного движения демонстрации 4 марта 1901 года у Казанского собора, после которой я попал в Пересыльную тюрьму и получил таким образом первое тюремное крещение. Теперь начинаю с рассказа о нем введение в настоящую книгу.
Прошло после этого первого крещения почти двадцать лет - ив 1919 году крещение повторилось уже в "самой свободной стране в мире", в стране Советов. Рассказ об этом "анабаптизме" составляет второе введение в предлагаемую книгу. Дальше идет давно написанный многострадальный "Юбилей", чудесно избежавший и могилы в земле, и могилы среди досок "буфета", и сожжения в крематории НКВД. Заключает все этот рассказ о тюрьме 1937-1939 гг., надеюсь последней в моей жизни.
Я знаю, что все рассказываемое мною - мелко и ничтожно по сравнению с тем, что переживали десятки и сотни тысяч сидевших в советских тюрьмах, концлагерях, изоляторах в течение долгих лет. {17} Великое дело, подумаешь, в общей сложности года три тюрьмы и столько же лет ссылки неподалеку от культурных центров России! Но мне кажется, что и тот тюремный быт, который я описываю, и те следственные методы, объектом которых был не я один, заслуживают описания и закрепления на бумаге
Молодцам юным на поучение,
Всем на услышание...
Апрель, 1944.
Кониц.
Иванов-Разумник.
{19}
ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ
I.
Время действия - полдень 4 марта 1901 года, место действия - площадь Казанского собора в Петербурге. Площадь залита многочисленной толпой: студенты "всех родов знания", главным образом универсанты, но много и технологов, и горняков, и путейцев; молодые девушки - слушательницы Высших Женских Курсов. Много и штатских людей, среди них не мало и пожилых. Вижу в толпе седобородую и всегда весело-оживленную фигуру известного публициста Н. Ф. Анненского; неподалеку от меня две восходящие марксистские звезды - ходившие тогда в социал-демократах П. Б. Струве и наш университетский профессор М. И. Туган-Барановский. Но молодежь - преобладает, заливает густою толпой всю громадную площадь. Тротуары Невского проспекта тоже залиты и просто любопытствующими и втайне сочувствующими зрителями: всем известно, что ровно в полдень, когда ударит пушка с Петропавловской крепости - студенты пойдут демонстрацией по Невскому проспекту.
На демонстрацию эту созвал нас подпольный студенческий "Организационный Комитет", чтобы выразить этим протест против мероприятий министра народного просвещения Боголепова, создателя "временных правил" о сдаче в солдаты студентов, наиболее замешанных в бурно развивавшемся студенческом движении. Боголепов был убит выстрелом бывшего студента Карповича 14-го февраля 1901 года, но "временные правила" не были отменены. В виде протеста мы объявили забастовку в стенах университета, а {20} теперь заключали ее демонстрацией на улицах города; тысячи студентов отозвались на призыв Организационного Комитета. В этот день после демонстрации арестовано было около полутора тысяч студентов, в том числе и я.
II.
Итак - я в тюрьме! - в первый, хотя, как оказалось, к сожалению, и не в последний раз в своей жизни. С любопытством стал я осматриваться.
Большая светлая камера шагов в пятнадцать длиною; широкое, забранное решёткой окно, а из него - далекий вид на сады Александро-Невской Лавры и на южные кварталы Петербурга. Двери в коридор нет, ее заменяет передвигаемая на пазах решётка с толстыми прутьями, сквозь которые можно просунуть не только руку, но, пожалуй, и голову. Посередине камеры - длинный узкий стол и две такие же длинные скамьи; несколько табуреток. Вдоль правой стены - двенадцать подъёмных коек, вдоль левой - восемь, а в левом углу - сплошная железная загородка в рост человека, за ней - уборная, культурные "удобства" с проточной водой, раковина и кран. Какой-то остряк, пародируя наши студенческие "временные правила", уже вывесил в этом укромном уголке "временные правила" для пользования сим учреждением: воспрещается входить в него за час до и за час после обеда и ужина. Койки - легкие, подъёмные:
холст, натянутый между двумя толстыми палками, и небольшая соломенная подушка; поднимал и прикреплял к стене свою койку кто хотел. Тепло, - паровое отопление. Чисто, - ни следа тюремного бича, клопов, им негде было завестись. Чистые стены, выкрашенные масляной краской. Вообще - тюрьма образцовая.
Зато поведение наше в этой тюрьме было далеко не образцовое, с точки зрения тюремной администрации. С первых же дней нашего пребывания мы {22} завоевали себе такие вольности, что тюрьма превратилась в какой-то студенческий пикник. Шум, хохот, хоровые песни гремели по всем камерам; мы отвоевали себе право по первому же нашему желанию выходить в коридор и посещать товарищей в соседних камерах; коридорный страж то и дело гремел ключами, выпуская и впуская нас. На третий день начальству это надоело - и решётчатые двери в коридор были раз навсегда открыты и днем, и ночью; мы могли свободно путешествовать по всему этажу, воспрещено было только спускаться во второй этаж, где сидели курсистки, отвоевавшие себе такие же права. В первый этаж согнали "уголовников", с которыми мы немедленно вступили в общение, спуская им из окна на веревках и записки, и папиросы, и всяческую снедь.
Чем и как кормила нас тюрьма - совершенно не помню, да это и не представляло для нас ни малейшего интереса: уже на второй или третий день разрешены были неограниченные передачи с воли. Наша камера была особенно богатой, так как в ней оказалось большинство петербуржцев и мало провинциалов. Что ни день, то один, то другой из нас получал богатые передачи от родных и знакомых. Я получал огромные домашние пироги; семья милых друзей, Римских-Корсаковых, присылала мне целые корзины с фруктами - яблоками, грушами, апельсинами, виноградом. Другие товарищи получали столь же обильные дары. Мы осуществили коммунизм потребления: все получаемое складывалось на стол и староста делил на двадцать частей. Но съесть всё оказалось невозможным; тогда мы связывали остатки в газетный пакет и спускали на веревочке в первый этаж, уголовникам, откуда тем же путем приходила благодарственная записка. Известный табачный фабрикант Шапшал, сын которого разделял нашу участь, прислал нам 10.000 папирос, время от времени повторяя такой подарок; выкурить всё было невозможно, и мы снова {22} делились присланным с первым этажом, доказывая этим свою "сознательность".
Через неделю были разрешены свидания, - и они тоже представляли собою нечто вполне необычное в тюремных условиях. В обширном зале первого этажа, заполненной столами и скамьями, собирались два раза в неделю после полудня родные, друзья и знакомые заключенных студентов и курсисток. Нас поименно выкликали по камерам - "на свидание"!; мы спускались вниз и попадали в жужжащий улей, не сразу ухитряясь найти в нем родных и друзей; усаживались за столами. Надзора никакого, да и какой надзор возможен в толпе из сотни посетителей и стольких же арестантов и арестанток? К студентам без родни в городе приходили фиктивные "невесты", к курсисткам - такие же "женихи"; к одному из коллег пришли три невесты сразу, так что начальник тюрьмы, вызвав к себе счастливого жениха, попросил установить его, какая же из трех невест настоящая? Но в том-то и дело, что "настоящей" среди них не было; тогда невесты эти решили ходить по очереди. Шум и веселье царили на этих необычных тюремных свиданиях, а если какая-нибудь старушка и утирала слезы, оплакивая заблудшего сына, то старалась делать это втихомолку. Час свиданья проходил незаметно, и мы веселыми группами возвращались в свои камеры, еще на лестнице начиная распевать песни.
Нечего сказать, "тюрьма"!
Но не всё же песни; были в камерах и установленные нами самими часы добровольного молчания после обеда - "мертвый час", когда не разрешалось не только петь, но даже и разговаривать: часы чтения и работы. Книг было передано нам множество и выбор чтения был большой. В эти часы я сумел написать давно задуманную работу по исчислению конечных разностей, - "на воле" всё не хватало времени для этого. Мои сосед, филолог, по прозванию Юс {23} Большой, копался в это время в санскритской грамматике, а один из юристов работал над кандидатской темой о величине воспроизводства в капиталистическом обороте. Но надо правду сказать, что мы плохо соблюдали поговорку - делу время, а потехе час, предпочитая, наоборот, предоставлять час делу, а остальное время отдавать потехе. В самой большой камере, так называемой "восточной", устраивались из столов настоящие подмостки для театра, где почти каждый вечер давались импровизированные представления, концерты, скетчи. Иногда представления заменялись докладами и лекциями на разные темы, с последующим горячим обменом мнений. Я повторил тут свой доклад "Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции"; доклад вызвал много споров и слухи о нем докатились до второго этажа. Курсистки послали делегацию к начальнику тюрьмы с просьбой, чтобы и им была дана возможность прослушать этот доклад. Разрешение было дано, и вот в какой курьёзной обстановке он состоялся. В назначенный для него день, к семи часам вечера всех курсисток "уплотнили" в самой большой камере второго этажа, входную решётку задвинули и заперли, а в коридоре перед нею поставили столик и стул для докладчика. Начальник тюрьмы пришел за мной, привел меня во второй этаж - и сам присутствовал на чтении моего доклада, хотя и не принял участия в последовавших прениях... Да, много курьезного было в нашей тюремной жизни!
Любители карт "винтили" с утра и до вечера. Был устроен "общекамерный шахматный турнир Пересыльной тюрьмы", в котором приняло участие после строгого предварительного отбора пятнадцать человек: играя тогда в первой категории, я легко выиграл все 14 партий подряд и получил приз - красиво разрисованный диплом на звание "шахматного тюремного чемпиона"...
Да, нечего сказать, "тюрьма"!
{24} В заключение расскажу, характеризуя ее, смешной анекдот, не очень умным героем которого был я сам.
В феврале этого года приехал на свои первые гастроли в Петербург Московский Художественный Театр; простояв ночь на морозе в очереди у кассы, я и другие студенты и курсистки добыли себе абонементные билеты на шесть предстоявших в марте спектаклей. До 4-го марта удалось повидать первый из них, "Дядю Ваню", который всех нас свел с ума; "Доктора Штокмана", где потряс своей незабываемой , игрой Станиславский, я увидел, насколько помню, уже после тюрьмы. Но так или иначе - пьесы шли, абонементный билет лежал у меня в кармане, а я сидел, как никак, в тюрьме, - такая обида! И вот я от великого ума отправился на аудиенцию к начальнику тюрьмы и держал ему примерно такую речь: сегодня вечером в Художественном театре идет такая-то пьеса (насколько помню - "Одинокие" Гауптмана), а у меня пропадает абонементный билет. Разрешите мне на этот вечер выйти из тюрьмы, - даю честное студенческое слово, что не подведу вас и не позднее двенадцати часов ночи снова займу свое место в камере.
Начальник тюрьмы - иронический был человек! - вежливо и с наружной серьезностью объяснил мне, что он вполне верит честному слову господина студента, но не думает ли господин студент, что из сотен заключенных товарищей и товарок могут найтись многие десятки, в карманах которых лежат такие же абонементные билеты? Он охотно отпустил бы на честное слово господина студента, но тогда придется на том же основании и туда же выпустить целый скоп людей; не думает ли господин студент, что это было бы во многих отношениях неудобно, а для него, начальника тюрьмы, даже и невозможно?
Я согласился с этими доводами и, несолоно хлебавши, возвратился в камеру. Воображаю, как хохотал, выпроводив меня, начальник тюрьмы; да и я {25} еще до сих пор со смехом вспоминаю эту свою глупую эскападу. А все-таки: при каких других условиях тюремной жизни возможна была бы у заключенного самая мысль о такой дикой просьбе?
III.
Недели через полторы прибыли в тюрьму жандармские офицеры, и нас пачками стали вызывать на допросы. Дошла очередь и до меня, - я предстал пред сухо-вежливым, неистово курящим и безмерно скучающим жандармским ротмистром. Он предложил мне заполнить анкету (сколько их я впоследствии заполнял в своей тюремной жизни!); в ней после обычных биографических вопросов ставился упор на два пункта: во-первых, состоите ли вы членом какой-либо партии или организации, и во-вторых, с какой целью явились вы на демонстрацию 4-го марта? Мы заранее решили отвечать на эти вопросы однотипно (чем, вероятно, и объяснялось скучающее выражение лица жандарма) : в организациях и партиях не состоим, на площадь Казанского собора явились 4-го марта с исключительной целью протестовать против сдачи в солдаты наших товарищей. Анкета была быстро заполнена, жандарм бегло просмотрел ее и сказал: "Вот и всё; можете идти".
При таком порядке допросов неудивительно, что несколько сот человек были допрошены в три-четыре дня. Прошла еще неделя - в тюрьму явились те же жандармы и предъявили каждому из нас именную бумагу, гласившую, что имя рек такой-то исключен из университета и высылается из Петербурга; предлагается самому ему выбрать то место или город (за исключением университетских), в коем он желает иметь
местожительство.
- Каков же срок этой ссылки? - спросил я.
- Это не ссылка, а высылка, - ответил жандарм, - срок же будет определен дальнейшими постановлениями власти. Напишите здесь точный адрес места, какое вы избираете для жительства.
{26} Я написал: имение Д-и, Н-ской губернии П-ского уезда; это было имение семьи моего кузена, профессора П. К. Я., где я проводил почти каждое лето, а теперь мог встретить и весну. Жандарм сообщил нам, что завтра же все мы будем освобождены и должны будем дать подписку о выезде из Петербурга в недельный срок; в случае невыезда будут приняты "решительные меры".
Наступило "завтра". Шумное прощание с товарищами, овация начальнику тюрьмы (с речью одного коллеги: "Хоть вы и тюремщик, а все-таки хороший человек! Желаем вам перестать быть тюремщиком и остаться человеком!"). И всего-то нашего пребывания в этой необычайной тюрьме было меньше трех недель...
Всей нашей очень сдружившейся камерой отправились мы прямо из тюрьмы к фотографу и снялись группой; фотография эта сохранилась у меня до разгрома моего архива войной 1941 года. Потом - по домам: объятия, слезы, соболезнования. Потом - на 10-ую линию Васильевского острова, в знаменитую нашу студенческую "столовку": веселые встречи с товарищами, выпущенными из других тюрем. Потом - шумная неделя предотъездных сборов, ликвидация университетских дел, хождение в полицию для выправки "проходного свидетельства".
И вот - я в деревне, отдыхаю от тюрьмы (было от чего!) и от бурно проведенного университетского года. Первый раз в жизни встречаю в деревне весну. Конец марта, начало апреля, Пасха; жаворонки давно уже прилетели, стаивает последний снежок; через месяц распустится сирень и защелкают соловьи.
Но ни до соловьев, ни до сирени не привелось мне дожить в деревне. В апреле месяце министром народного просвещения был назначен генерал Ванновский, чтобы закончить собою кратковременную эпоху "сердечного попечения" о студенчестве. В конце апреля я получил официальную бумагу: имя рек сим извещается, что он снова принят в университет {27} и имеет право вернуться в Петербург для продолжения учебных занятий и сдачи экзаменов.
И вот я снова в Петербурге, в университете, в "столовке", в шумном потоке студенческой жизни. Генерал Ванновский обещает "серьезные реформы" в университетской жизни с начала осеннего семестра. Экзамены, снова деревня на все лето - и осень 1901 года в Петербурге, когда для университета должна взойти "заря новой жизни"...
IV.
К началу учебного года была введена в университете обещанная реформа: был организован институт избираемых студенчеством старост; до этих пор каждый студент рассматривался правительством как "отдельный посетитель университета", теперь студенчество официально было признано организацией, была разработана университетская конституция (как и во всех высших учебных заведениях), был созван студенческий парламент. Если бы в это время конституция и парламент были даны не студенчеству, а русскому обществу - вся дальнейшая история России могла бы пойти иначе.
Наш университетский парламент состоял из пятидесяти шести человек; каждый курс каждого факультета избирал своих представителей, "старост". (К слову сказать - наш "совет старост" тоже снялся большой группой, и снимок этот до последних времён тоже сохранялся у меня) л Выборы происходили по всем правилам конституционного искусства: речи кандидатов, борьба "академистов" политически "правых" студентов - с либеральной и социалистической частью студенчества, голосование шарами. Правые потерпели полное поражение: от них прошел в старосты только один представитель второго курса филологов, Леонид Семенов, дальнейшая трагическая судьба которого отмечена в истории русской литературы. От четвертого курса математического {28} факультета в старосты был выбран я, - и началась для меня бурная зима 1901-1902 года.
Студенческий парламент разделился на крайнюю правую, немногочисленный либеральный "центр" и многочисленную "левую" из радикалов и социалистов. Заседания, очень частые и на которые созывали нас официальными повестками, происходили под председательством назначенного для этого университетом профессора философии А. И. Введенского; инициатива собраний должна была исходить либо от председателя, либо от группы старост, числом не меньшим, чем треть старостата. Напрасно А. И. Введенский старался ввести заседания в академическое русло, увещевая нас не выходить за пределы чисто университетских требований. Куда там! Мы сразу же предъявили требования общегосударственные, в роде обуздания полицейского произвола, отмены административных ссылок и высылок, свободы слова в университете и за пределами его. Бедного профессора-председателя мы совсем затравили, - раз даже он упал в обморок после бурного заседания...
От времени и до времени староста устраивал общее собрание своего курса (устраивалось и общее собрание факультета), на котором выступал с отчетом о деятельности старостата; происходили жаркие споры и прения, голосование всегда давало победу "левому" громадному большинству. Старостат, призванный успокоить студенчество, сыграл противоположную роль, - он революционировал и тех студентов, которые раньше оставались нейтральными, были "ни в тех ни в сих". Теперь громадное большинство оказалось "в сих", студенчество левело с каждым днем. Партии социал-демократов и социал-революционеров быстро пополняли свои ряды новыми агентами, а ряды "либералов" (будущих к. д.) редели, не говоря уже о "правых". А так как предъявляемые на заседаниях старостата требования явно выходили за пределы академического обихода и не могли быть приняты во внимание, то правительство {29} понемногу переходило к испытанным полицейским мерам, а студенчество - к испытанным способам протеста: забастовкам и демонстрациям.
Снова образовались подпольные "организационные комитеты"; в них вошли многие из старост. Первый комитет, собравшись, сразу же намечал членов второго комитета, своего наследника, который принимал бразды правления в случае ареста членов комитета первого; точно также поступал второй комитет относительно третьего - и так далее. В виду достаточного количества провокаторов в студенческой форме, аресты организационных комитетов были только вопросом времени. Первый комитет был "ликвидирован" в начале января 1902 года, а к началу февраля в действие вступил уже седьмой организационный комитет, одним из членов которого был и я. И старостатом, и нашим комитетом была назначена новая демонстрация на 4 марта 1902 года, - как протест против новых и столь старых полицейских мер ничему не научившегося правительства.
V.
1-го марта был однако "ликвидирован" и наш седьмой комитет. Рано утром, в 5 часов, раздался звонок, - ко мне явился полицейский пристав с городовым и двумя понятыми. Он ограничился тем, что предложил мне быть у него в участке ровно в восемь часов утра, а также решить к тому времени - в какой из городов Российской Империи (кроме университетских) желаю я быть высланным. Неявка грозила, конечно, "решительными мерами".
Я был уверен, что высылка на этот раз не ограничится одним месяцем, а потому не решился избрать на долгий срок своим местожительством глухую деревню. И, действительно, когда я в восемь часов утра явился в участок, пристав предъявил мне бумагу: имя рек такой-то исключается из университета и высылается в (здесь оставлен был пробел для указания места) сроком на два года, с правом весною {30} 1904 года подать прошение в университет о разрешении держать выпускные государственные экзамены. Срок для устройства всех дел дается трехдневный; не позднее 3-го марта имя рек обязуется выехать из Петербурга в избранное им место жительства.
Я попросил пристава на месте пробела вписать: "в город Симферополь", - и тут же получил проходное свидетельство для предъявления его в симферопольскую полицию, под надзором коей я должен был состоять. Симферополь я выбрал потому, что здоровье мое настойчиво требовало юга, и потому, что в Симферополе обитал один из моих товарищей по старостату и мог помочь мне устроиться в чужом городе. Пристав предупредил, что за мной будут следить - исполню ли я предписание о выезде из Петербурга в трехдневный срок.
Описывать Симферопольскую ссылку не буду, скажу только, что очень похожа была она по своей вольности на наше тюремное сидение год тому назад. Симферопольская полиция выдала мне взамен проходного свидетельства паспорт - и больше меня ничем не беспокоила. Я не имел права выходить и выезжать за черту города, так мне сообщили в полиции; а на деле - мы с товарищем-студентом, коренным тавричанином, надев рюкзаки, немедленно же отправились в путешествие по Крыму, исходили его вдоль и поперёк, сделали пешком с полтысячи верст, и вернулись в Симферополь, черные от загара, после месячного путешествия. Никто этим не интересовался, никто за мной не следил.
Нечего сказать - "ссылка"!
И первая моя тюрьма, и первая ссылка оказались одинаково опереточными. Много работал, много читал, много писал, много ходил по Крыму.
Ровно через тридцать лет мне пришлось познакомиться и с настоящей тюрьмой и с настоящей поднадзорной ссылкой. Рассказ о них - впереди, теперь было только введение, весёлое первое крещение.
{31}
ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Свершился дней переворот...
Александр Блок
Когда-то в очень ранней юности зачитывался я глупо-талантливым романом Александра Дюма "Vingt ans apres" и в память этого заимствую у него заглавие, хотя и с небольшой натяжкой: от первой моей тюрьмы до второй прошло не двадцать, а лишь девятнадцать лет. Потом расскажу в общих чертах о главных вехах на этом жизненном пути, а пока отмечу только, что события 1901-1902 года совсем переменили направление всей моей жизни.
Был я студентом-математиком, очень увлекавшимся физикой; профессор О. Д. Хвольсон относился ко мне благосклонно и собирался оставить меня при университете по своей кафедре; я написал у него ряд специальных работ. Но в то же самое время проходил я курс и историко-филологического факультета, отдавая особенное внимание лекциям большого нашего ученого А. С. Лаппо-Данилевского по социологии (его курс назывался "Систематика социальных явлений"), вел работу в его семинаре по комментариям к восьмой книге "Логики" Милля, читал доклады в его кружке; слушал лекции по истории литературы у профессора Жданова, по психологии и истории философии у профессора А. И. Введенского, по греческой литературе - у Ф. Ф. Зелинского, и целый ряд других лекций. До сих пор удивляюсь, как у меня на все это сил и времени хватало!
{32} Когда попал я в симферопольскую ссылку, то возможность дальнейшей лабораторной работы по физике была начисто отрезана, зато занятия литературой могли продолжаться беспрепятственно: мне посчастливилось познакомиться в Симферополе с владельцем прекрасной библиотеки по русской литературе 18-го и 19-го века. Я стал подбирать материалы для давно уже задуманной книги, которую собирался озаглавить "История русской интеллигенции". Начал ее с конца этюдом "Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции". Проведя год в симферопольской ссылке, получил разрешение переехать в глухую деревню Владимирской губернии, в имение родителей моей невесты, ставшей в начале 1903 года моей женой. Там я вплотную принялся за книгу, которая вышла в конце 1906 года в двух томах под заглавием "История русской общественной мысли". Это определило мою дальнейшую писательскую судьбу. Если бы не ссылка 1902 года, я, вероятно, не имел бы времени для такой обширной работы, продолжал бы интересоваться литературой, но вряд ли сошел бы со своего "физического" пути, был бы оставлен профессором Хвольсоном при университете" сам стал бы в конце концов почтенным профессором такой политически безобидной науки, как физика, и избежал бы, надо полагать, позднейших тюрем и ссылок. Впоследствии О. Д. Хвольсон, изредка встречаясь со мной, всегда упрекал за то, что я изменил царице наук, физике, для такой глупости, как литература. Но как быть!
Не сам я выбрал этот путь, мою судьбу решило "сердечное попечение" правительства и длительная ссылка.
Не буду вспоминать здесь о своем дальнейшем литературном и общественном пути; скажу только, что в борьбе марксизма с народничеством я примкнул к последнему, писал против марксизма, скрещивал оружие и с умнейшим его представителем Плехановым и с легкомысленнейшем - Луначарским. Все {33} это припомнили мне в свое время - через четверть века - при допросах в ГПУ и НКВД. Но примкнув к идеологии народничества, я не пошел в партию, в то время политически его выражавшую, - в партию социалистов-революционеров: я был, говоря словами остроумной сказочки Киплинга, "кот, который ходит сам по себе", - партийные шоры были не для меня. Это не мешало мне принимать ближайшее участие во всех литературных начинаниях этой партии. Когда ее председатель, С. Г. Постников, организовал в Петербурге большой журнал "Завет", я вошел в его литературный отдел редактором. Когда в первые же дни революции 1917г. родилась эсеровская газета "Дело Народа", я опять-таки вошел в редакцию для заведования литературным отделом. Когда осенью 1917 года эсеры разделились на правых и левых, мои симпатии были на стороне последних и я стал вести литературные отделы в их газете "Знамя Труда" и в журнале "Наш Путь".
Все это было записано в черных книгах Чека и ГПУ, и за все это раньше или позже предстояло поплатиться.
II.
Террор эпохи военного коммунизма был тогда в полном разгаре. Арестовывали и расстреливали "заложников", открывали действительные и мнимые заговоры. Одним из таких был в феврале 1919 года "заговор левых эсеров", никогда не существовавший, но приведший к ряду "репрессий" - вплоть до расстрелов. Тут волна арестов докатилась и до меня. В конце января 1919 года я заболел воспалением легких, а к середине февраля стал понемногу поправляться и мог уже ходить по комнате. Часов в шесть вечера 13 февраля я мирно сидел в моем кабинете в Царском Селе, когда раздался звонок; В. Н. (терпеть не могу слова "жена" - и заменяю его здесь и ниже инициалами имени и отчества) пошла открыть дверь {34} - и тотчас же в мой кабинет рысью вбежал с револьвером в руке какой-то штатский низенький человечек восточного типа - оказался армянином - а за ним вошел молодой красноармеец с ружьем. Армянин, агент Чеки, предъявил ордер на обыск и арест, спрятал ненужный револьвер в карман, предложил мне не трогаться с места и приступил к обыску. Увидав библиотеку с тысячами томов, архивный шкал, набитый до отказа, письменный стол, заваленный рукописями и письмами - он пришел в уныние, совершенно растерялся и, видимо, не знал, как быть. Стал рыться в письменном столе, отобрал наугад пачку писем, не заглядывая в них, отложил толстую тетрадь только что начатой мною книги "Оправдание человека". Она была озаглавлена тогда "Антроподицея", и слово это, очевидно, показалось ему подозрительным. Часа два подряд он беспомощно тыкался то туда, то сюда, отобрал в библиотеке несколько томов по анархизму, махнул рукой на архивный шкап, составил из всех собранных материалов небольшую пачку, - и часам к восьми вечера этот "обыск" был закончен.
Закончив с обыском, армянин предложил мне собираться в дорогу и следовать за ним на поезд в Петербург. Стал собираться: в небольшой ручной чемоданчик положил полотенце, мыло, смену белья, кружку. Времена были голодные: В. Н. могла дать мне только краюшку хлеба фунта в полтора и коробочку с двумя десятками леденцов - все наши продовольственные запасы. Денег у нас было тоже в обрез, я взял с собою только две "керенки" по 20 рублей. Сборы были недолгие; я простился с семьей, сговорился с В. Н., что она завтра же сообщит о происшедшем В. Э. Мейерхольду - и отправился на вокзал, эскортируемый слева чекистом и справа красноармейцем.
Прибыли в Петербург около девяти часов вечера; оставив меня под охраной красноармейца, армянин отправился вызывать по телефону чекистский {35} автомобиль; он прибыл довольно скоро - и меня повезли на "Гороховую 2", в здание бывшего градоначальства, в знаменитый центр большевистской охранки и одновременно с этим - пропускную регистрационную тюрьму для всех арестованных. Меня ввели в регистратуру, заполнили первую, чисто биографическую анкету, а затем отправили по черной лестнице куда-то "все выше, и выше, и выше"... Вскоре мне пришлось сидеть в подвалах Чеки, а теперь для начала я попал на чердак петербургской "чрезвычайки".
Часть чердака представляла два обширных помещения, соединенных между собой открытой дверью. Конвоир сдал меня на руки хмурому, чердачному стражу, который, загремев ключами, открыл дверь в эту поднебесную тюрьму и возгласил: "Староста! Номер сто девяносто пятый!". Староста-арестант подошел ко мне, юмористически приветствовал - "добро пожаловать", вписал меня сто девяносто пятым в список арестованных и повел разыскивать место для ночлега. Две сотни людей густо населяли это чердачное помещение, так что найти свободное место на нарах оказалось делом сложным; наконец,--в глубине второй комнаты меня приняла в свою "пятерку" группа людей, сидевших на нарах. Электрические лампочки под потолком тускло освещали помещение, и я еще не мог как следует осмотреться в густой толпе заключенных. Впрочем, большинство уже спало; немногие сидели и беседовали, разбившись на группы.
Группа, принявшая меня, объяснила, это все заключенные разбиты на пятерки; каждая пятерка - самостоятельная "обеденная единица": ей подается к обеду и ужину одна миска на пятерых. При быстрой текучести населения этой чердачной тюрьмы каждый день составляются новые списки арестованных и происходит новое деление на пятерки. Предложенное мне ложе состояло из голых досок, на них я тут же растянулся, утомленный путешествием и еще не окрепший после болезни.
{36} Состав моей пятерки оказался весьма разнообразным:
Пожилой обрюзгший человек, бывший военный чиновник, волочивший левую ногу, недавно подстреленный около границы Финляндии. Теперь его обвиняли в попытке перейти эту границу; настроен он был мрачно и не ждал впереди ничего хорошего.
Толстенький, кругленький, сытенький и тоже немолодой еврей, приведенный на чердак незадолго передо мною, еще не допрошенный, но предполагавший, очевидно, не без оснований, - что обвинять его будут в спекуляции сахарином. Этот был настроен оптимистично и все повторял: "Спекуляция! Ну, и что такое спекуляция? Простая торговля! Ну, и кто же теперь не займается этим?"
Молодой и бравый эстонец-солдат, вся вина которого была в том, что в разговорах с приятелями он не раз говорил, как хотел бы попасть на родину и как плохо, трудно и голодно живется теперь "в этом проклятом революционном Петербурге". Он сидел здесь уже больше недели и голодный блеск его глаз показывал, как нелегко дается ему такое сидение; говорил все больше о еде, рассказывал о национальных эстонских блюдах и приговаривал: "Вот завтра сами увидите, что здесь называется обедом: жуткое дело!"
Четвертый, бородатый новгородский мужик, церковный староста в своем селе; арестован и привезен в Петербург "по церковным делам", а по каким именно, объяснить не мог, да и сам толком, по-видимому, не понимал.
Пятым был я. А я за что сюда попал?
Пока я, лежа на досках, разговорился со своими соседями, ко мне подошли из первой комнаты два человека и назвали меня по имени и отчеству. Я их тоже признал - рабочие, левые эсеры, не раз бывавшие по делам завода в редакции "Знамя Труда" и в петербургском комитете партии. Они рассказали мне, что {37} вот уже три дня идут аресты среди бывших левых эсеров по обвинению в заговоре, о котором никто из них решительно ничего не слыхал; они полагали, что и я арестован в связи с этим же делом. Это было вполне правдоподобно, и через несколько часов я убедился, что так оно и было в действительности.
Чердак понемногу стихал, сонные всхрапы слышались отовсюду. С непривычки было трудно заснуть, несмотря на всю усталость, и не только потому, что голые доски давали себя чувствовать, но и потому, что задыхался в густом вонючем воздухе помещения, до отказа набитого людьми. А тут еще полчища клопов стали пиявить непереносно. К тому же часто открывалась тюремная дверь и страж зычно выкликал чью-нибудь фамилию - "на допрос"! Старосте приходилось искать вызванного среди спящих, будить для этого чуть ли не всех поголовно. Не успеешь задремать, как снова зычное "на допрос", и начинается прежняя история. Так провел я между сном и полубдением добрую половину ночи; был уже третий час, когда я сквозь дремоту услышал свою фамилию.
Меня провели во второй этаж, в ярко освещенную комнату, где за письменным столом сидел следователь, молодой человек в военной форме. Я сразу его узнал: год тому назад он ходил в левых эсерах, я часто его встречал обивающим пороги партийного комитета рядом с редакционной комнатой "Знамени Труда"; знаком я с ним не был и он имел все основания полагать, что я его не знаю или не узнаю. Незадолго до убийства Мирбаха он исчез с горизонта, перекинулся к коммунистам - и вот теперь всплыл одним из следователей Чеки. Как бывшему левому эсеру, ему и поручено было разобрать, а вернее - состряпать дело о несуществовавшем заговоре его бывших партийных товарищей. Кто он был - не знаю и фамилии его не помню; по его словам во время моего допроса, выходило, что он до революции был студентом университета, чему, однако, плохо верилось. После окончания {38} моего допроса он сделал на его листе заключительную надпись, начинавшуюся словами: "Настоящим удостоверяю"...
Предложив мне заполнить обычную анкету, следователь взял ее у меня, просмотрел, и, возвращая, сказал:
- Вы даете ложное показание. На вопрос, были ли вы членом какой-либо политической партии, вы ответили "не партийный" (так всегда писал я в анкетах, вместо обычного "беспартийный"). Зачеркните это и напишите правду: был членом партии левых социалистов-революционеров.
- Никак не могу этого сделать, - ответил я, - так как это было бы неправдой. Никогда членом партии не был.
- Десятки свидетелей покажут противное!
- За свидетелями недолго ходить, - сказал я, - в ваших тюрьмах сидит ряд членов центрального комитета партии: они подтвердят вам, что вступая редактором литературного отдела их газеты, я заявил центральному комитету, приглашавшему меня принимать участие в его заседаниях, что членом партии не состою.
- Но тем не менее вы постоянно бывали в центральном комитете. Ведь вы состояли его членом?
- Что же из того, что бывал? Вы ведь тоже постоянно бывали в петербургском комитете партии, однако же членом его не состояли?
Следователь густо покраснел, узнав, что я его узнал, и стал вести допрос в более грубом тоне.
- Никакая ложь не поможет! Я вас выведу на чистую воду! Но были вы или не были членом партии, а участие в только что раскрытом заговоре левых эсеров принимали, а, может быть, и возглавляли его, мы до этого еще доберемся! Напишите здесь свое чистосердечное признание, оно может облегчить вашу участь.
В указанном мне месте я написал, что о заговоре {39} левых эсеров впервые услышал от следователя, а значит никак не мог принимать в нем участия, буде такой заговор действительно существовал.
- Вам же будет хуже, - сказал следователь, прочитав мой ответ, - советую вам еще пораздумать.
И он углубился в рассмотрение пачки взятых у меня при обыске писем, бумаг и книг. "Антроподицея" остановила на себе его внимание. Помолчав, он все-таки решился спросить - что значит это слово? Потом усиленное внимание обратил на мою записную книжку, а в ней - на адреса знакомых; фамилии и адреса эти он подчеркивал карандашом, а потом стал переписывать на отдельные листки бумаги. Это мне не понравилось, и, как оказалось потом, не без основания.
Прошел час, в течение которого следователь занимался своей работой, а я должен был сидеть и "еще подумать". Закончив работу и снова связав все бумаги и книги в пачку, следователь спросил:
- Ну что, надумались?
- Не имел этой возможности, - ответил я.
- Очень жаль. Мы с вами люди интеллигентные, я ведь был студентом университета, мы могли бы понять друг друга. А вот вы не хотите меня понять, что ваше запирательство только отягчит вашу вину и самым печальным образом отразится на вашей дальнейшей судьбе. Подпишитесь под допросом - и ждите всего худшего.
- Буду надеяться на все лучшее, - сказал я, подписывая бумагу, после чего и он "настоящим удостоверил", потом позвонил и велел стражу отвести меня обратно на чердак.
Было четыре часа утра.
III.
В пять часов утра - как я потом узнал - ряд автомобилей с чекистами подъезжали в разных частях {40} города к домам, где жили мои знакомые, адреса которых я имел неосторожность занести в свою записную книжку (с этих пор никогда больше я этого не делал). Были арестованы и отвезены на "Гороховую 2": поэт Александр Блок с набережной реки Пражки, писатель Алексей Ремизов, художник Петров-Водкин, историк М. К. Демке - с Васильевского острова; писатель Евгений Замятин - с Моховой улицы; профессор С. А. Венгеров - с Загороднего проспекта, - еще, и еще, со всех концов Петербурга, где только ни жили мои знакомые. Какая бурная деятельность бдительных органов советской власти!
Лишь один из моих знакомых писателей, адрес которого, однако, значился в моей записной книжке, уцелел среди всей этой вакханалии бессмысленных арестов: Федор Сологуб. Когда позднее я спросил его, каким чудом он в ту ночь избежал ареста, он ответил, что чудо это объясняется хорошим к нему отношением управляющего домом. Автомобиль подъехал и к их дому, чекист потребовал от управдома справки - живет ли в квартире номер такой-то, некий Федор Сологуб (не подозревая, что это не фамилия, а псевдоним). Управляющий, играя в наивность и удивление, ответил, что в квартире номер такой-то живет гражданин Тетерников, а никакого Сологуба в вверенном ему доме никогда не бывало. Поразмыслив немного, чекист сказал: "А ну его в болото!", - махнул рукой и уехал, не пожелав более разыскивать какого--то там Сологуба. Так последний и избежал удовольствия познакомиться с чердаком Чеки.
Всех остальных доставили на Гороховую, но не отправили из регистратуры на чердак, где они могли бы встретиться и сговориться со мною, а держали в других помещениях и стали поочередно вызывать на допросы. Там их огорошивали сообщением, что арестованы они, как участники заговора левых эсеров. Каждый из них реагировал на эту глупость соответственно своему темпераменту. Маститый профессор {41}
С. А. Венгеров спокойно сказал: "Много нелепостей слышал на веку, но эта царица нелепостей". Е. И. Замятин стал хохотать, что привело в негодование следователя, все того же малограмотного студента: над чем тут смеяться? Дело ведь серьезное! Но как ни старался следователь внушить арестованным, что они левые эсеры и заговорщики, ничего из этого не выходило; тогда он предложил каждому из них заполнить лист подробным ответом на вопросы: как и когда они познакомились с левым эсером писателем Ивановым-Разумником? В каких отношениях и сношениях находятся с ним в настоящее время? Какие беседы вел он с ними обыкновенно, а за последнее время - в особенности?
Каждый из арестованных, кроме обычной анкеты, заполнил и лист ответов на эти вопросы, после чего этих опасных государственных преступников, продержав на Гороховой меньше суток, стали отпускать по домам. Какая бессмыслица - и с каким серьезным видом она делалась!
Исключение составили два человека - писатель Евгений Замятин и поэт Александр Блок: первого выпустили немедленно же после допроса, так что пребывание его во чреве Чеки было всего часа два; второго задержали на целые сутки и отправили на чердак.
Е. И. Замятин так рассказывал мне о сцене допроса. Нахохотавшись вдоволь по поводу предъявленного ему обвинения, он подробно описал о нашем знакомстве и отношениях, а также заполнил лист неизбежной анкеты, причем на вопрос - не принадлежал ли к какой-либо политической партии, ответил кратко: "Принадлежал". После чего между ним и следователем произошел такой диалог:
- К какой партии принадлежали? - спросил следователь, предвкушая возможность политического обвинения.
- К партии большевиков! В годы студенчества Е. И. Замятин действительно {42} входил в ряды этой партии, ярым противником которой стал в годы революции. Следователь был совершенно сбит с толка:
- Как! К партии большевиков?
-Да.
- И теперь в ней состоите?
- Нет.
- Когда же и почему из нее вышли?
- Давно, по идейным мотивам.
- А теперь, когда партия победила, не сожалеете о своем уходе?
- Не сожалею.
- Объясните, пожалуйста. Не понимаю!
- А между тем понять очень просто. Вы коммунист?
- Коммунист.
- Марксист?
- Марксист.
- Значит плохой коммунист и плохой марксист. Будь вы настоящим марксистом, вы бы знали, что мелкобуржуазная прослойка попутчиков большевизма имеет тенденцию к саморазложению, и что только рабочие являются неизменно классовой опорой коммунизма. А так как я принадлежу к классу мелкобуржуазной интеллигенции, то мне непонятно, чему вы удивляетесь.
Эта ироническая аргументация так подействовала на следователя, что он тут же подписал ордер на освобождение, и Замятин первым из арестованных вышел из узилища.
Иное дело было с Александром Блоком. Он был явно связан с левыми эсерами: поэма "Двенадцать" появилась в партийной газете "Знамя Труда", там же был напечатан и цикл его статей "Революция и интеллигенция", тотчас же вышедший отдельной брошюрой в партийном издательстве. В журнале левых эсеров "Наш Путь" снова появились "Двенадцать" и {43} "Скифы", вышедшие опять-таки в партийном издательстве отдельной книжкой с моей вступительной статьей. Ну как же не левый эсер? Поэтому допрос Александра Блока затянулся и в то время, как всех других вместе с ним арестованных мало-помалу после допросов отпускали по домам, его перевели на чердак. Меня он там уже не застал, я был уже отправлен в дальнейшее путешествие, но занял он как раз то место на досках, где я провел предыдущую ночь, и вошел в ту же мою "пятерку". Одновременно с ним попал на чердак и стал соседом Блока наш будущий "ученый секретарь" Вольфилы А. 3. Штейнберг.
Через год после смерти Блока он напечатал в вольфильском сборнике, посвященном памяти покойного поэта, свои очень живые воспоминания о том, как автор "Двенадцати" - "весь свободы торжество" - провел этот день 14 февраля на чердаке Чеки. (см Сборник памяти А. Блока на нашей странице - LDN). На следующий день Александр Блок был освобожден.
IV.
Вернувшись с допроса, я снова попытался вздремнуть на голых досках, но уже с семи часов утра весь чердак проснулся и пришел в движение. Теперь, при дневном свете, я мог рассмотреть своих товарищей по заключению, потолкаться среди них, поговорить с ними. Вот уж подлинно - какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний! Русские, немцы, финны, украинцы, армяне, эстонцы, евреи, грузины, латыши, даже несколько китайцев; рабочие, крестьяне, бывшие офицеры, студенты, солдаты, чиновники, даже несколько "действительных статских советников", беспартийные и партийные, а из последних - главным образом социалисты разных толков, до анархистов включительно; политические и уголовные, а среди последних группа "бандитов", так себя именовавших; рваные тулупы и пиджачные пары, рабочие куртки и потрепанные остатки бывших пиджаков, френчи и {44} толстовки - все промелькнули перед нами, все побывали тут...
Во всех группах, к каким я ни подходил, разговоры вращались вокруг одной и той же темы - возможной "интервенции" мифических "союзников" и неизбежной тогда эвакуации Петербурга большевиками:
всю ночь глухо докатывались до нас орудийные удары. Придется большевикам уходить из Питера - что тогда они с нами сделают? Выпустят на волю? Перестреляют без разбора? Отберут овец от козлищ? Надо сказать, что громадное большинство отвечало на эти сомнения бесповоротно: всех перестреляют!
Рано утром внесли громадные чайники с горячей жидкостью, именовавшейся чаем; выдали по восьмушке хлеба на человека.
В нашей пятерке еврей-спекулянт щедро подсластил чай сахарином, в изобилии имевшимся в его карманах, - и это было большой гастрономической роскошью. Солдат-эстонец, в один прием проглотив свою восьмушку хлеба, меланхолически заметил: "И это на весь день". Но горячая жидкость все же немного меня подкрепила и разогнала сонное настроение. Однако, настроение у большинства было подавленное. Какая разница с моей первой, студенческой тюрьмой двадцать лет тому назад! Ни смеха, ни шуток, даже громких разговоров я не слышал. Беседовали, разбившись на группы, и чаще всего вполголоса. Можно было подумать, что здесь собрано не две сотни, а десятка два человек, настолько тихо было в помещении, - раздавалось только беспрерывное жужжание голосов. Даже "бандиты" - и те, поддаваясь общему настроению, присмирели. Даже анархисты не выходили из общих рамок тревожного ожидания. Все смотрели на себя, как на заложников, кандидатов на расстрел, столь частой меры "социальной защиты" в эту эпоху военного коммунизма и чекистского террора. Пониженное настроение объяснялось, быть может, также и острым чувством {45} голода у тех, кто просидел на этом чердаке уже несколько дней.
Действительно, когда в полдень подали "обед", я вспомнил вчерашние слова солдата-эстонца: жуткое дело! Сперва было много суетни, проверка "пятерок"; потом от каждой пятерки отправлялся ее представитель к тюремной двери и там получал миску с бурой жидкостью и пять деревянных ложек; после обеда он должен был сдать все это по счету обратно. Пятерки рассаживались вокруг своих мисок; каждый черпал ложкой и ждал, когда снова дойдет до него очередь. Что представляла собою жидкость, именовавшаяся супом или борщом, описать довольно трудно, а дать понятие о вкусе и совсем невозможно. Немного мелко искрошенной свекольной ботвы и черных листьев капусты, две-три ложки какой-то крупы, очень мало кусочков картофеля, очень много горячей воды, запах селедки: на каждую миску полагалось по небольшой селедке, уже разрезанной на пять частей. С трудом проглотил я доставшийся мне гниловатый кусок, а упитанный еврей-спекулянт, очевидно более избалованный чем я, сейчас же вынул изо рта недожеванный кусок, удивленно заметив: "Ну, и это называется селедка!" Солдат-эстонец голодными глазами посмотрел на недоеденный кусок селедки, попросил разрешения взять и мгновенно проглотил. Я достал из чемоданчика краюшку хлеба и разделил ее на пять частей; хоть и немного пришлось каждому, но все же мы могли слегка утолить голод. В шесть часов вечера предстоял такой же ужин. Но я не подозревал, что ужинать буду только через пять суток.
Прошло немного времени после обеда, когда за дверью послышалось движение, шум шагов, бряцание оружия. Вошло несколько чекистов, у одного из них был в руках список. Чекист стал выкликать фамилии, вызываемые выходили ("с вещами", было сказано) и становились у дверей. Скоро и я услышал свое имя. Всего собрали нас шестьдесят человек, повели вниз {46} по лестнице, пропустили через проверочную регистратуру и вывели на двор. Там командующий этим парадом чекист отчеканил, что поведет нас в тюрьму на Шпалерную улицу и что того, кто во время пути выйдет за черту цепи охраны, пристрелят тут же на месте.
Без других инцидентов дошли мы до Шпалерной. Пересекая Литейный проспект около обгорелых развалин здания Окружного суда, шедший рядом со мной анархист проворчал: "Жгли, да не дожгли!" Через несколько лет на месте этих развалин поднялось массивное девятиэтажное здание ГПУ. Когда его будут жечь?.. На Шпалерной ввели нас в ворота ДПЗ (Дома предварительного заключения), сдали на руки тюремной администрации - и началась обычная регистрационная процедура. Усатый тюремщик, очевидно опытный служака царских времен, был груб, деловит. Быстро сам заполнил мою анкету, в которой между прочим был пункт: "состав преступления". Я кратко ответил "писатель", на что усач грубо сказал:
- Не о профессии тебя спрашивают, а о твоем преступлении.
- А я тебе и говорю, что преступление мое именно в том, что я писатель.
Усач не стал настаивать дальше, что-то записал и угрожающе протянул:
- Ничего, голубчик, разберемся!
После регистрации нас развели по камерам. Я попал в одиночную камеру No 163 на четвертом этаже. Много лет спустя мне пришлось долгие месяцы провести именно в этой камере, так что описание этой тюрьмы я отложу до предстоящего рассказа о том времени. Приятно было попасть в тихую одиночку после хоть и не шумной, да все же толпы. Было два часа дня. Отдыхать в одиночестве мне пришлось только до семи часов вечера.
Часов в шесть вечера мне принесли ужин - кастрюльку какого-то пойла. Попробовав, я отложил ложку в сторону и вернул ужин нетронутым: это было {47} нечто еще более жуткое, чем чердачный обед. Ограничился на ужин несколькими леденцами и запил их водой из крана.
В восьмом часу вечера отворилась дверь и меня потребовали "с вещами" в регистратуру. Тот же усач проэкзаменовал меня, глядя в анкетный лист: фамилия, имя, отчество, год и день рождения, местожительство, партийность, состав преступления. Дойдя до последнего пункта и получив от меня прежний ответ, усач снова многообещающе посулил:
- Ничего, голубчик, уж тебе там покажут!
Там! Где это "там"? Куда это собираются меня отправить?
Усач сдал меня на руки конвойным, трем молодым парням-красноармейцам, с ружьями в руках и с туго набитыми заплечными мешками. Во дворе нас ждал автомобиль. Я и конвой уселись - и покатили по темным улицам на Николаевский вокзал.
Меня везли в Москву.
V.
Весь этот день 14 февраля был для В. Н. исполнен тревог и хлопот. Утром отправилась она в ТЕО к В. Э. Мейерхольду. Узнав о моем аресте, он пришел в негодование и немедленно же принял со свойственной ему энергией самое деятельное участие во всей этой истории: стал звонить в разные высокие места по телефону, куда-то сам ездил, и к середине дня выяснил положение дела - меня должны были в тот же вечер отправить с девятичасовым скорым поездом в Москву. В. Э. Мейерхольд тут же распорядился выдать В. Н. специальную бумагу, что она командируется в Москву по делам ТЕО (без командировочного документа нельзя было в те времена получить проездной билет), дал ей указания - к кому в Москве надо обратиться, сам немедленно написал в Москву ряд писем. В. Н. успела съездить в Царское Село, устроить {48} домашние дела, вернулась в Петербург ив девять часов вечера тронулась в Москву, уверенная, что и меня везут туда же в одном из вагонов этого скорого поезда.
Приехав утром 15 февраля в Москву, В. Н. стала искать меня по московским тюрьмам, а главным образом - на "Лубянке 14", в распределителе областной Чеки, куда меня должны были доставить прямо с поезда и где меня уже поджидали. Однако, меня там не оказалось. Пять дней прошло в тщетных поисках. В. Н. побывала с письмами В. Э. Мейерхольда во всех инстанциях, кои ведали моей судьбой. Ей обещали все выяснить, звонили по телефону в Петербург, - меня и там не было, петербургская Чека сообщила, что я был отправлен под конвоем в Москву со скорым поездом 14 февраля. Искали по всем московским тюрьмам - меня и в них не было. Так прошло 15 февраля, и 16-е, и 17-е, и 18-е и 19-е. Что случилось со мной - об этом никто не мог дознаться ни в Петербурге, ни в Москве.
Случилось же вот что. На Николаевский вокзал конвой доставил меня за полчаса до отхода девятичасового скорого поезда. В нем, как я узнал потом, было "забронировано" Чекой четырехместное купе для меня и троих моих конвоиров. Два из них с ружьями остались сторожить меня в зале, третий отправился со всеми документами раздобывать билеты. Все эти три мушкетера были молокососы, необломанные парни деревенского вида и, как оказалось, великие растяпы.
Ушедший за билетами Ванюха долго тыкался по разным местам, ничего не мог узнать толком, вернулся несолоно хлебавши, передал все документы товарищу и сказал: "Ну-ка, Петруха, потолкайся теперь ты!" Петруха ушел, где-то пропадал, потом вернулся и растерянно сообщил: "А ведь поезд-то тю-тю - уже ушел!" Тогда третий, Гаврюха, с ругательствами отобрал у Петрухи бумаги и в свою очередь пошел куда-то, потом {49} вернулся, потом забрал на подмогу Ванюху и они вдвоем куда-то бегали, потом перебрали все комбинации из трех по два - и с ругательствами возвращались обратно. Вся эта канитель продолжалась часы. Все вечерние поезда на Москву уже отошли, вокзал опустел. Было уже далеко за полночь, когда, наконец, Ванюхам удалось выяснить нашу судьбу. Они повели меня по каким-то дальним платформам, потом по полутемным рельсовым путям куда-то во мрак. Где-то, далеко на запасных путях, стоял состав товаро-пассажирского поезда, готовясь к отбытию в Москву. Впрочем, товаро-пассажирским состав этот можно было назвать лишь с натяжкой: среди трех десятков товарных вагонов сиротливо стоял один летний вагон третьего класса. Мы взобрались в него и заняли одно из отделений. Низенькие спинки между ними позволяли видеть весь вагон, в котором сидело уже с десяток пассажиров. Как я потом узнал, в поезд этот стремились попасть люди, не имевшие никаких "мандатов" и удостоверений, никаких проездных документов и даже никаких билетов: дело улаживалось частным соглашением с главным кондуктором поезда.
Понемногу вагон стал наполняться и вскоре не осталось ни одного свободного места. Публика была все простая, "не командировочная": группа артельщиков заняла соседнее отделение, партия ходоков-крестьян возвращалась в родную Окуловку, семья татар пробиралась через Бологое на Волгу; много женщин с малыми ребятами и с бесчисленными узлами и котомками.
Ровно в два часа ночи на 15 февраля поезд тронулся - и шел черепашьим ходом до рассвета, часами останавливаясь на станциях, и на полустанках, и в поле между ними, перед закрытыми семафорами.
Светало, когда мы доползли до Тосны, всего в несколько десятках верст от Петербурга. Здесь нас перевели по соединительной ветке с Николаевской дороги на Витебскую. Пассажиры об этом и не подозревали. {50} Кондуктора при нашем вагоне не было, из поездного начальства никто к нам не показывался. Лишь в середине дня, когда ходоки-крестьяне стали беспокоиться, что все еще желанная Окуловка не показывается, а татары соображали, что близко уже и Бологое - мы подъехали к станции Сольцы, и тут только пассажирам стало известно, что мы едем по совершенно другой кружной дороге, и хотя попадем в ту же Москву, но сделав большой крюк в несколько сот верст. Ехавшие в Москву отнеслись к этому известию спокойно, но те, целью которых были промежуточные между Петербургом и Москвой станции по Николаевской дороге - пришли в ярость: раздались крики, ругательства, слезы женщин, рев детей. Всю эту "промежуточную" публику высадили на станции Дно, чтобы переправить через Старую Руссу на Бологое, а мы поехали дальше, тем же черепашьим ходом, через Дно, Ново-Сокольники, Великие Луки, Ржев - в Москву. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: этот путь в какую-нибудь тысячу верст мы тащились ровно пять суток и прибыли в Москву в ночь на 20-е февраля.
В первое же утро нашего пути Ванюха на ближайшей большой станции принес чайник кипятку и конвоиры мои расположились завтракать. Развязали заплечные мешки, битком набитые всяческой снедью. В какой такой дальний путь снарядили моих конвоиров - неведомо. Во всяком случае, меня тюремное начальство не снабдило никаким продовольствием. Да его и не требовалось: скорый поезд выходил из Петербурга вечером, приходил в Москву рано утром. Кто же мог предполагать, что я пробуду в пути ровно пять суток! Весь мой продовольственный запас состоял из полутора десятков леденцов.
Когда Ванюхи разложили на скамьях обильные свои припасы и стали смачно закусывать, я думал, что в их мешках имеется провизия и на мою долю. Однако, они завтракали, мне ничего не предлагали, а я не {51} спрашивал. Видя, что завтрак подходит к концу, я вынул из чемодана кружку и попросил у одного из Ванюх налить мне кипятку, достал леденец - и позавтракал горячей водой с леденцом. Они молча посмотрели на мой завтрак, ничего не сказали и убрали свои припасы. Меня это заинтересовало - я решил и впредь не обращаться к ним ни с какими продовольственными просьбами и посмотреть, что из этого выйдет.
В середине дня, за обедом, снова повторилась совершенно такая же история: разложенные припасы, накромсанные ломти хлеба, раскупоренные банки консервов, нарезанные селедки - и полное игнорирование моего присутствия. Разница была лишь в том, что Ванюха, обратившись ко мне - без малейшего следа иронии великодушно предложил: "Хошь кипяточку?" Я снова выпил кружку горячей воды с леденцом. Это был мой обед. Полное повторение этой истории и к ужину. Три кружки кипятку и три леденца были моим питанием за целый день.
Следующий день повторил картину предыдущего, с одной впрочем разницей. Во время моего "обеда" я спросил сидевшего рядом со мной Ванюху:
- Не продадите ли мне кусок хлеба? Вот у меня двадцать рублей.
- Не, - пробурчал с набитым ртом Ванюха, - хлеба самим не хватит. Вот хощь за керенку коробку папирос?
Но от папирос я отказался - боялся курить на пустой желудок.
Так - три кружки кипятка и три леденца в день - прошло 15-ое февраля, и 16-ое, и 17-ое, и 18-ое, и 19-ое. Интересно, если бы эти парни везли меня таким образом не в Москву, а во Владивосток, то в течение месяцев двух пути столь же равнодушно смотрели бы они на мою голодовку, или в их первобытных душах шевельнулось бы, наконец, человеческое чувство?
{52} Относился я ко всему этому юмористически, знал, что путь предстоит всего в несколько дней, и что от голодовки за такой короткий срок, да еще голодовки с кипятком и леденцами, никто не умирал. Но все же на пятый день пути ослабел сильно.
Вечером 19 февраля мы были уже недалеко от Москвы. Конвоиры принялись за свой последний ужин, а я - за кружку кипятку, с последним леденцом. В соседнем отделении ужинали артельщики. Один из них, седобородый, тронул меня за плечо:
- Хотите хлеба?
Очевидно, он давно уже стал замечать нечто не совсем обычное в моей системе питания. Я поблагодарил и взял большой ломоть хлеба, но есть его не мог: кипяток я уже выпил, а сухой хлеб при всем моем желании не проходил в горло. Я спрятал хлеб в чемоданчик. Мои конвоиры хмуро покосились и один из них отрывисто заметил:
- Запрещено разговаривать с арестованным!
- А морить его голодом не запрещено? - сердито спросил старик.
- Не ваше дело, гражданин! Арестованный сам ничего не просил.
- Он-то не просил, а вы-то чего глазели? Ох, парни, что-то с вами в жизни будет, коли вы в молодых годах столь звероподобны?
И он отвернулся.
А конвоиры молча увязали свои заплечные мешки и закурили, сплевывая на пол и о чем-то вполголоса переговариваясь. Как оказалось, темой разговора было опасение: а вдруг арестованный нажалуется, что его пять суток голодом морили, - не вышло бы нам, Ванюхам, от этого худа?
VI.
В два часа ночи на 20-ое февраля, час в час через пять суток после отбытия из Петербурга, наш поезд {53} дополз-таки до Николаевского вокзала в Москве. Ванюхи, никогда не бывавшие в Первопрестольной, не знавшие где находится Лубянка, а на ней Чека, не умевшие даже, как оказалось, говорить по телефону, - просили меня оказать им содействие во всем этом; они вдруг стали очень ласковыми и услужливыми. Довели меня до телефонной будки, я позвонил и попросил дать мне "Лубянку"; соединили.
- Алло!
- Привезли из Петербурга арестованного, - сказал я, - конвой просит выслать автомобиль для доставки.
- Звоните в областную Чеку, на Лубянку 14. - Позвонил туда; ответили:
- Да что вы, с неба свалились, что ли? Все ночные поезда из Питера давно уже пришли.
- Мы ехали поездом особого назначения, - сказал я. - Нужен автомобиль для доставки арестованного.
- Все автомобили в разгоне, в ночной работе.
Пусть ведут его пешком.
- Да идти-то он не может.
- Болен, что ли?
- Не болен, а ослаб.
- Конвоя сколько?
- Трое.
- Пусть понесут!
Ванюхи внимательно слушали весь разговор, и услыхав "идти он не может", "ослаб" - не на шутку струхнули; им казалось, что близится час расплаты. Все трое наперебой стали просить меня:
- Барин, уж вы нас не выдавайте, ведь это мы по глупости...
- Сами вы, барин, не просили" а нам и невдомек было...
- Вот вам крест, барин, что мы это не со зла... Они думали, что чем чаще будут употреблять слово "барин", тем мне будет приятнее.
{54} - Стыдно, ребята, - сказал я. - Ну, да что там много говорить: автомобиля за нами не пришлют, сам идти я не могу по вашей же милости, значит берите меня под руки и ведите, я буду показывать вам дорогу.
Ванюха и Петруха подхватили меня под руки, Гаврюха услужливо схватил мой чемоданчик - и мы поплелись на "Лубянку 14", куда заявились около трех часов ночи.
Областная Чека помещалась в обширном двухэтажном здании в глубине большого сада, выходившего на улицу. Через несколько лет на этом месте выросло многоэтажное здание областного московского ГПУ. У ворот стоял охранник с ружьем, в глубине сада у входной двери - другой. Меня ввели в регистратуру. Там в одиночестве за столом восседал дежурный чекист в военной форме, пожилой, толстый и сонный армянин, - везло мне на армян. Получив от конвоя сопроводительные документы и взятую у меня при обыске пачку бумаг и книг, он громко прочел мою фамилию и сказал с типичным акцентом:
- Ну, вот, скажи пожалуйста, наконец-то приехал! Тут уже сколько дней две гражданки все хадют да хадют, тебя ищут!
Я не очень удивился, так как догадался, что В. Н. приехала в Москву. Вместе со своей родственницей она, что ни день, ходила на Лубянку и справлялась о бесследно исчезнувшем муже.
Подписав какую-то бумагу, чекист вручил ее моим конвоирам и отпустил их. В полном восторге Ванюхи немедленно исчезли, причем один из них бросил мне на прощание: "Счастливо оставаться!" - Какой иронический смысл приобретает при некоторых обстоятельствах обычно отнюдь не ироническое выражение!
Армянин позвонил и сдал меня вместе с сопроводительным пакетом другому чекисту. Тот повел меня по ряду освещенных комнат первого этажа в {55} правый конец здания. Комнаты были уставлены столами, за ними сидели люди в военной форме, что-то писали, шумно переговаривались. У некоторых столов чинили допросы обвиняемым. Ночная жизнь кипела. В Чеке, а позднее в ГПУ и НКВД, вся работа шла ночью. Лишь впоследствии я на опыте понял причины такого обстоятельства, - но об этом я расскажу впоследствии. В последней небольшой комнате стояло четыре следовательских стола, за тремя из них велись допросы. На четвертый стол, за которым никто не сидел, конвоир положил мой сопроводительный пакет, а мне предложил пройти в дверь, распахнув ее передо мною. Дверь вела во мрак. Чекист предупредил: "три ступеньки!"-и захлопнул за мной дверь.
Мрак был неполный: под потолком тускло горела электрическая лампочка, но после яркого освещения следовательских комнат надо было еще приучить свои глаза к полутьме. Когда я немного огляделся, то увидел мрачный и темный полуподвал, по двум стенам которого были настланы деревянные нары. На голых досках спали заключенные. Их было, как я узнал утром, сорок пять человек, но что ни день, число менялось, население было очень текучее. Посредине стоял стол; вправо от двери было тусклое зарешеченное окно в уровень от земли, с широким подоконником. У окна сидел на стуле какой-то человек, закутанный в длиннополую шубу, хотя в подвале было совсем не холодно.
- Только что взяты? - спросил он меня.
- Нет, только что привезен из Петербурга, - ответил я.
- Ого! Значит важная шишка, если затребовали в Москву! Позвольте узнать вашу фамилию?
Я назвал себя, он был знаком со мной по книгам, а я в свою очередь был знаком с его фамилией: кто же не знал знаменитых московских Прохоровских мануфактур? Передо мной был последний их владелец, Иван Прохоров, молодой фабрикант с европейским {56} образованием. Днем я его разглядел: это был человек лет тридцати, настоящий богатырь, "косая сажень в плечах", русский красавец с окладистой русой бородкой. Я спросил его, почему он не спит на нарах, как другие, и почему сидит в шубе, когда в подвале совсем тепло?
- По одной и той же причине, - ответил он - на нары не ложусь потому, что там вошь кипит; в шубе сижу потому, что вошь меха не любит. А вот на стене и объявление висит, вы полюбопытствуйте!
Я "полюбопытствовал" - и увидел вырезанное из газеты объявление, прикрепленное к стене каким-то мрачным юмористом. В объявлении указывалось, что сыпной тиф развивается, что для борьбы с ним необходимо соблюдать чистоту, не жалеть мыла, менять почаще белье; объявление заканчивалось по большевистскому трафарету: "Все как один на борьбу с вошью!" Утешительно было читать это объявление в подвале Чеки, где даже на полу под сапогами хрустели эти отвратительные насекомые. Прохоров сказал, что вот уже третью ночь проводит он на этом стуле; впрочем полагает, что не сегодня-завтра переведут его в Бутырскую тюрьму, как и раньше бывало. Я спросил его, часто ли это с ним бывало раньше; он ответил, что этот раз - шестой, и рассказал о себе целую курьезную историю.
- Месяца через три после Октября захотелось мне взглянуть - что делается на моих мануфактурах? Пришел, окружили меня рабочие: "Иван Николаевич! (за отчество не ручаюсь). Что же это делается? Посмотрите - сплошной развал!" - и начали выкладывать про все фабричные непорядки, а потом: "Иван Николаевич, скоро ли к нам вернетесь дело налаживать?" Я им говорю: "Нет, братцы, теперь ладьте дело своим умом!" - и вскоре домой. Ну, разумеется, в ту же ночь меня забрали, посадили в этот подвал, на третий день перевели меня в Бутырку и там стали допрашивать о моей контрреволюционной агитации {57} среди рабочих. Однако сами видят - никакой агитации я не вел, ну, через недельку и выпустили меня, строго-настрого приказав, чтоб не смел совать носа в бывшие мои мануфактуры. Терпел я месяц-другой - снова любопытство овладело: что-то теперь там делается? Не наладилось ли? Пошел тихонечко посмотреть - опять прежнее: "Иван Николаевич, совсем развал, когда же вы к нам!" Конечно, опять меня забрали, опять сюда в подвал, опять в Бутырку, опять выпустили.
Зарекся ходить - не вытерпел: через два-три месяца - прежняя история. Но в последний, в пятый раз, следователь меня предупредил: "Хотя агитации никакой вы не ведете, но самое появление ваше на бывших ваших фабриках - прямая агитация. Смотрите, в следующий раз дело добром не кончится". Долго терпел я, но вот четыре дня тому назад снова не вытерпел и снова попал в этот подвал. Теперь жду по старой памяти перевода в Бутырки, и чем на этот раз дело кончится - сам не знаю...
В тот же день Прохорова, действительно, взяли из подвала и перевели в Бутырку. Я думал, что никогда уже больше ничего о нем не услышу и не узнаю. Но лет через десять, в конце двадцатых годов, при разговоре с нашим царскосельским соседом, старичком-виолончелистом Бров-Суриным, узнал я с удивлением, что "Ванюша Прохоров" - его крестник и что он знает про его судьбу. Почему Чека относилась к нему столь терпеливо - понять трудно. Единственное объяснение: быть может, считались с отношением к нему рабочих бывших его мануфактур. Во всяком случае, ни Чека, ни позднее ГПУ не расстреляли Ивана Прохорова, даже не сослали его, даже не выслали из Москвы. В конце двадцатых годов он заболел крупозным воспалением легких и скончался, чудесным образом избежав концлагеря или расстрела. Доживи он до ежовских времен - ему было бы обеспечено либо одно, либо другое.
{58} Во время разговора он спросил меня, ужинал ли я? Услышав про мою дорожную эпопею - искренно взволновался, вытащил какие-то лепешки, указал мне на подоконное ведро с остатками ужинного борща. Не знаю, был ли этот московский подвальный борщ съедобнее петербургского чердачного, или долгодневный пост сыграл тут свою роль, но только этот жиденький холодный борщ показался мне вполне приемлемым и я с удовольствием поужинал. Или позавтракал? Ведь было уже четыре часа утра.
VII.
Только закончил я этот ужин-завтрак, как отворилась подвальная дверь и кто-то назвал мою фамилию. Я поднялся по ступенькам и был ослеплен ярким светом после полутемного подвала. Меня пригласили к столу, на котором часом ранее были положены мои бумаги, за которым уже сидел просмотревший их следователь, совсем еще молодой человек интеллигентного вида: вот этот мог быть студентом и уж, конечно, "настоящем" не удостоверял. Так и оказалось. Стоя у стола, он тихим голосом, чтобы не слышали другие следователи, сказал мне, что еще в университете читал мои книги, давно хотел познакомиться и очень сожалеет, что знакомство это происходит в таких условиях, и что вряд ли я хорошо чувствую себя в подвале.
- Я сейчас ухожу, - прибавил он, - мое кресло остается свободным. Займите его, может быть, вам удастся подремать; работа здесь скоро закончится.
Я поблагодарил и не отказался от предложения. Спать мне не хотелось, да и не на нары же было ложиться. Пришлось бы просидеть на табуретке рядом со стулом Прохорова до утра. А тут, в следовательской комнате, было и удобное кресло и, главное, редкая возможность присутствовать при {59} следовательских допросах, которые продолжали идти своим чередом.
Следователь попрощался и ушел, а я уселся на его кресло и, как говорится, открыл глаза и навострил уши. За соседним столом только что начинался допрос какого-то человека вполне приказчичьей наружности. Сесть ему не предложили, он стоял у стола в почтительной позе и предупредительно отвечал на задаваемые вопросы. На вопрос, признает ли себя виновным, с готовностью ответил:
- Вполне сознаюсь, согрешил против социалистического отечества.
Обвинялся он в том, что откуда-то достал такой "дефицитный товар", как дюжину гроссов катушек с нитками и распродавал эти катушки в розницу по спекулятивным ценам. ("Ну, и что такое спекуляция? Простая торговля! Ну, и кто же теперь не займается этим?" - вспомнились мне слова спекулянта сахарином). Этот факт установлен, обвиняемый сознался, что согрешил против социалистического отечества, но следователя интересовало другое: откуда и от кого именно достал обвиняемый такую большую партию катушек? Тут обвиняемый стал плести явно выдуманную историю, что сам не знает, от кого достал, что он случайно познакомился с одним "человечком", который предложил ему ежедневно в полдень встречаться на углу Кузнецкого моста и Петровки. Там они встречались, обменивались товаром и деньгами. Следователь записал это показание и потом сказал:
- Сегодня к полудню вы пойдете на угол Кузнецкого моста и Петровки. Надзор за вами будет такой, что со стороны никто ничего не заметит. Если вы встретите этого "человечка" - мы вам поверим, его арестуем, а вашу участь смягчим, если не встретите ни сегодня ни завтра, ни в следующие дни - значит вы все это выдумали, а тогда уж не взыщите!
Обвиняемый клялся, что встретит, найдет, {60} представит, с чем и был отпущен обратно в подвал. Он еще раз повторил, очевидно, понравившуюся ему фразу: "Горько каюсь, согрешил против социалистического отечества!" Когда перед полуднем он в нашем подвале приготовлялся к экскурсии на поимку злоумышленника, то все повторял: "Ну, скажите на милость, ну, как же я его там встречу, когда его там и отродясь не бывало!" И тут же рассказал нам, что катушки привозит ему раз в месяц брат, заведывающий складом на нитяной фабрике в Ярославле. Вернулся с поднадзорной бесплодной прогулки на Кузнецкий мост, ночью получил разнос от следователя, потом каждый день нарочно водили его в полдень на это место мифических свиданий с несуществующим "человечком" и совсем замучили его этим. Но вдруг на пятый день дали ему очную ставку с арестованным в Ярославле и привезенным оттуда братом.
- И от кого только могли узнать! - наивно удивлялся и плакался разоблаченный спекулянт.
- От тебя же, дурня, - флегматично заметил хохол-телеграфист из Нижнего Новгорода.
- Как так от меня! Нешто я следователю это говорил?
- Ни, следователю не казав, а чи нам не казав?
- Ну и что?
- Ну и то. Як ты годуешь: нам, сюди, у подвал, не пидсодили курю, щоб яйки клала?
Курица - шпион, яйцо - донос: этот тюремный жаргон сохранился еще с царского времени. Чем поплатились достойные братья - мне неизвестно; катушечного спекулянта увели из подвала раньше меня.
За другим столом шел допрос другого рода. Обвиняемый, бородатый мужик, ломал дурака и на все явные улики отвечал по поговорке - я мол не я, и лошадь не моя, и я не извозчик. Однако, он, действительно, был ломовой извозчик, нанятый перевезти вещи и пользуясь недосмотром хозяев, он скрылся с вещами и лишь случайно был обнаружен, а вещи {61} обнаружены не были. С ним следователь не церемонился и обкладывал его ассортиментом самых забористых ругательств, стуча по столу кулаком, угрожая расстрелом. Тот тупо повторял все одно и то же:
"Ваша это воля, а мы неповинны".
У третьего стола горько плакал какой-то великовозрастный парень, имевший неосторожность при ссоре с охранником-чекистом сказать ему: "Эх ты, советская сволочь - жандармерия!" Это было явной контрреволюцией и парню грозили немалые неприятности.
По мере приближения утра допросы стали идти все более и более медленным темпом, все более и более вяло. Следователи видимо утомлялись от ночной работы, позевывали, потягивались. Часов в шесть утра закрыл свою лавочку и ушел один из них, двое других досидели до семи часов и тоже ушли. Я остался один сидеть за четвертым следовательским столом в пустой комнате, стал подремывать и крепко заснул.
Разбудил меня в девять часов утра какой-то чекист в военной форме, с недоумением стоявший передо мной:
- Что вы здесь делаете?
- Сижу и сплю.
- Кто вам позволил здесь быть?
- Следователь этого стола.
- Кто вы такой? По какому делу?
Вместо ответа, я указал ему на мои документы, так и остававшиеся лежать на столе. Он просмотрел их, пожал плечами и с прежним недоумевающим видом отрывисто сказал:
- Извольте отправляться к остальным заключенным, а с товарищем следователем я сам поговорю.
И я отправился в свой подвал после столь странно проведенной ночи.
- Ну, однако и допрашивали же вас! - встретил меня Прохоров.-С четырех до девяти! Очень устали?
- Наоборот, - ответил я, - отдохнул в мягком {62} кресле, слегка соснул и провел очень интересную ночь.
- А я все дивился, - сказал катушечный спекулянт, - что это за чудной следователь сидит: штатский, никого не допрашивает, молчит и слушает.
- Вот кабы все следователи такие были! - от души вздохнул ломовой извозчик.
VIII.
Подвал давно уже проснулся, дежурный собирался идти за так называемым чаем; я стал знакомиться! со своими товарищами по подвалу, в котором мне предстояло, как оказалось, провести целых пять суток. Правда, за эти дни многие ушли, многие новички появились. А почему я оставался здесь пять дней было мне непонятно: ведь меня давно уже, именно пять дней, "искали", наконец, "нашли" - так в чем же дело? Почему меня никуда не вызывают, ни о чем не допрашивают? Почему мой любезный студент-следователь как сквозь землю провалился? - я его больше не видел и ничего о нем больше не слышал. Потом выяснилось, что все это происходило от "маленьких недостатков механизма" еще только оформлявшейся Чеки: на "Лубянке 14" рассматривались лишь мелкие дела, мое же дело было в руках следователя по особо важным делам, находившегося в доме через улицу. Но если я мог из Петербурга в Москву ехать пять суток, то нет ничего удивительного и в том, что мое "дело" в течение пяти дальнейших дней не могло перейти через улицу, из дома 14 в дом 11. И если бы не одно случайное обстоятельство, о котором расскажу ниже, то я мог бы просидеть в этом подвале не пять, а пятью пять дней. Об этом - речь впереди, а пока два слова о делах и людях в нашем подвале за это время с 20 по 25 февраля.
Прохорова увезли в Бутырку; я остался наследником единственного находившегося в подвале стула и провел на нем пять бессонных ночей. После пяти {63} дней без еды - пять ночей без сна: это было новое и довольно острое впечатление. Первые две ночи я ни на минуту не сомкнул глаз, на третью ночь усталость взяла свое и я крепко заснул - и тут же свалился со стула. Приходилось только дремать, "клевать носом", и тут же просыпаться от стука двери, вызовов на допросы, разных ночных инцидентов. Так, например, на четвертую ночь мой полусон-полубодрствование были прерваны необычным шумом: в подвал ввалилась толпа в восемь человек, мужчин и женщин, с ругательствами мужчин - и наперебой, с чисто южным темпераментом, стали мне, единственно не спящему, рассказывать о постигшем их злоключении. Это не были "нувориши" НЭП'а тогда еще не существовало, - это были упитанные и хорошо одетые коммунисты из среднего слоя власть имущих, какие-нибудь начальники отделами по старой терминологии, жены их были в потрясающих манто и шляпках. После театра они целой компанией отправились на чьи-то именины, изрядно там выпили и, выйдя на улицу, имели несчастье столкнуться с такой же компанией подвыпивших чекистов и их дам сердца; имели неосторожность затеять с ними уличную ссору, перешедшую потом в драку.
Рассвирепевшие чекисты при помощи милиции отправили своих уличных врагов не в милицейский участок, а в свое чекистское царство, обещая показать им кузькину мать, и втолкнули их в наш подвал. Мужчины негодовали, кричали, потрясали своими партийными билетами, жены плакали, упрекали мужей и с брезгливостью смотрели на проснувшихся обитателей нашего подвала; потом понемногу успокоились и уселись на краю нар. Я посоветовал им внимательно рассмотреть, на что они садятся. Разглядев стада ползающих насекомых, дамы с визгом, а мужчины с ругательствами вскочили на ноги и простояли так, плача, ругаясь и причитая, до утра, когда всех их освободили. Вперед наука - не спорь с чекистами!
{64} Ночи были трудные, а дни шумные. Уводили одних, приводили других. На пятый день нас, длительных жильцов подвала, осталось наперечет. Увели спекулянта-катушечника, увели молодого извозчика, увели и многих других; на смену приходили новые люди, рассказывали о своих бедах, ругались, негодовали или трусили. Всего не расскажешь. За эти дни более всех понравился мне спокойный хохол-телеграфист из Нижнего Новгорода: с добродушным украинским юмором рассказывал он, как дошел он до жизни такой. Давно мечтал он съездить на отпуск в Москву - вот и приехал: прямо с поезда зашел к родственникам, а у них на квартире оказалась засада: "от-це и влип я"! Хозяина квартиры обвиняли в том, что у него - явочное место для эмиссаров Колчака из Сибири, вот телеграфист и попал в их число.
"Я кажу: я-ж нэ з Сибири, я - з Волги, а оны мене: а як-жешь и приехать з Сибири до Москвы, як не чрез Волгу? Бачите, яко дило!"
Хохол этот был бессменным дежурным по подвалу и признанным нашим старостой. Часов в девять утра уходил он с конвойным на кухню за кипятком; в полдень - туда же за ведром борща, который повторялся и на ужин в шесть часов вечера. Хлеба давали вдвое больше, чем на петербургском чердаке - по четверть фунта в день; зато мисок не было и ели все мы, вооружившись ложками и разбившись на очередные группы, стояли вокруг ведра и черпали из него буроватую свекольную жижу. Ни мясным, ни селедочным наваром жижа эта не пахла, зато давали ее вволю: не хватало одного ведра, можно было получить и второе. Утром и вечером на обязанности старосты лежало выносить неизбежную тюремную "парашу", а днем - составлять постоянно меняющиеся списки заключенных для подчисления хлебных рационов.
Из кого состояла вся эта подвальная толпа? Наполовину из таких "политических", как Прохоров или {65} хохол-телеграфист, наполовину из уголовников в роде спекулянта-катушечника или ломового извозчика. В центре Чеки, на "Лубянке 2", были сосредоточены более крупные политические дела, с ней мне предстояло познакомиться много позднее; а пока что - я застрял в текучей толпе этого подвала и не знаю, сколько бы еще просидел в нем, если бы не одно случайное обстоятельство, как я упомянул уже выше.
В ночь на 25 февраля я обычно сидел и дремал на своем стуле. К слову сказать - стул этот не мог спасти меня от кишевших и на полу отвратительных насекомых, но все же на мне было их не такое количество, как на обитателях нар. Было уже за полночь, когда в соседней следовательской комнате послышались более шумные, чем всегда, голоса. Через некоторое время дверь в подвал распахнулась и чей-то голос прокричал:
- Имеющие сделать заявление - к комиссару!
Я "имел сделать заявление", и так как сидел я на стуле у самой двери, а остальные спали на нарах, то я первый и вышел в следовательскую комнату. Посередине ее группа чекистов окружала комиссара, которого я сразу узнал: это был сам Дзержинский, возглавитель Чеки: мне приходилось встречать его и в 1917-ом и в 1918-ом году. Я назвал себя и сказал, что "имею сделать заявление".
Заявление мое заключалось в том, что вот уже скоро две недели, как был я арестован в Петербурге по совершенно дикому обвинению, был везен в диких условиях пять суток из Петербурга в Москву, и в диких условиях продолжаю сидеть пять дней в этом подвале, кишащем насекомыми. Думаете ли вы, что это достойное обращение с русским писателем? И могу ли я надеяться, что вы распорядитесь немедленно расследовать это дело?
Дзержинский сдержанно ответил, что ему известно мое дело, что оно уже закончено следствием и что мое пребывание здесь является непонятным для {66} него недоразумением. Он вынул записную книжку, что-то отметил в ней и сообщил, что завтра же я буду вызван к следователю по особо важным делам, товарищу Романовскому.
Я удовлетворился этим ответом, мы сделали друг другу полупоклон, - и я вернулся в подвал, откуда уже тянулся хвост "имеющих сделать заявление".
IX.
Наступило и "завтра", 25-ое февраля. Утро прошло, как обычно, прошел и обед; начинало уже темнеть - никто меня никуда не вызывал. Я уже думал, что придется еще неопределенное время ожидать в подвале решения своей участи, несмотря на записную книжку товарища комиссара, как вдруг, около шести часов вечера, меня вызвали в следовательскую и предложили собираться "на допрос". Конвоир с ружьем уже дожидался. Мы пошли, конвоир предъявлял стражам дверей и ворот ордера на пропуск; мы вышли на Лубянку, пересекли ее наискось, вошли в подъезд четырехэтажного дома, охраняемый часовым с ружьем;
предъявили пропуск и ему. Поднялись на третий этаж, конвойный приоткрыл дверь какой-то комнаты, сказал: "заключенного доставил!" - и пропустил меня в комнату, а сам остался стоять на часах в коридоре у двери.
Следователь по особо важным делам, товарищ Романовский, поднялся из-за стола и встретил меня буквально с распростертыми объятиями. Он знал, что руки я ему не подам, а потому и не пытался протянуть свою, но с театральным жестом распростертых рук, точно хотел обнять меня, он воскликнул:
- Ну, наконец-то! Вот уже сколько дней, как мы вас по всей Москве ищем, а вы затерялись, точно иголка в сене! Где мы только вас не переискали: и в центральной Лубянке, и в Бутырке, и в Таганке, и в Лефортове...
{67} - Незачем было далеко ходить, - сказал я. - Вот уже скоро неделя, как я сижу на Лубянке 14 в подвале, наискось от вас...
- Да, да, теперь мы знаем, но это только счастливый случай, что товарищ Дзержинский увидел вас там вчера. Нам и в голову не приходило, что вас могли оставить в этой клоаке!
Недурное признание! Видно, были еще весьма велики "маленькие недостатки механизма" - не только потому, что возможна была в сердце Москвы такая чекистская клоака, но и потому, что человек мог затеряться среди этих клоак, как иголка в сене.
Товарищ Романовский с изысканной любезностью предложил мне сесть и театральным жестом придвинул стул. Вообще в нем было много актерского. Я уверен, что до революции он играл роли первого любовника во второстепенных провинциальных театрах. Человек еще молодой, черные волосы до плеч, пышный галстук, синяя пиджачная пара, нечто назойливо актерское в жестах и интонациях. Он, видимо, играл теперь новую в своем репертуаре роль - любезного следователя, но, конечно, тут же мог обратиться в следователя трагического, завращать глазами, застучать кулаками, взреветь рыкаловским басом. Сегодня роль его была идиллическая.
- Мы очень, очень огорчены, что все так случилось. Мы поторопились: вызвали вас в Москву, а вскоре выяснилось, что этого совершенно незачем было делать. Но раз вы уже в Москве, то давайте оформим все до конца. Нам известны ваши петербургские показания (папка с моими бумагами лежала перед ним на столе), может быть, вы пожелали бы что-либо к ним прибавить?
- Нет, не имею такого желания.
- И прекрасно! Все это дело теперь уже закончено, виновные понесли должную кару, а в вашем неучастии мы уже убедились. Сейчас составим {68} обычную анкету, напишем маленький протокольчик, вы дадите нам небольшую подписку - и вы свободны! Мне поручено заверить вас, что таким недоразумениям вы впредь подвергаться не будете и сможете свободно и спокойно работать на благо нашей социалистической родины!
Почти слово в слово, как катушечный спекулянт!
Les beaux esprits se rencontrent...
Началась обычная процедура анкеты, следователь быстро заполнил "протокольчик" допроса, в котором я подтверждал свое петербургское показание о том, что ни о каком заговоре левых эсеров ничего не слышал (да и слышать не мог, ибо его не было) и что политикой вообще не занимаюсь. С этим всем было быстро покончено, оставалось дать "небольшую подписку", текст которой был уже написан; следователь предложил мне ознакомиться с ним. Не могу теперь через столько лет привести его текстуально, но главный смысл его был таков:
Нижеподписавшийся обязуется - ни в какие партии и контрреволюционные организации не вступать, ни в явной, ни в скрытой форме противосоветской агитации и антимарксистской пропаганды не вести, оказывать всемерную поддержку при разоблачении известных ему контрреволюционных элементов общества.
Последний пункт сильно смахивал на завуалированное предложение стать "сексотом" - секретным сотрудником - Чеки. Я сказал следователю, что в такой форме подписка эта для меня неприемлема. Он сыграл огорченное недоумение и спросил, в какой же форме я могу дать это необходимое для них обязательство? Я предложил ему - опять-таки привожу не текстуально, но твердо помню основные пункты - следующее заявление:
Я, писатель такой-то, вел, веду и буду вести исключительно литературную работу, политикой не {69} занимаюсь; в партии никогда не входил и впредь входить не собираюсь. Что же касается направления литературной работы, то, не будучи марксистом, не могу ручаться за совпадение ее с официальным мировоззрением; но для пресечения нежелательных идейных направлений существует РВЦ (Революционная Военная Цензура, - другой тогда еще не было), которой и надлежит блюсти интересы правительственной точки зрения.
Следователь Романовский долго меня уговаривал подписаться под его редакцией, и в ответ на мой категорический отказ - театрально развел руками, сказал - "ну что же с вами поделаешь!", и согласился на мою формулировку. Этим была исчерпана вся наша беседа, продолжавшаяся не больше часа. Стоило из-за этого везти меня в Москву, морить голодом пять суток в вагоне, кормить мною пять суток насекомых в грязном подвале, и вообще весь огород городить!
Окончив всю процедуру, следователь сложил взятые у меня при обыске бумаги и книги в пачку и вручил мне, пожелав успешно продолжать "Антроподицею". (Уверен, что слова этого он также не понимал, как и петербургский следователь). Потом он прибавил:
- Для вашего освобождения нужны еще кое-какие формальности, а сейчас уже вечер. Уж извините, вам придется у нас провести еще одну ночь, но даю вам слово, что завтра в 10 часов утра вы будете на свободе.
Написал какой-то ордер, позвал из-за Двери конвоира, в его присутствии официально простился со мной (кивнул головой, я ответил тем же), сказал:
"Можете увести арестованного". Конвойный повел меня в недалекий путь к месту последнего ночлега. И не думал я, что ночлег этот мог бы стать последним в буквальном смысле этого слова.
{70}
X.
Толстый армянин-чекист сидел на обычном своем месте за столом регистратуры. Он отпустил конвойного, взяв у него ордер, бесстрастно поглядел на ордер и на меня, непонятно сказал: "Ну, сегодня харашо спать будешь!" - и велел вызванному звонком охраннику сопровождать меня. Тот повел меня не в правое, а в левое крыло здания. Мы прошли цепью полупустых и полутемных комнат, только последняя была ярко освещена и в ней за столом с бумагами сидела за стаканами чая целая семья чекистов-латышей: седоусый старик, человек средних лет, третий помоложе и мальчишка лет пятнадцати, все в военной форме, с револьверами в кобурах. Это были дед, сын и два внука, как я узнал из их полурусского, полулатышского разговора между собой.
Нехватало здесь для полноты коллекции только бабушки и матери в этой почтенной чекистской семье. Переговорив между собой, они велели моему конвоиру вернуться в подвал, где я просидел столько дней, и принести оттуда мой чемоданчик. Через несколько минут он принес его и вручил мне. Тогда мальчишка-чекист встал, загремел ключами и открыл металлическую дверь в место уготованного мне "последнего ночлега". Я полагал, что это будет такой же мрачный подвал, перешагнул через порог - и увидел перед собой нечто совсем другое.
Ярко освещенное матовым шаром под потолком помещение. Окон нет. Пола нет, - то есть он есть, но не на уровне пола комнат всего этажа, а метрами четырьмя ниже; десятка полтора ступеней крутой витой лестницы вели вниз. И стены и пол - изразцовые и блещут чистотой. На уровне обычного пола всего этажа - узкая, с ажурной решеткой металлическая галерейка вокруг всех четырех стен комнаты. Не знаю, что раньше было в этом помещении - какая-нибудь несгораемая кладовая банка или {71} страхового общества: в старом справочнике Москвы можно узнать, что было в царские времена в этом здании на Лубянке 14.
Спустившись вниз по крутой лестнице, я очутился на изразцовом полу помещения, которое и подвалом называть не приходилось, слишком оно было для этого светло и парадно. Внизу, вдоль всех четырех стен, было устроено десятка полтора деревянных стойл, отделенных друг от друга стенками. В каждом стойле нары, на них тюфяк и набитая сеном подушка. Посередине - небольшой квадратный стол и несколько табуреток. Пять человек сидели вокруг стола и пили чай; я пришел шестым.
Навстречу мне приветливо поднялся пожилой человек невысокого роста с широкой бородой, отрекомендовался "старостой нашего корабля" и предложил принять участие в чаепитии. Я пожал руки остальным путешественникам, представился им и уселся за стол, радушно угощаемый "чем Бог послал". Спросил старосту, где я нахожусь и что это за привилегированное тюремное помещение.
- Действительно, привилегированное, - сказал он, - разве вы о нем ничего не слышали? Это - Корабль Смерти.
- Какой Корабль Смерти?
- Значит, ничего не слышали. Корабль Смерти - помещение для смертников, приговоренных к расстрелу и ожидающих окончательного решения своей участи.
- А вы?
- И я, и все мы - здесь смертники. А раз вы сюда попали...
Должен признаться - кусок остановился у меня в горле. Староста осторожно стал расспрашивать о моем деле, за что я попал сюда, когда и как меня судили. Я рассказал им короткую свою эпопею, включая и недавнюю беседу со следователем Романовским. Староста недоверчиво усмехнулся:
{72} - Две недели тому назад обвинили в контрреволюционном заговоре, а завтра утром на свободу! Этого в Корабле Смерти при мне не бывало. Уводят все больше ночью. Если скажут "с вещами" - значит переводят куда-нибудь, если "без вещей" - ну, значит... На днях увели "без вещей" троих, "с вещами" взяли только одного с неделю тому назад, да и то ночью.
- А сами вы, - спросил я старосту, - давно здесь сидите?
- Второй месяц пошел, - ответил он мне.
В голове у меня все перепуталось. "Даю вам слово, что завтра в 10 часов утра будете на свободе" - а Корабль Смерти! Быть может, актер Романовский играл заранее выученную роль, а теперь бархатно посмеивается, воображая себе мое положение и вспоминая, как он меня одурачил? Может быть, "дело" мое вовсе не закончено? А может быть, и совсем закончено? А что если, действительно, в 10 часов утра или вечера - "без вещей"?.. Конечно, все это нелепость. Суда надо мной никакого не было, но и то сказать - какие там суды в эпоху чекистского террора! А с другой стороны, - все это слишком невероятно и нелепо. Может быть, следователь Романовский и вправду хотел только предоставить мне с удобством провести "последнюю ночь" в Чеке? Благодарю за такое внимание! Ночь на стуле во вшивом подвале казалась мне теперь недосягаемым идеалом! Должно быть, все эти мысли ясно читались на моем лице, так как староста мягко сказал:
- А вы бросьте думать обо всем этом и положитесь на судьбу: думами тут делу не поможешь.
Я последовал его совету, постарался "бросить думать" и принялся за прерванное чаепитие. Но не могу сказать, чтобы "бросить думать" мне удалось. О чем бы я ни говорил, в подсознании все время одна и та же мысль: Корабль Смерти! Чтобы заглушить ее, я стал расспрашивать спутников по кораблю, {73} давно ли они свершают в нем свое плавание и как в него попали. Должен признаться, что смутно помню все их рассказы: слушал вполуха, думая о своем. Но все же кое-что доходило до сознания и осталось в памяти. Вот только фамилии начисто забыл.
Староста - бухгалтер в каком-то большом учреждении - ив царские времена и в революционные был одинаково далек от какой бы то ни было политики. Как-то пришел к нему уезжавший на время в Сибирь знакомый и попросил приютить его чемодан с особенно ценными для него вещами, который он боялся оставить в своей холостой комнате. Уехал - и исчез, а вскоре к бухгалтеру нагрянули ночные гости, произвели повальный обыск, забрали чемодан и его самого. Держали на Лубянке 2, подвергали строжайшим допросам, обвиняя в принадлежности к широко разветвленной контрреволюционной "колчаковской" организации, эмиссаром которой был его знакомый, а он, бухгалтер, якобы был московским явочным центром этой организации. Не к нему ли попал в засаду и мой хохол-телеграфист? Я спросил оказалось: к нему! На его постоянные уверения, что он ни сном ни духом не причастен к этому делу, ответили кратко: "Все равно расстреляем", и отправили ждать решения своей участи - в Корабль Смерти.
Молодой солдат, партийный эсер, принимавший участие в восстании какого-то из волжских полков, - в Самаре? в Саратове? После подавления восстания бежал, скрывался, был пойман. Если не расстреляли сразу, то лишь оттого, что требовали точного указания, где находятся другие, тоже скрывшиеся и еще не пойманные главари восстания, с которыми он якобы был связан и в бегах. Указать он не мог, - думали, что не хотел, - сказали: "Не миновать тебе расстрела!" и посадили - в Корабль Смерти.
Тоже молодой человек, называвший себя {74} анархистом. После разгрома советской властью анархистов в Москве, в апреле 1918 года, он скрылся в провинцию и организовал там анархистские группы с боевыми заданиями. Чем его идейный анархизм отличался от простого бандитизма - в кратком разговоре я усвоить не мог; во всяком случае, после нескольких удачных "эксов" (экспроприации), группа его была "ликвидирована" и он сравнительно недавно очутился - в Корабле Смерти.
Четвертый - матрос, хмурый и неразговорчивый. Его рассказа о себе совсем не помню. Помню только, как он вскользь бросал отрывочные фразы: "Ничего, всех не перестреляют!", или: "Пожди, мы еще себя покажем!" Когда ровно через два года вспыхнуло Кронштадтское восстание, я вспомнил этого матроса с его уверенным "мы". Сидел и в петербургском ДПЗ и на "Лубянке 2". С месяц тому назад ему сказали:
"Ну, теперь скоро!" и отправили - в Корабль Смерти.
Наконец, пятый - истовый старик крестьянин, староста какого-то подмосковного села, в котором очень "безобразничал" поставленный из Москвы "комиссар". Мужики долго терпели, безрезультатно жаловались, но однажды "комиссар" был убит выстрелом из ружья в окно. Виновного не нашли, старосту взяли как заложника, сказали: "Найдем виноватого - тебя отпустим, а не то - не взыщи!" - и вот теперь сидит он в Корабле Смерти.
А шестой - я. Какими судьбами попал я в Корабль Смерти, что мне предстояло впереди? Действительно ли, это моя "последняя ночь" (какая бессмыслица думать об этом!), или это только любезная услуга, черт бы его побрал, следователя Романовского?
Как будто бы в ответ на эти мои мысли староста сказал: "Утро вечера мудренее" - и предложил всем нам ложиться спать.
{75}
XI.
Улегся в указанном мне стойле на соломенном тюфяке, - надеялся наверстать пять бессонных ночей. Насекомых здесь не было (кроме тех, что я принес с собой). Тюфяк, по сравнению с жестким стулом, был мягкий. Сверху засаленной подушки я положил полотенце - и собирался заснуть. Не тут-то было!
Соседи мои крепко спали. Я изумлялся внешнему спокойствию этих людей, каждый из которых в любую минуту ночи мог ждать вызова "без вещей". Я был уверен, что мне не грозит подобная участь и то не мог заснуть. А впрочем - кто ее знает, чекистскую юстицию! Могут и расстрелять безданно и беспошлинно, а потом объявят в газетном сообщении:
"Подвергнут высшей мере социальной защиты за участие в левом эсеровском контрреволюционном заговоре". Поди, опровергай! Через два с половиной года так и расстреляли поэта Гумилева за участие в заговоре монархическом. Кратко сообщили об этом в газетах - и верь на слово!
На "капитанской рубке" - так звали галерейку над нашими головами - стал мерно ходить, отбивая шаги и позвякивая ружьем, часовой - все из той же латышской семейки: сперва дед, потом через два часа его сменил младший внук, потом старший, потом их отец, - а я все еще не спал, тщетно уговаривая себя попытаться заснуть. Матовый шар под потолком ярко освещал наш "трюм" - так назывался наш подвал - и тоже мешал приходу сна. И яркий свет, и ночные часовые были для того, как мне объяснили утром, чтобы "смертники" не могли покончить самоубийством... Мне рассказали за чаем, что такой же Корабль Смерти находится и на Лубянке 2, но только там он значительно обширнее и временами густо заселен. Когда не хватает места на том Корабле, присылают на этот.
Латыши-часовые безостановочно ходили или {76} присаживались на стул в углу галерейки; матовый шар неистово светил; навязчивая идея безустанно сверлила мозг. И все-таки я к самому утру забылся сном - и проснулся от шума шагов и голосов: пассажиры трюма уже встали и готовились к чаю. Чекисты-латыши перестали ходить по капитанскому мостику: этим они занимались только ночью. Встал и я, но голова была в тумане.
Пили чай и разговаривали спокойно, тем более, что ночь - опасное время миновала. Староста написал что-то на клочке бумаги и, подавая его мне, сказал:
- Знаете что, ведь и невероятное иной раз случается: а вдруг вас сегодня и взаправду выпустят? Тогда просьба к вам: вот номер телефона моей жены - не позвоните ли вы ей? Скажите только, что здоров и пока жив. Если вам не трудно...
- Труда здесь нет, - ответил я, пряча записку, - а только после наших вчерашних разговоров мало что-то верится, что я сегодня выйду на свободу. Вот и десять часов уже скоро...
- Кириллов день еще не прошел, - улыбнулся староста, показывая этой цитатой из Алексея Толстого, что и он не чужд литературного образования. И чуть только произнес он эти слова, как наверху отворилась дверь и латышский мальчишка-чекист с капитанской рубки прокричал в трюм мою фамилию, прибавив:
- Собираться... с вещами!
В регистратуре сидел все тот же вечный армянин, спросил меня: - "Хорошо спал?", исполнил все анкетные формальности, вручил удостоверение на право выезда из Москвы и - что еще важнее - ордер на право ухода из Чеки. В яркое солнечное утро 26 февраля вышел я на улицу. С большим трудом - и голодовка и бессонница сказались - доплелся до дома одних знакомых и застал там и В. Н. Отмылся {77} в ванне, отоспался, подкормился, так что на следующий день мог уже простоять часы в очередях за билетами.
В последний день февраля вместе с В. Н. покинули мы Москву, на этот раз не в товарно-пассажирском, а оба в скором поезде, и 1-го марта были уже дома в Царском Селе.
Целых пятнадцать лет после этого меня не трогали и позволяли, хоть и на больших тормозах, двигаться в литературе. Но видя все, что творилось кругом, я никогда не верил в прочность своего дома, построенного на песке: знал, что для ГПУ я - "идеолог народничества" и убежденный противник марксизма, хотя бы противник и с заткнутым ртом. Ждали только случая, искали только повода, только предлога, а когда усиленно ищут, то чаще всего и находят.
Но все это было еще впереди: двадцать лет от первой тюрьмы до второй прошло, пятнадцать лет до третьей тюрьмы осталось. И если первая тюрьма была только веселым предисловием, а вторая - ничуть не веселым введением, то третью и последующие тюрьмы можно охарактеризовать старинной русской поговоркой: "раньше были только цветочки - ягодки будут впереди".
Май 1944 год.
Кониц.
{78}
ЮБИЛЕЙ
(Писано в Саратове, в ссылке, в 1934 году.)
Юбилей - это издевательство
Чехов
Не пожелаю никому такого юбилея
Н. А. Римский-Корсаков
("Летопись")
I.
Литература - жизнь, но жизнь - не литература.
Да, но в то же время (и именно потому) жизнь умеет создавать такую мелодраматическую литературщину, что в повести или романе никто не поверил бы плохой выдумке и неудачному домыслу столь вяще изломившегося автора. Поэтому часто, боясь "литературы", умудренные авторы ограничиваются лишь "оттенками", сознательно или бессознательно утончая жизнь: писатель должен-де давать "rien que la nuance", ибо "tout le reste est litterature".
A вот сама жизнь - она поступает не по-декадентски, она не боится самых нарочитых и грубых литературных эффектов; она, вместо "оттенков", преподносит изумленным зрителям такой необузданный тяп-да-ляп, что любо дорого смотреть, а тем паче - самому переживать. Всё это думалось мне в связи с устроенным жизнью празднованием моего житейского и литературного юбилея в 1933 году - и рассказ об этом праздновании будет очень удачным (ибо {79} "продиктованным жизнью самой") введением к тем житейским и литературным воспоминаниям, которые я всё еще собираюсь написать.
В очаровательной книге "Жизнь Бенвенуто Челлини", им самим написанной, есть такое всегда восхищавшее меня место:
"Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственной рукой описать свою жизнь. Но не следует начинать столь благого предприятия прежде, нежели минет сорок лет... Вспоминаю о кое-каких благих отрадах и кое-каких неописуемых бедствиях, каковые, когда я оборачиваюсь назад, ужасают меня удивлением, что я достиг до этого возраста пятидесяти-пяти лет, с каковым, столь счастливо, я, благодаря милости Божьей, иду вперед".
Так вот, не единожды после революции, когда мне как раз минуло сорок лет ("не следует начинать столь благого предприятия прежде"...), садился я писать воспоминая. Однако, подобно одному чеховскому герою, никак не мог пойти дальше первой фразы:
"Я родился в...". И не потому не мог пойти дальше (каюсь), чтобы меня останавливала мысль - "а кому это интересно, когда и где именно ты родился?"; и не потому тоже, что не сделал в жизни ничего "доблестного или похожего на доблесть". Кто из нас посмеет назвать свою жизнь - доблестной? Довольно и того, если она была просто честной; а если к тому же она была еще и интересной, то такому человеку и перо в руки. А у кого же могла быть неинтересна жизнь в нашу водоворотную эпоху? Нет, смело садись, бери перо и пиши: "Я родился в...".
Однако не писалось. И житейская суета сует мешала, и не было какого-то последнего толчка, властно усаживающегося за письменный стол...
Вот уже минуло мне и пятьдесят лет, пора бы оглянуться назад. Вот пришел и 1933 год, когда, еще {80} раз говоря словами Челлини, "я достиг до этого возраста, пятидесяти пяти лет", - год для меня вдвойне знаменательный: год двойного моего юбилея, литературного и житейского. Литературного - потому, что ровно тридцать лет назад, в январе-феврале 1903 года, написал я первые строки первой моей книги;
житейского - потому, что ровно тридцать лет назад, 20 января, а по новому стилю - 2-го февраля 1903 года, была наша с В. Н. свадьба. Вот мы и собирались, праздновать 2-го февраля 1933 года наш тридцатилетний двойной юбилей. Но как же быстро прошли эти тридцать лет!
Вот осенью 1906 года выходит первая моя книга - и я "вхожу в литературу". Так как в ней проходит вся следующая жизнь, то не здесь вспоминать об этом, хотя и есть о чем вспомнить. Блестящий период расцвета русской литературы и искусства начала XX века прошел перед глазами, с лучшими его представителями и выразителями судьба дала мне возможность стать в близкие и дружеские отношения. Семья, дети, друзья, литература, искусство, общественная деятельность победы и поражения, жизнь, полная борьбы. Пусть это был только быт, пусть подлинные события пришли позднее, но одни и те же люди связали быт с событиями. Быт, люди и события - вот поэтому три части будущих моих воспоминаний.
И вот пришли события: война и революция; полное неприятие первой, полное приятие второй, снова победы и поражения. Не здесь об этом рассказывать, но есть о чем порассказать, есть о чем вспомнить. Потом - напряженная работа пять лет (1919-1924) в "Вольфиле" - "Вольной философской Ассоциации", о чем рассказываю в другом месте (В предисловии к книге "Оправдание человека".) потом - работа над Салтыковым и работа над Блоком, о чем {81} скажу ниже: обе были в разгаре, когда подошел 1933 год. Можно бы и подвести итоги.
Худо ли, хорошо ли, работал тридцать лет, но написал два десятка томов и работал честно; худо ли, хорошо ли, жил, но прожил жизнь интересно; есть что благодарно вспомнить, есть чему (и кому) благодарно поклониться. И если жизнь эстетически закончена и справедлива, то и этот двойной юбилей мой должна она ознаменовать (для меня) чем-либо, отмечающим новую веху на жизненном пути. А жизнь - внутренне всегда справедлива, или, говоря по-книжному, всегда действует она по непреложным законам субъективного телеологизма: в этом и заключается ее справедливость...
С такими "подсознательными" думами и чувствами встретили мы с В. Н. наступивший новый 1933 год, год двойного нашего юбилея. Казалось бы - чего проще: ознаменуй сам для себя этот юбилей тем, что примись, наконец, за книгу воспоминаний. Не тут-то было! Как раз в 1933 год вступал я в разгаре увлекательной двойной работы, поглощавшей всё мое время. Так как работа связана (как вскоре оказалось) с юбилейными моими празднествами 1933 года, то здесь надо сказать два слова и о ней.
После смерти Александра Блока десять лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством, так что когда осенью 1930 года "Издательство Писателей" в Ленинграде предложило мне составить план полного собрания сочинений Блока и редактировать его - я охотно принял это предложение.
В течение двух лет вышли первые семь томов, заключающие в себе всё поэтическое наследство Александра Блока; в течение 1933 года должны были выйти остальные пять томов, соединяющие в себе всю его прозу. Большую работу эту я мог выполнить в такой сравнительно короткий срок только потому, что все эти два года деятельно помогал мне в ней приятель мой, Дмитрий Михайлович Пинес, {82} прекрасный и тонкий знаток Блока, а кроме того, и исключительно сведущий библиограф.
Все эти два года (1931-1932) он почти каждый день самоотверженно приезжал ко мне в Детское - бывшее Царское - Село, где мы работали над хранившимися у меня на дому рукописями Блока. Два тома прозы тоже были уже в наборе к началу 1933 года. И мне казалось, что двенадцатитомное собрание сочинений Блока - не плохой литературный памятник, которым я ознаменовал свой тридцатилетний литературный юбилей. Правда, под сильным давлением одного высокого учреждения - ГПУ - и при подобострастном "чего изволите" двух его сотрудников, "пролетписателей" Чумандрина и Лаврухина, возглавлявших правление "Издательства Писателей", это издание весною 1932 года было кастрировано: из него были вырезаны все уже набранные, а отчасти и отпечатанные фактические примечания мои (около 50 печатных листов), заключающие в себе до пяти тысяч неизвестных строк из черновиков стихотворений Блока. Но подробней об этом ниже.
Вторая большая работа, которой я был занят в это же время, была связана с творчеством Салтыкова-Щедрина. Над этим писателем работал я с 1914 года, хотя и с перерывами, изучая сперва первопечатные тексты, а позднее - рукописи и архивные материалы. В 1925 году мне было предложено Государственным Издательством прокомментировать юбилейное шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова; труд этот занял у меня два года и результатом его были 30 печатных листов комментариев к основным салтыковским циклам. После всей этой многолетней работы я счел себя достаточно подготовленным для большой монографии о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина; первый том ее вышел (с большими препятствиями) в 1930 году, второй и третий тома подготовлялись (без больших надежд) к печати, а тем временем в том же году в {83} "Издательстве Писателей" вышла собранная мною небольшая, но острая книжка - "Неизданный Щедрин". Но вот осенью 1931 года Государственное Издательство предложило мне составить план издания полного собрания сочинений Салтыкова и принять ближайшее участие в его редактировании. План был составлен, работа началась; к 1933 году она была на полном ходу. И мне думалось, что и эти работы - моя монография и многотомное собрание сочинений Салтыкова - были не плохими литературными памятниками тридцатилетнего моего литературного юбилея.
Блок и Салтыков (какие, однако, полюсы!) - вот в какой напряженной работе встретил я 1933 год.
Итак - работа была напряженная, мне было не до воспоминаний, не до юбилеев. К тому же, не примыкая к официальной идеологии, я не мог подвергнуться мытарствам официального юбилея - и слава Богу! Знаю я эти юбилеи, навидался, в устройстве одного из них сам принимал близкое участие (Федора Сологуба, в 1924 году) - благодарю покорно! "Юбилей - репетиция похорон", сказано про такие юбилеи с надгробными (то бишь приветственными) речами; а кому же весело присутствовать на репетиции собственных похорон! Нет, лучше в одиночестве и радостном труде провести этот день 2 февраля 1933 года, чтобы вечером, за стаканом вина, благодарно вспомнить минувшее тридцатилетие жизни и работы, чокнуться с В. Н. за прошлое и бодро встретить будущее, каким бы оно ни пришло.
Но тут-то и начались юбилейные празднества.
II.
Весь день 2 февраля я с увлечением работал в своем кабинете - сперва над гранками VIII тома сочинений Блока, потом ("отдых есть перемена работы") над материалами VIII тома сочинений Салтыкова. Часов в 9 вечера, довольный рабочим днем, закончил я {84} работу, чтобы за стаканом чая, в тихом уюте отпраздновать вдвоем с В. Н. общий наш юбилей.
В это время пришли гости - престарелый писатель Вячеслав Шишков с молодой женой, - "на пять минут", по какому-то бытовому делу. Они уже собирались уходить, когда я сказал:
- Хоть вы и торопитесь домой, а придется вам остаться, когда вы узнаете, какой у нас с В. Н. сегодня день.
И, переглянувшись с В. Н., рассказал им, полушутя, о двойном нашем юбилее.
Гости ахнули: им "молодоженам", показались чуть ли не невероятными тридцать лет нашей семейной жизни; да и тридцать лет литературной работы тоже "впечатляющее" число. Сели мы вокруг самовара и бутылки вина, чокнулись и уютно провели этот юбилейный вечер. Вячеслав Шишков между прочем спросил, почему мы этот наш юбилей держали в секрете от друзей и знакомых, надо-де было устроить широкое и многолюдное чествование.
- А вот погодите, - сказал я, - чествование еще может состояться. Уйдете вы домой, ляжем мы спать, а тут как раз явится тетка с поздравлениями.
"Теткой" прозвали мы в небольшом писательском кругу - ГПУ, а поводом к этому послужили две строчки из поэмы "Комсомолия" замечательного поэта земли русской Безыменского:
Комсомол - он мой папаша,
ВКП - моя мамаша...
Этот запоминающийся дистих, без ведома автора очаровательно пародирующий пародию Глеба Успенского ("который был моим папашей, который был моим мамашей"...) как-то, к случаю, позволил мне сказать, что хотя не у каждого из нас есть трехбуквенная мамаша, но зато у каждого имеется трехбуквенная тетка ГПУ; еще Фамусов о ней знал, грозя сослать дочь - "в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!"
{85} Визита этой тетки я не удостаивался с 1919 года, но за последние ночи она усиленно навещала моих близких и далеких знакомых. В конце января арестован был упомянутый выше Д. М. Пинес, к большому ущербу для издания томов прозы Блока и библиографии о нем; были взяты и, кроме него, два-три знакомых всё бывшие эсеры, правые и левые; но тогда же арестованы были в Царском Селе и еще знакомые, не имевшие никакого отношения к политическим партиям. Один из них, Г. М. Котляров, библиотекарь Академии Наук, милый человек и любитель-шахматист, нередко заходивший ко мне сыграть в шахматы партию-другую; второй, писатель А. Д. Скалдин (автор острого романа "Странствия и приключения Никодима старшего") в последний раз был у меня два года тому назад. Я не поверил своим ушам, когда вскоре узнал (уже в апартаментах тетеньки), что оба они арестованы за принадлежность к моему "кружку". И хотя никакого кружка не было - обоих их сослали в Алма-Ату. Но всё это еще впереди.
На слова мои Вячеслав Шишков рассмеялся и сказал, что таких совпадений в жизни не бывает.
- Если даже и допустить, что тетенька нанесет вам визит (чему я не верю), то уж сегодняшнюю ночь вы будете во всяком случае спать спокойно: такое юбилейное совпадение слишком невероятно, его не встретишь даже в плохом романе неумелого автора.
Жизнь - умнее.
- Дорогой мой, она - смелее, - ответил я - литература - жизнь, но жизнь не литература.
Далее - смотри первые строки этой части: то, что я сказал тогда, я записал теперь.
Около полуночи мы проводили гостей, посидели и поговорили еще немного, а в половине первого я потушил у себя в кабинете электричество и собрался было заснуть. В это время в саду раздался лай Сулхана (чудесный друг дома, дворянин-гордон), потом топот многочисленных ног по лестнице, потом стук в {86} дверь. Стало смешно: хотя я только что и отстаивал "жизнь" против "литературы", но, сказать по правде, никак не думал, что окажусь таким блестящим пророком и что тетка явится с поздравлениями именно в эту ночь.
Наскоро одевшись, я вышел в переднюю и встретил вышедшую из своей комнаты В. Н. - Все-таки явилась! - сказала она. Спросив для проформы - "кто там?" и получив ожидавшийся ответ, я открыл дверь и был поражен количеством юбилейных поздравителей, явившихся под командой молодого гепеушника, оказавшегося особоуполномоченным секретно-политического отдела ГПУ, неким Бузниковым.
Несомненно, что секретное (для меня) политическое преступление мое было очень велико, раз понадобилась целая армия для обыска, а потом и конвоирования. Одни, во главе с Бузниковым, заняли мой кабинет, другие комнату В. Н., третьи отправились в сад обыскивать дровяной сарай. Что там могло у меня храниться? - пулеметы? склад бомб? печатный станок? - Не знаю, да и вообще ничего не знаю о подробностях обыска, так как Бузников попросил меня не покидать кабинета, где он уселся за мой письменный стол, раскрыл ящики и занялся чтением лежащих на столе и в ящиках писем и бумаг.
Я закурил трубку, сел в кресло и просидел, не вставая, все время шумного обыска - до пяти часов утра. Курил, молчал и думал. Очень о многом думается в такие часы ночного обыска.
И вот первая, юмористическая мысль: что если бы тетенька знала о двойном моем юбилее - явилась ли бы она именно в эту ночь, или нанесла бы свой визит несколькими ночами раньше или позже? Думается, что юбилейные соображения не остановили бы ее, скорее наоборот: а, ты празднуешь свои тридцатилетние юбилеи? ну, вот, и я явлюсь поздравить тебя в {87} эту самую ночь и создам эстетически-законченную рамку для дальнейших юбилейных празднеств.
А обыск шел своим чередом. Входили и выходили разные тетушкины адъютанты, пугливо косясь на десяток больших книжных шкапов с десятками тысяч книг работы-то сколько предстоит! Спрашивали - где чердак? где дровяной сарай? Спускались в подвал, ходили по саду. В комнате В. Н. работа тоже кипела: опустошали ящики комода, рылись в белье, переворачивали матрацы. Одним словом - все по старой, классической форме, так хорошо известной.
Все это было мало интересно, ибо слишком известно. Гораздо интереснее было мне следить не за людьми, возбуждавшими только жалось, а за животными, молчаливо присутствовавшими всю ночь при обыске. Это были - пес Сулхан и кот Мишка.
Читая житейские воспоминания художников слова, не один раз удивлялся я как мало места отводится в них четвероногим друзьям человека. Да и вообще велика ли посвященная им художественная литература? Из наших писателей только один Михаил Пришвин вплотную и любовно подошел к "психологии собаки". Не художникам за такую тонкую тему лучше и не браться. И все-таки не могу не рассказать здесь о друге дома Сулхане, так как глубоко поразило и тронуло меня его поведение в эту мою юбилейную ночь.
Бенвенуто Челлини в красочном своем жизнеописании рассказывает, как сидел он в римской тюрьме св. Ангела, а пес его разделял с ним одиночество камеры. Ночью пришли тюремщики и палачи вести Бенвенуто на казнь, - и вдруг пес, всегда добродушный, с яростью бросился на вошедших; они едва отбились от его нападений.
Сулхан вел себя совершенно иначе. Добрейший, но всегда настороженный и враждебный к незнакомым людям (как и подобает уважающему себя цепному псу, спускаемому с цепи на ночь), он и теперь, при {88} первом появлении юбилейных поздравителей, кинулся на них с грозным лаем, но обнюхав среди них знакомого соседа, обывателя-понятого, молча ворвался вместе с поздравителями в комнаты, подбежал ко мне, и все пять часов обыска (удивительно!) простоял у моего кресла не двигаясь, уткнув нос в мои колени и поджав хвост. Люди входили, выходили, хлопали дверью, разговаривали - он ни на что не обращал ни малейшего внимания, и это поразительно отличалось от его обычного поведения. Каким это верхним собачьим чутьем учуял он, что на долю хозяина выпало юбилейное чествование?
Но если уж рассказал я об этой трогательной собачьей интермедии, то отчего бы заодно не рассказать о случившейся тут же юмористической интермедии кошачьей? Тем более, что о "психологии кошки", существа куда более сложного, чем собака, нет ровно ничего в художественной литературе...
Не для восполнения пробела, а просто потому, что к слову пришлось, скажу я здесь о нашем чудесном черном Мишке, ласковом и нежном со своими, но гордом и самолюбивом, как и всякий уважающий себя кот. Он спал на оттоманке в моем кабинете и не обратил никакого внимания ни на вошедших с шумом чествователей, ни на своего друга и приятеля Сулхана. Ночь подходила уже к концу, когда один из гепеушников бросил на оттоманку какую-то пачку бумаг, слегка задевшую Мишку. Мишка медленно встал, выгнул спину, презрительно обвел глазами всех присутствовавших, затем отправился, задрав хвост, в угол к камину, и тут он вежливейший и воспитаннейший кот, за все четыре года своей жизни всегда просившийся выйти в сад, - с демонстративным громом и шумом свершил crimen lesae majestatis, после чего величественно прошествовал к двери и попросился выйти.
Мне, конечно, совестно за введение этих интермедий - слегка сентиментальной собачьей и вполне {89} непристойной кошачьей, - но из песни слова не выкинешь, а юбилейная ночная кантата включала в себе и такие ноты. К тому же я рассказываю теперь то, о чем думал тогда, и в мои серьезные и несерьезные мысли тех часов входило все то, о чем пишу теперь.
III.
Юбилейная ночь подходила к концу. Часам к пяти утра теткины сыны собрали большой мешок писем и рукописей; никогда в жизни не подозревал я, что являюсь обладателем такого большого количества нелегальной литературы. Что было в этом мешке - для меня это до сих пор покрыто мраком неизвестности. Случайно знаю, что взяты были со стола все письма ко мне такой серьезной преступницы, как Вера Фигнер; взята была обработка для сцены "Истории одного города", сделанная Евг. Замятиным; взят был, конечно, и мой дневник за годы революции, на девять десятых - чисто литературный, без которого я уже не смогу теперь в своих воспоминаниях написать как следует об Александре Блоке, Андрее Белом, Сологубе, Есенине, Клюеве, о многом другом (тогда это писалось под свежим впечатлением). Взято было все без всякой описи - и, повторяю, я до сих пор не имею представления о том, какие же пудовые историко-литературные материалы перешли из моего архива в архив тетушки. Но все это - в порядке вещей.
Затем - мне было любезно предложено собираться в путь. Кабинет был опечатан. (В скобках сказать - через два месяца он был без всякого повторного обыска распечатан в один прекрасный апрельский день). В. Н. наспех приготовила мне чемоданчик с необходимыми вещами и вышла проводить меня До автомобиля, поджидавшего в липовой алее перед домом. Это был так называемый (всюду - от Москвы до Владивостока) "черный ворон": тюремная без окон камера на автомобильных колесах. Кстати {90} сказать: месяца через три я встретил в Москве, в Лубянском изоляторе, человека, арестованного за то, что он сказал на улице: "А вот и черный ворон едет". Очевидно, термин этот не является официально утвержденным. Попрощавшись с В. Н., я сел в эту тюремную камеру в сопровождения трех конвойных с винтовками, - как и где ехала остальная армия и ее предводители мне неизвестно. - Ворон каркнул и полетел.
Менее, чем через час, влетел он в просыпающийся город: слышны стали звонки трамваев, грохот колес о мостовую. Потом - плавный ход по торцам: значит едем по Загородному проспекту, пересекаем Невский; еще через несколько минут круто заворачиваем: Шпалерная и ДПЗ (Дом Предварительного Заключения, в просторечии - предвариловка). Ворон прилетел в свое гнездо и привез корм воронятам.
На третий этаж, в регистратуру. Там дежурный, слегка уже уставший от кипучей ночной работы, заполняет обычный анкетный лист; затем приглашают в соседнюю комнату для производства личного обыска, и нижний чин со скучающим видом (сколько десятков раз в ночь надо проделывать все то же самое!) приступает к процедуре.
Но тут - маленькое лирическое отступление. Ровно через сутки, во время первого "допроса", следователь Лазарь Коган (вместе с упомянутым выше Бузниковым ведший мое "дело") без всякой иронии сообщил мне, с каким "глубоким" уважением они ко мне относятся; они вполне готовы предоставить мне те исключительные условия, которыми три года тому назад пользовался академик С. Ф. Платонов во время своего пребывания в ДПЗ. Он сидел не в камере, а в отдельной комнате со всеми удобствами; и даже (даже!) у него в шкапчике стояла бутылка водки - в виду его многолетней привычки выпивать рюмочку перед обедом...
От всех предлагаемых льгот я категорически {91} отказался; но не без юмора часто проводил потом параллели между собой и "академиком Платоновым", - и первую параллель я провел бы, если бы знал ее тогда, в первые же минуты пребывания в ДПЗ, в комнате личного обыска.
Скучающий нижний чин тщательно осмотрел сперва все содержимое чемоданчика - и конфисковал такие опасные предметы, как кашнэ, роговой фруктовый ножичек, запасную вторую трубку и, наконец, самый чемоданчик; к этим вещам он присоединил и золотое обручальное кольцо, предложив мне снять его с пальца. Золотое пенснэ почему-то не подверглось конфискации. Затем он отрывисто сказал: "Разденьтесь догола!", и по мере того, как я раздевался, внимательно осматривал и ощупывал платье и белье. Контрабанды не оказалось; но с брюк моих он срезал стягивающий их сзади клапан с застежками: у заключенного не должно быть "ничего острого". Это, конечно, верх идиотизма, нисколько не мешающий постоянным случаям самоубийства в тюрьме. И мало ли "острого" может найтись у заключенного, начиная с осколков оконного стекла, которое так не трудно бесшумно выдавить в камере!
Пока происходил медлительный осмотр платья и белья, я сидел в этой весьма прохладной комнате в виде арестованного Адама. Когда же осмотр кончился, то нижний чин все тем же скучающим тоном (бедняга) сказал мне:
- Встаньте! - Откройте рот! - Высуньте язык! (Чорт побери, что же я мог туда спрятать? Но дальше пошло еще неожиданней).
- Повернитесь спиной! - Нагнитесь! - Покажите задницу!
- Раздвиньте руками задний проход! - Повернитесь лицом! - Поднимите...!
Древние греки в своих комедиях не только не ставили здесь трех точек, но даже снабжали персонажей хора огромными "двумя точками с запятой" (говоря {92} словами Пушкина). Под ними, действительно, можно было бы пронести любую контрабанду.
Но в нашей советской действительности!? Решительно недоумеваю. Но факт остается фактом: et voila ou la contrebande va-t-elle se nicher!
И еще недоумеваю: как же было дело с "академиком Платоновым"? К нему отнеслись со столь же "глубоким уважением"? Во всяком случае юбилейное чествование мое было закончено на этот раз реминисценцией из Аристофана. Я оделся и был отведен в предварительную камеру ожидания, размером два на два шага, где и просидел без всякой еды с шести утра до двух часов дня.
Немного прерву рассказ о дальнейших юбилейных чествованиях и вообще о тюремном быте следующими арифметическими соображениями, которыми я забавлялся в этой камере "два на два". ДПЗ, набитый до отказа, вмещает в себе единовременно до 3000 обитателей (Примечание 1939 года: Тысяча девятьсот тридцать седьмой и восьмой годы показали, что эта детская цифра нуждается в прибавлении еще одного нуля.); можно считать, что состав этот, вечно текущий, полностью обновляется 3-4 раза в год (кто сидит - месяц и два, кто - полгода и более). Таким образом, цифрою в 10.000 человек преуменьшение определится приблизительное число ежегодно-проходящих через этот изолятор (вероятно гораздо больше). Кипучая деятельность учреждения, населяющего ДПЗ и прочие четыре подобных же "дома" в Петербурге их временными обитателями, продолжается после революции уже лет пятнадцать. Умножив десять тысяч на число "домов" (пять) и на число лет (пятнадцать) - преуменьшение, вероятно, исчислим, что за это время через эти "дома" прошло три четверти миллиона человек.
А если - тоже преуменьшение - предположить, что у каждого из них было в семье только три-четыре человека, тесно связанных {93} с каждым "сидельцем", то общее число людей, кровно затронутых существованием в Петербурге ДПЗ и прочих подобных "домов", определится умножением трех четвертей миллиона на четыре. Получим в круглых числах - 3.000.000, число, с избытком покрывающее количество жителей в нашей северной столице. Один безвестный депезетовский поэт - впрочем я знаю его фамилию --- следующим четверостишием охарактеризовал такое положение дел, когда каждый обыватель города либо был, либо будет временным гостем в этом "доме":
On nous dit que l'homme propose,
On nous dit que Dieu dispose;
Proposez ou disposez
Tous nous sommes en De-Pe-Ze.
Все это - шутка, но за ней кроется и вполне серьезное соображение, а именно следующее: в каждом большом городе СССР (да и в каждом малом) имеется такое учреждение и такие дома отдыха, всегда переполненные. Через восемь месяцев мне пришлось познакомиться с таким же учреждением в Новосибирске: целый квартал! многоэтажные домины! кипучая деятельность! В Саратове - то же самое. О Москве я уж и не говорю.
Помножьте же петербургские три миллиона человек на число крупных центров СССР, да и вообще на все города, уменьшая каждый раз эти три миллиона пропорционально числу жителей города - и вы получите десятки миллионов людей. Иначе говоря - это явление типичнейшее, охватывающее добрую половину населения нашей страны. Цифра достаточно импозантная. И при этом - никем до сих пор у нас в СССР не зарисована типичнейшая бытовая сторона такого явления!
Как жаль, что до сих пор ни один подлинный художник не прошел личным опытом через этот быт, чтобы потом красочно зарисовать его Для потомства. "Балтийско-Беломорский канал" - {94} казовая сторона; но где же и кем же зарисована его же обратная и просто бытовая сторона? Какая богатая тема, какой богатый фон для повести, для романа! Конечно, такой роман нельзя было бы напечатать в настоящую минуту, но он остался бы в наследство будущему бесклассовому (и значит и бесцензурному?) обществу.
Но - на нет и суда нет. Материал все же остается богатейший. Вот почему я, совсем не художник, все же хочу подробно записать этот быт - такой характерный, такой всеэсэсэсэрский и такой в то же время исключительный. Конечно, я смогу описать его только очень розовыми красками - в виду того "глубокого уважения", с которым ко мне относились (и пример которого уже дан выше). Но все же можно представить себе и более общий случай, сделав поправку на обычное "неуважение". Впрочем, пожалуй, и поправки делать не надо: ведь ясно, что когда я говорю "уважение" или "юбилей", то, по Чехову, произношу это, как "издевательство".
IV.
Итак, сначала - исключительно о "быте", и лишь потом - о самом моем "деле".
В два часа дня за мной пришел некий чин (ужасно скучающий вид у всех у них) и повел меня внутренними переходами в канцелярию, где ему дали бумажку с "направлением"; затем он повел меня в Святая святых - в самый ДПЗ, построенный еще при Александре II, по последнему слову тогдашней тюремной техники. Подробно описывать это здание - не приходится: оно ни в чем не изменилось за эти десятилетия и слишком часто было уже описано, в ряде воспоминаний политических заключенных прежнего времени. Поэтому лишь в двух словах. Всем известно, что на Шпалерную выходит лишь "фальшивая стена", являющаяся стеной коробки, в {95} которую заключено само тюремное здание. Шагах в десяти от этой стены воздвигнута уже настоящая стена с пробитыми в ней (железными) дверьми одиночных камер. По всем этажам бежит паутина металлических галереек (в шаг шириной), до верху забранных проволочными сетками. Узенькие ажурные лестнички, по восемнадцать ступенек, в разных местах перекинуты от этажа к этажу, от галерейки к галерейке. Над четвертым этажом - потолок, являющийся, однако, полом для следующего этажа, за которым есть и еще один.
Эти этажи - пятый и шестой, - так называемый "первый корпус", для особо строгого содержания преступников нераскаявшихся, к которым относятся без "глубокого уважения": там месяцами сидят на голодном пайке (300 грамм хлеба, болтушка к обеду и ужину, три раза в день кипяток), без свиданий, без передач, без прогулок, без книг и в строгом одиночестве. Сидят по полгода и больше. Нижние четыре этажа - так называемый "второй корпус", где чаще всего в одиночных камерах сидят по двое, а в зимние месяцы перенаселенности - и по трое, и по пятнадцати человек. Здесь, обычно раза два-три в месяц, разрешаются свидания, четырежды в месяц - передачи (по строго нормированному списку), прогулки (пятнадцать минут в день), книги (четыре тома на камеру в десятидневку), табак и спички, и даже газеты.
Кроме того, здесь выдается усиленный "политпаек", заключающий в себе 400 грамм хлеба, обед из селедочной болтушки и каши, такой же ужин, 600 грамм сахарного песка в месяц, 25 грамм чая, четыре кусочка мыла и три коробки спичек. Mein Liebchen, was willst du noch mehr? (миленок, чего тебе еще? ldn-knigi)
Меня ввели в камеру No 7 первого этажа (всех таких камер в обоих корпусах около трехсот), где сидел изможденный юноша, отныне мой "сокамерник". Но о нем и о другом юноше, через месяц сменившем первого - потом, теперь же о внешнем и о быте. Кстати: об общих камерах, с многими {96} десятками обитателей, ничего не говорю, потому что не пришлось побывать в них.
Впрочем, ниже пробел этот восполнится - в Москве и Новосибирске.
Размер камер - приблизительно одинаков: восемь на четыре шага. Впрочем, полугодом позднее я сидел в третьем и четвертом этажах, где размер был семь на три шага. Против двери - окно; подоконник - на высоте подбородка человека среднего роста - идет вверх под углом градусов в 30-40; за ним - двойная рама окна с массивной чугунной решеткой; окно снаружи забрано железным щитом почти до самого верха, так что свет проходит через узкую серпообразную щель. Кто же не помнит картины Ярошенко в Третьяковской галерее, с заключенным, влезшим на приставленную к окну табуретку (или стол?), чтобы сквозь щель окна и железного щита взглянуть на свет божий?
Впрочем - никаких "движимых" столов в камерах ДПЗ нет: к стене приделан опускной железный столик-доска, размером с квадратный аршин, и небольшое, тоже опускное, железное сидение. Если в камере сидят двое и более, то по числу сидящих прибавляются и деревянные табуретки. Около стола - высокая колонка парового отопления. На другой стене - железная койка с тюфяком из стружек, поднимающаяся на день; вторая железная койка, если в камере сидят двое, становится под первую на день, а на ночь отодвигается к противоположной стене. Около двери - двухярусная железная полочка для продуктов и посуды; последняя состоит из металлической мисочки, деревянной ложки и объемистой кружки для кипятка. В углу около окна - "уборная", рядом - небольшая раковина с водопроводным краном. Над столиком, на пол-аршина, над ним, электрическая лампочка; рядом с нею - обширный печатный лист с изложением прав и обязанностей заключенного. Жаль, что нельзя было запомнить наизусть этот продукт тюремного {97} творчества. Наконец - чтобы кончить началом, массивная, обитая железными листами дверь, в которой на высоте полуроста прорезана деревянная форточка - путь общения заключенного с миром сменяющихся дежурных; несколько выше, на высоте роста, прорезан "волчок" или "глазок", закрывающийся снаружи; в него через каждые 10-15 минут круглые сутки заглядывают уныло бродящие от камеры к камере дежурные, сменяющиеся трижды в сутки. Около двери - кнопка звонка (вы подумайте) для вызова дежурного по коридору.
Все это - внешняя обстановка. Теперь - о внутреннем быте. В шесть часов утра (может быть, в семь - заключенному иметь часов не разрешается) дежурный обходит камеры, стучит в двери и провозглашает: "Вставать"! Не успеешь одеться, как гремит форточка, в нее просовывается щетка и совок для собирания сора. Пол подметен, щетка и совок отданы, можно и умываться. Тут снова гремит форточка и дежурный просовывает 400 грамм хлеба - дневной паек.
Вскоре и еще раз гремит форточка: принесли кипяток, который наливают в вашу кружку, куда вы предварительно уже опустили несколько пылинок чаю (выдававшийся "чай" был неизменно чайной пылью). Итак - чаепитие. Мудро дели свой хлебный паек, чтобы не увлечься утренним аппетитом и не остаться без хлеба к ужину. С чаепитием надо торопиться: уже раздаются шаги специальных "прогульщиков", стук в двери и возгласы: "Готовься к прогулке!". Каждый "прогульщик" ведет на прогулку одновременно две камеры, причем дело дежурного - следить (по данным ему спискам), чтобы заключенные по одному и тому же "делу" не вызывались "прогульщиком" одновременно. Шествие: впереди гуськом двое (или трое) заключенных из одной камеры, за ними - "прогульщик", за ним двое (или трое) заключенных из другой камеры. Выходят на внутренний двор тюрьмы.
{98} Двор этот - сколько раз измерял я его шагами! - имеет сто шагов в длину, шестьдесят в ширину. Слепые, забранные щитами окна камер выходят на этот двор. Зрелище исключительно. Стены с этими окнами "покоем" закрывают двор; в восточной стене - по 24 окна в каждом из всех шести этажей, в северной - по шестнадцати окон, в южной - по четырнадцати; западная стена, замыкающая куб, более разнообразного вида: в ней есть и обыкновенные окна - канцелярии, коридоров, следовательских комнат. Боюсь, что я здесь перепутал румбы компаса, но не в них и дело. Посредине двора, но ближе к северной стене - место для прогулок, асфальтированное и обнесенное сквозным зеленым забором в сажень высоты, представляющим собою правильный восемнадцатиугольник, периметр которого равен 120 шагам, а, значит, диаметр - около сорока шагов. В середине этой загородки - деревянная восьмиугольная башня, приземистая и толстобрюхая, 45 шагов в периметре; над ней - конусообразный колпак, защищающий от стихий дежурного красноармейца с винтовкой в руке. В этой загородке, в каждой половине ее, должны описывать эллипсы "гуляющие". Камера от камеры на расстоянии не меньшем десяти шагов. В полном молчании, не обмениваться никакими знаками с гуляющими во второй половине загородки двумя другими "камерами". За загородкой, по мощеному булыжником двору, в это же время совершают прогулку еще и еще "камеры", так что одновременно гуляет до десяти камер, двадцать-тридцать человек. Много раз видел я на таких прогулках заключенных по моему же "делу" - Д. Ж. Пинеса, А. И. Байдина, А. А. Гизетти (о которых - ниже), и считаю это маленькими недостатками механизма: заключенные, конечно, не должны видеть друг друга.
Это верчение на одном месте двадцати-тридцати человек вокруг оси толстобрюхой башни - каждый {99} раз заставляло меня вспомнить картину М. В. Добужинского "Дьявол": посредине огромной, с собор величиной, тюремной камеры возвышается гигантский мохнатый паук с огненными глазами и в маске. Между мохнатых лап его маленькие люди замкнутым кругом совершают свою прогулку. Здесь, вместо паука, возвышалась башня с караульным, а маска - совершенно не нужна: во всех режимах, при всяком строе под ней скрывается одна и та же сущность - лицо государства. Художник метил, конечно дальше: тюремная камера мир, заключенные - человечество, маска паука - Дьявол. Но, гуляя по двору ДПЗ, охотно суживаешь смысл этой картины.
"Прогульщик" сидит у ворот загородки и поглядывает на часы-браслет: срок прогулки - четверть часа, потом - обратным порядком в камеры.
Уже восемь-девять часов утра: кипучая утренняя жизнь закончена, теперь до ночи камера предоставлена самой себе. Впрочем - незадолго до обеда развлечение: открывается форточка и дежурный просовывает в нее навощенную плоскую щетку; асфальтированный пол камеры должен быть натерт ею до блеска. Заключенные превращаются в полотеров; сверху, справа и слева слышится шарканье щеток о пол.
В полдень - кормление заключенных. Открывается форточка, в нее подаешь металлическую мисочку и тут же получаешь ее обратно, изобильно наполненную чаще всего - селедочной болтушкой; настолько изобильно, что иногда большой палец дежурного омывается этой селедочной жижей. За все пребывание мое в ДПЗ четыре раза - не шутите! - был мясной суп. Это можно было заключить из того, что он не пах ни селедкой, ни треской (тоже иногда попадавшей в меню "супа"). Суп съеден - или вылит в "уборную", смотря по аппетиту и по вкусу заключенного. Надо успеть вымыть под краном мисочку, чтобы получить второе блюдо - почти всегда пшенную размазню без малейшего признака масла и в {100} количестве, далеко не столь изобильном, как первое блюдо. Еще раз гремит форточка: кружка кипятка. Обед кончен.
После этого заключенный имеет право лечь на кровать. Во все прочее время дня не то что лежать, но и сидеть на кроватях строго воспрещается. "Мертвый час" продолжается полтора часа, потом дежурный снова обходит камеры с возгласом: "Вставать!". Затем - надо ждать ужина. Чаще всего в это время появляется некий нижний чин, открывающий форточку с приятным сообщением: "Газеты!". У кого есть деньги - может купить. Денег при себе разрешается держать до пяти рублей, остальные должны лежать "на текущем счету" в канцелярии ДПЗ и заключенный может их выписывать через "корпусного" по мере надобности.
В шесть часов вечера - ужин: повторение обеденного блюда и кипяток. Получающие "политпаек" пользуются привилегией иметь и к ужину - два блюда, то есть ту же селедочную болтушку на первое. Не знаю, как другие "политзаключенные", но ни я, ни мои "сокамерники" никогда не пользовались этой привилегией.
День подходит к концу. В девять (может быть в десять?) часов вечера дежурный обходит камеры, возглашая: "Ложиться спать!". Минут через десять-пятнадцать он снова обходит камеры, заглядывает в "глазок", чтобы убедиться, улеглись ли заключенные, и тушит свет (выключатель - разумеется на наружной стене камеры). "Тюрьма погружается в сон"... Через каждые десять минут дежурный зажигает свет, смотрит в "глазок" и снова щелкает выключателем - тушит свет. И так всю ночь до утра. А кроме того надо сказать, что "тюрьма погружается в сон" - выражение шаблонное беллетристическое и ни мало не отвечающее тюремной действительности: ночь - как раз самое оживленное время в жизни ДПЗ.
То и дело раздается отовсюду лязг ключей и {101} грохот открываемых и захлопываемых дверей: заключенных водят на допросы, происходящие почти исключительно ночью. Число допросов - варьируется в широких рамках: меня, например, допрашивали в течение первых трех месяцев - шесть раз, а остальные месяцы я просидел в doice far niente днем и в нетревожимом сне ночью. А вот технического директора завода "Большевик" (с этим измученным человеком я провел полночи и день в мае месяце в Москве) в течение четырех месяцев допрашивали, по его подсчету, сто три раза, то есть сто три ночи. Немудрено, что каждую ночь в ДПЗ со всех сторон беспрестанно слышатся возгласы дежурных "к допросу!", топот шагов, звон ключей и выстрелы захлопываемых дверей. Жизнь бьет ключом. Где уж тут - "тюрьма погружается в сон"...
V.
Чай, обед, ужин, сон. Но чем же заполняется время заключенного между этими размеренными вехами ежедневного обихода?
Говорю, конечно, только о жизни "второго корпуса", где есть книги, и газеты, и прогулки, и передачи, и свидания. В условиях "первого корпуса", где ничего этого нет, где жизнь течет в условиях строгой изоляции, где единственным развлечением являются ночные допросы - о какой "жизни" можно говорить? Надо иметь большой запас "внутренних ресурсов", чтобы выдержать такой искус. Нечему удивляться, если неприспособленные люди после немногих месяцев, а то и недель такой изоляции - совершенно падают духом, теряют самих себя и готовы на допросах показать, что угодно. Бывают случаи и нервных заболеваний, и душевных расстройств, и покушений на самоубийство.
Как-то раз, в августе, когда я "сидел" уже много месяцев совсем один, был болен, не ходил на прогулки и почти весь день лежал (по предписанию врача) {102} пришло мне от скуки в голову испробовать, как проведу я ровно неделю добровольной самоизоляции. У меня было много книг, каждый день покупал я две газеты - и, казалось, тем труднее будет выдержать этот искус. Однако я справился с ним легко, как ни тянуло каждый день заглянуть в свежую газету (я их потом просмотрел залпом - четырнадцать газет в один день), и думаю, что мог бы продолжать свой искус ad libitum.
Но это - исключительно благодаря хорошей памяти и разнообразию "внутренних ресурсов". Вот как я проводил время все эти семь дней, мысленно "задернув траурной тафтой" полку с непрочитанными книгами и газетами.
Между утренним чаем и обедом я "занимался классиками". Когда-то, в гимназические годы, я знал наизусть - от первого стиха до последнего - все "Горе от ума" и значительную часть "Евгения Онегина". Интересно было, через сорок лет, вновь сделать попытку припомнить наизусть максимум из них. Два утра занимался я этим - и не замечал, как пролетало время. Остальные пять "утр" ушли на стихотворения Пушкина, Боратынского, Лермонтова, Тютчева, Фета вплоть до Бальмонта, Сологуба, Брюсова (поэму "Царю северного полюса" до сих пор помню наизусть), Белого, Блока - и дальше вплоть до Клюева и Есенина. Запас казался неисчерпаемым, особенно если прибавить поэтов, от Гомера и Горация до Бодлера и Верлена - и сколько еще других. А попытка воскресить в памяти мастерскую конструкцию объемистых романов Диккенса! А вообще вся мировая литература!
После такой "утренней зарядки" можно было добросовестно заснуть в послеобеденный "мертвый час".
Время до ужина я употреблял потом на осуществление юмористического замысла - самому "написать роман" ("написать" - разумеется в голове). Задание было такое: написать большой роман, {103} полуавантюрный, полупсихологический, для самого "широкого читателя", которому осточертела современная беллетристическая продукция. Через неделю был "дописан" до последней точки большой роман: "Жизнь Полторацких", и мне теперь оставалось бы лишь перевести его на бумагу, от чего, конечно, избави меня Бог. Совершенно уверен, что "широкий читатель" читал бы его взасос (для него и "написан"). Выйдя на "свободу", я раза три-четыре сделал, шутки ради, опыт: в разных кругах, куда забрасывала меня ссылка, от типично обывательских до более "квалифицированных", я подробно рассказывал этот, якобы недавно прочитанный мною роман. И с каким же захватывающим вниманием меня слушали! "Широкий читатель" на тысячи верст не дошел еще до последних романов Андрея Белого. Читателю этому - как раз по плечу "Жизнь Полторацких".
После ужина вечер посвящался музыке. Я - любитель дилетант, с очень развитой музыкальной памятью. Благодаря ей, я мог каждый вечер устраивать себе симфонические концерты, исполняя (разумеется - весьма и весьма "про себя") изысканную программу из произведений от Баха до Прокофьева (извините за сопоставление). Раза два-три устроил себе оперу, исполняя про себя со словами такие любимые вещи, как "Садко", "Китеж" и "Мейстерзингеры". Каждая из них заняла около трех часов, так что до окрика "спать!" время прошло незаметно.
(Здесь необходимо упомянуть о необыкновенных свойствах памяти Разумника Васильевича.
В мае 1946-го года, после тяжких потрясений, уже 68 лет от роду, Р. В. вновь приступил, после долгого перерыва, к писанию своих воспоминаний. Писал он обычно стоя за моим чертежным столом. Когда я входил к нему утром, чтобы позвать его к завтраку, он захлопывал свою тетрадочку и говорил: "Ну, а я успел уже немного доработать. Теперь можно и позавтракать". После этой фразы тетрадочка и чернила со стола им убирались и лишь мой чертеж оставался пришпиленным.
Что же впоследствии оказалось? В эту тетрадочку он переписывал с небольшими переделками 3-ью часть своих воспоминаний - "Юбилей", написанную им еще в 1934-ем году в Советской России, переписывал мысленно. Прежняя рукопись, большого формата, хранилась в чемоданчике. А между тем новый текст сошелся слово в слово с первоначальным, написанным за 12 лет до того! (Работа эта остановилась на 3-ей главе).
Однажды мы с Р. В. сыграли партию в шахматы, причем он играл в "слепую", т. е. диктовал мне ходы, не смотря на доску. Я же играл на доске. Партия была мною проиграна. Я тогда не обратил на это должного внимания и лишь теперь оценил столь редкую способность сосредоточения. Кроме того, почти ежедневно я находил по возвращении домой с работы ожидавшую меня шахматную доску с расставленной на ней очередной задачей или этюдом, которые мне предоставлялось решить. Задачи или этюды эти подготовлялись Р. В-чем также лишь по памяти и, казалось, были неисчерпаемыми.
Г. Я.)
{104} Но и после этого оклика вечер не кончался: как же заснуть в девять (или в десять) часов! Лежа с открытыми глазами в темноте, я пользовался тем, что юношеские годы не совсем плохо играл a l'aveugle в шахматы, и вообще отдавал этому полуразвлечению, полуискусству больше времени, чем следовало бы (и до сих пор люблю его, как отдых). Долго бился я, два-три "предночия", пока не восстановил в памяти ход за ходом всю первую партию из матча Алехин-Капабланка. Когда вышел на "свободу" - проверил, и оказалось, что все в точности верно. С такими шахматными партиями, задачами, этюдами - мирно засыпал, до первого выстрела соседней дверью и возгласа: "На допрос"!
Так незаметно пролетели семь дней. Конечно, не могу ручаться, что так же незаметно пролетели бы и семь месяцев.
Раз в неделю получали мы передачи с воли - по строго установленной продовольственной норме. Дежурный открывал дверь и вносил в камеру объемистый мешок с приложением записки, написанной рукою В. Н., и заключавшей в себе опись посылаемого.
{105} Посылать можно было - хлеб и булки (нарезанные), масло, сахар; колбасу и сыр (тоже нарезанные кусочками), жареное мясо, котлеты (непременно нарезанные), лук, фрукты, конфеты, яйца (непременно крутые). Если хлеб, колбаса или котлеты посылались не нарезанными, то тюремная администрация сама производила эту операцию, выискивая в этих продуктах запрещенные для передачи вещи, - какие-нибудь записки, или бритвенные лезвия, или иголки и тому подобные опасные предметы. Яйца передавались в раздавленном виде, так как была открыта уловка "уголовных" - получать под видом яиц чистый спирт в яйцах, на вид нетронутых. К нам, "политическим", можно было бы и не применять такой меры, - да где уж тут разбирать! - Кроме продуктов в передаче пересылалось еще белье. Приняв все это и сверив с описью, я клал в мешок отправляемое в стирку белье, и на обороте описи расписывался в полном получении передачи; эту записку немедленно же получала, вместе с мешком В. Н., ожидавшая среди других жен заключенных в тюремной канцелярии - и, увидев мою подпись, знала, что я все еще нахожусь в этой тюрьме и никуда еще не переведен.
Впрочем, это доказывали и свидания, разрешавшиеся раз в десятидневку. Приходил за мной некий страж, приглашал "на свидание" и вел паутинными галерейками вниз, потом банными коридорами, потом снова наверх в следовательские комнаты. В одной из них уже ожидала меня В. Н. - и приставленный к нам для надзора какой-нибудь молодой помощник следователя. Он усаживался по середине стола, с одного края которого садился я, с другого В. Н., и мы могли беседовать о чем угодно, только не о моем "деле" и связанных с ним людях и обстоятельствах. Следователь читал газету, мы разговаривали через стол - обо всем, но не о том, о чем хотелось бы. Полчаса проходило незаметно, после чего страж, отводил меня обратно в камеру.
{106} Что же еще? Раз в десять дней водили в баню - небольшую камеру в нижнем этаже, с ванной и душем. Раз в месяц можно было в одной из камер четвертого этажа, обращенной в парикмахерскую, постричься и побриться. Раз в неделю обходил наши камеры доктор с запасом элементарных лекарств. Насекомых в камере не было, с клопами велась жестокая война.
Надо однако вернуться к началу моего пребывания в этой тюрьме, к тому времени, когда я был в камере не один, а с "сокамерниками" - сперва с одним, потом с другим. Первым был некто Михайлов, студент последнего курса математического отделения ЛГУН'а (что означает - Ленинградский Государственный Университет). Арестован был он еще в сентябре (1932 года) по обвинению в организации "ОРФ", что расшифровывается, как "Общество русских фашистов"; четыре месяца сидел в одиночке "первого корпуса" и, совершенно истощенный, падавший в обмороки, за месяц до моего прибытия был переведен во "второй корпус". Он порассказал мне много интересного об "ОРФ", участия в котором не отрицал на следствии, и о составе этого общества, в которое входили и студенты и служащие, и простые смертные и коммунисты (один из последних и оказался, конечно, теткиным сыном). Еще более интересные вещи рассказал он мне о спортивном движении - области для меня мало известной. Сам он оказался профессиональным "бегуном" на 100 метров, и в конце двадцатых годов был даже отправлен с какой-то спортивной командой в Ригу на состязания, так что портрет его был тогда напечатан в наших специальных спортивных изданиях. Весь этот мир - и нравы его, и сама техника "бега", и методы тренировки, и все тому подобное - был для меня неведомым миром, так что я часами и с интересом слушал его рассказы. Много рассказал он мне и об университетской жизни, о преподавании математики - и сам {107} я, бывший студент-математик, мог сравнить, насколько шагнуло это преподавание за прошедшие тридцать лет; шагнуло сильно, но, увы, не вперед, а назад - по общему уровню развития и успеваемости студентов и по объему необходимых курсов. Впрочем, по его словам, за последние годы наблюдалось значительное улучшение.
Больше всего интересовало меня, однако, совсем другое в общении с этим юношей следующего за нами поколения: его общее развитие, его этический уровень, его конечные цели и идеалы (простите за старомодные слова). Но тут результат оказался очень невеселым. Нельзя сказать, чтобы это был юноша совсем неразвитой. Напротив, в своем кругу - по его словам - он считался и развитым, и начитанным. Кое-что (очень немногое) он, действительно, прочел - и даже пытался дойти до построения философской системы собственного производства, которая, однако, являлась не чем иным, как детской попыткой обоснования наивного реализма. При этом он все же утверждал, что "читал Канта". Все это было, конечно, довольно обычно и мало интересно. Интересное для меня было другое: его этические нормы, его социально-политические взгляды и путь, как "дошел он до жизни такой", - до теории русского фашизма. Тут он оказался плотью от плоти и костью от костей самого рядового большевизма, с приятием на веру всех его истин, с одной лишь "небольшой разницей": диктатура должна принадлежать не "пролетариату", а "мелкой буржуазии", которая воспользуется всеми методами коммунизма. Никаких "свобод", террор и насилие над всеми инакомыслящими. И при этом - полное не то что непонимание, а какое-то невосприятие элементарных этических норм. Помню, как поразил меня один случай уже в конце нашего общего с ним сидения. Как-то раз был я вызван на "допрос" необычно рано, сразу после ужина и необычно рано же возвращался в камеру, еще {108} до вечернего возгласа "спать!"
В следовательском коридоре больно задела меня одна сценка: молоденькая девушка типа комсомолки уходила с допроса, поддерживаемая под руку "дежурной" - сама она идти не могла. Останавливаясь на каждом шагу и захлебываясь слезами, она бессильно ударяла кулачками в стену и недоуменно вскрикивала: "за что? за что?" Ее увели. Взволнованный этой сценой, я, вернувшись в камеру, рассказал Михайлову о виденном. Не забуду, как изумило меня его поведение: он стал весело хихикать, как будто бы я рассказал ему очень забавный случай. Подумалось: неужели же это типично для современной молодежи?
Как это часто бывает - ответ явился сам собою через несколько дней. 10-го марта Михайлов был увезен для дальнейших допросов в Москву, а через четверть часа после его ухода ко мне был переведен из другой камеры (где сидело трое) новый сожитель - тоже молодой человек, тоже кончающий студент (гидротехник), некто Анатолий Иванов, представлявший решительно во всем полный контраст с первым моим соседом. Насколько тот был мрачным и озлобленным, настолько же этот оказался веселым и жизнерадостным. Насколько тот был ниже элементарного этического уровня, настолько этому далеко не были чужды основные этические запросы. И даже в мелочах: хотя оба они происходили из одного и того же социального слоя (отец первого - доктор, второго - юрисконсульт), но насколько первый был неотёсан и "невоспитан", настолько второй был даже изысканно вежлив и церемонен. В шутку я прозвал его "графом", а за веселость и юмор - пародируя Островского - "комиком ХХ-го столетия". С этим "графом" мы прожили без малого два месяца - на этот раз уже до моего отбытия в Москву в начале мая.
"Граф" попал в ДПЗ, за месяц до меня, по обвинению в организации "ССС", что означает - "Союз социалистического студенчества". Это было для {109} меня, конечно, понятнее "Общества русских фашистов", но что было еще приятнее - так это серьезные нравственные запросы, стоявшие перед юношей. Начитан он был не больше первого (и это, по-видимому, общее свойство всего современного "молодого поколения"), но в то время как первый уже достиг полной истины и не искал больше ничего, второй был весь в поисках "системы социальной этики", но беспомощно не знал, куда же за ней обратиться. Тут бы мне, "главному идеологу народничества" (по любезному утверждению следователя), и завербовать себе еще одного "последователя", но я сделал другое - подвел юношу к истокам более крайней этической и социальной системы: выписал из тюремной библиотеки сочинения Льва Толстого. Юноша часами читал мне вслух (вполголоса, конечно) "Так что же нам делать?" и другие подобные произведения Толстого, вдумчиво разбираясь в прочитанном, то не соглашаясь, то восторгаясь. А когда он требовал моего суждения, то никогда его не получал: дойди своим умом! Не думаю, чтобы я сделал из него "толстовца", но полагаю, что посодействовал ему кое в чем разобраться и указал пути дальнейших поисков в области свободной мысли. Оставил я его во всяком случае в период еще не изжитого увлечения Толстым. - На Пасху (она была 16-го апреля) мы сделали друг другу съедобные подарки (из очередных передач), а, кроме того, обменялись поздравительными стихами. До сих пор помню мои вирши:
Анатолия Иванова
Посадили в каземат;
В нем он бродит в роде пьяного
Свету божьему не рад.
Но привычка - дело знатное:
И полгода не прошло
У сидельца казематного
Прояснилося чело.
{110}
Уж не бродит он по камере,
Хныча жалкие слова,
И душою так и замер он
Весь ушел в Толстого Льва.
Вряд ли ушел надолго и окончательно, но мне приятно было видеть, что в современном поколении есть не только нашедшие или принявшие на веру, но и упорно ищущие социально-этических путей. Второй мой сокамерник был приятным ответом на довольно грустный вопрос, каким был мой сокамерник первый.
VI.
Пора, однако, возвратиться к "делу". Проведя без сна юбилейную ночь с 2-го на 3-ье февраля, просидев потом с шести утра до двух часов дня в камере "два на два шага", где невозможно было заснуть, поужинав (первая еда за целые сутки) в камере No 7, я не без удовольствия услышал вечерний возглас "спать!". Но не успел заснуть, как раздался грохот двери и не весьма приятный для сонного человека новый возглас: "К следователю! Одевайтесь!"
Два следователя, Бузников и Лазарь Коган, ждали меня в самой большой комнате из следовательских, в кабинете начальника ДПЗ, - вероятно, ради почета и "глубокого уважения". Я имел удовольствие просидеть с ними в этой парадной комнате до 5-ти часов утра, после чего мог вернуться в свою камеру и заснуть на часок-другой до возгласа "вставать!". Особоуполномоченный Бузников, он же следователь, производивший у меня обыск, надо полагать прекрасно выспался днем, мне же пришлось проводить вторую бессонную ночь подряд. Тут я понял, почему все допросы ГПУ происходят по ночам: игра на утомлении и нервах допрашиваемых. Такое юбилейное чествование производилось, разумеется, намеренно; {111} но, к слову спросить, как же было дело с "академиком Платоновым"? И его тоже засадили, без всякой еды, на восемь часов в камеру "два на два", и тоже не давали спать двое суток подряд? Этот шутливый рефрен "академик Платонов" - стал сопровождать меня впредь во все время тюремного сидения, начиная как раз с этого первого "допроса", ибо именно на нем следователи заявили о своем "глубоком уважении" ко мне и предложили мне такой тюремный режим, которым пользовался "академик Платонов". Чувствительно благодарен, пользоваться благами такого режима не желаю, но отчего было, без всяких вопросов и предложений, не избавить писателя, достигшего тридцатилетия литературной деятельности, от слишком подчеркнутых юбилейных чествований?
Особоуполномоченный секретно-политического отдела Бузников и следователь Лазарь Коган - молодые люди, которым в совокупности вряд ли больше лет, чем мне. Они вполне корректны и вежливы (бывает при допросах и диаметрально противоположное обращение), вполне осведомлены в своей специальности программах разных партий, оттенках политических разногласий; гораздо менее знакомы с историей мысли, - оба твердо убеждены, что Чернышевский был "марксист"; наконец - совсем беспомощны в вопросах философских, о которых, однако, пробовали говорить со мной в эту ночь. Вопросы были наивны, что возбуждало лишь улыбку. Так например, один из следователей спросил меня разделяю ли я "философское учение", изложенное в Х-м томе собраний сочинений Ленина? А на мой отрицательный ответ - сделал заключение: "значит вы идеалист, а не материалист?" Когда же я ответил, что я - не метафизик, а материализм и идеализм одинаково метафизические течения, то этот элементарный ответ оказался для обоих следователей настолько непонятным, что впредь они уже не возобновляли бесед со мной на подобные темы.
{112} Не надо думать, что эти ни к селу, ни к городу не идущие вопросы были промежуточными и случайными в этом всенощном разговоре: наоборот, весь он только и состоял из таких ненужностей и самоочевидностей. Следователям надо было установить в протоколе, закрепленном моею подписью, что я - не марксист, что в течение всей своей литературной деятельности я развивал идеологию "народничества", социально-философское учение, родоначальниками которого последовательно являлись Герцен, Чернышевский, Лавров и Михайловский. Когда я иронически спросил, не были бы арестованы и они, доживи они до наших дней, то Лазарь Коган с апломбом ответил, что Чернышевский - марксист, за что ему и поставлены памятники, а вот Михайловского - "пришлось бы побеспокоить". И это - с ясным лицом и с медным лбом.
Разговор всей ночи был сжат следователями в написанный ими небольшой - в полстраницы - "протокол", начинавшийся словами: "я - не марксист"; далее повествовалось, что всю свою литературную жизнь был я "знаменосцем" народничества и что от этого знамени не отказываюсь и сейчас. Что же касается отношения моего к "советской власти", то, не имея никаких причин скрывать что бы то ни было, я тем не менее отвечать на этот вопрос в условиях тюремного заключения считаю ниже своего достоинства.
Стоило ли тратить всю ночь до пяти часов утра, чтобы придти к столь самоочевидным результатам? Но этот первый "допрос" был только установкой трамплина для последующего прыжка следователей. На следующую ночь (третья ночь подряд! а как же было дело с "академиком Платоновым"?) они резво разбежались и использовали трамплин первого протокола.
Народничество, как социально-философское мировоззрение, Герцен и Михайловский - все это {113} превосходно. Но есть еще неотделимая от первой и второй сторона вопроса - социально-политическая: есть народничество, как мировоззрение, и есть социалисты-революционеры, как политическая партия. Был ли я социалистом-революционером? Нет, не был. Во-первых, я - "кот, который ходит сам по себе" (сказка Киплинга), человек, не приемлющий подчинения "партийной дисциплины" какой бы то ни было партии. Это, говоря современным жаргоном, весьма "мелкобуржуазное" свойство. Мой первый сосед по камере слепо верил в эту жаргонную дичь - и он, разумеется, типичен для всего поголовья омарксиченной молодежи. Спорить с этим не буду, но самый факт подтверждаю. Он даже печатно зафиксирован в протоколах ноябрьского съезда (1917 года) партии социалистов-революционеров.
Не будучи членом партии, я был до августа 1917 года одним из редакторов партийной газеты "Дело Народа", заведуя в ней литературным отделом, - и вышел из редакции после июльского восстания, когда мне было указано на необходимость подчинения в статьях обязательной для всех "партийной дисциплине". Не будучи членом партии, я не имел оснований ей подчиняться, что позднее и было отмечено в печатных протоколах ноябрьского съезда 1917 года. К тому времени образовалась партия левых социалистов-революционеров. В их газете "Знамя Труда" и в журнале "Наш Путь" я редактировал литературные отделы, и, как редактор, был кооптирован в Центральный Комитет партии, заявив однако, что членом партии не являюсь. Заявление мое было принято к сведению.
Значит ли все это, что я хочу сложить с своих плеч ответственность за всю деятельность этих партий? - Нимало. Несу всю ответственность полностью, но не хочу, чтобы меня делали тем, чем я не был. Всю свою литературную жизнь развивал я социально-философское мировоззрение Герцена.
В юношеской своей "Истории русской общественной {114} мысли" я выяснил для себя тот путь, который и по сейчас считаю правильным. В более зрелой книге "О смысле жизни" развивается и углубляется (не без Канта) основа мировоззрения Герцена: "человек-самоцель". Подходили или не подходили все эти социально-философские воззрения для партии социалистов-революционеров и ее социально политических идеологов - никогда этим не интересовался. Когда в 1912 году был основан "толстый журнал" социалистов-революционеров "Заветы", я, однако, стал в нем, как один из редакторов, заведовать литературным отделом. А через два-три года, в начале мировой войны, я не стал интересоваться, как относится к ней партия социалистов-революционеров (- какое мое дело?), но написал совершенно еретическую статью "Испытание огнем", отвергающую войну и призывающую революцию, - статью, встреченную в штыки со всех сторон (Циммервальд и Кинталь были далеко). Напечатали ее, когда пришла революция. И в статьях 1917 года "Год революции" я шел "своим путем" (заглавие одной из статей); продолжаю своим путем, пусть совершенно одиноким, идти и поныне.
Все это говорится (и говорилось мною следователям в "третью ночь") вот к чему: ни от какой ответственности за свои социально-философские и социально-политические взгляды - не отказываюсь, но ставить на себя штамп "партийного эсера" - не позволю. Мое мировоззрение - не "партийное", оно само по себе, и с ним предоставляю кому угодно сводить счеты.
Но следователям все это было совсем ненужно - все это был уже установленный прошлой ночью трамплин. Теперь нужно было им совсем другое, а именно:
"Я, Иванов-Разумник, являюсь идейно-организационным центром народничества, вокруг меня за последние годы организационно группировались следующие правые и левые эсеры"... Дальше шел {115} составленный следователями (за все время "допросов" они ни разу не предложили мне самому назвать какое-либо имя) список пяти-шести имен, весьма фантастически скомбинированных; о них - ниже. Разумеется, следователи прекрасно знали, что никакой организации не было, однако - position oblige. Раз начальство велело, то найти необходимо.
Сделаю, однако, крайне маловероятное предположение: допущу, что бывшие партийные эсеры действительно создали "организацию", но лишь не сообщали о ней мне, как человеку непартийному. Совершенно неправдоподобно, так как среди фантастического "списка" значилось лицо, теснейшим образом связанное со мной и знакомством и ежедневной работой - упомянутый выше Д. М. Пинес. Но, еще раз допустим. Однако - при чем же тут я?
Как при чем? - отвечали мне: да вы же главный и единственный идейный центр, хотите вы этого или не хотите. Вы многолетний знаменосец социальной философии народничества. Известно это вам, или неизвестно - дела нисколько не меняет. Вот, например, в Воронеже, в Херсоне, в Тамбове, еще и еще, существовали кружки молодежи, собиравшейся вместе, чтобы читать и обсуждать народническую литературу в том числе и ваши книги. Вам известно было о существовании таких кружков? Конечно, нет. Но разве это в чем либо меняет дело? И вот пример: двое юношей, друг с другом совершенно незнакомые, на допросах отозвались о вас, что читали ваши книги, знают даже, что вы живете в Детском (бывшем Царском) Селе, и - каково совпадение! - оба выразились совершено одинаково, что Детское Село является теперь для них Меккой народничества...
Вот оно до чего дошло: нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк его! Ни минуты не сомневаюсь, что оба юноши с их Меккой любезно выдуманы следователями, но в выдумке этой концы плохо вяжутся с началами. Пусть существуют эти мифические юноши в {116} разных городах и весях благоденствующего СССР; не ясно ли в таком случае, что мое пребывание в ДПЗ вода на мою же мельницу? Не ясно ли, что для таких юношей, буде они существовали бы, чем выше кара, тем выше и Мекка? И если Мекка - Детское Село, то какой же сверх-Меккой станут Соловки, если вы меня сошлете, или безвестная могила, если вы меня расстреляете?
Но Мекка - это только любезная шутка. Я - не Пер Гюнт и не Хлестаков. Вот почему не могу я подписать в протоколе: я, имярек, являюсь идейно-организационным центром народничества. Во-первых - организационного центра никакого нет, а если он и есть (пусть существует!), то он мне неведом; во-вторых - никаким "центром" чего бы то ни было, хотя бы только идейным, назвать себя не могу, не будучи болен хлестаковщиной; пусть другие считают и называют меня кем и чем угодно, но мне невместимо говорить о себе в таких хлестаковских тонах.
VII.
Когда "третья ночь" кончилась бесплодно (то есть - беспротокольно), то на следующую ночь меня оставили в покое. (А бывает, что допросы идут много и много ночей подряд). Очевидно, следователи совещались с высшим начальством о дальнейшем методе действий. На новом ночном допросе итог этих совещаний вполне для меня выяснился, когда один из следователей обратился ко мне со следующей, шитой белыми нитками, речью:
- Нас с вами разделяет только терминология. Вы говорите: "со мной знакомы...", мы говорим: "вокруг вас группируются"... Из ложной скромности вы отказываетесь принять вторую формулировку, мы же только ее считаем соответствующей действительности. Каждый протокол подписываете не только вы, но и мы. Вы не можете подписать нашей формулировки, {117} мы - вашей. Поэтому предлагаем вам такой выход:
параллельно будет вестись два протокола, один - выражающий точку зрения следствия, другой - выражающий вашу точку зрения на те же самые вопросы. По старой терминологии - первый будет суммировать в себе взгляд "прокуратуры", второй - взгляд "адвокатуры". Оба протокола будут подписываться обеими сторонами. По совокупности таких протоколов А и Б - высшая инстанция будет иметь возможность объективно взвесить все дело.
На такой способ ведения "дела" я (конечно, напрасно) согласился: если мне дается возможность высказывать свои взгляды на точку зрения следствия и всецело отвергать ее - то отчего же и не закрепить эти свои взгляды? Конечного результата всего "дела" решительно ничто не изменит: он уже предрешен. Когда тетушка в январе 1933 года (почему именно в это время - скажу ниже) решила начать "дело об идейно-организационном центре народничества", то ее адъютанты получили твердые задания, которые им надлежало выполнить. Анахронизмом звучат слова Некрасова:
На Литейной есть страшное здание,
Где виновного ждет наказание,
А невинен - отпустят домой,
Окативши ушатом помой.
Так было в добрые старые времена. Теперь "невинных" не отпускают домой, а сажают в изоляторы, в концентрационные лагеря, ссылают в Алма-Ату или Чимкент (знаю об этом как раз по "делу об идейно-организационном центре народничества"). "Виновных" - тоже. Эта "уравниловка" и делает четверостишие Некрасова анахронизмом.
Значит - шитая белыми нитками хитрость следователей ни на минуту не ввела меня в заблуждение: я прекрасно знал, что им нужны протоколы "А", то есть собственная их, заранее установленная точка зрения {118} ("твердое задание"!), и что протоколы "Б" не будут иметь ни малейшего веса и даже интереса для "высшей инстанции". Но не все ли это равно, раз дело и без того предрешено? Протоколы "Б" имеют вес - для меня, и этого мне довольно.
Теперь, когда все это "дело" имеет за собой уже годичную давность, я иногда жалею, что не избрал более простого пути - короткого письменного заявления, что, прекрасно уясняя себе задачи и цели всего этого "дела", от всяких дальнейших разговоров решительно отказываюсь. Конечно, это ни на волос не изменило бы результатов и итогов, - но при таком методе действий я был бы избавлен от всяких "протоколов" (и "А", и "Б"), и от сомнительного удовольствия ночных бесед со следователями, очень любезными молодыми людьми, но пустыми и сухими, как выжатая губка.
Перехожу однако к этим протоколам "А" и "Б". Первый же из них совершенно ясно вскрыл "твердое задание", полученное следователями: создать фиговый листок, который позволил бы стыдливо прикрыть тот факт, что в стране пролетарской диктатуры ссылают за идеологию и "неблагомысленность" совершенно так же, как и в странах диктатуры буржуазной. И тут и там стыдливость требует фигового листка, каким является "организационная группировка": если ее. нет, то ее надо выдумать.
И вот пример из первого же протокола "А". С первых месяцев революции 1917 года я дружески сблизился с М. А. Спиридоновой; октябрьские дни еще более закрепили эту дружбу. Когда после долгих лет советской тюрьмы М. А. Спиридонова очутилась в ссылке - в Самарканде, в Ташкенте, потом в Уфе, - мы стали обмениваться письмами, чаще всего - открытками, раз-два в год всего-навсего.
Я посылал ей новые свои книги. Раз или два, узнав о ее болезни и трудном финансовом положении, послал ей небольшой денежный перевод. Делал все это нисколько не {119} таясь, прекрасно зная, что все до одного письма наши внимательно читают перлюстрационные тетушкины "красные кабинеты", находящиеся при каждом почтовом отделении. Но считал бы постыдным для себя отказываться от былого знакомства и былой дружбы страха ради иудейска, - и теперь, хоть без всякого удивления, но и без всякого уважения смотрю на былых знакомых и "друзей", того же страха ради трусливо вильнувших в кусты, когда я очутился в ссылке. Но не в этом дело, а в том, как же формулировал протокол "А" изложенные выше факты? А вот как: "в течение ряда последних лет поддерживал постоянную связь с М. А. Спиридоновой и организовывал пересылку ей денег".
Недурно? Слово "организовывал" я отказался принять, и следователь заменил его словом "устраивал". Bonnet blanc, blanc bonnet.
И еще пример, особенно характерный тем, что вскоре вскроет последние глубины "обвинительного акта". С видным представителем "центрального" эсерства Е. Е. Колосовым я случайно встречался лишь несколько раз, в переписке с ним не состоял. Поэтому меня очень удивила настойчивая просьба следователей припомнить, с кем именно заходил ко мне Е. Е. Колосов (еще до изоляторов и ссылок) в Царском Селе в середине двадцатых годов? Вспомнить я не мог. Тогда следователи сами напомнили мне: с А. В. Прибылевым, старым народовольцем и каторжанином. Вспомнил - верно. Следователи откуда-то и на этот раз были хорошо осведомлены! Но все же меня удивляло - отчего они так подчеркнуто занесли в протокол этот факт? Что в нем было особо криминального? И отчего особый протокол был посвящен допросу о моих знакомствах со старыми народовольцами - милым и вечно молодым душою А. В. Прибылевым, первомартовкой А. П. Прибылевой-Корба, В. Н. Фигнер, М. П. Сажиным и другими? И отчего были взяты у меня письма В. Н. Фигнер? Все это анекдотически разъяснилось лишь впоследствии.
{120} Не буду умножать примеров, приведенных достаточно. Скажу лишь еще об одном обстоятельстве, тоже немало меня удивлявшем. Следователи сами составили список левых, центральных и правых эсеров, с которыми я был знаком (а с кем из них я не был знаком в 1917-1918 годах?), и с которыми "поддерживал связь" (то есть попросту - был знаком) и в настоящее время; среди этого списка из пяти-шести человек первым, конечно, значился Д. М. Пинес, но тут же за ним, к моему удивлению, шел А. И. Байдин, о котором поэтому здесь несколько слов. Этот очень симпатичный человек, отбыв за свое эсерство сроки сидения в изоляторах, получил в конце двадцатых годов разрешение жить в Петербурге. Он и служил здесь библиотекарем сперва в одном, потом в другом сельскохозяйственном институте, одно время проживал в Царском Селе. Но даже проживая в соседстве со мной - бывал у меня крайне редко, а переселившись в Петербург - и совсем исчез из вида. Зная, однако, его страстную любовь к цветам (как и к книгам), я был уверен, что непременно увижу его в каждом мае месяце, когда в нашем саду вокруг дома пышно расцветала сирень. И действительно, в это время он всегда появлялся на нашем горизонте и уезжал, обремененный огромным букетом. В остальное время года бывал у меня раз или два, а до моего юбилейного чествования я не видал его около года - с прошлого мая. Очень меня удивляло поэтому, отчего следователи не раз и не два упорно допытывались о моей "связи" с А. И. Байдиным; ничего интересного не мог им сказать, кроме эпизодов с букетами сирени, которые, однако, не попали в протоколы "А". Разгадка появилась тогда же, когда и разгадка интереса следователей к народовольцам. Тогда выяснилось, почему следователи допрашивали, меня о "связи" с А. А. Гизетти, который в это время был уже два года в ссылке в Коканде (с удивлением увидел я его уже в марте месяце в коридоре перед следовательскими комнатами, {121} привезли из Коканда!). Никогда не был я с ним в переписке, а после революции, когда он обрушился на меня сердитой статьей за мою "левизну"", отношения наши были вполне прохладные; за последние годы они выправились, но без всякой близости. Бывал у меня раза два-три за лето, когда все бывают в Царском Селе. Характерно, что за все эти годы у нас с ним ни единого раза не было разговора на политические темы, - разговоры велись исключительно на темы литературные. Тем не менее, в протоколах "А" была тщательно зафиксирована моя "связь" с А. А. Гизетти.
VIII.
В протоколах "Б" я имел возможность самым решительным образом отвергать не факты, а освещение фактов в протоколах "А". Поддерживал ли я "связь" с пятью-шестью бывшими эсерами? Совершенно настолько же, насколько и с десятками бывших меньшевиков, анархистов, кадетов - вплоть до большевиков и до беспартийных, так как знакомых у каждого из нас много. Но называть эту "связь" - "организационной группировкой" столь же бессмысленно, как вечерний чай в кругу семьи и друзей называть нелегальным подпольным собранием. Могут быть и такие "чаи", но ни у меня, ни у моих знакомых никогда их не бывало. "Организационная группировка" по отношению ко мне - бездарно вырезанный фиговый . лист, который никого не обманет. И к чему такая стыдливость? Пролетарская диктатура должна была бы поступать смелее, заявляя открыто: да, сажаю в тюрьмы и ссылаю не только за "организацию группировок", но и за идеологию, за инакомыслие.
Инакомыслия своего я никогда и ни перед кем не скрывал, - не имел основания умалчивать о нем ив протоколах "Б". И как раз третий "протокол" был целиком посвящен этому моему инакомыслию. Кстати сказать: протоколы третий, четвертый и пятый {122} были исключительно протоколами "Б" и не имели своих двойников "А": там, где дело шло об идеологии, а не о мифической "организационной группировке" - перо, чернила и бумага предоставлялись в исключительное мое распоряжение. Первый протокол ("трамплин") наоборот, не имел своего двойника "Б". Наконец, протоколы второй, а также шестой и седьмой (написанные в Москве, о чем ниже) были двойными.
Интересно отметить, что следователи (все те же Бузников и Коган), писавшие шестой и седьмой московские протоколы "А", с таким трудом составляли их, так много вычеркивали и перечеркивали, что, утомившись к концу ночи, просили меня перебелить их начисто. Я это сделал, после чего тут же написал и протокол "Б". Каюсь в своей наивности: лишь потом мне подумалось, что причиной следовательского утомления могло быть желание представить эти написанные моею рукою протоколы "А" - за протоколы "Б", а последние просто бросить в корзину. Но и то сказать - кто мог помешать им и без этого кунстштюка (фокуса) бросить в корзину протоколы "Б"? Их рука - владыка.
Возвращаюсь однако к третьему протоколу, в котором должна была быть обнаружена моя неблагомысленность. Говорить в условиях тюремного сидения о моем "отношении к советской власти" - я отказался еще на первом допросе; но на вопрос, почему с точки зрения моей "идеологии" неприемлемы многие пути и методы современной социальной системы - мог ответить с полной определенностью. Я сделал лишь одну оговорку: я - не политик и никогда им не был, политический жаргон мне совершенно чужд, а потому говорить я буду тем языком, которым вот уж тридцать лет говорю в своей литературной деятельности. И о четырех основных пунктах современной жизни - диктатуре, коллективизации, индустриализации и культурном строительстве - я высказываюсь со своей основной точки зрения, являющейся фундаментом социальной философии Герцена, Чернышевского, {123} Лаврова и Михайловского. Это основное положение - "человек-самоцель", критерий, прилагаемый ко всем практическим вопросам.
Конечные цели коммунизма - бесклассовое общество, уничтожение государства - вполне соответствует норме "человек-самоцель"; методы и пути большевизма для достижения этой цели - резко ей противоречат, а поэтому для меня и неприемлемы.
Диктатура? - Несомненная гибель десятков миллионов для проблематического будущего благоденствия человечества. Коллективизация? - Родная дочь диктатуры. Индустриализация? - Машинофобия настолько же далека от нормы "человек-самоцель", как и машиномания. Но когда в жертву последней приносится человек, когда в жертву национальному богатству приносится народное благосостояние, то индустриализация становится в противоречие с основной нормой. Все дело - в методах и путях для достижения конечной цели. Представьте себе, что с целью увеличить народонаселение страны, государство ввело бы во все большие города дивизии войск и велело бы солдатам изнасиловать всех девушек города. Цель была бы достигнута, но что сказать о пути к ней? Видно не всегда цель оправдывает средства.
Наконец, последний пункт - культурное строительство. Если в первых трех вопросах может казаться спорным - достигнет или не достигнет такими путями государство поставленных целей, то в вопросе о культурном строительстве и спора быть не может о полной безнадежности построить культуру методами диктатуры. Само большевистское правительство убедилось в этом, когда вынуждено было в апреле 1932 года уничтожить всяческие РАППы - ассоциации пролетарских писателей, - пытавшиеся "администрировать" в области литературы: плоды таких попыток оказались кислыми и горькими. То же самое было и в области музыки и в живописи; искусство - свободно и на штыках сидеть не умеет. Можно {124} декретировать в области культурного строительства все, что угодно, но собрать лишь горькие плоды лакейства, бездарщины и всяческого приспособленчества. Норма "человек-самоцель" оправдывает себя в этой области с бьющей в глаза очевидностью.
То, что здесь я суммирую в нескольких строках - в третьем "протоколе" изложил я на четырех листах, прибавив на пятом, в виде заключения, и некоторые практические выводы, вытекающие из этих теоретических положений. Действительно, если все это так - "так что же нам делать?" Сложить руки или бороться? А если бороться - то как? Устраивать "организационные группировки"? Подпольные кружки? Террористические организации? Вести нелегальную пропаганду среди разных слоев населения? При создавшихся в Европе (и во всем мире) условиях, все эти былые методы борьбы одинаково бесплодны и даже вредны.
Мы привыкли мыслить все еще старыми, "довоенными" категориями, в то время как мир перевернулся на своих основаниях, сошел со своей оси - и лишь Гамлеты от революции могут думать, что прежними методами можно прийти к каким-либо результатам. "Народничество - это социализм, социализм - это демократия", а в итоге войн и революций нашей эпохи демократия погребена, быть может, на весь ХХ-ый век под обломками рухнувших миров. Все политические партии сыграли свою роль - и, впредь до воскресения демократии, не воскреснут; воскреснет же она лишь в итоге ряда новых мировых войн. Мировая война между двумя станами диктатуры - неизбежна, но наше место - au dessus de la melee. Стан фашизма буржуазной диктатуры - враждебен нам и по целям и по методам действий; стан коммунизма неприемлем по методам.
Бесплодно вести с этими методами борьбу путем старых приемов; говоря словами Герцена - нелепо ставить себя в положение человека, желающего подняться по лестнице в то самое {125} время, когда с нее сходят сплошным и сомкнутым строем шеренги солдат. Значит - стать в сторонке и сложить руки? Нет, но делать свое дело. Это дело теперь, при новых условиях и задачах, заключается единственно в работе над старыми и вечными культурными ценностями. Надо не лакействовать, не приспособляться, не чего угодничать, а делать в своей области ту работу, которая переживет и диктатуру, и коммунизм, ибо оба они - лишь переходные формы (что оба и сознают в наиболее видных своих представителях). О себе скажу: как ни скромно мое дело, но в области "культурного строительства" оно ближе к подлинной духовной революции, чем устройство десятка "организационных группировок".
Мысли эти я высказывал всегда и всем, в том числе и тем немногим молодым людям, не мифическим меккопоклонникам, - которые спрашивали меня:
"Так что же нам делать?" Написал я это и на заключительном пятом листе третьего "протокола". Но этот последний лист следователь отказался "принять", заявив, что это им "неинтересно". Позвольте - как это так: неинтересно? Для объективного следствия это был бы самый интересный пункт. Не говорю уже о том, что этим нарушалось основное условие: протоколы "Б" выражают мою точку зрения, а вовсе не то, что интересно или неинтересно для следователя. Но я не стал настаивать: к чему, раз вообще все протоколы "Б" могут быть отправлены в сорную корзину? Однако, мне захотелось сделать с этим вопросом (о "практике") experimentum crucis, - и я сделал его в следующем же протоколе.
Впрочем нет, не в следующем, так как следующий - не и в счет: это был маленький "протокольчик", в котором излагалось, с кем именно из старых народовольцев я знаком (почему, однако, "знаком", а не "поддерживаю связи"?), давно ли познакомился, часто ли вижусь и переписываюсь. Меня все еще удивляло это никчемное любопытство. Знаком давно {126} с В. И. Фигнер - с 1912 года, с А. В. Прибылевым и с другими - позднее, в переписке состою, письма взяты при обыске. Чего же еще надо? Лишь через месяц выяснились глубокомысленные причины этого непонятного любопытства.
Через несколько дней последовал протокол четвертый. Третьим высшее начальство осталось неудовлетворенно: слишком необычный язык, слишком странная формулировка, какие-то "нормы", какой-то "человек-самоцель". Нужно совсем другое: подчеркнуто политическое выражение тех же самых основных мыслей.
"Ваш единомышленник, Д. М. Пинес, написал целый ряд листов на эти же темы, но с политической, а с не социально-философской точки зрения; то же самое мы желали бы получить от вас", - сказал мне следователь.
Не без иронии я предложил ему следующий выход: пусть он даст мне эти листы, а я, прочитав их, припишу в конце: "сию рукопись читал и содержание оной одобрил", - и подпишусь.
Следователь обрадовался такому выходу, но все же побежал советоваться с начальством; вернулся немного сконфуженный и заявил, что такой образ действий признан неудобным. Все-таки он очень просит меня хотя бы несколько, развить точку зрения предыдущего протокола. - Отчего бы и не развить? На эти темы можно написать не один том. И я стал писать "протокол четвертый".
Боюсь, что и этим своим писанием я совершенно не удовлетворил следователя: форма четвертого протокола была отнюдь не протокольная. Я припомнил содержание одного ночного разговора именно на такие темы (диктатура, коллективизация, индустриализация, культурное строительство); он имел место с год или два тому назад. И вот теперь, в четвертом протоколе, я изложил сущность этого разговора, даже назвал имена собеседников. Последнее сделал {127} намеренно и тоже не без иронии: пусть эти собеседники заслужат за свою благомысленность, если и не орден Красного Знамени, то, по крайней мере, доброе мнение тетушки.
Дело было так. В декабре 1930 года, на именины В. Н., собрались к нам многочисленные "друзья и знакомые"; вечерний чай и ужин затянулись до трех часов ночи, так как добрых четыре часа подряд продолжался оживленный спор на те самые темы, которые теперь столь интересовали следователей. Гостей было много, но деятельное участие в этом споре принимали только четверо царскоселов.
Прежде всего - Андрей Белый, проживавший с женою у нас весь этот год. Давняя дружба соединяла нас, но за последнее время стали омрачать ее непримиримые политические разногласия; не то, чтобы черная кошка пробежала между нами, но черный котенок не один раз уже пробовал просунуться, - с тех пор, как в книге "Ветер с Кавказа" Андрей Белый сделал попытку провозгласить "осанну" строительству новой жизни, умалчивая о методах ее. Вторым был Петров-Водкин, старый приятель, самый большой из наших художников, но в области мысли социально-политической - путанная голова. К тому же - "трусоват был Кузя бедный", и потому приспособлялся, как мог, ко всем требованиям минуты, стараясь найти какое-нибудь теоретическое оправдание для своей трусости. Третьим был ни друг, ни приятель, ни даже просто хороший знакомый Алексей Толстой.
Этот заплывший жиром человек, талантливый брюхом, ходячее подтверждение мнения Пушкина о поэзии, совершенно беспомощный в вопросах теоретических, всю жизнь однако умел прекрасно устраивать свои дела, держал нос по ветру и чуял, где жареным пахло. Разумеется, он был теперь самым верноподданейшим слугою коммунизма. Четвертым собеседником был, как принято говорить, "пишущий эти строки". Вмешивались в спор и другие гости, но я их не называю, во-первых, потому, что {128} ограничивались они немногими словами, а, во-вторых, и потому, что не все их высказывания были достойны ордена Красного Знамени. Спор вели четверо, и притом - трое против одного. Что говорили трое - ясно из приведенных выше их характеристик. Что говорил четвертый - об этом можно сказать подробнее.
Говорил же я следующее. Честный писатель, честный художник не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды - значит именно лгать. Вот не так давно явились ко мне четыре начинающих писателя, авторы коллективной книги о Мурманском крае. Они узнали, что я отрицательно отнесся к их полупублицистическому, полухудожественному произведению и приехали ко мне поговорить на эту тему. Я сказал им, что бывают эпохи, когда писатель не имеет права быть публицистом, ибо если можно сказать только полуправду, то она будет вреднее и постыднее полной лжи. Уж лучше тромбонно провозглашать "гром победы раздавайся!" - как это и делают девять десятых современных писателей, - чем монотонно расхваливать лицевую сторону медали, не имея возможности сказать хотя бы одно слово об оборотной стороне.
"Индустриализация" лицевая сторона медали, "коллективизация" и миллионы ее жертв - сторона оборотная. Ты ничего не смеешь сказать о последней? Молчи же и о первой: бывают эпохи, когда писатель обязан не быть публицистом.
Но все, что касается публицистики, относится и вообще к литературе, и вообще к искусству. Художник должен быть целомудренным в выборе темы и в формообразовании ее. Порнография - детская игрушка по сравнению с тем разлагающим души социально-политическим ядом, который особенно заманчив в художественных произведениях и может отравить иной раз целое поколение молодежи. Вот где именно евангельское слово о соблазне малых сих: {129} лучше бы жернов повешен был на шее его и потонул бы он в пучине морской. Лучше бы потому, что ведь впоследствии, когда придет время суда истории, жернов осуждения будет повешен на имени этого художника. Кукольники и Булгарины, источая яд патриотической лжи, благоденствовали при жизни, но кто позавидует их участи? Но полуправда - хуже лжи: она заливает гноем души несчастной молодежи. Зачем же вам, художникам слова и кисти, вступать на этот гибельный путь? Для персональных пенсий, для тетушкиных пайков, для житейского благоденствия? Все это - тлен и прах; да много ли нам всем осталось жизни? Ведь нам четверым уже больше двух сотен лет. Всем нам вместе не осталось быть может прожить и полстолетия. Да и не в этом дело, а в том лице каждого из нас, которое мы предаем и продаем за чечевичную похлебку житейского успеха; а оно дороже не только всякого благоденствия, но и самой жизни.
И - заключение: надо ли нам, писателям и художникам, не имеющим возможности рисовать обратную сторону медали, вообще складывать руки и отказываться от работы? Конечно, нет. Андрей Белый может писать не "Ветер с Кавказа", а следующие тома романа "Москва"; Петров-Водкин может писать не "Смерть комиссара", а превосходные свои натюрморты; Алексей Толстой может писать "Петра", а не беспомощные публицистические статейки. Что касается меня, то мне цензурой заказаны пути критической, публицистической, социально-философской работы, но остался путь историко-литературных исследований. Если цензура преградит мне и этот путь - перестану писать, сделаюсь корректором, техническим редактором, сапожником, кем угодно, но только не писателем, который готов поступиться своим "я" ради мелких и временных интересов. Ведь "временно бремя и бременно время!" Останьтесь же сами собой. Не будем ни Личардами верными, бегущими у стремени хозяина, ни Дон-Кихотами, воюющими с {130} ветряными мельницами. Политическая борьба с коммунизмом бессмысленна и вредна: но ликующая осанна - позорна и постыдна.
Так говорил я тогда, так написал (гораздо подробнее, чем здесь) и теперь, в четвертом протоколе. Прочитавший его следователь - вновь "не принял" последней страницы, где речь шла о ненужности и вредности борьбы с коммунизмом: "Не представляет интереса". Неправда ли интересный факт? Ехреrimentum crucis блестяще удался. Я решил при случае повторить его и в третий раз.
Случай представился очень скоро. Через несколько дней я вновь был приглашен на беседу со следователями, которые предложили мне написать свое мнение по следующему неожиданному вопросу: какими путями народничество может проникать и проникает в широкие круги молодежи? Отвечать было очень нетрудно. Прежде всего - совершенно ясно, что при современных политических условиях целиком отпадают всякие возможности пропаганды и агитации, устной и письменной; если же где-либо такие ручейки и пробиваются, то они так ничтожны, что вряд ли с ними можно серьезно считаться. Этого мало (и тут я намеренно поставил в третий раз свой поучительный проверочный эксперимент) : если бы даже такая политическая борьба была возможна, то она была бы в то же время никчемна и даже вредна. Мотивировка - та самая, которая была в конце (не принятого) протокола третьего. Однако, имеются на деле не ручейки, а полноводнейшие реки, которые до сих пор безвозбранно текут по равнине русской литературы и из которых может утолять жажду каждый желающий. Это - ни мало, ни много - вся русская литература второй половины XIX века.
Во всех библиотеках, во всех читальнях можно получить пока еще не запрещенные сочинения таких величайших представителей народничества, как Герцен или Чернышевский. Михайловский - запрещен и изъят; {131} теперь благодарю за честь!- изъят и запрещен также и я: жалкая компенсация! Запретите тогда уж и Глеба Успенского, и Салтыкова-Щедрина, либо постарайтесь перекрасить их в "марксистов" (этим тупоумным делом уже заняты юные марксистские литературоведы). А Лев Толстой, анархизм которого так близок к левому народничеству! Попробуйте-ка преградить плотиной эту Ниагару! Вам надо изъять из библиотек всю русскую литературу от Герцена до Льва Толстого включительно; а если не можете или стыдитесь (почему бы, однако, не изъять, стыд не дым, глаз не выест), то и не удивляйтесь, что народничество проникает и будет проникать в широкие круги молодежи.
Таков был протокол пятый (и пока что последний). Как я и ожидал - на этот раз следователь отказался "принять" начало его, где речь шла о ненужности и вредности политической борьбы против коммунизма. Мотивировка - прежняя: "Это нам не интересно и к делу не относится"...
Очаровательно, неправда ли?
Перечитывая в те же дни "Войну и мир", я с удовольствием отметил описание Л. Толстого французского военно-полевого суда над поджигателями Москвы в 1812 году: как это изумительно похоже на тетушкину юрисдикцию! Закончу этой цитатой:
"... Впрочем эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, т. е. к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь, куда ей угодно... Единственная цель этого собрания состояла в том, чтобы обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не {132} нужно было и уловки, и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности".
До чего же этот военно-полевой суд маршала Даву похож на суд теткиных сынов!
IX.
Согласно юрисдикции маршала Даву и тетушки - обвинительный акт не вручается обвиняемому, который остается в полном неведении о его содержании. Однако, последнее мне стало известно: завершив круг допросов (скольких десятков неизвестных мне человек, прикосновенных к моему "делу"?), следователи собрались ехать в Москву для доклада всего "дела" в высших тетушкиных инстанциях. Это было уже месяца через два после моей юбилейной ночи. В самый вечер отъезда следователи пригласили меня для разговора на тему - не имею ли я против них лично каких-либо заявлений или жалоб. Что же мог я иметь против двух этих несчастных молодых людей, добросовестно выполнявших данное тетушкой "твердое задание"? Разговор поэтому был краткий.
Но тут же следователи порадовали меня сообщением, что "дело" для них теперь "совершенно ясно". Ясным было оно и для меня; с тем большим интересом выслушал я дальнейшее сообщение следователей, - и услышал вещи поистине удивляющие неожиданностью и богатством фантазии. Точки зрения "А" и "Б" должны были расходиться, это само собою разумеется, но лишь в пределах разницы между формулами "поддерживал связь" и "был знаком" (если ограничиться этим случайным примером). Оказалось однако, что на этой разнице можно вышить такие богатейшие узоры фантазии, что им позавидовала бы сама Шехерезада. Вот это "дело об идейно-организационном центре народничества" в сжатом изложении следователя, и вот, значит, содержание не врученного мне обвинительного акта:
{133} Народничество продолжает свое существование, и притом не только в мировоззрительном содержании, но и в форме организационно-групповой. Основными передатчиками идейного, социального и политического содержания от старого народничества к новому являются старые народовольцы, носители народнических традиций. Эти основные истоки приходится однако оставить в покое, ибо неудобно трогать ветеранов с такими заслугами перед революцией. К тому же - почти все они люди восьмидесятилетние, скоро и сами сойдут со сцены, можно и подождать. Но остается фактом - нежелательное влияние их идей и представляемой ими традиции на людей следующего за ними поколения. И не случайно то обстоятельство, что главный идеолог народничества XX века, писатель Иванов-Разумник, состоит в близком знакомстве и "поддерживает связь" с рядом наиболее выдающихся старых народовольцев.
Этот писатель является идейно-организационным центром целой сети разветвляющихся на весь СССР группировок. Организация эта может быть представлена в общих чертах следующим образом:
Идейный центр ее - в Детском Селе, в доме названного писателя. С ним организационно связана центральная группа в пять-шесть человек бывших левых и правых социалистов-революционеров. Кроме того, он поддерживает личные и письменные связи с видными эсерами, находящимися в Москве, заграницей и в ссылке. Центральная группа в пять-шесть человек делит между собой ряд основных организационных функций.
Так, личный секретарь названного писателя, Д. М. Пинес, бывший левый эсер, поддерживает постоянную связь с бывшими левыми эсерами, а также и с заграницей; "центральному" эсеру, А. А. Гизетти, поручено поддерживать связь с эсерами своей группировки. Но главный нерв всей этой организационной работы практический: связь с беспартийными и руководство вредительской {134} работой в тысячах колхозов и совхозов. Это звено связи поручено А. И. Байдину, который далеко не случайно выбрал себе работу и службу - библиотекаря в сельскохозяйственном институте. Здесь он имел возможность ежедневно общаться с десятками, а ежегодно - с тысячами студентов, оказывать на многих из них разлагающее народническое влияние, а затем - направлять их вредительскую работу в колхозах и совхозах. Совершенно не случайно срыв колхозной работы в 1932 году, начиная с сверхраннего сева и кончая хлебосдачей, выявил ряд народнических настроений среди руководителей - и вредителей - низового колхозного и совхозного аппарата, главным образом, среди агрономов. Совершенно не случайно также, что в целом ряде провинциальных центров обнаружены народнические группировки молодежи, как не случайно и то, что два незнакомых между собой представителя этой молодежи охарактеризовали одними и теми же словами местожительство незнакомого им лично писателя Иванова-Разумника, как Мекку современного народничества.
Кроме того, названный писатель группировал вокруг себя не только партийно-эсеровские, но и вообще беспартийно-народнические элементы - под видом случайных своих знакомых и гостей. Влияние его шло, конечно, и дальше к знакомым его знакомых, к гостям его гостей; но это были уже группировки не организационные, а идейные. Что же касается группировки идейно-организационной, то она представляется, на основании всего изложенного, в виде следующей схемы:
На периферийной высоте - старое народовольчество, от которого идет непосредственная традиция и живая связь с народничеством второй половины XIX века. В центре - идеолог народничества XX века, писатель Иванов-Разумник, со штабом из пяти-шести человек, между которыми разделены различные организационные функции. Одно звено этого {135} штаба в свою очередь является центром охватывающей весь СССР народнической группировки для вредительской работы в колхозах и совхозах; это - звено практической социально-политической работы. Наконец, в периферийных низинах - многочисленные подпольные кружки народнической молодежи, связанные с центром если и не организационно, то идейно.
Когда Лазарь Коган закончил это изложение сущности обвинительного акта по делу "об идейно-организационном центре народничества", то спросил меня, что я думаю об этой точке зрения "А"? Я ответил, что в лучшем случае - это сказка из тысячи и одной ночи допросов, в худшем - бред сумасшедшего. Нисколько не обидевшись, он возразил: "А для нас - это совершенно ясно, это совершенно ясно"... Но ведь и мне тоже все было здесь - "совершенно ясно".
Очевидно, что из двух "совершенно ясных" и диаметрально-противоположных точек зрения ("А" и "Б") одна является истинной, а другая ложной. Не задаваясь пилатовским вопросом "что есть истина?", можно спросить однако - где же здесь истина? Всякий непредубежденный читатель найдет ответ на этот вопрос очень просто и легко.
Ведь "читатель" этот, для которого я пишу - читатель очень далекого будущего, когда на свете не будет ни меня, ни тетки. Для этого далекого будущего я мог бы, ничем не рискуя, пышно распустить павлиний хвост, приделанный мне в "обвинительном акте", и пред лицом далеких потомков "признаться" во всем том, что теперь является для меня "обвинением", а тогда послужит восхвалением. Так что в этих моих воспоминаниях мне не было бы причины отвергать ту арабскую сказку, которая делает меня всероссийским центром народнической группировки и посылает ко мне со всех концов страны тридцать пять тысяч курьеров. Но курьеров этих я не принимаю, павлиний хвост {136} отвергаю, лестную сказку называю ее подлинным именем - глупой ложью; хочу быть тем, чем я был, писателем и гражданином, а не оходуленным "вождем", каким представляет меня тетушкина филькина грамота. Где истина - решить после этого нетрудно.
Мало того, я совершенно уверен, что и сама тетушка превосходно знает, что ее обвинительный акт по делу об идейно-организационном центре народничества сплошной фантастический бред и глупая фальшивка; но "твердое задание" - должно быть выполнено, десятки людей - должны быть законопачены в тюрьмы и ссылки. О подлинных причинах этого я еще скажу ниже. Все это меня нисколько не удивляет, все это в порядке вещей и в порядке системы управления; но удивляет только одно, повторяю еще раз: для чего столько церемоний, трудов, хлопот, попыток придать акту чистого произвола вид "революционной законности"? Для чего эта стыдливость, этот фиговый лист? Эти попытки придумать несуществующие организационные группировки? Царская охранка была менее стыдливой и более смелой: она прямо заявляла, что карает не только за неблагоидейность, но и за неблагонамеренность. Тетушка же не имеет мужества признаться, что ее кары распространяются даже и на неблагомысленность. А насколько упростилась бы вся процедура, насколько облегчилась бы работа самих теткиных сынов, насколько разгромоздились бы ночные допросы! Но именно все это и невыгодно теткиным сынам, у которых всегда хлопот быть должен полон рот.
Возвращаюсь к "обвинительному акту". Сколько десятков (или сотен?) совершенно невинных людей попало в эту трудами бессонных ночей сплетенную сказку - мне неизвестно. Знаю о судьбе моего "штаба": Д. М. Пинес заключен на два года в Верхне-Уральский изолятор, А. И. Байдин - на три года в изолятор Суздаля, А. А. Гиэетти - на три года в {137} изолятор Ярославля. Сам я, после ряда юбилейных чествований, попал в ссылку - и куда же?
"В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!?" (о, бессмертный Фамусов!). Совершенно случайно знаю о судьбе еще немногих (из сколь многих!) заговорщиков. Так, упомянутый выше библиотекарь Академии Наук Котляров заслужил пять лет ссылки сперва в Алма-Ату, а потом в Чимкент, - за то, что был знаком со мною и этим самым ясно выразил свои народнические симпатии. Правда, симпатии эти оказались мифом даже для следователя, но зато ясно выявилась неблагомысленность оного Котлярова: на вопрос - верит ли он в построение царства подлинного коммунизма большевиками, Котляров ответил: "Не верю!"; и на вопрос, верит ли он в народнический социализм Иванова-Разумника, отвечал: "Тоже не верю!" Так сообщил мне (если не выдумал) сам следователь на одном из допросов. И хотя Котлярова, этого добросовестного и опытного работника, нельзя было обвинить ни в народничестве, ни во вредительстве, его все же за неблагомысленность (под каким фиговым листком - не знаю) отправили на край света. "Иванову-Разумнику мы устроим почетную ссылку, - заявил ему следователь, - а вас за знакомство с ним и за мысли отправим куда Макар телят не гонял!"
Глубоко виноват перед ни в чем неповинным Г. М. Котляровым и приношу ему здесь искреннее извинение за мое знакомство с ним. Совершенно аналогичный случай произошел и с писателем А. Д. Скалдиным, о котором я тоже упоминал выше. Арестованный за народнические симпатии (ибо отец его был - крестьянин) и за знакомство со мной, Скалдин тщетно указывал следователю, что никаких симпатий к народничеству не питает, и хотя живет в Детском Селе, в двух шагах от "главного идеолога народничества", но не был у него уже полтора или два года.
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", - мог ответить ему следователь. Аргумент {138} неопровержимый - и Скалдин отправился на пять лет в ссылку в Алма-Ату (Позднейшее примечание: Г. М. Котляров в "ежовские времена" был снова арестован в Чикменте и отправлен в один из сибирских концентрационных лагерей, где и скончался в 1938 году. А. Д. Скалдин продолжает пребывать в ссылке в Алма-Ата; о нем - смотри в моей книге "Писательские судьбы" (на ldn-knigi!).).
Мне кажется, что всех этих примеров более, чем достаточно, и что все дело, по совершенно справедливому мнению следователя, более чем ясно.
X.
Я был вполне уверен, что "дело" подошло к своему естественному концу, и что высшие тетушкины инстанции скоро вынесут решение и сообщат свой революционно-законный приговор всем прикосновенным к этому "совершенно ясному" делу. Последняя беседа со следователями, сообщившими мне содержание "обвинительного акта", происходила в самых первых числах апреля. Весь апрель месяц я спокойно спал по ночам, никем не тревожимый, и со дня на день ожидал последнего "вызова" в следовательскую для сообщения мне окончательного тетушкиного решения. Я жестоко ошибался: подлинное юбилейное чествование мое только еще начиналось.
Ровно через три месяца после начала юбилейных торжеств, 2-го мая, часов в восемь вечера, меня, наконец-то, пригласили в следовательскую, где сообщили однако совсем не то, что я предполагал: высшими инстанциями признано необходимым отправить меня в Москву; поезд отходит через полтора часа, надо спешно собраться. Вернувшись в камеру, я "спешно собрался", споспешествуемый в этом корпусным надзирателем, производившим внимательный осмотр всех укладываемых вещей. Затем меня повели с разными процедурами пропусков. Во дворе ДПЗ ждал меня "Черный ворон", в котором сидели уже два молодых {139} человека, один в форме, другой в штатском, как оказалось - оба следователи. Им поручено было доставить меня в Москву. Железная дверь захлопнулась, ворон каркнул - и partie de plaisir в Москву началась.
Очень странно было сразу после тихой камеры очутиться на шумном вокзале, "свободно" идти рядом со своими двумя спутниками, потом сидеть вместе с ними в мягком купе, стоять в коридоре вагона, смотреть в окно, сталкиваться с десятками проходивших людей.
Молодые люди (военный - с "ромбом" на воротнике) были, как водится, очень любезными, занимали меня разговорами о литературе, уложили спать на верхнее место, а сами вдвоем улеглись внизу, - купе было двухместное. Очень странно было утром в Москве сесть вместе с ними в трамвай и "свободно" ехать до Лубянской площади, где высится громадина бывшего страхового общества "Россия", ныне являющаяся всероссийским центром ГПУ. В боковой подъезд этого здания ввели меня мои спутники и вручили комендатуре. Было 11 часов утра 3-го мая; начиналась московская часть юбилейных торжеств.
Началась она, конечно, с анкеты, а потом и с личного обыска. Тщательнейше осмотрены были все вещи, из которых тут же конфискованы такие опасные орудия и оружия, как золотое пенснэ и карманный гребешок. А затем - знакомая процедура: "разденьтесь догола! встаньте! повернитесь спиной! нагнитесь!" - и так далее, вплоть до многоточия и до реминисценций из Аристофана. Снова припомнился "академик Платонов".
По совершении этого обряда (нечто в роде обряда "крещения" в теткиной религии) некий нижний чин повел меня через двор в помещение "для прибывающих" и сдал с рук на руки дежурному надзирателю. Тот немедленно ввел меня в первом же этаже в камеру No 14. Она была без окон, с электрической {140} лампочкой у потолка, с обычным "глазком" в двери; вся меблировка этой камеры (размера четыре на пять шагов) состояла из двух небольших колченогих железных кроватей, с досками вместо матрасов; в углу металлическая "параша". Народонаселения в этой камере не было и я довольно долго пребывал в ней один. Но к середине дня камера мало-помалу заполнилась, и к вечеру в ней было уже шесть человек, тесно сидевших трое на каждой из застланных досками кроватей. Все пять моих соседей были только что привезены из какой-то провинциальной тюрьмы, куда они попали по обвинению в колхозном "вредительстве". Это были - заведывающий хозяйством колхоза, бухгалтер, агроном, кооператор и "животновод": не мои ли ученики, связанные с практическим звеном организационной группировки народничества? Достаточно было взглянуть на эти перепуганные лица, чтобы сразу убедиться в полной идеологической невинности их обладателей.
В середине дня был сервирован обед - похлебка и каша; часов в восемь-девять вечера загремели соседние двери, открылась и наша. Нижний чин прокричал: "В баню собирайся!" В баню, на том же дворе, повели сразу человек двадцать. Бросилось в глаза, что среди этих двух десятков не было ни одного пожилого человека. Пока мы стояли под горячими душами, все наше белье и платье отправлено было в дезинфекцию и ко времени одевания вернулось горячим и пропахнувшим какими-то неблаговонными парами. Баня была жаркая: когда я оделся - я был уже в седьмом поту. Нас повели обратно, но меня ввели не в прежнюю камеру, а наискось от нее открыли дверь в камеру No 4. Я вошел и с любопытством огляделся.
Это была сравнительно довольно большая комната неправильной формы, шагов по десяти в длину и ширину. Против двери - большое и настежь открытое окно, забранное решёткой и металлическим {141} щитом. Единственная мебель - "параша" в углу. Ни кроватей, ни нар, ни стола, ни табуреток, - только стены, потолок и пол. Но на полу вдоль стен тесно жались тела двух десятков людей, лежавших на подостланных под себя пальто. Ни подушек, ни вещей.
Один я, с вещами и одеялом подмышкой, выделялся своим буржуазным имуществом среди этой беспризорной толпы. Помолчали.
- Ну что ж? выбирайте себе место и ложитесь, - посоветовал мне чей-то голос.
Это легче было сказать, чем исполнить. Люди лежали вповалку вдоль стен, опираясь на стены головами; свободных мест не было. Впрочем - было два: одно рядом с протекавшей "парашей" в углу, другое - под самым окном, откуда попархивали, несмотря на третье мая, снежинки и дул морозный ветер. Я выбрал это второе место под окном, хотя был еще весь в поту после бани и хотя чувствовал надвигающуюся лихорадку. Но что было делать? Не расстилать же одеяло около "параши" и ее ручейков? Я положил свои вещи под окном и сел на них среди порхающих снежинок; как всегда - иронически подумалось: "как бы почувствовал себя "академик Платонов" при столь явных знаках "глубокого уважения" ?
Не знаю, кончилась ли бы для меня эта ночь воспалением легких или нет, но тут произошло событие, сразу предоставившее мне лучшее место в камере. Один из лежавших на полу спросил меня голосом довольно безнадежным, точно заранее ожидая отрицательного ответа: "А что, не найдется ли у вас при себе папирос? Мы здесь уже второй день не курили". Папирос у меня не было, но зато в вещах лежал довольно большой - фунтовый - мешочек с табаком: ни табак, ни трубка не подвергались конфискации при обыске. Когда выяснилось, что я охотно поделюсь табаком, все вскочили и окружили {142} меня; в камере нашелся и староста, который сейчас же приступил к "организованной" дележке. Я отсыпал две трети мешочка, и "староста" стал делить спичечной коробкой табак между всеми желающими. Желающими оказались все, - все курили, а кто и не курил - закурил в тюрьме. Через минуту камера наполнилась клубами дыма, а "староста" тут же предложил улечься рядом с ним, в противоположном углу камеры, одинаково далеко и от "параши" и от окна. Он и его сосед немного потеснились, и я разостлал свое одеяло в "теплом" углу камеры. Так мешочек табака спас меня от вероятного воспаления легких.
Мы улеглись и курили, и тем временем "староста" рассказывал мне, новичку, что это за камера и кто эти, населяющие ее люди. Эта камера, и соседние с нею, весь этаж - "распределитель" всех вновь арестованных и заключенных в сей Лубянский изолятор (так называемая Лубянская "внутренняя тюрьма" при ГПУ). Таким же "распределителем" является он и для всех других тюрем Москвы. Все арестованные, пройдя через баню, ждут в этих камерах решения своей участи куда их направят дальше. Сидят в этой распределительной камере разное время, кто сутки, а кто и неделю; некоторых отсюда вызывают и на допросы, чтобы выяснить, куда "распределить" их далее. Каждый вечер, часов в одиннадцать, приезжает "железный ворон" и развозит свою добычу по разным тюрьмам Москвы. Как раз во время этого рассказа под окном каркнул прилетевший "ворон", - и через несколько минут из нашей камеры было вызвано пять человек. "Ворон" снова каркнул, - увез добычу. Камера немного освободилась, но на следующее же утро снова стала заполняться вновь прибывающими. Мне рассказали, что в "горячее" время года, осенью и зимою, в эту камеру набивается по много десятков человек, и тогда приходится не только занимать вповалку всю площадь пола, но и лежать лишь поочередно.
{143} В этой камере я пробыл только сутки - до ночи 4-го мая, когда прилетевший "железный ворон" унес и меня с собою. Но если бы я вздумал подробно описать эти сутки - понадобилась бы не одна глава, и на этот раз не для описания быта, а для рассказа о людях. Быт - обычный, с тем лишь московским ухудшением, что в камере нет уборной, а стоит только "параша", предназначенная для малых дел. Все же дела высшего порядка должны свершаться дважды в день - в 9 часов утра и в 9 часов вечера. А если ты не умеешь и не можешь соразмерить отправлений своего организма с вращением земли вокруг оси, то это дело твое: справляйся, как знаешь. Как-то справлялся с этим делом "академик Платонов"? Или ему было дозволено, в знак "глубокого уважения" к нему, "ходить на час" по часам собственного организма, а не солнечным?
Вот и все о быте камеры No 4, потому что надо перейти к рассказу о людях, хотя бы самому краткому. И первое: почти все они были взяты не из дому, а с улицы - и вот почему ни у кого не было с собой вещей. Один - шел на службу и по дороге был остановлен некиим штатским с предложением "пожаловать", куда надобно; другой - возвращался со службы и был арестован у ворот собственного дома; третьего арестовали на бульваре, четвертого - при выходе из магазина, и так далее, и так далее. Общим во всех случаях было только одно: дома ничего не знали об их судьбе - ушел человек и пропал, "то тебе не Англия!" - как сказано у Чехова.
Столь же разнообразны были и причины, по которым люди эти очутились в одной камере. За день я наслушался рассказов, которых хватило бы на том. Вот сосед мой, технический директор одного из московских заводов. С неделю тому назад шел он с одним своим знакомым, видным инженером, по Красной площади. У инженера, на днях только, бессмысленно {144} погиб единственный и уже взрослый сын. В гибели этой инженер обвинял советскую власть и, глядя на Кремль, сказал: "Взорвать бы все это одной бомбой". Технический директор промолчал, уважая горесть отца и понимая, что это говорит она, а не он. На следующее утро, когда директор отправлялся на завод, некий штатский, поджидавший его у подъезда дома, предложил директору несколько изменить маршрут - привел его на Лубянку. Вот уже шестой день сидит он теперь в камере No 4, спит на летнем пальтеце, накрываясь полой его и опираясь головою о стену, вместо подушки. Каждый день его вызывают на короткий допрос - по делу о заговоре, имевшем целью взрыв Кремля, причем сообщают, что инженер "уже во всем сознался". К делу привлечен еще целый ряд лиц, общих их с инженером знакомых.
Сосед мой с другой стороны - летчик в военной форме, учащийся в московской авиационной школе, юноша лет двадцати. Отец его, польский еврей, эмигрировавший из Польши ввиду своих коммунистических убеждений, ныне со всей семьей живет в Москве, получая персональную "политпенсию". Юноша попал на Лубянку прямо из школы по весьма удивительной причине: его обвиняют в том, что он развращал своих товарищей антисемитскими анекдотами. "Вы только подумайте: я, еврей, буду рассказывать глупые анекдоты о самом себе!" - плакался он горько. Фамилия его была - Левитан.
Рядом с ним лежал человек, попавший сюда, как он говорил, "за птицу". Несколько дней тому назад, проходя по улице со своим знакомым он сказал: "А вот черный ворон летит". Некий штатский, услышав эти слова, предложил ему немедленно пожаловать на Лубянку. На допрос его еще не вызывали.
Припоминаю в порядке "живой очереди" лежащих: следующим был насмерть перепуганный "советский служащий", вышедший 1-го мая погулять по бульварам вместе с женой. Дома они оставили двух {145} маленьких детей под надзором соседей. Погуляв по Тверскому бульвару, присели они отдохнуть недалеко от памятника Пушкина на незанятой скамейке, - и увидали, что в траве лежит револьвер. Муж поднял его, а жена испугавшись, стала просить, чтобы немедленно же сдать это оружие милиционеру, стоявшему около памятника. Встали и пошли. Одновременно с ними подошли к милиционеру двое неких штатских (сколько же их развелось!), и, не внимая уверениям и клятвам мужа и жены, что револьвер только что найден в траве, что они несли отдать его милиционеру - штатские повели их "куда надо", то есть на Лубянку, куда ведут ныне все пути. Жену посадили в женскую камеру, мужа - вот в эту, где он сидит уже третий день в смертельном ужасе от всего происшедшего и в страхе за судьбу своих детей. На допрос его еще не вызывали.
Еще один: здоровеннейший детина, без трех пальцев на правой руке. Был забойщиком в одной из шахт Донбасса, пока не исковеркало руку взрывом гремучей ртути. Совсем малограмотный поступил он тогда на рабфак, с громадными трудами одолел его, стал коммунистом, поступил затем в какой-то институт внешней торговли (названия не помню) и теперь, весной, уже кончал его и имел ввиду место по "внешторгу" в Улан-Баторе. Внезапно был арестован на улице, сидит здесь уже четвертый день, на допрос вызывали два раза. В первый раз сообщили, что он обвиняется в "правом уклоне" и в организации соответствующей группировки, во второй раз - дали очную ставку с каким-то его запуганным приятелем, который "уже во всем сознался". Надо было видеть и слышать, с каким недоумением и негодованием рассказывал этот непосредственнейший человек, что его хотят заставить сознаться в том, к чему он не имеет ни малейшего прикосновения. Где-то он теперь? В Улан-Баторе или в столь же дальней ссылке за организацию группы "правых уклонистов"?
{146}
XI.
Весь день 4-го мая просидел (вернее пролежал) я в этой камере, все еще не справившись с лихорадкой. Днем меня водили разными ходами и переходами в главное здание, где фотограф увековечил мою небритую физиономию; к слову сказать - и в питерском ДПЗ я был увековечен подобным же образом. - Весь остальной день прошел в рассказах, вновь прибывающих или возвращающихся с допросов. Незаметно подошел и вечер. Меня продолжала трясти лихорадка.
Часов в 11 вечера под окном зашумел обычный "ворон", - это был час его прилета. Звук ключей, стук дверей... Открылась дверь и в нашу камеру. Дежурный назвал мою фамилию и предложил мне "собираться". Собираться было недолго. Короткое прощание с товарищами по камере - и вот я уже на дворе, у дверцы "ворона". На этот раз внутренность железной птицы была совсем иного устройства, чем той железной коробки, которая везла меня три месяца тому назад из Царского Села в ДПЗ. В этом "вороне", от горла до задней дверцы, шел узенький проход-коридорчик, по бокам которого были расположены крошечные клетушечки, изолированные друг от друга.
Сечением в квадратный аршин и высокие до потолка, они напоминали какие-то вытяжные трубы. В такую железную трубу еле-еле можно было втиснуться, кое-как сжавшись и поместив узел с вещами на колени, после чего дверь клетушечки задвигалась. В соседних клетушечках усаживали таким же образом других путешественников. Когда внутренность ворона была набита - он каркнул и медленно двинулся. Московская partie de plaisir продолжалась, чтобы привезти меня, как оказалось, к кульминационной точке юбилейных чествований. Местом чествования была Бутырская тюрьма, в просторечии - Бутырка. Здесь когда-то сидел в башне, прикованный цепями к стене Емельян Пугачев. Где же было найти лучшее место {147} для изъявления "глубокого уважения" писателю в год его тридцатилетнего юбилея?
Приехали. Прошло довольно много времени, пока одного за другим - и так, чтобы "один" ничего не знал о "другом" - вывели путешественников из железных клеток. Дошла очередь и до меня. Я очутился в большом и светлом помещении на тюремном жаргоне - "вокзал", где царило оживление - очевидно по случаю прибытия очередного вороньего транспорта. Но не успел я и оглядеться, как передо мной открыли какую-то дверь, потом захлопнули - и я очутился снова в трубе, но на этот раз не железной, а парадно выложенной голубыми кафелями. Два шага в длину, шаг в ширину, узкая скамья, где-то высоко электрическая лампочка. В этой "камере ожидания" я провел, вероятно, часа три. Сидел, курил, дремал. Лихорадило.
Потом началась (в третий раз) обычная процедура крещения по теткиным обрядам. Предложено заполнить анкету. Заполнил. Затем скучающий, но добродушный нижний чин приступил к тщательному обыску. На этот раз почему-то была конфискована подушка, - что ни край, то обычай, что ни тюрьма, то свои понятия об опасных предметах. Потом началось (в третий раз!) знакомое: "разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь!" - и так далее, до многоточия включительно. Очевидно, эта сакраментальная формула объединяет собою все тюрьмы СССР, от Финского залива до Золотого Рога. По крайней мере я убедился через полгода, что in mezzo del camin, в Нобосибирском ДПЗ эта формула при обряде теткиного крещения повторяется с ритуальной точностью.
Обряд был закончен. Я оделся - не без озноба. Нижний чин предложил мне следовать за ним - и вывел меня на широкий внутренний двор Бутырки. В середине двора - здание бывшей церкви. Чуть {148} светало. Вероятно, был час четвертый в начале. Мой Вергилий привел меня в какое-то здание, ввел внутрь коридора, открыл какую-то дверь, предложил войти и сказал: "Раздевайтесь!" Как! еще раз?! - но тут я увидел, что нахожусь в "банном номере", с душем и скамьей для раздевания. Я категорически отказался от этого номера юбилейных торжеств, заявив Вергилию, что сутки тому назад я уже прошел через подобную процедуру на Лубянке, что к тому же нездоров и вторично простуживаться не желаю. Нижний чин добродушно и сонливо сказал: "Нас это не касается, вы обязаны вымыться, а платье и белье надо пустить в инфекцию" (не я это ради красного словца выдумал, а именно он так и сказал), после чего ушел, захлопнув за собой дверь. Я уселся на скамье и стал ждать. Капельки воды из душа гулко падали на каменный пол. Минут через десять явился нижний медицинский чин-санитар, чтобы взять для "инфекции" мое белье и платье. Я объяснил ему, в чем дело и он, по долгом размышлении, предложил мне пойти на компромисс: дать ему только пальто и верхнее платье, так как "форма требует", чтобы каждый вновь прибывающий проходил через дезинфекцию. Я согласился, разделся, дал санитару пальто и платье, а сам остался сидеть в нижнем белье. Не сделал бы этого, если бы заранее знал, что санитар пропадет с моим платьем на добрых полчаса, и если бы сообразил, что в этом "банном номере" совершенно не банная температура. Не прошло и несколько минут, как озноб стал пронимать меня до костей. Тогда я, чтобы поднять температуру "номера", решил пустить из душа горячую воду - и понял, почему в "номере" так прохладно: из обоих кранов шла одинаково холодная вода. А на дворе - чуть морозило (это в ночь-то на пятое мая!). Так просидел я, дрожа от холода и озноба, пока не явился санитар с платьем, а через несколько минут за ним и нижний чин, чтобы вести меня по дальнейшим кругам этого ночного пути. Пошли.
{149} Впрочем путь теперь был уже короткий и вел прямиком к кульминационной точке юбилейных чествований. Вергилий ввел меня в первый этаж красного кирпичного здания с решетками на окнах, сдал с рук на руки дежурному по коридору, а тот, погремев связкой ключей, распахнул дверь в одну из камер и предложил войти. Дверь захлопнулась.
Должен сознаться в своей наивности. Когда я слышал речи следователей о "глубоком уважении" и об "академике Платонове" - я воспринимал их иронически, а воспроизвожу их здесь юмористически. Но все же я не думал, что тетушка пожелает до такой степени подчеркнуть свое глубокое уважение ко мне. Я очутился в большой комнате - это была камера No 65 - шагов двадцати в длину, шагов пятнадцати в ширину. Белесый свет начинающегося утра позволял лишь в общих чертах обозреть внутреннее убранство помещения. Первое, что бросилось и не столько в глаза, сколько в нос - это три огромных, многоведерных металлических "параши" около дверей.
В противоположном конце камеры - большие окна, с решетками, но без щитов, широко раскрытые, несмотря на холод. Но в камере не было холодно, - наоборот, душный зловонный воздух был достаточно нагрет испарениями многих десятков человеческих тел. По стенам шли голые деревянные нары, а на них вповалку, плечом к плечу лежали, спали, стонали, бредили, курили люди в одном белье. Общее впечатление от камеры было поэтому в час брежжущего рассвета - белесое, днем все зачернело одеждами. Но нар не хватало для обильного народонаселения камеры, поэтому вдоль всего прохода между нар лежали деревянные щиты, сплошь застилающие весь проход, и на щитах, тоже плечом к плечу, лежали еще десятки людей. Этого мало: когда началась утренняя поверка, я увидел, как десятки людей выползают на свет божий из-под нар. Камера эта в царские времена предназначалась для 24-х человек. В ночь моего прибытия я {150} был семьдесят вторым. Мне рассказали потом, что в горячее и рабочее время (осень и зима) в камеру эту набивают человек по полтораста и более, так что тогда спать приходится по очереди. И еще узнал я, что внутренний распорядок в камере, демократически установленный самими сидящими, таков: вновь прибывающий получает место для ночлега под нарами, затем, по мере передвижения народонаселения (одних - уводят, других - приводят), получает место на щитах, и наконец, став уже старожилом, достигает места на нарах. Такого повышения в чине приходится ждать иной раз днями, а иной раз и неделями.
Войдя в камеру и бегло оглядев ее, я, с вещами в руках, присел на узенькое местечко в ногах счастливца, спавшего крайним на нарах, в приятном соседстве с бочкообразными "парашами".
Среди спящих то и дело вставало белое привидение (рассвет еще не перешел в голубые тона), шагало гулко по нарам через ноги спящих, направляясь к "парашам", дополняло их содержимое, и, зевая и почесываясь, отправлялось на свое место. Каждое из них, оправившись, подходило ко мне и расспрашивало кто, когда, откуда? Узнав, что из Питера, все показывали на спящего вторым от края нар человека и говорили: "Вот этот старожил - тоже питерский".
Было уже совсем светло (как оказалось - шесть часов утра), когда загремел ключ в замке и распахнулась дверь: вошел "корпусной" для утренней поверки. "Вставать!" Начался шум, отодвигание щитов, вылезание из-под нар. Все выстроились на нарах в два ряда, третий - сидел на нарах лицом к проходу. Дежурный, со списком в руках, быстро считал, проходя, выстроившихся. Сосчитав, провозгласил - "семьдесят два!" и проверил по списку. Оказалось - верно. Он ушел, двери захлопнулись, и снова началось залезание под нары и шумная укладка щитов: после проверки разрешалось спать еще до времени раздачи кипятка.
{151} Впрочем многие уже не спали, а просто лежали, курили или вполголоса разговаривали. Мне предложил место рядом с собой тот самый "питерский", ныне "старожил" камеры No 65, на которого мне указывали еще ночью. Он потеснился, потеснился и его сосед, лежавший с краю нар. Я втиснулся в образовавшееся местечко и лег, положив мешок с вещами под голову, - впрочем, лечь мог только боком, так как лежать на спине было невозможно за недостатком места.
В этой камере я был временным гостем, так что не буду много рассказывать ни о быте, ни о людях; но об этом "питерском" и "старожиле" благодарность обязывает меня сказать хоть несколько слов. Он не только приютил меня рядом с собой, он и весь день продолжал свои заботы обо мне: пошел к "старосте" в "дворянский" угол камеры около окна, (каков тюремный пережиток былого времени: старое название сохранилось до сих пор!), с трудом, но добился разрешения, чтобы мне, "новичку", дано было право спать не под нарами, а на нарах, где он, в согласии с своим соседом, уступил мне "одну доску" (вершка в три шириною), да другую доску - сосед (итого образовалось место в шесть вершков); достал и подарил мне деревянную ложку, которая потом пошла со мной "по тюрьмам и ссылкам" (до сих пор пользуюсь ею и храню ее, как память). И мне думается, что все это он делал не потому, что был поражен, узнав мою фамилию, и не потому, что книги мои ("в переплетах!") стоят в его библиотеке (шесть тысяч томов!), а просто по доброте сердечной. Отблагодарить его могу только одним - рассказать здесь, хоть вкратце его историю, - только одну, среди десятков других, которые я услышал в этот день.
Инженер-технолог, директор завода "Большевик" в Петербурге, А. И. Михайлов был виноват в большой неосторожности: получал от иностранных фирм разные машины для завода, он не отказывался принимать от представителей фирм небольшие подарки - часы {152} для дочери, лыжи для сына и еще немногое, что он наивно считал "сущими пустяками". Арестованный в самом начале этого 1933 года, он узнал, что "пустяки" эти на языке тетушки именуются "взятками". И хотя, по глубочайшему своему убеждению, во взятках он был совершенно неповинен, но тут выявилась обычная тетушкина нюансировка терминов, по уже известному нам типу: "был знаком" и "поддерживал связь". Так и тут: "принимал подарки" и "получал взятки".
Итак - он признал, что "получал взятки", признал, совершенно этого не признавая. Но этого оказалось мало: он должен был "признаться" и еще в одном, на этот раз - "совершенно недопустимом, отвратительном, гнусном", - как рассказывал он, волнуясь, - должен был признаться в шпионаже для этих иностранных фирм. Обвинение это предъявлено было в первые же дни допросов. Отвергнув его с возмущением, он теперь в течение четырех месяцев выдерживал убедительные теткины доводы, что он должен, "во всем сознаться". Доводы были простые, но сильные: содержание в "первом корпусе" ДПЗ, без прогулок, без передач, без свиданий, на голодном пайке; потом - перевод в Москву, в Бутырки, в общую камеру с уголовниками; допросы - еженощные, по его подсчету - сто три раза за четыре месяца; обращение следователей - грубое, на "ты", с постоянными фиоритурами истиннорусских слов. И все-таки он не мог "сознаться во всем", так как ему не было в чем сознаваться. За последнюю неделю его несколько оставили в покое.
"Я им сказал: вы можете меня расстрелять, можете напечатать в газетах, что я сознался в шпионаже, но вы не получите от меня такого показания, написанного моею рукою, так как заявляю вам в сотый раз, что это обвинение - гнусная ложь".
Только день провел я рядом с этим замученным человеком, в голубых глазах которого мелькали искорки душевного надлома; но никогда не забуду, как {153} он рассказывал мне о своей попытке, после тридцатого допроса, повеситься на полотенце в одиночной камере ДПЗ. И еще, и еще, о чем и вспоминать не хочется. Где-то теперь этот человек, уже тогда стоявший на грани психического надлома? Выдержал ли он до конца? Или "во всем признался"? Расстреляли ли за "шпионаж"? Заключен ли в какой-нибудь изолятор или в больницу для нервно-больных? Где бы он ни был - только этими строками могу почтить его память, если его уже нет, и поблагодарить его за доброе отношение, если он жив.
XII.
Весь день 5-го мая провел я в этой камере, о "быте" которой много рассказывать не буду, и о "людях" - тоже, чтобы эти мои воспоминания не превратились в сборник плутарховых биографий. Из бытовых картин особенно врезалась в память одна: открывается дверь и дежурный гонит людское стадо камеры в уборную для совершения высших физиологических отправлений организма. В уборной - шесть каменных ям; перед каждой выстраивается живая очередь из десятка человек. Как чувствовал себя "академик Платонов", восседая "орлом" (вопреки строгому запретительному указу Петра Великого совершать подобный cnnien lesae majestatis: "не подобает орлом седя срати, орел бо есть знак государственный"!) перед лицом десятков ожидающих очереди и нетерпеливо переминался в очереди, с вожделением взирая на счастливцев, воочию нарушающих указ Петра Великого?
Стоя в очереди, я спрашивал себя: был ли весь этот эпизод с московской partie de plaisir и с кульминационным пунктом камерой No 65 - случайным "недостатком механизма", или намеренным изъявлением "глубокого уважения"? Второе из этих двух предположений представляется мне наиболее правдоподобным, а психология тетушки в этом {154} случае - вполне совпадающей с психологией того плац-майора Достоевского ("Записки из мертвого дома"), который тоже оказывал знаки "глубокого уважения"...
Плац-майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть ли не Брюллов, о котором и не слышал, но все-таки считал себя в праве лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и такой же художник, но, каторжный, и "хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, и стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю". Я, конечно, не "раз-Брюллов", при всем моем скромном суждении о себе, все же - писатель, тридцать лет проработавший на своем поприще "небесчестно" (как говорили наши предки), переводившийся на иностранные языки, попавший в энциклопедические словари. Все это я говорю приноравливаясь к пониманию тетушки. И если все же я теперь стою в хвосте длинной очереди перед орлом восседающими, подвергаясь насильственным баням, простудам, испытываю издевательские обряды крещения ("разденьтесь! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!"), лежу на голых нарах в общей камере, катаюсь в "железных воронах", дрожу в лихорадке, то все это более чем достаточно говорит в пользу второго ответа на поставленные выше вопросы, ибо все это как раз и входит в программу юбилейных чествований (по Чехову).
На этом - прощусь с камерой No 65, так как и в действительности я простился с ней в тот же день. Было часов 7 вечера, когда дежурный, открыв дверь, провозгласил мою фамилию и прибавил: "собирайтесь!". Собрался. Нижний чин вывел меня во двор и повел к четырехэтажному зданию (кажется), окна которого были забиты решетками, но без щитов. Как вскоре оказалось - это был корпус камер одиночного заключения. Меня ввели в первом этаже в темную, узкую камеру с железной кроватью и сказали: "Подождите!". Я уже догадывался - чего ждать. Через {155} некоторое время явился служитель для свершения обычного ритуального обряда (в четвертый раз) : "разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!" Лихорадило. Потом- тщательный обыск вещей. На этот раз конфискованы такие зловредные предметы, как трубка и мешочек с табаком: какая однако неувязка между дозволенным и воспрещенным даже в стенах одной той же тюрьмы! Наконец, все ритуалы были соблюдены - и меня повели наверх, в третий этаж, по железным лестницам, устланным линолеумом, открыли дверь и предложили войти в предназначенное для меня жилище - камеру No 46. После живолюдного садка, каким была общая камера No 65, эта одиночная камера представляла собою нечто вполне отдохновительное. Можно было думать, что кульминационный пункт уже позади.
Комната - не подходит даже называть ее камерой - была довольно большая (девять шагов на шесть), с широким трехстворчатым окном (подоконник - на уровне глаза человека среднего роста). У стены - широкая кровать с соломенным тюфяком и соломенною же подушкой; рядом с кроватью (вы подумайте!) - ночной столик, в котором стоят металлическая миска, кружка и большой чайник. В углу у двери - неизбежная "параша" и половая щетка. Пол - деревянный, крашеный (давно не ходил по деревянным полам!). Заходящее солнце откуда-то посылает в камеру отраженный луч. Одним словом - идиллия! Жилплощадь в 24 квадратных метра и абсолютная тишина! Какой москвич не позавидовал бы?
Табуретки не было - значит можно весь день лежать и сидеть на кровати: какое блаженство для человека с температурой! Чтобы не докучать больше читателям этой температурой, скажу кстати, что она не покидала меня с этих пор, в продолжение четырех месяцев, когда, наконец, и сказалась в острой форме, выявив болезнь. Но об этом - в своем месте. Теперь я мог отдохнуть от смены впечатлений {156} последних трех дней, и отдых этот продолжался целую "пятидневку", которую я пролежал, почти не вставая с кровати. Впрочем выходил каждый день на прогулку.
Порядок дня в этой образцовой санатории ("мертвый час" продолжался там круглые сутки - ни звука, ни стука, ни голоса) был следующий. Часов в семь утра раскрывалась дверь, дежурный впускал "корпусного", совершавшего утренний обход. Убедившись, что заключенный никуда за ночь не улетучился, "корпусной" молча поворачивался на каблуках и уходил, дверь захлопывалась. Вскоре она снова открывалась - для передачи дневного пайка хлеба (400 грамм) и чайника с "чаем", какою-то желтоватой жидкостью неизвестного происхождения и неопределенного вкуса. Часа через два - новое появление дежурного. На этот раз он приносит дневную порцию папирос - тринадцать штук, и к ним - тринадцать спичек (ни одной более, ни одной менее). Еще часа через два заключенному вручается "завтрак" - два куска пиленого сахара и горячий кусок зажареной соленой рыбы. Между часом и двумя - обед: всего одно блюдо, но в изобильном количестве, - или очень густой суп или густая каша (и притом не депэзэтовская ужасная "пшенка").
Между двумя и четырьмя часами - получасовая одинокая прогулка во внутреннем квадратном дворике, у подножья Пугачевской башни. Пока гуляешь дежурный сонливо сидит на ступеньках крыльца, поглядывая на большие часы, висящие на стене около башни. Часов в семь - ужин (каша) и "чай"; в девять часов "можно ложиться!". - Лежать-то можно и целый день, но теперь можно раздеться и улечься на казенную только что выстиранную и еще сыроватую, но не очень чистую простыню. Через четверть часа снова открывается дверь и входит "корпусной", совершающий вечерний обход; молча входит, быстро поворачивается на каблуках и молча уходит. День закончен. Всю ночь горит электрическая {157} лампочка под потолком и через каждые десять минут слышно шуршание крышки дверного "глазка", - и так до утра.
Ко всему этому санаторному распорядку надо прибавить еще утреннее и вечернее хождение в уборную, ибо здесь пищеварение должно было быть точно соразмерено с поворотом земли на 180 градусов вокруг своей оси, и здесь завершалось оно по способу, воспрещенному указом Петра Великого. В углу уборной, в каменном полу - отверстие, ведущее в фановую трубу; справа и слева от него нарисованы ступни, чтобы знать, куда ставить свои ноги. Извините за все эти подробности, но ведь через этот быт прошли буквально миллионы граждан СССР за последние полтора десятка лет. Вероятно, пройдут и еще миллионы и миллионы. Неужели же не поучительно сохранить для потомства то бытовое и типичное, что когда-нибудь на широком полотне изобразит художник слова? Автомобильные и тракторные заводы, Магнитогорск и Беломорстрой - прекрасно; но у медали этой есть и обратная сторона - тюрьмы и ссылки, нисколько не менее типичная. Ее пока еще нельзя изобразить художественно, но можно собрать фактический материал, который в этих ли моих воспоминаниях, в других ли, но дойдет до грядущих поколений.
Пять дней провел я в этом тихом приюте. Тишина, спокойствие и - главное! комната, по которой можно ходить не только вдоль, но и поперек! И широкое, ничем не загороженное (решетка не в счет!) окно, в которое, вместе с солнцем, льется сравнительно чистый воздух окраин Москвы! И небо, которое видно из этого окна (ничего другого, впрочем, и не видно) не узеньким полусерпом, а настоящим четвертесводом! Без всяких шуток - из всех квартир, перемененных мною в 1933-м юбилейном году - отдаю пальму первенства камере No 46 корпуса одиночного заключения в Бутырках; искренне желаю всякому измученному жилплощадными передрягами {158} москвичу попасть хотя бы на месяц в такое бутырское заключение. Пожелание не столь неудобоисполнимое, если проделать для Москвы те подсчеты, которыми я забавлялся в первые часы пребывания своего в ДПЗ.
10-го мая я лег уже спать, "корпусной" уже прошел статуей командора, круто повернувшись на каблуках; из открытого окна "повеяла прохлада" - моросил дождик. Я прислушивался к его наводящему сон шелестящему звуку, но не мог заснуть: плохо спал все эти (и последующие) ночи. Прошел час-другой. Вдруг снова распахнулась дверь и снова вошел "корпусной", на этот раз уже не молчаливой статуей командора, а со словами: "Собирайтесь!". Встал, оделся, собрался. Вскоре явился за мной нижний чин (но до чего же они все одинаковы вялые, скучающие, добродушные! Видно скучная должность обыскивателей кладет на всех их одинаковый отпечаток) и повел меня прежним путем в прежнюю камеру первого этажа, запер меня в ней, а через полчаса явился - для свершения теткиного ритуала. Произвел осмотр всех вещей, а потом лениво сказал: "разденьтесь догола!" И пошло: "встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!". В пятый раз.
Совершив весь обряд, повел меня сперва двором, потом разными ходами и переходами на "вокзал", - в то большое и светлое помещение, которое является входом в Бутырки и выходом из них. Ввел меня в знакомую трубу из голубых кафелей (таких труб - десятки вдоль стен всего помещения) и запер дверь. Я остался один - и просидел в этой голубой трубе часа три-четыре. За дверью царило оживление, откуда-то доносилось громкое карканье, очевидно, многочисленных прибывающих или отбывающих вороньих транспортов. Раздавались голоса и шаги, хлопали двери многочисленных "труб", сипели гудки - ночная жизнь была в полном разгаре. Я сидел - и не мог даже курить, так как трубки у меня не было. Наконец часа через три, оживление стало мало помалу {159} спадать. Тогда открылась дверь и моей "трубы". Мне вернули конфискованные вещи и какой-то молодой человек с "ромбом" предложил мне следовать за ним и повел во двор к открытому автомобилю. Признаюсь, я предпочел бы, чтобы это был "Черный ворон", во внутренности которого сухо: моросивший дождик обратился в косой дождь, кожаное сиденье автомобиля было мокрое, и хотя парусиновый тент защищал от перпендикулярных капель, но не мог уберечь от обильных душей косого дождя. Не проехали мы и десять минут, как пальто мое было - "хоть выжми".
Со мною ехали (вернее - везли) четыре человека, среди них - одна женщина. Из разговоров между ними я мог понять, что это - партия следователей, возвращающихся по домам после рано оконченной ночной работы. То одного, то другого ссаживали у подъезда его дома. Остался, наконец, последний, которому, очевидно, было поручено доставить меня по назначению. Мы мчались по пустым и залитым дождем улицам Москвы.
Иногда попадался навстречу то такой же автомобиль с теткиными сынами, то "железный ворон", летевший, надо думать, на ночлег, а может быть, и перевозивший запоздалую ночную добычу. Плохо разбираясь ночью в сети московских переулков, я не знал, куда мы едем. Но вот - Лубянская площадь и громада бывшего страхового общества с символическим названием "Россия". Автомобиль остановился у бокового подъезда и мой новый Вергилий ввел меня в последний из предначертанных мне московских кругов.
"Пойдешь на восток - прийдешь с запада". Все пути ведут в Рим. Но для чего же все-таки совершал я это недельное кругомосковское путешествие и, отбыв с Лубянки в ночь на 5-ое мая, прибыл на Лубянку же в ночь на 11-ое мая? Для усиленного юбилейного чествования в общей камере No 65? Или по другим причинам? Или просто потому, что "хоть будь ты {160} раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, и, стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю?"
XIII.
По узкой боковой лестнице я был введен на пятый этаж и там сдан какому-то нижнему чину - все того же самого ритуального вида. Отличался от прежних он только тем, что все время усиленно копал в носу. Чин этот развязал мои вещи и, начиная тщательнейше осматривать их, сказал мне. "Разденьтесь догола!..".
Так как я находился в самой "страшной" из всех эсэсэсэрских тюрем, во "внутреннем лубянском изоляторе", то и обыск был соответственный.
Например: среди моих вещей находился полотняный мешочек с сахарным песком. При всех предыдущих пяти обысках его внимательно прощупывали снаружи, здесь же ковыряющий в носу нижний чин развязал мешочек, залез в него грязной лапой и глубокомысленно перетирал пальцами сахарный песок. Пришлось его в то же утро отправить в "парашу". Весь обыск происходил в таком же стиле. Среди опасных вещей на этот раз были конфискованы шнурки от ботинок и небольшой мешочек с чаем. А затем - повторился ритуал:
"встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!". В шестой раз. Однако!
Когда я оделся и собрал вещи, меня повели к двери на площадке того же этажа против лифта. Страж открыл дверь и я спустился на десяток ступеней в помещение, устланное линолеумом и дорожками, с рядом дверей направо и налево. В глубине стоял столик "корпусного", над ним на стене - часы, показывающие начало пятого часа. "Корпусной" подошел ко мне и чуть слышно сказал: "Назовите свою фамилию, но только шепотом". Услышав ее, повел меня к крайней у лестницы двери, на которой выше "глазка" {161} ("форточки" - лет в московских тюрьмах) стояло: No 85. Дверь открылась - и я очутился в "номере".
До сих пор я по два-три часа сиживал в вертикальных трубах, а теперь попал в трубу горизонтальную, так как ни комнатой, ни камерой назвать ее было нельзя. Скорее всего она была похожа на отрезок узенького коридорчика - семь шагов в длину, меньше двух шагов в ширину; да и то из этих двух шагов один был занят узкими и короткими железными кроватями, стоявшими голова к голове вдоль стены. Окно с решеткой, забранное щитом, над верхним краем которого виднелись еще три этажа восьмиэтажного, выходящего на тот же внутренний двор здания. Под окном, в ногах первой кровати - небольшой столик; между ним и кроватью еле можно протиснуться. На кровати этой спал какой-то человек. Вторая кровать, у двери, предназначалась для меня. Под ней стояла металлическая "параша": в этой образцовой тюрьме пищеварение тоже должно было происходить по солнечным часам. Воздух в этой трубе был соответственный, ибо держать окно открытым не дозволялось, оно было заперто на ключ и дежурный открывал окно только по утрам.
Промокнув в автомобиле, продрогнув на обыске, я поспешил раздеться и лечь, но заснуть не мог, так как дрожал в ознобе. Не спал и мой сосед, разбуженный моим приходом, и мы, чтобы убить время, стали вполголоса разговаривать. Так как в последней главе я говорил только о "быте", а не о "людях" (ибо сидел в одиночке), то теперь расскажу в двух словах об этом моем соседе, каким он обрисовался после моего почти трехнедельного пребывания с ним в этой душной горизонтальной трубе.
Коммунист с 1919 года. Национальность и культура - смешанные: отец поляк, мать - украинка, образование - в чешских школах. Судя по проскальзывающим намекам - этот Федор Федорович Б. (фамилию забыл) был едва ли не теткин сын. По {162} крайней мере, имел закадычных друзей среди следователей-гепеушников и даже арестован был при следующих пикантных обстоятельствах. Во втором часу ночи к нему позвонил по телефону один из закадычных друзей и спросил: "Федя, ты дома? Еще не спишь? Ну так мы к тебе на минутку по дороге заедем". И, действительно - заехали, произвели обыск, арестовали и привезли вот в эту камеру No 85, где он до сих пор сидел один уже пять месяцев.
Обвиняется в организации контрреволюционной "правоуклонистской" группировки "ОРТ", что означает - "Общество русских термидорианцев". Относится к этому обвинению иронически, - но это в разговорах со мной. А в беседах со своими бывшими "закадычными друзьями", ныне его допрашивающими, быть может и "сознается" во всем, что прикажут. Болен туберкулезом. По старой дружбе находится на усиленном пайке: ежедневно получает мясной обед из трех блюд со сладким. Покупает добавочно к пайку масло, молоко, яйца, булки. "Глубокого уважения" к нему, быть может, и не питают, но за здоровьем дружески следят: каждый день в камеру заходит доктор, приносит лекарства, термометр. У этого доктора и я раздобыл несколько аспиринных таблеток. Не без улыбки вспомнил я потом, опасно заболев после трех месяцев непрекращавшейся температуры, об этих нежных заботах. Доктор, правда, и ко мне приходил, но когда я как-то раз спросил его, нельзя ли мне "выписать" за свой счет хотя бы молоко (про "обед из трех блюд" я даже не упоминал), то он, с недоумением посмотрев на меня, ответил, что "доложит по начальству". И доложил - следователям, питавшим ко мне "глубокое уважение". Молока однако я так и не получил.
Занятно было поговорить с человеком из другого мира, хотя и поседевшим за пять месяцев в тюрьме, несмотря на свои тридцать с небольшим лет, но глубоко уверенным, что коммунизм именно и должен {163} действовать такими методами, какими действует. Правда, иногда случаются ошибки, - и он тому живой пример. Но какая же система гарантирована от ошибок? Когда я иронически заметил, что вот, например в системе английского судопроизводства, состязательного процесса и суда присяжных, возможность таких ошибок сводится на нет, то он резонно ответил мне:
"Да, но не можем же мы принять английскую систему!" Свое привилегированное положение даже в тюрьме он считал вполне естественным, а на воле - самим собою разумеющимся. С аппетитом рассказывал, как по одному только пайку (а он имел их несколько) получал он три килограмма сливочного масла в месяц. Правда, народ на Украине умирал в это время от голода - но как быть? Мы управляем страной и за это заслуживаем привилегированного положения, мы - коммунисты вообще и теткины сыны в особенности. Когда я, по-прежнему иронически, поставил ему на вид, что совершенно такими же доводами обосновывали свое право на привилегированное житье правящие классы "старого режима", то он, по-прежнему резонно, возразил: "Да, но это было дело совсем другое".
И это все с ясным челом говорил не какой-нибудь замухрыщатый провинциальный партиец, не какой-нибудь опопугаенный туповатый молокосос, не какой-нибудь высокосортный "спец", партийный прохвост карьеры ради, - а "идейный коммунист", человек с европейским образованием и не мало ездивший по Европе. Дело в том, что это именно и был типичный европейский мещанин, ставший коммунистом. Но мало ли подобных гибридов произрастает на интернациональном древе коммунизма! И разве громадное большинство коммунистов - не такие же мещане?
Понятно, что после двух-трех попыток мы совсем не разговаривали на темы социально-политические, - за отсутствием общего языка. А вот за помощь, оказанную мне в польском языке, я должен помянуть этого польско-украинско-чешского мещанина добрым {164} словом: благодаря его помощи, я за эти недели целиком перечел находившегося в камере "Пана Тадеуша". Польский язык я знал с юности, но перезабыл, а знаменитую поэму Мицкевича, читанную в ранней юности, давно мечтал уже перечитать; теперь, с помощью Б., прочел ее в неделю. Какая изумительная, вечно молодая, сильная и ни с чем не сравнимая вещь! Впрочем, всякое великое произведение искусства - "ни с чем не сравнимо". Читая эту поэму, я забыл о том, где нахожусь, забыл о лихорадке, забыл обо всем на свете. Сто лет пронеслись над этой поэмой, как один год, а неделя чтения ее - как один час.
Кстати - по поводу выражения "забыл, где нахожусь". Интересно, что в лубянской "внутренней тюрьме" я за три недели слышал эту фразу трижды (а в других узилищах - ни одного раза). В первый раз произошло это как раз во время чтения "Пана Тадеуша"; увлекшись, я стал скандировать знаменитое место про охоту на медведя немного громче, чем полушепотом. Немедленно распахнулась дверь и дежурный чин величественно (не шепотом) изрек: "Не забывайте, где вы находитесь!" А я-то как раз и забыл о том, где нахожусь, весь уйдя в описание литовского леса. В другой раз сосед мой положил хлеб не на стол, а на окно, что почему-то возбраняется мудрыми "правилами"; снова распахнулась дверь и последовала сакраментальная фраза. В третий раз - сосед мой в середине дня почувствовал вопиющую необходимость пройти в уборную; он постучал в дверь - и явившийся дежурный посоветовал ему - потерпеть до вечера. На убеждение, что он никак не может терпеть, что необходимость экстренная - последовал в прежнем величественном тоне прежний ответ:
"Не забывайте, где вы находитесь!" - И дверь захлопнулась. Надо прибавить, что все три раза дежурные были разные, так что формула эта является, очевидно, не индивидуальным идиотским творчеством, а общелубянским запугивающим ритуалом. Мы потом {165} забавлялись, переводя эту фразу на все известные нам языки (в сумме у Б. и у меня таковых набралось десять, включая сюда и древние), и я проектировал - украсить две стены нашей камеры надписями на десяти языках: на одной стене - "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", а на другой - "Но не забывайте, где вы находитесь!".
Прошло уже больше двух недель от начала моей московской partie de plaisir, a мне все еще оставалась совершенно неизвестной причина этой юбилейной увеселительной поездки. Но вот уже в двадцатых числах мая меня впервые вызвали в "следовательскую". Хотя в этот день у меня была особенно высокая температура, но я не без любопытства отправился на "допрос" - и вернулся с мутной головой и в полном недоумении. Действительно, представьте мое удивление, когда в следовательской я нашел - того самого "особоуполномоченного" Бузникова, который и производил у меня обыск в Детском Селе, и беседовал со мною в ДПЗ. Неужели стоило и мне и ему ехать за шестьсот верст для продолжения разговоров? Столь же удивил меня и самый "допрос": он был точным повторением одного из питерских, на тему - с кем из социалистов-революционеров "поддерживал связь"? Несмотря на лихорадочный туман в голове, я все же обратил внимание на одну фразу, написанную Бузниковым в проекте протокола: "Моя группа, которую я в предыдущих показаниях именовал идейно-организационной"... Я тут же заявил ему, что ни в одном из предыдущих протоколов я не мог подписать ничего подобного, - и особенно подчеркнул это тут же в протоколе "Б". Неужели же вся поездка в Москву имела единственной целью ссылку на петербургские протоколы, которые я мог забыть (для того и московские мытарства) и которых-де они не имеют возможности здесь предъявить? Неужели же все лубянско-бутырско-лубянские переезды и юбилейные чествования имели единственной целью {166} "вышибить из памяти" точные формулировки питерских протоколов? Удивил меня и тот кропотливый пот, о которым следователь составлял этот (шестой) протокол: марал, чиркал, перечеркивал, пыхтел, отдувался, - и, в конце концов, попросил меня перебелить этот протокол "А". Все это было очень удивительно. А впрочем: удивительно ли?
Еще более был я, однако, удивлен, когда дней через пять меня вызвали на второй (и последний) московский допрос, - и на этот раз я увидел перед собою следователя Лазаря Когана, того самого, который вместе с Бузниковым вел мои допросы в Петербурге. Седьмой протокол был двойником шестого во всех подробностях содержания и составления. Жалею однако, что мутная голова моя не удержала в памяти никаких подробностей. Помню только, что по окончании ночного разговора следователь любезно сообщил мне, что теперь все московские дела кончены и что на днях меня отправят - обратно в ДПЗ!
Конечно, Чехов прав, и всякий юбилей - это издевательство; но я еще раз каюсь в своей наивности, заявляя: все же я никак не думал, чтобы издевательство по отношению к справляющему тридцатилетний юбилей писателю могло зайти так далеко. Как! Везти специально в Москву, упарить в жаркой бане, простудить на голом полу "распределительной камеры" Лубянской тюрьмы, катать в "Черных воронах", швырнуть к трем "парашам" в общую камеру под нары, дать отдых дней на пять в одиночке Бутырок, снова вернуть (под проливным дождем) на Лубянку, продержать в узкой трубе-коробке внутренней тюрьмы три недели, потом снова отвезти в питерский ДПЗ - и все только для того, чтобы те же самые питерские теткины сыны вели со мною те же самые разговоры, у но лишь в московских тетушкиных апартаментах! И все это - при "глубоком уважении"! Можете же представить себе, что они вытворяют без "глубокого уважения"! И как же, черт побери, обстояло дело с {167} "академиком Платоновым" или с иным каким "раз-Брюлловым"?
XIV.
В десять часов вечера 29-го мая мы по молчаливому сигналу (трижды тухнет электрическая лампочка, горящая здесь всю ночь) улеглись спать. Часа через два неожиданно открылась дверь и дежурный кратко прошептал: "Одевайтесь!". Так как он не сказал - "собирайтесь!", то можно было думать, что это просто приглашение на новый допрос; но во "внутренней тюрьме" самые простые действия облекаются покровом таинственности и неожиданности: оно выходит хотя и глупо, но торжественно и впечатляюще. Меня повели - но не на допрос, а в комнату личного обыска. Туда же вскоре принес дежурный и собранные им в камере мои вещи. Затем - знакомый обряд: тщательнейший обыск, перетряхивание всех вещей, перещупывание всех съестных припасов, затем - как, вы уже угадали: "разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!".
В седьмой раз.
Меня повели вниз, во дворе ждал открытый автомобиль. Уселись четверо: я, "спецконвой" из одного начальственного и одного нижнего чина, и московский сопроводитель, глава экскурсии. Хорошо было проехаться в звездную ночь по ярко освещенным улицам Москвы и подышать свежим воздухом после трехнедельной спертой атмосферы трубы-коробки. На вокзале экскурсовод вручил билеты моему конвою и усадил нас в купе "жесткого" вагона. Поезд отходил в половине первого ночи. Московская partie de plaisir окончилась.
Утром в Петербурге, на перроне, юбиляра поджидала делегация: некий штатский и некий военный "ромб". На площади ждал открытый автомобиль. Штатский и "спецконвой" исчезли, а "ромб" уселся рядом со мной и мы помчались по солнечному {168} Невскому, по Литейной, завернули на Шпалерную, въехали во двор ДПЗ, поднялись в комендатуру - и сказка про белого бычка началась. Анкета. Обыск. "Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!". В восьмой раз! Потом, без всякой "камеры ожидания", меня сразу повели в святая святых - на этот раз по паутинно-железным галерейкам в третий этаж, в камеру No 114. Она была пустая. Дверь закрылась и я остался в одиночестве. Так 30-го мая я вернулся на старое пепелище.
Теперь можно и сократить описание юбилейных чествований, и не потому, чтобы они пошли более быстрым темпом, а по противоположной причине: ближайшие три с половиной месяца протекли решительно без всяких событий и все чествование заключалось в "строгой изоляции". Через три дня после вторичного прибытия в ДПЗ я был приглашен в "следовательскую", где неизвестное лицо предложило мне к подписи бумажку о том, что мне предъявлено обвинение по делу об "идейно-организационном центре народничества". Лицо сообщило мне, что "дело уже решено". И затем в течение более трех месяцев - полное спокойствие: ни вызовов, ни допросов; тихая и регулярная жизнь. В той же бумажке стояло, что "мерою пресечения" (чего?!) избрано "дальнейшее содержание в одиночном заключении". В этом бессмысленном "заключении" теперь, конечно, и "заключалось" юбилейное чествование.
Я бы мог, к удовольствию будущего бытописателя и историка, еще страницы и страницы заполнить рассказами о дэпэзэтовском быте, - но довольно; всего не опишешь. Разве только вскользь упомянуть еще, как обрадовался я, взглянув в угол камеры и узрев уборную и рядом с ней водопроводный кран. "О, радость свободы, не есть, или есть, испражняться, иль не испражняться, пред блещущими писсуарами!" (Андрей Белый, "Маски"). И потом - как приятно было, снова получив книги из библиотеки, на каждой из {169} книг увидеть вежливо-убедительный и слегка многословный дэпэзэтовский штамп (заучил наизусть), очень добродушно поучающий:
Берегите книгу, не покрывайте ею котелков, не вырывайте листов, не делайте надписей. Портя книгу, вы лишаете других заключенных возможности ее прочесть и своих товарищей по камере оставляете без книг. В случае порчи книги камера лишается права пользоваться книгами библиотеки ДПЗ.
Какая разница со штампом Лубянской "внутренней тюрьмы", в котором тот же смысл вложен в фельдфебельски-грубое и столь же безграмотно-краткое приказание:
Воспрещается делать на книгах надписи, пометки и вырывать листы, за что будут лишаться чтения вплоть до наказания.
И если уж дело пошло о надписях, то как умилительно было вновь иметь возможность курить трубку и читать на ленинградских спичечных коробках увеселительное сообщение: "По стандарту в коробке не менее 52 спичек, каждая спичка зажигается и горит (вот это - достижение так достижение!). Намазка на коробке обеспечивает зажигание 52 спичек". Конечно, спичек никогда не бывает 52, а всегда меньше (сколько раз считал!), треть из них не зажигается и "намазки" не хватает и на половину спичек. Ну кому придет в голову, сидя за письменным столом, считать или обратить внимание на эту идиотскую надпись! А в тиши одиночки внимание обостряется и всякая мелочь становится интересной. Но надо тут же {170} прибавить, что в тюремном быту спички - далеко не "мелочь", и нет ничего удивительного в том, что их сплошь да рядом приходится считать и пересчитывать. Бывало так: мешочек с табаком - на полке, трубка - в кармане, а спички все вышли, и тогда днями ожидаешь вожделенного часа появления спичек, стараясь забыть про табак и трубку и разыгрывая в лицах басню Крылова "Лисица и виноград".
Или вот: кто "на воле" будет часами следить за перемещением по стене солнечного луча? Но я вспоминаю, с какой радостью увидели мы с "графом" в конце марта или начале апреля первый солнечный луч, тонким мечом упавший на стену нашей темной и сырой камеры нижнего этажа. Как тщательно "граф" отмечал каждый день на стене все более глубокое проникновение этого меча, дошедшего, наконец, и до двери! Каким событием бывала баня (раз в десятидневку), парикмахер (раз в месяц), передачи (раз в неделю); о свиданиях уж и не говорю.
Правда, разговоры на свиданиях были строго ограничены по своему содержанию и напоминали в этом отношении детскую игру: "барыня прислала сто рублей; что хотите, то купите, да и нет не говорите, черного и белого не покупайте, не смейтесь и не вздыхайте"... Но все-таки хоть просто увидеть дорогое лицо раза два-три в месяц!
Так вот и сидел я с 30-го мая в ненарушимом спокойствии и в полнейшем одиночестве.
Однако, я чувствовал себя довольно плохо. Полугодовое пребывание в сырых и темных камерах ДПЗ, московская partie de plaisir, наградившая меня упорной температурой - все это мало-помалу сказывалось острее и острее. Мне не повезло с камерами: сначала это была камера No 7, в углу первого этажа восточной стены, темная и сырая. Затем, после очаровательной московской поездки - более приемлемая камера No 114 в третьем этаже, но в ней я пробыл {171} недолго, всего три недели - до 20-го июня, когда был переведен этажом выше в камеру No 163, где и пробыл до 9-го сентября. В этой самой камере я провел несколько часов в 1919 году! Эта последняя камера, находящаяся на самом стыке восточной и северной стен, освещалась скудно: солнце проникало в нее по утрам только на час. В жаркое лето это было бы еще не так плохо, но лето 1933 года выдалось прохладное и камера моя оказалась весьма сырой. Я мог судить об этом по всегда мокрой соли, стоявшей у меня на полке в коробочке. Все это, а также res omnes quibusdam aliae, которые необходимо сюда прибавить, привело к тому, что температура моя не поддавалась никаким аспиринным таблеткам, которыми снабжал меня доктор, обходивший камеры раз в неделю.
Маленькое, но небезынтересное отступление - о причинах моего перевода в эту последнюю камеру. Объяснялся он тем, что все камеры третьего этажа, где я был раньше, ремонтировались и стояли теперь с настежь распахнутыми дверями. Да и не только в третьем этаже можно было увидеть теперь эти необычно раскрытые двери. ДПЗ - опустел. Пришло лето, следователи разъехались по курортам отдохнуть от трудов праведных; по ночам уже не слышно было звона ключей и дверных выстрелов.
Удивительное дело, как от времени года зависит кривая преступности в СССР! Осенью и зимой - преступники кишат, тюрьмы задыхаются от их количества, камеры набиты до отказа, теткины сыны сбиваются с ног, "железные вороны" без устали летают, все ночи напролет - допросы. Но вот земля совершила половину своего оборота вокруг солнца, зазеленели листочки - и сердца неоткрытых еще злоумышленников смягчились: весною и летом весьма мало новых гостей принимает ДПЗ и прочие узилища, - очевидно, потому, что и новых преступлений {172} очень мало. Осенние и зимние сидельцы понемногу рассылаются в разные стороны; ДПЗ пустеет и начинает чиститься и приводить себя в порядок, готовясь к осеннему и зимнему приему обильного числа новых злоумышленников. Ибо когда земля завершает вторую половину своего годового пути, когда снова наступит осень и сердца преступников, размягченные теплом, снова закостенеют и закоснеют, именно тогда (о, провиденциальное совпадение!) вернутся с курортов отдохнувшие теткины сыны, чтобы с новым рвением возобновить годовой круг. Из всего этого астрономически-психологического рассуждения можно сделать целый ряд выводов, но они сами собою понятны, а мое маленькое отступление и без того растянулось. Прибавлю только, что ранние весенние и поздние осенние уловы так и назывались у сидельцев: "весенняя путина" и "осенняя путина".
Итак - с середины июля я почувствовал себя не только недомогающим, но уже серьезно больным. Доктор не мог доставить мне никакого облегчения, но предписал "постельный режим" в течение дня. От утренних прогулок я уже давно отказался. Лежал и читал, прекрасно зная, какое течение последует в этой болезни. А почему знал - для рассказа об этом надо вернуться на тридцать лет назад.
Дело было в начале 1901 года. Я что-то недомогал всю зиму, а тут подошли "студенческие волнения", в которых принял деятельное участие. 4-го марта состоялась демонстрация на площади Казанского собора, откуда нас, несколько сот студентов и курсисток, сперва развели по полицейским участкам, а к ночи согнали в огромный и сырой Конногвардейский манеж. Здесь мы и провели ночь, лязгая зубами от холода, на вязках соломы, милостиво отпущенных нам конногвардейскими офицерами. Утром развели нас по тюрьмам. Обо всем этом я подробно рассказал в первой части настоящей книги. Всего через две {173} недели вышел я из Пересыльной тюрьмы совсем больным, а месяца через два хлынула горлом кровь. Знаменитый тогда д-р Нечаев (именем его теперь названа бывшая Обуховская больница, которой он издавна заведывал) внимательно выстукал и выслушал меня, а потом, помолчав, сказал: "Запущено. Осталось месяца три жизни, если будете по прежнему жечь свечу с обоих концов. А можно вылечиться, если будете исполнять мои предписания".
Предписанный режим был суровый, лекарства, по тогдашнему обычаю, в лошадиных дозах. Мне хотелось бы здесь помянуть добрым словом покойного Афанасия Александровича Нечаева, - он вылечил меня, сослав на лето в глухие сосновые леса и прописав свой режим и свои лекарства. Осенью я мог снова вернуться в университет, но подвергнувшись "ссылке" с приходом новой весны, я выбрал местом "ссылки" Крым (о, наивные старые времена!). Потом - три года прожили мы с В. Н. в вековых сосновых лесах Владимирской губернии. Когда после этого я вернулся в Петербург и явился к А. А. Нечаеву, то он, выслушав и выстукав меня, сказал с довольным видом:
"Ну, могу поздравить: умрете от какой-нибудь другой болезни". Однако, предосторожности ради, все же рекомендовал поселиться в Царском Селе, и шутя прибавил: "Имейте только в виду, что все может начаться сначала, если опять проведете зимнюю ночь в Конногвардейском манеже"...
Прошло больше четверти века - и все было вполне благополучно, вплоть до эпизода с "глубоким уважением" тетушки и до московской увеселительной поездки. Но подумайте, какие бывают повторения!
Кровь горлом пошла у меня 16-го августа. Я вызвал доктора, который не пришел (возможно, что и дежурный не пожелал беспокоиться из-за таких пустяков), а сам, вспомнив совет А. А. Нечаева, лег и стал пить глотками крепкий раствор соленой воды. Кровь шла недолго, но обильно. Через два дня {174} пришел при обычном обходе доктор, прописал новые лекарства и подтвердил необходимость "постельного режима". Но - живуч человек! Новые ли лекарства, теплый ли август, но к концу месяца я стал чувствовать себя несколько лучше, а в начале сентября возобновил даже утренние прогулки.
Теперь на прогулках не встречал никого из знакомых, никого из заговорщиков "центральной идейно-организационной группы народничества". Позднее я узнал, что еще в июле и августе все они были разосланы кто куда. Оставался между зенитом и надиром один я, центр круга. Очевидно, от "глубокого уважения" ко мне тетка все еще не могла решить мою участь. А между тем - сентябрь подходил уже к середине. Пришла пора переменить тюрьму - на ссылку.
XV.
Навсегда прощаясь с ДПЗ, хочу остановиться еще на вершителях наших судеб, товарищах следователях: что это были за фигуры и какая эволюция произошла с ними в ряде долгих лет, от начала большевистской революции и до расцвета большевистской контрреволюции тридцатых годов.
ВЧК вербовала в следователи случайных с бору да с сосенки людей; среди них были и малограмотные "студенты" ("настоящем удостоверяю"), политические авантюристы, и подлинные бывшие студенты, люди образованные и, вероятно, идейные, и провинциальные актеры, игравшие новую для них роль на подмостках "чрезвычайки", и вообще всякий сбродный элемент, с которым мне пришлось столкнуться в тюрьмах Петербурга и Москвы в 1919 году. Никакого специально-юридического образования люди эти не получали и вели следствие, как Бог на душу положит, работа шла ощупью, состав следователей был случайным и текучим.
{175} Когда в первой половине двадцатых годов эти кустарные времена прошли и ВЧК превратилась в ГПУ, дело было поставлено на более твердые основания. Аспиранты на звание следователя проходили некоторые предварительные курсы, в которых их знакомили, однако, отнюдь не с юридическими нормами, но лишь с программами и историей враждебных партий, - разумеется, с большевистской точки зрения. Следователи специализировались: одни из них делались "знатоками" разных течений социал-демократии, другие становились специалистами по социалистам-революционерам, третьи - по анархизму, четвертые - по либеральным группам русской общественности, пятые - по религиозным вопросам. Само собою разумеется, что все эти разнообразные течения и группы признавались одинаково "контрреволюционными" и "мелкобуржуазными". Аспирантов насвистывали с марксистской дудочки, но все же учили разбираться в тех группировках и течениях, судьями которых им предстояло стать. Как никак, а в этих полугодовых и годовых курсах приходилось много читать, со многими знакомиться, многое запоминать. Могу засвидетельствовать, что оба моих следователя, Бузников и Лазарь Коган, были достаточно насвистаны в области своей специальности и довольно грамотно разбирались - с большевистской точки зрения - в разных течениях эсерства. Мало того, имея дело с писателем, со мною, они специально ознакомились и с моими произведениями, худо ли, хорошо ли, но прочли их, и часто щеголяли передо мною разными цитатами из моих же книг, - разумеется, цитатами наиболее "контрреволюционными" с их точки зрения, то есть антимарксистскими. На первом же допросе, когда протокол был начат словами: "Я - не марксист", - следователь Лазарь Коган со вздохом удовлетворения сказал мне:
- Как приятно иметь дело с вами! С другими часами и днями бьешся-бьешся, чтобы вынудить его {176} признание, что он контрреволюционер, а вы вот сразу признаете, что вы - не марксист...
- А разве "не марксист" и "контрреволюционер" - синонимы? - спросил я.
- Ну разумеется! - ответил он с полным убеждением.
Конечно, кроме "научных" курсов о партийных программах были для аспирантов и практические занятия по ведению допросов; но мы уже достаточно знакомы с этой юрисдикцией маршала Даву и теткиных сынов. А чтобы не возвращаться потом к типам следователей, скажу здесь и о новой их генерации в "ежовские времена".
Не много времени прошло с 1933 года, когда я сидел под властной рукой ГПУ в петербургском ДПЗ, до года 1937-го, когда мне пришлось под не менее властным НКВД почти на два года засесть в московские тюрьмы, но за это короткое время в следовательском деле произошел настоящий переворот. В "ежовские времена", когда аресты шли десятками и сотнями тысяч, а по всей России и миллионами, прежний состав следователей оказался и количественно и качественно совершенно непригодным для новых широких задач.
После расстрела главы ГПУ, Ягоды, громадное большинство прежних его сотрудников разделило с ним его участь, - кто был расстрелян, вроде Лазаря Когана, кто попал в тюрьму, вроде Бузникова. Спешно был набран новый состав "ежовских следователей", чаще всего из комсомольской молодежи старших возрастов. Ни о каких специальных курсах не приходилось и думать, надо было спешно оболванить огромное число этих несчастных молодых людей, дать им только краткую подготовку по методу ведения следствий новыми приемами.
Рассказ об этом еще впереди. В одной Москве число следователей доходило до 3.000, - как сообщил нам в 1938 году в Бутырской тюрьме один из таких следователей, попавший в качестве обвиняемого в наше тюремное {177} общество. Где уж тут было думать о курсах, об элементарной грамотности! И лейтенант Шепталов, следователь, который вел мое "дело" в 1937-1938 году, с пренебрежением сказал как-то мне в ответ на мою ссылку на одну из моих книг:
- Неужели вы думаете, что у нас есть время читать всякий контр-революционный вздор!
Он совершенно не был знаком с книгами писателя, которого обвинял во всех семи смертных писательских и не-писательских грехах. Приходилось с сожалением вспоминать о столь недавней эпохе Бузниковых и Лазарей Коганов: те хоть и были такими же мерзавцами, но, по крайней мере, хоть грамотными. Но и то сказать: быть может, безграмотный мерзавец - лучше грамотного, во всяком случае непосредственнее его. А впрочем - может быть, некоторые из них, грамотные и безграмотные, вполне искренне, по убеждению, делали свое грязное дело обмана, лжи и подтасовок. Но во всяком случае - поколение следователей ГПУ резко отличалось от поколения следователей НКВД эпохи Ежова.
Лазарь Коган, например, был неплохо знаком с русской литературой и оказался собирателем разных литературных материалов; в его собрание перешло, надо думать, немало рукописей из моего архивного шкала, начиная с автографов Есенина и Клюева. Допросы он чередовал многоразличными литературными экскурсами. Один из его рассказов ("Сказочная история") я записал в своей книге "Писательские Судьбы". Как-то раз он принес на допрос показать мне литографированное подпольное издание 1884-го года сказок Салтыкова-Щедрина, чтобы узнать, большую ли библиографическую редкость представляет собою это издание. А в другой раз положил передо мной действительную редкость, "гордость моего собрания", - сказал он - автограф Пушкина, листок из черновиков "Евгения Онегина". Рассказ о способе {178} получения им этого листка был столь занятным, что хочу воспроизвести его здесь.
- Недавно сидел здесь в ДПЗ один литератор. Просидел он у нас месяца четыре - и увидел, что не так страшен черт, как его малюют: он думал, что здесь его будут пытать, колоть иголками, поджаривать на огне, а, вместо этого, встретил самое корректное отношение. Это его так тронуло, что он решил отблагодарить меня - я вел его дело - и предложил мне вот этот листок. История его была такая: когда-то, в очень юные годы, занимаясь в Харькове у одного присяжного поверенного, большого любителя литературы, он увидел у него этот листок из черновиков "Евгения Онегина". Сам страстный поклонник Пушкина, юноша поддался искушению - и похитил у своего принципала драгоценную страничку, прибежал с ней домой и заклеил ее в переплет одной из книг своей библиотеки. Прошло тридцать лет, харьковский принципал давно умер, молодой человек стал почтенным литератором - а листок все еще лежал заклеенным в книжном переплете: рука не поднималась достать его, так стыдно было юношеского своего поступка. И вот теперь литератор этот, чтобы избавиться от старого греха и вместе с тем выразить мне свою благодарность, предложил мне в подарок этот листок. Я разрешил ему написать письмо к жене, чтобы она на первое же свидание принесла такую-то книгу из его библиотеки. На свидании в моем присутствии он подпорол перочинным ножичком крышку переплета, достал этот листок и, подавая его мне, сказал: - Ну, слава Богу, избавился!..
Прошло несколько лет после этого рассказа следователя Лазаря Когана. Проведя три года в ссылке, попал я в начале 1936 года на два месяца в Царское Село и Петербург. Как-то на Невском проспекте встретил я известного пушкиниста, ныне покойного Н. О. Лернера. Он незадолго до меня тоже прошел через {179} обряды теткиного крещения, но сидел в ДПЗ недолго, всего месяца четыре.
- Как это вам удалось, - спросил я его при этой встрече, - так скоро выйти из тетушкиных апартаментов?
Он хитро посмотрел на меня и, подмигнув, сказал:
- Взятку дал! Только не деньгами, а борзым щенком, по-гоголевски!
И не стал далее распространяться, а я и не расспрашивал: он и не подозревал, что я знаю всю его историю и своими глазами видел его борзого щенка...
В заключение этой главки хочу еще немного остановиться не на самих следователях, а на методах их допросов. Приемы эти достаточно ясны уже и из одного моего "дела", но что оно было не единичным - пусть покажет другой типичный пример, который стоит сотни иных ему подобных.
Одновременно со мной сидел в ДПЗ сын одних наших старых знакомых, кончавший курс студент-технолог. Назову его здесь сокращенным именем Гога. Он был арестован в январе 1933 года и посажен в общую камеру ДПЗ. Их там было тридцать человек (в том числе и Г. М. Котляров, о котором я упоминал выше). Его обвинили в переходе со шпионскими целями манчжурской границы. Когда изумленный Гога ответил на это, что никогда в своей жизни не переходил даже границ Волги, то следователь сказал:
- А вот мы сейчас очной ставкой докажем вам обратное, - ив следовательскую был введен арестант, однокурсник Гоги, по товарищескому прозвищу "Харбинец", так как он приехал с Дальнего Востока, из Харбина. Он сказал Гоге: - Ну, зачем же ты запираешься? Ведь мы вместе с тобой переходили манчжурскую границу!
Гога, по его позднейшему рассказу, сперва остолбенел, а потом пришел в ярость, вскочил, хватил стулом об пол и завопил: - Лжец! Негодяй! {180} Мерзавец! - А следователь, литературно образованный, ограничился лишь ироническим замечанием: - Хоть вы и шпион, но зачем же стулья ломать? - Этой очной ставкой дело было решено. Гога так и не узнал, являлся ли этот "Харбинец" агентом ГПУ, или был просто запуган угрозами следователя и показывал все, что тот приказывал. Но как бы то ни было, Гога был признан виновным и приговорен теткиным судом... к трем годам лагеря! Это за шпионаж-то! Вместо расстрела! Самая мягкость этого приговора вскрывала всю подоплеку дела. Начинался стройкой канал Москва-Волга, нужны были бесплатные квалифицированные работники - и Гога три года проработал на этом канале.
Окончив срок лагерных работ cum eximia laude и выйдя на свободу - получил он от НКВД волчий паспорт, не дававший возможности жить ни в Петербурге, ни в Москве. В таких паспортах, выдававшихся всем нам по окончании срока ссылки или лагеря, в пункте. "На основании каких документов выдан паспорт" - значилось: "На основании справки НКВД за номером таким-то". Это и было тем самым волчьим клеймом, по которому нас легко узнавали в любом месте прописки.
Не имея возможности вернуться к семье в Петербург или жить в Москве, а жить и работать где-нибудь надо было, - Гога решил поселиться между Петербургом и Москвой и выбрал себе местом жительства городок Б... Явился в местный НКВД, получил разрешение жить в Б... и даже великодушное предложение работать на местном заводе. Отправился на завод переговорить с "красным директором". Тот был в восторге, узнав, что имеет дело с нужным заводу специалистом, но сразу помрачнел, ознакомившись с паспортом.
- По какому делу были осуждены? - сухо спросил он Гогу, возвращая ему паспорт.
- По делу шпионской дальневосточной {181} организации, - ответил Гога. - Я со шпионскими целями переходил границы Манчжурии.
Лицо красного директора озарилось радостью; он облегченно вздохнул и воскликнул:
- Ах, только-то! А я было думал, что вы троцкист! Пожалуйте, пожалуйте, работа для вас есть!..
Что можно прибавить к этой классической сцене? И красный директор, и сам следователь, и сам Гога одинаково знали цену юрисдикции теткиных сынов: официальному штампу ГПУ никто не верил. Вот "троцкист" - другое дело, в эти годы их особенно преследовали, а то "шпион", эка важность, подумаешь! Пожалуйте, пожалуйте!
Гога - шпион, я - организационный центр народничества: как ни различны масштабы и направления, но по существу между ними нет никакой разницы: одинаковые следовательские методы, одинаковая юрисдикция маршала Даву. Повидав сотни заключенных, подробно ознакомившись с их "делами", могу сказать уверенно, en connaissance de choses et de causes: быть может, только два дела из сотен (из тысяч!) были не "липовые", не обманные, не выдуманные теткиными сынами; а остальное
- Остальное - ложь, мечта,
- Призрак бледный, пустота, - как сообщает публике звездочет в конце "Золотого Петушка".
Сплошь ложь, сплошная пустота всех следовательских построений - очевидцы, но от этого не легче было тем бледным призракам, которые населяли собою советские тюрьмы, концлагеря и изоляторы. На этом бы можно и закончить рассказ, о ДПЗ, о следователях, о следовательских методах, но в заключение хочу нарисовать одну очаровательную концовку, переданную мне тем же Гогой. Когда он в начале 1933 года сидел в общей камере ДПЗ, они там, как и мы в одиночке в это же время, получали газеты и {182} интересовались событиями, бурно развивавшимися тогда в Германии. Особенно прошумел поджог рейхстага и поиски виновных в этом поджоге; вся камера целыми днями только и говорила об этом. Среди заключенных был ломовой извозчик Анюшкин, бородатый, мрачный, безграмотный и молчаливый мужик. В чем его обвиняли - он сам не знал, следователь, вызывая его на частые и краткие допросы, ограничивался словами:
- Ну что, сознаешься наконец?
А в чем надо сознаться - не говорил, обкладывал извозчика отборными извозчичьими словами и хотел довести его до того, чтобы сам Анюшкин первый признался в неведомой вине; совсем замучил мужика такими непонятными допросами.
- Уж пожалуй, была не была, сознаюсь в чем ни на есть! - иногда приговаривал он, впадая в отчаяние.
Раз как-то поздно ночью Анюшкина вызвали на допрос; пробыл он на нем недолго и вернулся в камеру мрачнее тучи. Гога не спал и спросил Анюшкина:
- Ну как?
Тот махнул безнадежно рукой и сказал:
- Сознался!
- В чем? Да что ты! Ну и что?
Следователь по морде вдарил.
- Как! Когда?
- А вот когда я сознался.
- Что такое! Почему?
- А вот потому. Я пришел, он спрашивает: - Ну что, сознаешься наконец? - Я махнул рукой и говорю: будь по-вашему, сознаюсь! - Ага, говорит, давно бы так! Ну, в чем сознаешься? - А я говорю: рейштаг поджог! Тут он кэ-эк вскочит, кэ-эк развернется, да кэ-эк даст мне... И говорит: - Пошел, сукин сын, обратно в камеру! Я тебя в тюрьме сгною! - А я чем виноват? Что ни день слышу кругом разговоры, ищут виноватого, кто рейштаг поджог, дай, {183} думаю, признаюсь, авось он от меня отстанет. А он меня - по морде...
Этот рассказ привел меня в восторг, потому что случай Анюшкина типический случай. Ведь его поджог "рейштага" - совершенно то же самое, что шпионаж Гоги, что мой организационный центр. Разница лишь в том, что Анюшкин вздумал сознаться в поджоге рейхстага (за что и получил по морде), а мы не могли сознаться в поджоге (за что и получили ссылку или лагерь). Но все же, когда меня в Новосибирске или в Саратове спрашивали, за что я попал в ссылку я неизменно отвечал формулой Анюшкина:
- За то, что рейштаг поджог!
Так ведь оно и было в действительности... Но однако - пора попрощаться с ДПЗ и пора оттуда отправляться в ссылку.
Примечание: Эта главка вписана в текст "Юбилея" уже после саратовской ссылки и московских тюрем.
{184}
ССЫЛКА.
(Писано в Кашире в 1937 году.)
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!
"Горе от ума".
I.
В тюрьме считаешь не месяцы и недели, а дни. Наступил день моего сидения двести девятнадцатый. Какая бессмысленная трата времени! И сколько же за это время я сделал бы, работая над Салтыковым и Блоком! Впрочем, корректуры V-гo тома Блока были как-то в марте доставлены в мою камеру и вернулись в издательство (где были напечатаны с дикими ошибками), оба раза пройдя, конечно, через тщательный просмотр следователей. Вряд ли А. А. Блок мог предугадать, в каком месте злачном, месте спокойном будут правиться корректуры "Двенадцати" и "Скифов", революционных его поэм!
9-го сентября, после обеда, я был вызван на свидание; было два часа дня. В разговоре В. Н. сообщила мне, частью прямо, частью обиняками ("да и нет не говорите, черного и белого не покупайте"), что следователи предложили ей приготовить для меня вещи в дорогу: деньги, платье, белье, продукты. Она приготовила все это и перевезла чемодан к знакомым, как раз напротив ДПЗ, чтобы сразу передать его мне, лишь только будет назначен день отъезда; о нем следователи обещали предупредить ее заранее. Так как свидания всегда происходили в присутствии третьего лица, восседавшего между нами, то никаких других {185} подробностей узнать не пришлось. Я вернулся в камеру, почитал, поужинал и улегся спать с книгой в руке, соблюдая предписанный доктором "постельный режим".
Был седьмой час в начале, когда в камеру вошел "корпусной" и сказал: "Собирайтесь!". Неужели же будут ремонтировать и четвертый этаж? Но нет: "корпусной" стал производить тщательный обыск собираемых мною вещей; значит дело не в переводе в другую камеру. Наконец, вещи были просмотрены и сложены; меня повели по паутинным галерейкам вниз, а потом в комендатуру. Там, кроме дежурного коменданта, находился еще некий нижний чин (с двумя "шпалами" на воротнике) и двое мордастых конвойных из "войск особого назначения", в полном походном вооружении, с винтовками и сумками. Дежурный сказал мне: "Прочтите и распишитесь". Я прочел и расписался. В бумажке стояло, что имя рек высылается в Новосибирск сроком на три года, считая со 2-го февраля 1933 года. - Дежурный продолжал: "Поедете со спецконвоем. Поезд отходит в восемь с половиной часов вечера".
Я очень удивился, - хотя пора бы, кажется, было привыкнуть к "глубокому уважению" и "юбилейным чествованиям", - и спросил:
- А приготовлены для меня, по предложению самих же следователей, вещи и деньги?
- Надо поторопиться, - невозмутимо ответил дежурный комендант, взглянув на стенные часы.
- Но как же я поеду в Новосибирск без вещей, без еды и без денег? настаивал я.
- Поезд отходит через час с четвертью, - по-прежнему невозмутимо ответил дежурный, очевидно глухой от рождения. Тогда я повернулся к "двум шпалам" и повторил ему свои вопросы.
- Мне об этом ничего неизвестно, - мягко ответил он. - Мне поручено доставить вас в Новосибирск, но ничего не сообщено ни о каких деньгах и {186} чемоданах. Впрочем, о продовольствии не беспокойтесь: вот вам приготовлен на дорогу паек на пять дней.
На столе лежало - полтора "кирпичика" хлеба, три больших селедки, маленький пакетик с сахарным песком.
- Все это прекрасно, - сказал я, - и по-видимому я не умру от голода в дороге. Но как быть в Новосибирске - без вещей, без знакомых и без денег?
- Знаете, столь же мягко ответили "две шпалы", - в самых трудных положениях люди как-нибудь да устраиваются. Не пропадете и вы в Новосибирске.
Это было сказано очень добродушно и вполне убедительно, так что я перестал настаивать, поняв, что издевательство с чемоданом и деньгами входит в программу юбилейных торжеств и подстроено заранее "под занавес" - для эффектного отбытия из ДПЗ. Жаль, однако, что я не знаю, столь же эффектно или нет отбывал свою самарскую ссылку "академик Платонов"?
- Надо поторопиться, - невозмутимо повторил глухой от рождения дежурный комендант.
Меня повели к "Черному ворону". Да сбудется речение в писании: пока ты был молод, ты сам препоясывался и ходил, куда хотел, а теперь препояшут тебя и повезут "амо же не хощеши"...
На "московском" вокзале мы сели в общий жесткий вагон грязного и обдрипанного новосибирского поезда, заняв отделение. У окна сели друг против друга я и "две шпалы", по бокам, к проходу, сели друг против друга мордастые "особоназначенцы", держа винтовки между колен. Какой воинственный эскорт для мирного писателя! Публика, сразу поняв в чем дело, испуганно косилась, недоумевая, какого это татя или убийцу везут со столь внушительным конвоем? Особенно торжественно выглядело шествие в уборную арестанта эскортировал конвойный с винтовкой и становился на карауле у открытых дверей {187} уборной. Тут же в коридорчике толпились курящие, с диким любопытством созерцая всю эту торжественную процедуру. А что, интересно, с таким же почетом или нет ехал в свою ссылку "академик Платонов"?
Итак - поехали: "прямо, прямо на восток". Медленно влекся поезд, медленно вертелись мысли. Чудесно описана такая поездка в книге "Золотой Рог" М. М. Пришвина. Только ехал он - без спецконвоя и мог разговаривать с пассажирами, я же мог разговаривать только с "двумя шпалами" или смотреть в окно. Никогда не относился я с предубеждением к форме и всегда помнил слова Герцена, что и к жандармскому мундиру надо уметь отнестись, как к человеку. А "две шпалы" оказались человеком тихим и скромным, больным и усталым. Полной противоположностью ему были оба конвойных, молодые владимирские парни, вконец развращенные легкой и сытой жизнью. Судя по их разговорам - законченные мерзавцы. Как уродует людей жизнь!
Разговаривал с "двумя шпалами" мало, все больше смотрел в окно. Проехали Вологду, подъезжали к Вятке. С интересом смотрел я на проселочные дороги, то и дело пересекавшие железный путь: почти сто лет тому назад по этим дорогам много раз ездил вятский чиновник, ссыльный Салтыков. В первом томе монографии о нем я подробно рассказал об этих его путешествиях, а вот теперь и сам еду в ссылку. Его вез в ссылку жандармский чин на перекладных, а меня везет теткин сын в поезде. Почета мне больше: Салтыкова не сопровождали два конвойных с ружьями.
Пермь. Урал. Сибирская равнина. Очень удивляли меня несжатые пшеничные поля. Мы проезжали их десятками верст. Потом - сжатые полосы, потом - снова хлеб на корню, вероятно, давно уже осыпавшийся: ведь было уже 12-ое сентября! Еще день пути, и еще день (читайте "Золотой Рог") - и поезд подошел к широкой и мутной Оби: Новосибирск. Вокзальные часы показывали московское {188} время 2 часа дня, но уже вечерело: на местных часах было 6 часов вечера. Пятнадцать лет тому назад я под таким же "спецконвоем" пять дней тащился от Петербурга до Москвы. Теперь же в пять дней мы доехали от Петербурга до центра Сибири.
Конвой повел меня в вокзальное ГПУ, откуда "две шпалы" позвонили куда следует по телефону, чтобы вызвать автомобиль. Часа через полтора явился грузовик - и я свершил торжественный въезд в столицу западной Сибири, прямо к зданию тетки; впрочем не к зданию, а к зданиям, так как в Новосибирске (как и во всех больших городах) учреждение это занимает обширные кварталы. "Две шпалы" сдали меня дежурному коменданту, а тот позвал некоего нижнего чина, который сонливо и кратко сказал мне:
"Пойдемте!".
Мне очень интересно было - куда он меня поведет? Ведь в Новосибирск я был доставлен на "свободное житье", а краткое "пойдемте!" очень пахло тюремной камерой. Но что поделаешь: препояшут и поведут тебя "амо же не хощеши"! Пошли. Нижний чин повел меня через улицу (конечно, "Коммунистическую") к воротам главного и нового большого здания новосибирской тетки, ввел во двор. В глубине двора стояло дряхлое двухэтажное здание с решетками и щитами на окнах. Вошли внутрь мимо дежурного, предложившего мне заполнить анкету, и проследовали в какую-то узенькую клетушку. Там нижний чин занялся осмотром моих вещей и конфисковал коробочки с лекарствами; а затем - о, праведные боги! - сонно сказал: "Разденьтесь до гола! Встаньте! Откройте рот! Повернитесь спиной! Нагнитесь! Покажите задницу! Повернитесь лицом! Поднимите;..!" В девятый - и последний раз!
... На берег радостно выносит
Мою ладью девятый вал!
Хвала вам, девяти Каменам!
{189} Я был совершенно потрясен, - и не тем, что обряд этот производился надо мной уже в девятый раз (хотя интересно бы знать сколько же раз "академик Платонов" испытывал эти знаки "глубокого уважения"?), а буквально совпадением этой обрядовой формулы с петербургской, лубянской, бутырской! In mezzo del camin между Финским заливом и Золотым Рогом я слышу ту же самую формулу. Уверен, что услышал бы ее и во Владивостоке! Я как-то раз спросил Михаила Пришвина, попавшего из-под Москвы во владивостокские края, что его там сразу больше всего поразило?
- А вот что, - отвечал он мне: я проехал прямо в глухую дебрь, за сотни верст от Владивостока, попал в далекий совхоз, и в избе, где остановился, нашел женщину, горько плакавшую о том, что потеряла заборную книжку. Тогда я сразу понял, что, хотя и проехал десять тысяч верст, но от Москвы так и не отъехал.
Вот такое же чувство было и у меня, когда я в новосибирском ДПЗ услышал буквальное повторение формулы ДПЗ петербургского.
По совершении обряда нижний чин ввел меня через дверь-решетку в коридор первого этажа, там дежурный распахнул передо мною дверь камеры No 42. В низкой и темной квадратной комнате справа и слева вдоль стен шли подъемные деревянные койки, по десять с каждой стороны. В углу - зловонное ведро без крышки, изображающее собою "парашу". У окна - высокий столик-шкапчик, за которым ужинали три унылых человека, один из них - в ужасающих отрепьях. Это была камера для уголовных. Я очутился в ней четвертым. Юбилейное чествование продолжалось и в Новосибирске.
В этой камере я провел почти девять суток, причем на другой же день камера стала заполняться, так что ко времени моего отбытия свободных коек уже не оставалось: наступала осень, подходила {190} "осенняя путина", и потому всяческая преступность в СССР начинала давать усиленные ростки. Быта камеры этой я описывать не буду, он ничем существенным не отличался от быта общей камеры бутырской тюрьмы; не буду много распространяться и о людях, хотя художник слова собрал бы среди них богатый и красочный разнообразный материал.
Был здесь и двадцатилетний беспризорник, в лохмотьях, кишевших насекомыми, арестованный за попытку перехода китайской границы. Был здесь и тихий тридцатилетний пахарь из далекой деревни, обвиняемый в распространении фальшивых "червонцев": ему всучили такой "червонец", а когда сам он пошел с ним за покупкой, то был арестован вместе с женой. Сидят уже три месяца. Трое детишек в деревне остались без призора. Человек совершенно невинный. Был здесь и нагловатый гепеушник, обвинявшийся "в преступлениях по должности". Он нисколько не унывал и был уверен, что во всяком концентрационном лагере снова всплывет на командные высоты. Был здесь и доставленный по этапу из Петербурга бывший помощник инспектора милиции по обвинению в бандитизме. Красочно рассказывал, как в отделении милиции избивают арестованных до-полусмерти, "да так, чтобы никакого знака на теле не оказалось". Был здесь и рабочий из Минусинска, арестованный за то, что брат его принимает участие в каких-то "черных бандах". Был здесь и бывший красный партизан, ныне служивший в каком-то учреждении. Целая группа лиц там "созналась" во вредительстве, а вот его никак не могли уговорить и убедить, что он тоже должен "сознаться". То, что он рассказывал, было до того потрясающим, что не только в Англии, но даже где нибудь и в Сербии немедленно арестовали бы следователей, так ведущих дело.
Но довольно: всего не расскажешь. Думалось: сколько выросло тюрем по лицу земли родной, сколько миллионов людей через них проходят, и сколько {191} же миллионов среди них совершенно ни в чем не повинных людей, если даже я, при ничтожном числе встреч и столкновений в двух общих камерах двух тюрем, встретил десятки невинных, уже месяцами сидевших и ожидавших - кто изолятора, кто концлагеря, кто ссылки, но никто - освобождения.
II.
Четвертый день уже пребывал я в этом обществе, но никакой ангел еще не приходил возмутить воду в сей купели Силоамской. Наконец, 17-го сентября, в третьем часу дня, меня вызвали и повели через двор в главное здание. Там меня вполне любезно принял какой-то чин из "секретно-политического отдела" и сообщил, что я буду выпущен на свободу "через полчаса". Я поинтересовался, что же я буду делать "на свободе", не имея с собой ни денег, ни вещей? Узнав о петербургском юбилейном номере с чемоданом и деньгами, он на минуту задумался, а потом сказал: "Мы дадим вам сейчас два-три адреса ссыльных, которые могут помочь вам устроиться, а также на днях выдадим вам и деньги". Порывшись в каких-то бумагах, он, действительно, выписал мне три адреса - а затем позвал нижнего чина, который препроводил меня обратно в камеру No 42.
Вернувшись в камеру, я собрал свои вещи и стал ждать. Однако, ждать пришлось довольно долго, так как обещанные "полчаса" протянулись ровно пять суток. Это был очередной номер юбилейного чествования и "глубокого уважения" тетки. И - если спросить еще и еще раз - как же обстояло дело с "академиком Платоновым"? Его повезли в Самару тоже под конвоем и с винтовками, тоже посадили там в общую камеру с уголовными, тоже держали в ней девять Дней? Затем - позвольте спросить: где же здесь "революционная законность"? Мое "дело" - закончено; "приговор" - объявлен; я отправлен на житье в {192} Новосибирск; но на основании какого же нового "дела" я вновь ввержен в новосибирское узилище? По какому праву? По какому закону? На все эти наивные вопросы - только один вразумительный ответ: это тебе не Англия!
Итак - еще пять суток в камере. Мой рассказ о ней был бы однако неполон, если бы я обошел молчанием те необозримые колонны поздравителей, которые выползали изо всех щелей с наступлением ночи. Несмотря на мой опыт 1919-го года, я и представить себе не мог, какие полчища клопов могут ютиться в щелях между досками нар, и какие мириады вшей могут гнездиться в рубищах уголовных сидельцев. Спать по ночам я совершенно не мог: чуть задремлешь, как со всех сторон в тебя впиваются сотни выползших на промысел клопов. А уберечься от батальонов вшей, наползавших и справа и слева, не было никакой возможности. Кстати сказать - именно в это время по Новосибирску (как, впрочем, и по другим российским городам) разгуливал сыпной тиф;
случай избавил меня от этого юбилейного поздравителя.
Когда "полчаса" продлилась в двести раз больше, чем это следовало по астрономическому времени, я решил, что по теткиным часам время движется слишком медленно и что следует подтолкнуть маятник. Утром 22-го сентября я вручил дежурному для передачи в "секретно-политический" отдел следующее тестуальное заявление:
"Отправленный в политическую ссылку (а не тюрьму) в Новосибирск и заключенный 14-го сентября в камеру для уголовных (No 42) новосибирского ДПЗ, я имел удовольствие услышать от Вас 17-го сего сентября, что незаконное мое заключение является "ошибкой", и что я буду освобожден "через полчаса". Так как с тех пор прошло почти пять суток, то, очевидно, имеются новые и серьезные - хотя и неизвестные мне - причины продолжающегося {193} содержания моего в тюрьме. Настоящим прошу Вас: или поставить меня в известность об этих причинах, или сообщить, когда же истекут указанные Вами полчаса. В случае неполучения ответа в течение сегодняшнего дня, вынужден буду избрать самые решительные формы протеста".
В начале десятого часа отправил я это послание, а в 11 часов утра явился дежурный и кратко сообщил:
"Собирайте вещи!". И через несколько минут я очутился "на свободе" - на улицах Новосибирска. День же пленения моего был двести тридцать второй. Долго отмывался я выйдя на свободу!
Здесь заканчивается тюремный календарь и серия юбилейно-тюремных торжеств, так что обо всем дальнейшем можно рассказать вкратце. И, чтобы покончить с Новосибирской теткой, надо сообщить еще, что мне предложено было явиться к ней через три дня для получения "вида на жительство" и сообщения своего адреса. Когда я явился, то мне было вручено 12 рублей и 50 копеек! Деньги эти я вернул тетке почтовым переводом, когда сам получил денежный перевод от В. Н. Двенадцать с полтиной - это двойной месячный оклад, который имеют право получать все ссыльные. Шесть рублей с четвертаком в месяц, двенадцать копеек золотом - не шутите!
Итак - я "на свободе". Выход ли из затхлой тюрьмы, солнечный ли новосибирский сентябрь, но в тюрьме осталась моя лихорадка, мучавшая меня и в пути и в уголовной новосибирской камере. Я пошел по трем указанным мне теткой адресатам. О первом не буду говорить: это оказался молодой петербургский инженер, заканчивавший в Новосибирске трехлетие своей ссылки и смертельно напуганный вопросом: почему вздумалось тетушке дать мне именно его адрес? Но два других встретили меня истинно-дружески и во многом помогли советами и делами. Это был - профессор-кооператор В. А. Кильчевский и {194} старый меньшевик (вернее - член польской социалистической партии) И. С. Гвиздор, пребывавший в сибирской ссылке с короткими перерывами с 1903 года - тоже тридцатилетний юбилей! Им обоим этими строками приношу искреннюю мою благодарность.
Об И. С. Гвиздоре следовало бы рассказать подробнее - настолько это интересная история. Приговоренный в 1903 году, как член партии ППС, к двенадцатилетней каторге и проведя весь этот срок в кандалах, он за два года революции вышел на поселение и обосновался на жительство в Барнауле. Революция сделала его городским головой этого города - и в течение ряда революционных лет волны революции то взносили его на свой гребень, то низвергали "в преисподния земли". Приходили "красные" - и сажали его во главе городского управления, приходили "белые" - и сажали его в тюрьму, угрожая расстрелом. Такие взлеты и падения перемежались не один раз. То он инспектировал тюрьму, как стоящий на вершине барнаульской власти, то сам сидел в этой тюрьме - и такая смена происходила не один раз. Одни и те же тюремщики уж и не знали, как к нему относиться. Он рассказывал такой смешной эпизод из своей жизни в эти годы.
- Пришли "белые" - и в шестой раз попал я в тюрьму. Ничего, сижу, дело привычное. Однако, опасно было - уж очень сильно грозились расстрелять на этот раз. Вот как-то тюремный надзиратель мне и говорит: "Товарищ Гвиздор, ну что вам здесь сидеть, еще неровен час и расстреляют, а тут опять придут красные, опять старшим в городе будете". - "Ну, что ж, говорю, за чем дело стало? Бери ключи и выпускай меня на свободу!" - "Не так-то просто, говорит, за воротами ограды часовой стоит, он не наш, того и гляди, донесет. Ну, да мы это дело устроим. Сегодня на вечерней прогулке по двору, когда будем всех вас в тюрьму загонять, вы громко попросите, чтобы мы вас по малому делу еще на минутку на дворе {195} оставили". - "Ну, а потом что?" - "А потом сами увидите".
- Ладно, не стал я расспрашивать, дождался вечерней прогулки и все по-ихнему сделал. Зима была лютая, снежная, снегу - выше головы. Как остался я один на дворе с четырьмя надзирателями, один из них подскочил ко мне, да как даст под ноги - так я и растянулся на снегу. А двое других схватили меня, один за ноги, другой за голову, раскачали, да как перекинут через ограду высоченную, сажени в полторы. Я в своей тяжелой шубе летел-летел вверх, а потом еще быстрее вниз, прямо в сугроб, точно в сено вкопался. Однако вскочил, смотрю - санки стоят, в них жена моя сидит, лошадь сдерживает. Я - в сани, лошадь рванула, а за частоколом слышу свистки, крики: держи, держи, бежал! Стрелять из револьвера стали, часовой тоже с их примеру неведомо в кого выпалил. Примчались мы на знакомую заимку, я там с месяц и отсиделся. Потом пришли "красные" - и снова я городским головой тюрьму инспектирую. Надзиратели рады, кланяются: поздравляем товарищ Гвиздор! А я им говорю: - Ну, спасибо, такие-сякие! Только смотрите, чтобы при мне таких штук не было! Знаю я теперь, как из вашей тюрьмы убежать можно!
Еще до революции женился он на фабричной работнице, ярой большевичке. Но когда у власти в Сибири утвердились большевики, то Гвиздора начали мотать по тюрьмам и ссылкам, как бывшего меньшевика, а значит и контрреволюционера. Жена стала после этого ярой антибольшевичкой, и если бы записать все ее яркие рассказы о борьбе мужа с чекистами и гепеушниками, то тетради бы нехватило. Но так и быть, запишу хоть один ее бесхитростный рассказ.
- Сидели мы в Чимкенте, в ссылке на три года. Поздно вечером я с квартирной хозяйкой доспевший квас по бутылкам разливала, вдруг стук в дверь с обыском пожаловали! Главный из них развалился в кресле и говорит: "Вот хорошо, кваску попить можно, {196} ночь такая жаркая!" -А хозяйка и рада, несет ему на подносе бутылку кваса и стакан. Я подскочила, хвать бутылку - и в дребезги об пол. - "Еще чего недоставало, говорю, незванные гости с обыском пришли, да всех их тут квасом угощать! Пускай воды напьются, и того с них довольно!" - Чекист посмотрел на меня, да видит, что я женщина не робкого десятка, и ничего, промолчал, стал в ящиках стола рыться. Вынул цепь, спрашивает мужа: "Это что такое?" - А муж говорит: "Это мой революционный орден, я на этой цепи двенадцать лет в каторге сидел". - А чекист отвалился на спинку кресла, да этак презрительно: "Ха! ха! ха!"
Тут вскипело все во мне, бросилась я к нему, двумя руками за горло схватила и трясу: "Мерзавец, говорю, выродок, над чем смеешься! На колени должен встать пред этой цепью да приложиться к ней! Какой же ты после этого революционер, собачья ты шерсть!" - Он вскочил, за револьвер схватился, однако опомнился, присмирел и стал молча после этого обыск вести. Ничего не нашли, ушли, оставили нас в покое. - На следующее утро стою в очереди за молоком и поссорилась за очередь с какой-то гражданкой, шум подняли, народ собрался. Смотрю проходит вчерашний чекист, подошел, спрашивает, в чем дело? Ему объяснили, а он поглядел на меня, признал, и говорит той гражданке: - "Вы, говорит, гражданка с этой язвой лучше не связывайтесь, добра вам от этого не будет". И ушел...
После ссылки в Чимкенте И. С. Гвиздор попал (еще раз) в барнаульскую тюрьму, где просидел два года по обвинению в организации меньшевистской группировки в Барнауле, оттуда попал на три года в ссылку в Семипалатинск, оттуда снова в тюрьму и вот теперь досиживал трехлетний срок ссылки в Новосибирске. В конце сентября 1903 года был арестован и начал свой круг каторги, тюрем и ссылок; поэтому теперь, в конце 1933 года он праздновал свой {197} тридцатилетний юбилей, - не моему юбилею чета! Устроил вечеринку и пригласил нас - проф. Кильчевского, меня и еще трех новосибирских товарищей ссыльных на "настоящие сибирские пельмени". Если сказать, что на нас семерых было изготовлено, как сообщила его жена, полторы тысячи пельменей и что (это самое удивительное) мы их без остатка съели, то сибирский пир будет обрисован достаточно ярко. Правда, сибирские пельмени - очень маленькие, но все-таки...
Семья Гвиздора оказывала мне самое дружеское внимание во время всей моей короткой новосибирской ссылки. Уехав из Новосибирска, я переписывался с ними и питаю глубокую благодарность к этим добрым и мужественным людям, истинным революционерам по духу. В царстве большевиков место этим людям - конечно, не у власти, а в тюрьме и ссылке.
Но пора закончить рассказ о моей новосибирской ссылке.
Быт моей жизни в Новосибирске был очень красочен и я юмористически описывал его в письмах к В. Н., но к теме юбилейного чествования имеет отношение разве только одно обстоятельство: я приютился в обывательской семье, относившейся ко мне очень мило, но имевшей возможность предоставить мне только диван (увы - с клопами!) в небольшой комнате, где и без того помещались муж с женою и двумя маленькими детьми. Ни о какой работе в таких условиях нечего было и думать.
Три раза в месяц должен был я, как и всякий ссыльный, являться "на регистрацию" (не уехал ли, не сбежал ли). Но мне только трижды пришлось нанести тетушке этот визит: совершенно неожиданно получил я "повестку" от "ППОГПУ Западной Сибири" (первые две буквы означают: "полномочное представительство") с предложением "явиться по делу" 31-го октября в означенное "ПП". Явившись, я узнал, что по предписанию из Москвы Новосибирск {198} заменяется мне Саратовым, куда мне и предназначается выехать незамедлительно. Откуда подул такой ветер - не знаю, ибо ни я, ни В. Н. не предпринимали решительно никаких шагов, не возбуждали никаких "ходатайств".
Пришлось прощаться с Новосибирском, что, по правде сказать, я сделал без большого огорчения. На этот раз я ехал - вы подумайте! - без конвоя, свободным гражданином, и даже по бесплатной "литере" ГПУ, так что и контроль, и публика принимали меня за теткиного сына. 9-го ноября выехал я из Новосибирска - и снова в окне вагона замелькали бескрайние сибирские степи, теперь уже запорошенные первым снегом (зима была очень поздняя). Из-под снега грустно торчали несжатые колосья пшеничных нив - тысячи и тысячи десятин.
За два месяца моей поездки туда и обратно никакого улучшения заметно не было. Я, разумеется, сразу догадался, что это - дело вредительских рук нашей организации, идейным центром которой был я, а периферийной группой практической работы - звено А. И. Байдина. Не могу признаться, чтобы меня охватило раскаяние при виде этого злого дела рук моих, но должен сказать, что, глядя на эту грустную картину, я ясно понял - почему я теперь еду по сибирским степям, а не работаю за своим письменным столом. Предлог, повод и причина моего "дела" выяснились мне с совершенной очевидностью. Однако - сперва закончу свою одиссею.
13-го ноября, в 13 часов дня, в вагоне No 13, с плацкартой No 13 (и опять Чехов вспомнился!) прибыл я в Саратов. Город только начал оправляться от ужасов голодного года, сыпного тифа и жуткого лета, когда трупы умерших от голода валялись по всем улицам. Саратовцы порассказали мне такое, перед чем наш петербургский голод 1919-1920 гг. кажется детской шуткой.
Первым юбилейным поздравителем в Саратове явился трамвайный жулик, ловко {199} выудивший из моего кармана кошелек, так что и в Саратове я очутился в новосибирском положении. Но это уже - быт, рассказывать о нем не стоит. Повторяю только, что провинциальный быт Симферополя в 1902 году и Саратова через тридцать лет - два сапога пара. Новое - не в быту, а над бытом.
Так попал я "к тетке, в глушь, в Саратов". К тетке явился я в день приезда, получил от нее "вид на жительство". В нем значилось: "Дано адм. высланному (имярек), прикрепленному к месту жительства гор. Саратов. Упомянутый высланный обязан ежемесячной (зачеркнуто и надписано: два раза в месяц) явкой в органы ОГПУ на регистрацию". Безграмотно, но кратко. Однако не прошло и месяца, как мне было заявлено, что впредь, в исключение от общего правила, я обязан являться на регистрацию через каждые четыре дня в пятый. Считаю это еще одним - и быть может не последним - проявлением нежной заботливости тетушки, ее "глубокого уважения" и юбилейного чествования. Тут кстати спросить: а как же обстояло дело... Впрочем не будем больше повторять этого юмористического, иронического и надоевшего лейт-мотива.
III.
Только иронически и юмористически можно было описывать всю эту эпопею издевательств и юбилейных чествований - другого тона по нынешним временам не найти. Издевательства заключались, конечно, не в формах, вполне обычных, а в том соусе "глубокого уважения", под которым эти формы подавались. Это первое. А второе: главным издевательством было, разумеется, само "дело" об организации, которое тетушка стряпала, потешаясь втихомолку. Но можно поговорить и серьезно. Тогда выяснится - где те причины, по которым я отпраздновал тридцатилетний юбилей своей литературной деятельности в тюрьме и ссылке.
{200} Предлог, повод и причина всего этого дела - ясны, как на ладони. Предлогом для действий ГПУ послужила речь Сталина, напечатанная в газетах в самом начале января 1933 года. В ней между прочим провалы колхозной политики 1932 года объяснялись "вредительством", к искоренению которого необходимо принять самые решительные меры. Не успела просохнуть краска на этих газетных листах, как работа теткиных сынов закипела. Весь январь 1933 года приходилось слышать о десятках арестов, - а они шли сотнями и тысячами - "весенняя путина!" Людей арестовывали пачками по самым диким и неправдоподобным обвинениям. Тюрьмы были набиты и переполнены.
Кривая преступности взлетела вверх стрелой самым фантастическим образом. Вся эта вакханалия продолжалась до конца зимы, до летнего сезона отпусков и курортов. Теткины архивы могут подтвердить все это точными статистическими цифрами.
Один только пример, о котором я узнал уже по выходе из тюрьмы. В середине марта 1933 года жители Царского Села были удивлены зрелищем ранней утренней процессии: гнали стадо в несколько десятков голов - известных местных педагогов, мужчин и женщин. Это были арестованные и препровождаемые в тюрьму преподаватели и преподавательницы разных школ Царского Села, обвиняемые, как потом оказалось, в организации вредительской контрреволюционной группировки. Перевезли их в "Кресты", продержали в тюрьме несколько месяцев, а потом большинство было возвращено по домам. Впрочем, одну учительницу из этой партии я встретил в Новосибирске, а другого педагога - в Саратове. Значит были и другие высланные и сосланные, столь же ни в чем неповинные люди. Они порассказали мне потом столь замечательные вещи об обвинении и допросах, что много страниц понадобилось бы для записи их красочных рассказов. Но довольно и {201} сказанного выше. Этот один пример характеризует ту вакханалию бессмысленных арестов, предлогом для которых послужила январская речь Сталина.
Повод для моих юбилейных чествований придумать было очень нетрудно: надо было только протянуть ниточку от "вредительства в колхозах" к "народнической идеологии" и найти человека, к которому бы можно было привязать эту ниточку. Таким человеком оказался - А. И. Байдин, служивший библиотекарем не где-нибудь, а именно в сельскохозяйственных институтах! Ага! К этому можно вполне удобно прицепить ниточку и начать протягивать ее далее - к "народнической идеологии". А отсюда уже один шаг до создания шаблонного сюжета об организационной группировке и о едином центре. "Дело об идейно-организационном центре народничества" было выдумано и проработано до последней запятой - задолго до ареста обвиняемых. Потом оставалось только подогнать все допросы и протоколы под заранее предрешенное дело.
Так вершится революционная законность по теткиной юрисдикции (это тебе не Англия!); десятки разговоров с людьми, прошедшими через все подобные горнила правосудия, убедили меня, что все это - не предположение, а подлинная система, применяемая постоянно.
Предлог и повод - вполне ясны, что же касается причин моего юбилейного торжества, то они лежат значительно глубже. Как писатель, не разделяющий официальной идеологии и не скрывающий своих убеждений, я уже лет десять был бельмом на теткином глазу. Еще в 1924 году, при выходе в свет моего сборника "Вершины", цензорша Быстрова (бывшая курсистка) потребовала изъятия ряда мест из моей речи о Блоке, полностью напечатанной двумя годами ранее (в издании Вольфилы). В чем заключались курьезные изъятия - будущий историк цензуры когда-нибудь сравнит по этим двум изданиям.
{202} В разговоре со мной бывшая курсистка хоть и краснела (было все-таки стыдно), но стояла на своем, заявляя, что-де "1924-ый год - не 1922-ой, когда еще многое разрешалось". Она была права: в последующие годы кривая цензурных запретов круто пошла вверх, причем цензоры уже и краснеть перестали. Не прошло и года после появления "Вершин", как один из таких некраснеющих цензоров заявил издательству: "А книг Иванова-Разумника вы нам лучше и не представляйте, - все равно мы их не пропустим, независимо от содержания". Однако он на несколько лет поторопился с этим заявлением.
Прошло два года. Я работал над комментариями к шеститомному избранному Салтыкову; первые два тома уже вышли в свет. Как-то раз встретился я в Пушкинском Доме, где изучал Салтыковские рукописи, с покойным Б. Л. Модзалевским, стоявшим тогда во главе Пушкинского Дома. Он изумленно спросил меня: "Что вы там такое натворили в комментариях к Салтыкову? Госиздатовский цензор получил жестокий разнос за недосмотр какого-то места. Что же это за место такое?" Интересно, что в самом Госиздате мне об этом эпизоде никто не сказал ни слова.
Я без труда догадался, что причиной грозы было место из комментариев к "Истории одного города", где я излагаю содержание сказки Лабулэ "Prince-caniche".
У меня нет теперь под рукою этого тома Салтыкова, у читателя тем более, так что я по памяти изложу здесь эту пикантную историю.
Исследуя истоки творчества Салтыкова и многоразличные на него влияния (например, Диккенса), я обратил внимание на политический памфлет Лабулэ "Принц-собака", гремевший во Франции в конце шестидесятых годов. В своих комментариях к "Истории одного города" я привел следующую страничку из этого ядовитого памфлета.
{203} Принц Гиацинт после смерти отца вступает на престол королевства Ротозеев (сравни с салтыковскими "глуповцами"). К нему приходят три министра и предлагают ему ознаменовать восшествие на престол тремя декретами. Первый министр предлагает: отобрать во всем королевстве детей до десяти лет и образовать из них под руководством государственных инспекторов отряды "пионеров", чтобы с юных лет внедрять в них правила ротозейского мировоззрения. Второй министр советует дополнить это полезное начинание декретом о конфискации всех частных библиотек и об изъятии из государственных библиотек всех произведений, не соответствующих ротозейскому мировоззрению. Третий министр соглашается с пользой этих двух мероприятий, но считает необходимым дополнить их третьим декретом: о закрытии всех журналов и газет не ротозейского направления и об издании единой официальной газеты под названием "Правда", которую и обязать всех ротозейских граждан читать ежедневно утром и вечером.
Должен признаться, что не было никакой необходимости целиком помещать всю эту страницу из памфлета Лабулэ в моих комментариях к "Истории одного города", но искушение было слишком велико. Ведь и у нас, в Советском Союзе, были организованы отряды пионеров и у нас изымались из библиотек все вредные книги не ротозейского (то-бишь не марксистского) направления, и у нас были закрыты все газеты и журналы не марксистского направления, и у нас главный партийный, официальный орган именовался "Правдой"... Совпадение было так изумительно, что иные готовы были думать, что это сам я подсочинил к памфлету Лабулэ такую ядовитую страничку. И мог ли думать Лабулэ, направлявший острие своей сатиры против правительства Наполеона III-гo, что ядовитые выпады его подойдут, как перчатка к руке, через полвека к деяниям победившей революции!
{204} Но каким образом эта совершенно нецензурная страничка могла пройти сквозь горнило большевистской цензуры?
Я был почти уверен, что цензура эта вычеркнет ехидную страничку из моих комментариев - и очень веселился, увидев ее неприкосновенно напечатанной. Случилось это так: во главе цензуры Госиздата (Государственное Издательство), где печаталось это издание, стоял некий армянин Гайк Адонц, которого в самом же Госиздате называли самым глупым человеком во всем Петербурге. Однако, несмотря на всю свою глупость, он, конечно, досмотрел бы неприемлемость этой возмутительной странички, если бы прочел ее. Но в том-то и дело, что объемистые, напечатанные петитом и чисто фактические комментарии мои к циклам Салтыкова казались ему настолько скучными и безобидными, что он и не вникал в них, даже и не прочитывал их полностью. За это и поплатился: слетел с цензорского места, получил разнос и был посажен на какой-то другой, менее ответственный пост.
А мне, повторяю, никто в Госиздате ни единым словом не обмолвился обо всей этой истории. Только цензура следующих томов издания вдруг стала и действенной и придирчивой. Начиная с третьего тома, ряд мест в моих комментариях подвергся изъятиям, хотя ничего подобного "ротозейской" страничке в них больше не попадалось... Нисколько не сомневаюсь, что всю эту историю тетушка немедленно записала на мой счет в своих приходо-расходных книгах.
Бельмом на глазу было и то, что в 1931 году я вновь был привлечен (салтыковедов - мало) писать комментарии и принимать ближайшее участие в редактировании полного собрания сочинений Салтыкова. Бельмом на глазу были и мои обширные примечания к стихотворениям Блока. В последнем случае тетке удалось, однако, через своих сотрудников в Издательстве Писателей добиться того, что эти, целиком разрешенные цензурой (подумать только!) {205} примечания, полностью сверстанные и частью отпечатанные, были вырезаны из первых четырех томов собрания сочинений Блока. У меня остался корректурный экземпляр этой верстки, но его присвоил себе следователь Лазарь Коган, большой любитель библиографических редкостей. По какому праву? - смешно спрашивать! Конечно, по праву революционной законности!
Вот и еще один эпизод, который не переполнил чашу гепеушного терпения только потому, что тетка все равно записала это на мой счет и знала, что, раньше или позже, предъявит его, найдя подходящий случай.
В конце 1931 года я выпустил в Издательстве Писателей сборник "Неизданный Щедрин", соединив в нем несколько произведений Салтыкова, до сих пор не входивших (или входивших неполностью) в собрание его сочинений. Напечатал в том числе "Испорченных детей" и полную редакцию "Сказки о ретивом начальнике". В предисловии я указал, что произведение Салтыкова остается злободневным и для настоящего времени. Это само собой очевидное утверждение (которое часто можно встретить и на страницах официальной прессы) страшно всполошило трусливое издательство. Книга была уже отпечатана, 50 экземпляров было уже сдано в книжные магазины, когда издательство распорядилось книгу задержать и опасную страницу из предисловия перепечатать с пропуском страшной фразы. Снова очаровательный чисто щедринский эпизод. Тетушка немедленно была осведомлена о нем своими агентами из правления Издательства Писателей. Во всяком случае весь этот эпизод был детально известен проводившим мое "дело" следователям.
В связи с этой книгой - еще одно курьезное сообщение.
В камере No 85 Лубянской "внутренней тюрьмы" сосед мой, коммунист Б., как-то рассказал мне, что "у них" (я понял - в ГПУ) книжку {206} "Неизданный Щедрин" буквально "рвали из рук друг у друга", раскупили весь московский запас этой книги, ибо "Сказка о ретивом начальнике" была сенсацией дня. Казалось бы, что я тут не при чем, что не имею я ни малейших прав на лавры Салтыкова, но тетушка была, очевидно, совсем другого мнения.
Придется привести здесь краткое содержание и этой сказочки, чтобы читателю стало понятно, почему весь сыр бор загорелся.
Салтыков доканчивал свой ядовитый цикл "Современная идиллия" в начале восьмидесятых годов, когда прошумела пресловутая черносотенная подпольная "Священная Дружина", составленная для борьбы с народовольческим террором группой великосветских "взволнованных лоботрясов". Говорить о ней печатно было невозможно, но Салтыков нашел способ осмеять ее в одной из своих главок "Современной идиллии", во вставной "Сказке о ретивом начальнике".
В виду цензурных препон сказка эта далась ему с трудом: в черновиках Салтыкова я нашел целых пять вариантов этой ехидной сказки. От первого до четвертого варианта она все разрасталась и разрасталась в объеме - и становилась все более и более нецензурной. Наиболее острый четвертый вариант "Сказки о ретивом начальнике" был в то же время и наиболее обширным. Убедившись в совершенной нецензурности его, Салтыков стал подчищать, сокращать, кромсать эту сказку - и получился сравнительно бледный пятый вариант, который и вошел в печатный текст "Современной идиллии". В книге "Неизданный Щедрин" я напечатал четвертый вариант этой сказки, наиболее обширный и по тем временам нецензурный. Оказалось, что он не менее нецензурен и по нашим временам... В кратком и бледном изложении (у меня нет под рукою книги "Неизданный Щедрин") содержание этой сказки такое:
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник, у которого на носу {207} была зарубка: "Достигай пользы посредством вреда". Дали ему в управление целый край - стал он применять в нем свою систему: земледелие - прекратил, рыболовство - уничтожил, привел народ в страх и трепет, все по норам попрятались; а он сидит, радуется и мечтает: вот всё уничтожу, сокращу, в прах превращу, и тогда вдруг из великого вреда родится великая польза: всеобщая каторга. Тогда народ поумнеет, жизнь процветет, а я буду смотреть да радоваться, дарить мужикам по красному кушаку, а бабам по красному платку. Однако - вредит он год, вредит другой, а пользы от этого никакой не приходит: нивы заскорбели, реки обмелели, торговля прекратилась, народ обнищал. Думал, думал, отчего бы это так - и догадался: оттого, что вредил он с разумением, а вредить надо безо всякого разумения. Пошел к колдунье, та ему клапанчик в голове открыла, разуменье - фюить! - улетело, и стал ретивый начальник вредить без разумения, но и тут ничего не выходит. Стал придумывать разные проекты, например, проект о закрытии Америки, и спохватился: "Но ведь, кажется, сие от меня не зависит?" Бился, бился - ничего не выходит: вредит, а пользы нет. Тогда решил он призвать на помощь мерзавцев, которые тут как тут, словно комары на солнышке вьются, и говорит им: "Так и так, господа мерзавцы, врежу я много, а пользы выходит мало, не можете ли помочь мне?"
Мерзавцы охотно взялись помочь, но поставили условием: чтобы мы, мерзавцы, говорили, а все прочие чтоб молчали, чтобы нам, мерзавцам, жить в холе и неженьи, а остальным прочим - в кандалах, чтобы нам, мерзавцам, жить в полное свое удовольствие, а всем прочим чтобы ни дна, ни покрышки; чтобы наша, мерзавцев, ложь за правду почиталась, а остальных прочих хоть и правда, да про нас, ложью числилась; чтобы все прочие пикнуть не смели, а мы, мерзавцы, что про кого хотим, то и лаем... Согласился на их условия начальник, хотя и {208} сказал: "Вижу, господа мерзавцы, что из работы вашей вреда, действительно, много будет, но выйдет ли из этого вреда польза - это еще бабушка надвое сказала". И господа мерзавцы стали действовать...
Окончания сказочки можно и не приводить. Достаточно и этого, чтобы понять, почему господа коммунисты стали "рвать из рук друг у друга" книгу с этой сказкой, - так всё это, как перчатка к руке, подходило к нашей советской действительности. И мог ли думать Салтыков, что его сатира, направленная против "Священной дружины", через пятьдесят лет окажется как нельзя более злободневной! Недаром же и испуганное Издательство Писателей изъяло из моего предисловия фразу о злободневности сатиры Салтыкова. Все читатели понимали, что эта сказка о вредном начальнике попадет не в бровь, а в глаз тому начальнику, который довел советскую Россию начала тридцатых годов до голода и разорения. Один мой приятель, живший в подмосковной деревне, дал книжку с этой сказкой прочитать соседним мужикам. Возвращая ему книгу, они сказали: "Здорово здесь про Сталина пишут!" И "сам Сталин" тоже прочел мою книгу, как я услышал это в декабре 1936 года из его речи по поводу введения пресловутой "сталинской конституции": в этой речи он буквально цитировал фразу о проекте закрытия Америки - "но ведь, кажется, сие от меня не зависит?", .- не понимая (или делая вид, что не понимает), что здесь de te fabula narratur. Басня Крылова "Зеркало и обезьяна" лишний раз получила здесь блестящую иллюстрацию.
Запретить напечатание этой сказки Салтыкова было невозможно - это значило бы признать, что между господами мерзавцами и господами коммунистами стоит знак равенства. Лучше было сделать вид, что сказка эта имеет только историческое значение. Но что тетушка занесла в свою черную книгу весь этот эпизод - никакому сомнению не подлежит.
{209} Наконец последний случай. В апреле 1930 года вышел первый том моей монографии о Салтыкове, вышел с большими препонами и с неизбежным "марксистским предисловием". Все такие предисловия пеклись по одинаковому рецепту: сперва доказывалось, что автор книги - совершенно не понимает методов диалектического материализма, а потом указывалось, что книга все же имеет некоторые достоинства, почему ее следует издать. Предисловий этих обыкновенно никто не читал, но такие марксистские пропилеи были неизбежны и с ними приходилось мириться. Иногда эти предисловия бывали наглого тона - вроде предисловий Каменева к книгам Андрея Белого "Начало века" и "Мастерство Гоголя", иногда вполне корректные - вроде предисловия к моей книге о Салтыкове марксиста Десницкого-Строева.
В предисловии этом указывалось, однако, что автор - неисправим: каким антимарксистом был он четверть века тому назад в первой своей книге "История русской общественной мысли", таким остался и теперь в книге "Жизнь и Творчество Салтыкова-Щедрина". Что верно, то верно.
Но, однако, если вспомнить убеждение следователя Лазаря Кагана, что антимарксизм и контрреволюция - синонимы, то понятно, что и эту мою книгу тетушка взяла на прицел и записала еще один пункт в тот счет, который собиралась предъявить мне рано или поздно.
Вот настоящие причины всех моих юбилейных торжеств. Конечно, причины эти ни разу не были поставлены мне на вид, этот счет никогда не был предъявлен. Помилуйте! Мы никого не ссылаем за идеологию! Но у тетушки не только двойная бухгалтерия, но и двойные книги - подлинные и фальшивые. В подлинных книгах ведется счет истинных причин, но книги эти остаются лишь для внутреннего теткиного обихода. Параллельно стряпаются книги фальшивые, которые и предъявляются обвиняемому. Так, в моем "деле" - истинными причинами юбилейных {210} торжеств были обстоятельства только что изложенные, о которых следователи - и не заикались, а фальшивым счетом был несуществующий "идейно-организационный центр народничества". Надо было найти только подходящий предлог и повод. Как только они нашлись - предрешенное "дело" закипело.
В этом фальшивом двурушничестве, сдобренном столь же фальшивым "глубоким уважением", и лежат корни того издевательства, которым ознаменовался мой "юбилей". Я вполне понимаю, что государство, стоящее на определенном уровне правовых норм, может карать всякое инакомыслие самыми суровыми карами, но скрывать истинные причины, идеологические, под фиговым листком несуществующей в данном случае "организационности" - недостойный признак не силы, а слабости. (Пусть это к лицу диктатуре буржуазной, но, еще раз спрошу, к лицу ли это диктатуре пролетарской?).[лдн-книги1]
Я знаю, что даже среди писателей есть наивные тупицы, которые повторяют по-попугайски: "У нас не карают за идеологию". С тупицами разговаривать не приходится, но людям менее наивным можно предложить для нетрудного решения следующий вопрос. Вот я написал рассказ о моем "Юбилее", как введение к моим житейским и литературным воспоминаниям. Предназначен он для далекого будущего читателя бесклассовых времен.
Давать его на прочтение кому бы то ни было и вообще распространять каким бы то ни было образом я совершенно не собираюсь. Я сохраню его для будущего в чаянии, что он дойдет до времени бесклассового (и бесцензурного?) общества. Но представьте себе, что моя рукопись попадет случайно в руки тетушки. Что тогда произойдет? "Организации" - никакой нет; распространения вредных мыслей - никакого нет; "за идеологию у нас не ссылают". Все это так, и, тем не менее, можно быть вполне {211} уверенным, что в результате последует новая серия юбилейных чествований, столь пышных, что я лишен буду даже возможности их описать.
IV.
Ну, вот я и у берега - каким оказался для меня саратовский берег Волги. Досказать осталось немногое. Полтора года прошло от моего юбилейного дня. С трудом восстанавливается и, конечно, не восстановится оставшееся в тюрьме здоровье. Литературной работы никакой иметь не могу, - были неудачные попытки. Надо бездеятельно проводить "прочее время живота". Значит - самое время взяться за житейские и литературные воспоминания, сесть за стол и начать по Чехову: "Я родился в..." Но и тут беда: по одной памяти ничего точного не напишешь, а весь "архив" мой (то есть уцелевшая от разгрома его часть) находится в Мекке, то-бишь-Царском Селе. Так что не знаю, что выйдет и из этой работы.
Немного в сторону от темы, но о чем хотелось бы сказать: чем же я живу - в самом простом "физическом плане" - без всякой возможности получить работу? У каждого из нас много друзей - приятелей до черного дня. Но естественно, что на другой же день после моего ареста все эти друзья-приятели забились в кусты. Очень запуганы и зайцеподобны стали теперь люди, иной раз носящие весьма громкие имена. Истинные друзья познаются в несчастии, и хотя никакого несчастья со мною не произошло, а случилось лишь маленькая неприятность, но только два-три друга (из десятков друзей-приятелей) оказались действительными друзьями, не побоявшимися даже (даже!) переписываться со мною, жителем саратовским. Таков был старый друг еще с гимназических времен, А. Н. Но здесь подробнее скажу только о другом старом друге, М. П. Не только писал он мне бодрые письма в Новосибирск и в Саратов, не только присылал {212} новые свои книги, не только хлопотал в московских издательствах о какой-нибудь работе для меня, но даже, когда хлопоты эти не увенчались успехом, по собственному почину, нисколько не скрывая этого, решил высылать мне ежемесячно по двести рублей. Только благодаря ему я еще и существую в сем "физическом плане" - и не могу умолчать об этом.
Поведение же прочих, не друзей приятелей, а братьев-писателей, было как раз таким, какого и следовало ожидать. По крайней мере, я нисколько не удивился, когда в номере от 10-го февраля 1934 года газеты "Литературный Ленинград" прочел письмо одного почтенного пушкиниста (с ним, в скобках сказать, мы всегда были в самых корректных отношениях). В письме этом он между прочим выражает удовлетворение, что работа над Салтыковым не находится ныне (возблагодарим тетушку!) в моих руках. Он "подчеркивает необходимость некоторых гарантий от повторения Ленгихом таких, например, ошибок, как имевшее место монопольное закрепление всех примечаний по всем томам Салтыкова за Ивановым-Разумником и его учениками". Первая половина этого утверждения ложна, а заключительные слова - загадочны: о каких это моих "учениках" идет речь? Никогда не имел их ни вообще, ни в салтыкововедении в частности. Из этого же письма в редакцию я узнал, что почтенный пушкинист развивал эти же мысли в каком-то словесном "выступлении", подчеркивая в нем необходимость "марксистско-ленинского истолкования художественного творчества Щедрина" и именно поэтому настаивая на изъятии из литературного обращения не-марксиста Иванова-Разумника. И это говорилось и писалось тогда, когда я был уже в тюрьме и потом в ссылке. Давно ли почтенный пушкинист сам стал марксистом - не знаю, но каково же благородство всего этого выступления! До очень низкого этического уровня докатилась наша литература.
{213} И если я остановился на этом одном примере, то лишь потому, что он очень показателен (Примечание конца 1936 года: Только что узнал из газет и из писем, что этот почтенный пушкинист и заместитель директора Пушкинского Дома, проф. Ю. Оксман, объявлен "врагом народа" и пребывает в том самом Лубянском изоляторе, в котором я был гостем три с половиной года тому назад.).
Конечно, мне очень грустно, что остаются незаконченными две основные работы двадцати последних лет моей жизни, но что поделаешь! "Всему положен свой предел". И здоровье, и возраст не позволяют мне надеяться, что "после дождика в четверг" еще удастся завершить эти работы. Ведь я уже "достиг до этого возраста пятидесяти пяти лет, с каковыми, столь счастливо, я, благодаря милости Божьей, иду вперед"... Правда, европеец рассмеялся бы: какая же это старость - пятьдесят пять лет! это только расцвет "возмужалости", которую физиологи (европейские!) заканчивают 67-ми лет! Недаром во Франции без всякой иронии говорят - "un jeune homme de quarante ans"; недаром добродушный Сильвестр Боннар огорчился, когда его назвали стариком:
"est-on un vieillard a soixante-deux ans?"; недаром восьмидесятилетний Клемансо на предложение "омолодиться" по способу Штейнаха ответил, что он с благодарностью воспользуется этим предложением "quand la vieillesse viendra". Но мы, россияне, пережившие уже полтора десятилетия революции, в которых месяц считается за год, безмерно старше наших европейских собратьев, мы все прожили уже мафусаиловы века, и сроки наши уже исчислены.
Но - dum spiro spero, и потому, все еще не желая окончательно отказаться от надежды закончить свои работы по Салтыкову и Блоку, я, когда исполнилось уже полтора года со дня моего "юбилея" и когда все это описание его было уже закончено, написал письмо в Москву Максиму Горькому. Это {214} письмо, подводящее итоги и вкратце суммирующее содержание всего моего "Юбилея" и моей "Ссылки", явится к ним вполне подходящим эпилогом, поэтому привожу его здесь дословно:
"Содержание настоящего письма моего к Вам, Алексей Максимович - чисто литературное, но, к сожалению, оно требует хоть и краткого, но вполне нелитературного предисловия.
Нисколько не сомневаюсь, что Вы, возглавляющий Союз Писателей, были в свое время (полтора года тому назад) осведомлены о моем аресте, тюремном семимесячном заключении и последующей ссылке (по фамусовской традиции: "в глушь, в Саратов"). Не сомневаюсь также, что мимо такой судьбы писателя, тридцать лет работавшего в русской литературе, Вы не могли пройти безучастно, и, вероятно, наводили справки у тех, кому о том ведать надлежит, о причинах, заставивших столь необычным в летописях литературы способом почтить тридцатилетний юбилей писателя (по шуточной прихоти судьбы, арест мой - 2-го февраля 1933 года - состоялся как раз в самый день этого тридцатилетия моей литературной деятельности).
Возможно даже, что Вы простерли свою внимательность до того - по крайней мере поступил бы так я на Вашем месте, - что пожелали ознакомиться с самими протоколами "дела об идейно-организационном центре народничества", - при Вашем положении это не могло встретить затруднений. Но если даже Вы и ознакомились с этими протоколами, то боюсь, что Вас все же неверно информировали, - а именно, показали Вам протоколы "А", излагавшие точку зрения следствия, и не показали параллельных протоколов "Б", написанных мною лично и точку зрения следствия совершенно отвергавших. Но дело не в этом, и все-то "дело" это - давно прошедшее, имеющее годовую давность; да и "дела"-то моего {215} в действительности никакого не было, оно было пристегнуто ко мне ad hoc, с целью насильственным путем прекратить мою историко-литературную работу, особенно напряженную как раз в последние годы. Вот об этой работе я и хочу написать Вам, полагая, что если Вам совершенно безразлична моя личная судьба, то не может быть безразлична потеря тех культурных ценностей, возместить которые не так-то легко, а в некоторых случаях и невозможно. Заканчивая этим краткое нелитературное предисловие, перехожу к вопросам той литературы, которой все мы, писатели, хоть и по-разному, но по мере разумения служим.
Впрочем - еще одно слово. Следователь, который вел мое "дело", все время уверял меня, что мне в дальнейшем дана будет полная возможность продолжать ту литературную работу, которую я вел последние годы: "Если этого не будет, то вы можете громко заявить, что советская власть вас обманула". Конечно, следователь - небольшая сошка, но все же и он является носителем какой-то части "советской власти". Прошел уже год - и за это время я вполне убедился, что всякая возможность "дальнейшей работы" для меня отрезана. И это очень печально - не столько для меня (ведь всех нас раньше или позже насильственно отрешат от нашей земной работы), сколько для той работы, которую, по создавшимся условиям, никто, кроме меня, выполнить не может. На этой чисто литературной стороне дела я и остановлюсь несколько подробнее.
С 1914 года, в течение двадцати лет, усиленно работал я над Салтыковым-Щедриным, изучая сперва - его первопечатные тексты, потом современную ему Русскую и иностранную литературу, и, наконец, - Рукописи и архивные материалы, одновременно собирая и записывая иной раз ценнейшие воспоминания ближайших сотрудников Салтыкова (например - М. А. Антоновича, умершего в начале революции).
{216} После многолетней подготовительной работы я счел себя достаточно вооруженным для большой монографии в трех томах о жизни и творчестве Салтыкова. Первый том вышел (с большими препятствиями) в 1930 году, второй и третий подготовлялись мною (без больших надежд) к печати. Первый том, наряду с положительной оценкой его наиболее сведующими "салтыковедами" (которых очень немного), встретил, разумеется, неблагоприятное отношение со стороны газетных критиков (которых очень много). Вряд ли это способно удивить: если бы Вы напечатали теперь очень слабую вещь, то, как сами хорошо знаете, она встретила бы восторженный прием среди газетной и журнальной критики. Лакейство это, конечно, должно Вас огорчать, но я боюсь, что при нынешних литературных условиях от него нет лекарства.
Ценят не вещь, а имя; мое же имя, естественно, должно особенно резко влиять на критические отзывы. Между тем без всякой нескромности (которой я никогда не был грешен) я имею основания совершенно "объективно" считать, что моя монография о Салтыкове, хотя и не марксистская (но обезвреженная марксистским предисловием) является и для марксистского литературоведения незаменимым сводом фактического материала, собранного с большими трудами в течение двух десятилетий; часть этого материала восстановима и помимо меня, часть же - будет вообще невосстановима, поскольку нет уже в живых многих знакомых мне сотрудников или друзей Салтыкова (Антонович, Пателеев, Унковский, Кареев и др.). Мне оставалось года два работы над салтыковскими бумагами (главным образом в бывшем Пушкинском Доме в Ленинграде). чтобы окончательно завершить II и III тома монографии, когда вмешательство сил нелитературных прервало эту работу; разумеется - нечего и думать об окончании этой работы в Саратове.
{217} Прибавлю в заключение этой своеобразной салтыковиады, что до 2 февраля 1933 года я принимал ближайшее участие в редактировании выпускаемого ГИХЛ-ом полного собрания сочинений Салтыкова. План этого собрания был составлен мною; все тома проходили кроме того, после редакторской работы, через мои отзывы для устранения возможных ошибок и недосмотров. Не думаю, чтобы мое устранение от работы послужило на пользу этому изданию; по вышедшим томам видно, как исковеркана и обнищена сама идея издания, задуманного широко и научно; какие были богатые возможности (опубликование сотен неизвестных и интереснейших вариантов) - и какие скудные плоды! Чье тут "головотяпство", чье тут "вредительство" - не разберешь; грустно и за Салтыкова и за читателей. Но - продолжаю.
Салтыков-Щедрин был моей первой и центральной работой в течение двадцати последних лет; была и вторая работа, которой я, параллельно с занятиями над Салтыковым, посвятил последние десять лет. После смерти А. А. Блока десять лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством, а с осени 1930 года - редактировал по составленному мною же плану полное собрание его сочинений в "Издательстве Писателей в Ленинграде". В течение двух лет вышли первые семь томов, заключающие в себе все поэтическое наследство А. А. Блока; в 1933 году должны были выйти остальные пять томов, соединяющие в себе всю его прозу. После моего выдворения из литературы и водворения в Саратов кто-нибудь другой (или другие) занимаются этой работой.
Но главное не в этом, а вот в чем. Еще весною 1932 года, под давлением учреждения, годом позднее вообще пресекшего мою литературную деятельность, тома стихотворений А. А. Блока были кастрированы: из них вырезаны уже целиком пропущенные цензурой, {218} наполовину отпечатанные и полностью сверстанные все мои примечания, заключающие в себе варианты, черновики, историю теста - и вообще до 10.000 стихотворных строк А. А. Блока, доселе неизвестных. Когда я после этого попробовал издать этот исключительно фактический и библиографический материал, потребовавший десяти лет труда, отдельной книгой (в 50 печатных листов), хотя бы "на правах рукописи", хотя бы в 200-300-х экземплярах - это тоже встретило неодолимые препятствия. И опять: что это такое? "головотяпство" ли, по слову Щедрина, "вредительство" ли, по нынешнему выражению? Я склоняюсь к Щедрину. Прибавлю только, что единственный мой экземпляр сверстанных и прокорректированных "Примечаний к стихотворениям А. А. Блока" взят у меня и невозвращен представителем все того же учреждения. Так может погибнуть десятилетняя работа о Блоке, двадцатилетняя - о Салтыкове. Если всё это - только "маленькие недостатки механизма", усердие не по разуму людей, беззаботных по отношению к культуре и литературе - то кому же, как не Вам, возглавляющему Союз Писателей, исправлять подобные перебои, задевающие наследие таких писателей, как Салтыков или Блок как, ни различны они по величине и значению в русской литературе XIX и XX века.
Этим - в самых общих чертах - исчерпывается то дело, с которым я обращаюсь к Вам. Мне, разумеется, было бы очень грустно не довершить этих двух основных - и последних - работ моей жизни. Как ни скромны они по сравнению с современными "Магнитогорсками литературы", но вряд ли в интересах нашей скудной культуры беззаботно швыряться даже такими - пусть - мелочами.
Если бы возраст и особенно здоровье (о состоянии которого хорошо осведомлено все тоже учреждение) позволили мне {219} спокойно выжидать несколько (а может быть и много) лет до возможности возвращения к заключительной работе над рукописями Салтыкова в б. Пушкинском Доме и над примечаниями к Блоку в архиве его вдовы, то я не стал бы обращаться к Вам с этим письмом, как ни бессмысленно само по себе мое пребывание в Саратове без всякой работы. Завершение же работ над Салтыковым и Блоком я, без ложной скромности, считаю делом, которое имеет не только личное, но и общекультурное значение. Поэтому обращаюсь к Вам со следующим:
Срок, необходимый мне для завершения в ленинградских архивах работ над Салтыковым и Блоком- два года. После такого завершения - для меня совершенно безразлично, где заканчивать "прочее время живота" (если оно продлится долее двух лет) - в Ленинграде ли, в Саратове ли, на свободе или в тюрьме. Думаю, что Вы имеете полную возможность, если пожелаете, устроить это мое возвращение к работе в Ленинград на два года. Я говорю - "если пожелаете". Возможно, что не пожелаете, - в таком случае заранее приношу извинение за то, что отнял у вас время настоящим письмом.
В заключение хочу прибавить только одно. Часто приходилось и приходится слышать, - а Вас об этом, вероятно, извещают "анонимные письма", - что Вы "оторвались от действительности", что с высоты своего положения не обращаете внимание на "мелочи жизни". Возможно, что и работа моя над Салтыковым и Блоком - одна из таких же мелочей. Но я предпочитаю думать о людях согласно слову Герцена: думай о людях лучше, чем о них говорят. А так как на протяжении четверти века наши литературные отношения с Вами никогда не были ни близкими, ни даже особенно дружелюбными, то именно это позволяет мне думать ("думай о людях лучше"...), что тем более Вам не будет безразлична судьба работ о {220} Салтыкове и Блоке, какими бы мелочами ни были эти работы на фоне, современной жизни.
Впрочем, в области культуры - нет "мелочей"; есть только ценное и вредное или ненужное. Насколько "ценны" и "нужны" мои работы о Салтыкове и Блоке - в этом я, конечно, пристрастный судья; но что и вредно и позорно перед литературой насильственное уничтожение этих работ - с этим, думается мне, согласятся все беспристрастные судьи.
С пожеланием Вам всего лучшего
Иванов-Разумник
Июль 1934.
Саратов.
V.
Все предыдущее было написано в первой половине 1934-го года в Саратове. Берусь теперь за перо в сентябре 1937 года, в Кашире, чтобы в немногих словах рассказать об этом трехлетии. Начну с того, что на мое письмо к Максиму Горькому я не получил никакого ответа, - и нисколько этому не удивился. А что письмо это было лично ему вручено - знаю наверное. Все это - в порядке вещей.
В Саратове помогла мне устроиться семья старого моего приятеля, проф. А. А. Крогиуса, - о котором упоминаю в своих литературных и житейских воспоминаниях; начал-таки писать их в Саратове, спасибо тетушке! Повторю здесь, что сам А. А. Крогиус скончался в Ленинграде от сыпного тифа за несколько месяцев до моего прибытия в Саратов. Вдова его, О. А. Крогиус, приютила меня в первые дни после моего приезда в эту "столицу Поволжья", а потом нашла мне замечательную комнату, в которой я и прожил все три года моего пребывания в Саратове. Комната была эта в дряхлой избушке на курьих ножках, стоявшей среди других подобных избушек над {221} обрывом Волги - ив пяти минутах ходьбы от центра города, пресловутых "Липок". Избушка состояла всего-навсего из кухни с русской печью и двух комнат. Большую из них занимала семья сапожника Иринархова - он, жена и десятилетний сын - а меньшую предоставили мне. По размерам это была точная копия моей камеры в ДПЗ - семь на три шага; узкая кровать, столик, стул, этажерка - вот и вся мебель; два покосившихся окошечка в двух стенах; тонкая, фанерная перегородка, не доходившая до потолка. Садик, размером с чайное блюдечко. Вид на Волгу. Через дом - музей Чернышевского. Я уютно прожил в этой комнатенке (от которой приходили в ужас саратовские знакомые) почти три года; спасибо О. А. Крогиус! Кстати сказать, переехала она с семьей в Петербург в 1935 году, откуда (только что узнал) в августе сего 1937 года выслана среди многих других, ей подобных, в Казахстан, - за то, что старший сын ее, Арсений, находится в "концентрационном лагере"... Это тебе не Англия! (Арсений умер в концентрационном лагере в 1938 году. О. Г. Крогиус получила волчий паспорт с клеймом "ОМЗ", что означает, что-де она отбыла наказание в "местах заключения", - в которых она никогда не была. Это в буквальном смысле фальшивый паспорт, - и ничего нельзя поделать! (Примечание 1939 г.)
Дважды приезжала ко мне В. Н. - зимою 1933-го и осенью 1934-го года и гостила по месяцу. Просветы были эти очень короткими. Но постепенно и случайно образовался небольшой круг знакомых, а главное! - целых три рояля оказались в моем распоряжении. Игра в две и в четыре руки утешала в последние два года пребывания моего в гостях у тетки. Летом происходили частые экскурсии на лодках, пикники и купанье на пляже - полная идиллия! Спасибо тетушке, - я поправился в этой бездельной жизни. Бездельной потому, что все попытки получить из Москвы литературную работу оказались {222} бесплодными, как я об этом уже рассказывал. А о бытовой провинциальной саратовской жизни рассказывать нечего: она ничем не отличалась от бытовой симферопольской жизни тридцатью годами ранее.
В Саратове нас, ссыльных, было немного, - это все была ссыльная "элита", которую надо было иметь под глазами. Или, быть может, к которой относились с "глубоким уважением"? Остальных разослали по Анткарску, Вольску, Каменке и разным другим городкам и местечкам области.
Была группа человек в пятнадцать меньшевиков, была такая же группа правых и левых эсеров. Я имел благоразумие избегать встреч и знакомств с эсерами - и хорошо сделал, как оказалось впоследствии. Зато с меньшевиками знакомств не избегал и сошелся с семьей одного из видных и партийных меньшевиков, Кибрика. Эта семья много скрасила мне первое время моего пребывания в Саратове. Но Кибрик оказался менее осторожным, чем я, он дружил и поддерживал знакомство с былыми товарищами по партии, за что и понес должную кару: в середине 1936 года он и все саратовские меньшевики были арестованы по обвинению в организации саратовской подпольной меньшевистской группировки, долго сидели в тюрьме, а потом были разосланы по разным северным и сибирским ссылкам.
Предпочитал вести знакомство с людьми менее "опасными", с местными саратовскими обывателями - и с благодарностью вспоминаю три семьи, пригревшие меня, в свою очередь "опасного" человека. Хотел бы назвать их здесь - да не могу: это было бы с моей стороны поступком черной неблагодарности. Зато могу назвать одного "своего брата", ссыльного Д. П. Коробова. Это интересная фигура. В царские времена он стоял во главе всего Центросоюза с его многомиллионными оборотами. Испытав и тюрьму и ссылку в глухие дебри Марийской области, он попал на заключительную ссылку в Саратов, где ему {223} предложено было, в виду его большого кооперативного стажа, стать во главе кооперации саратовской области. Он попробовал - и вынужден был месяца через два сложить оружие. Рассказывал мне, что в Центросоюзе, обнимавшем своею работой всю Россию и всю Сибирь, у них в Москве, в центре, было всего два бухгалтера - и записная книжка в его кармане.
Здесь же, для небольшой области, в Саратове сидело двенадцать бухгалтеров, были пуды входящих и исходящих - и дело шло так, что сам черт ногу сломит. Испугавшись, что его раньше или позже обвинят во "вредительстве", он поспешил отретироваться и ограничился скромной должностью юрисконсульта при одном саратовском деревообделочном заводе. Мы с ним очень сдружились - и во все летние месяцы ездили вместе купаться на превосходный саратовский пляж широкую песчаную отмель посередине реки, густо заросшую в центре лозняком. Купаться необходимо было вдвоем: пока один плавал, другой сторожил платье, которое без этого немедленно пропало бы бесследно: саратовские жулики славились по всей Волге.
Разнообразие жизни дополняли обязательные явки в ГПУ "на регистрацию" через каждые четыре дня в пятый. Являлся я в комнату комендатуры, подходил к одному из трех окошечек и сообщал дежурному: "Пропуск в комнату No 72 для явки на регистрацию". Дежурный звонил по телефону в указанную комнату и, получив ответ, вручал мне пропуск, с которым надо было идти в соседний подъезд на третий этаж. Там я находил - все три года! - одного и того же следователя, который раскрывал книгу живота, делал в ней какую-то отметку и всегда задавал один и тот же вопрос: "Нового ничего?" Это значило - не переменил ли я квартиры и не переменил ли места службы. А так как я квартиры не менял и нигде служил, то три года подряд на стереотипный вопрос я давал стереотипный ответ: "Ничего {224} нового", - получал штамп на пропуске и мог идти домой. Процедура не сложная, но до чего же она мне надоела за три года! Я подсчитал, что за это время она повторилась почти двести раз.
Однажды только за все три года моя явка прошла с некоторым вариантом. Задав обычный вопрос и получив обычный ответ, следователь сказал мне, что со мной желает познакомиться новый, только что прибывший из центра начальник секретно-политического отдела, - и провел меня к нему. Начальник оказался вполне любезным, сказал, что знает мое дело и хочет спросить меня: почему я нигде не служу в Саратове? Со стороны ГПУ это не встретит никакого препятствия, наоборот, он может сейчас же позвонить в университетскую библиотеку, где открылась вакансия библиотекаря и предложить меня на это место. "Я совершенно уверен, - сказал он, - что наша рекомендация будет для них вполне убедительной"...
Я тоже был в этом совершенно уверен, но не имел желания попасть куда бы то ни было по рекомендации ГПУ, а потому отказался от предложения, заявив, что в службе не нуждаюсь...
Это напомнило мне, кстати, один из разговоров со следователем Лазарем Коганом за год до этого. Ведя со мной беседы на литературные темы, Лазарь Коган сообщил мне, что в дневниках Зинаиды Гиппиус, ныне лежащих в секретном отделении Публичной Библиотеки, не раз встречается моя фамилия - "впрочем, в контакте нисколько вас с нашей точки зрения не компрометирующем" (Позднейшее примечание: О Зинаиде Гиппиус и обо мне - См. в моей книге "Холодные наблюдения и горестные заметы".) затем стал вообще рассказывать об эмигрантских настроениях, одобрял Милюкова за то, что тот в своей парижской газете выступает против идеи об интервенции, и прибавил:
"Он мог бы теперь и вернуться для работы в советской России. Мы могли бы предложить ему место - {225} ну, скажем, директора в Публичной Библиотеке"... Воображаю, как польщен был бы П. Н. Милюков, если бы знал о столь лестном предложении! Столь же польщен был и я аналогичным предложением, хоть и меньшего масштаба.
Еще один эпизод в главку о саратовских ссылках. Как-то в феврале или марте 1935 года, рано утром, едва я успел встать, явился незнакомый мне пожилой господин с рекомендательным письмом из Петербурга от О. А. Крогиус: педагог, преподаватель математики Герман Германович Брандт. Он сказал мне, что хоть мы теперь и незнакомы, а все же тридцать слишком лет тому назад ежедневно встречались, участвуя в студенческом шахматном турнире Пересыльной тюрьмы, где я взял первый приз, а он второй...
Верно - вспомнил! В чем же дело? - Оказалось, что через месяц-другой после убийства Кирова (в декабре 1934 года) десятки тысяч петербуржцев с семьями были приглашены к выезду из бывшей столицы. Им было дано кому пять, кому десять дней на ликвидацию всех дел и всего имущества, а разослали их по разным градам и весям Советского Союза - кого в Саратов, кого в Самару, кого в Оренбург, кого в Казахстан: земля наша велика и обильна, а порядок в ней правит ГПУ. Он с женой и сыном студентом очутился в Саратове, без единой души знакомых, и не знают теперь они. как быть: или сразу в Волге топиться, или еще подождать немного? В квартире у Д. П. Коробова была лишняя комната - он немедленно и радушно приютил новых ссыльных. Вскоре они нашли и отдельную квартирку. В этот день у меня была очередная явка в ГПУ. Пошел - и не мог протискаться в комнате комендатуры, - так густо была заполнена она этими только что прибывшими выселенцами из Петербурга: в Саратов их было направлено полторы тысячи человек. Какая дикая бессмыслица, сколько горя человеческого, сколько слез!
В комендатуре, приходя на явку, часто {226} встречался я с ссыльным профессором и академиком Перетцом, с которым был знаком и раньше. Он охотно разговаривал на разные литературные темы, но уклонялся от домашнего знакомства: очень меня боялся. Да и мало ли еще было знакомств и встреч - всех не перечтешь.
Время - крылато. Подошел и февраль 1936 года. Явившись 1-го февраля на очередную регистрацию, я на обычный вопрос следователя - "нового ничего?" очень удивил его ответом: "Нового много: завтра кончается срок моей ссылки". Он засмеялся и предложил мне зайти 5-го февраля на очередную явку, когда он мне вручит соответственный документ. Я знал, что за эти дни он телеграфно снесется с Москвой: освободить такого-то, или арестовать, начать новое дело и продолжить срок ссылки еще на три года? Когда я, не без некоторого опасения, явился к нему 5-го февраля, он выдал мне за номером 21.239 (ого!) следующую "Справку":
"Дана Иванову Разумнику, 1878 года рождения в том, что он по отбытии от ссылки освобожден".
Вполне безграмотно, но достаточно для того, чтобы по этому документу получить в саратовской милиции паспорт; однако дело оказалось не столь простым. Когда я с этой "Справкой" явился в милицию за получением паспорта, то начальник паспортного стола спросил меня где я родился. - "В Тифлисе". - "А может быть в Вятке? Где доказательство?" - Доказательств у меня под руками не было, - метрика хранилась в Царском Селе. - "Ваша профессия?" - "Писатель" "А может быть балетный танцор?" - Я предложил ему навести справки в университетской саратовской библиотеке, но он резонно ответил, что это мое дело представить справки, а не его дело - искать их. Поэтому, впредь до предъявления нужных справок, он выдал мне, вместо паспорта, трехмесячный "вид на жительство", в котором рубрику "профессия" он заполнил так: "человек без {227} определенных занятий", а в графе "На основании каких документов выдан паспорт" - стояло, конечно: "На основании справки НКВД за No 21.239". Это был настоящий волчий билет, с которым я не мог уехать из Саратова.
А уехать пришлось спешно: В. Н. тяжело и опасно заболела (плеврит с осложнениями) - и я немедленно выехал в Москву, где, по совету бывшей жены Максима Горького Е. П. Пешковой, стоявшей во главе политического Красного Креста, оставил ей заявление в Главное управление милиции о разрешении мне пробыть месяц в Царском Селе ввиду тяжелой болезни жены; не ожидая ответа, в тот же день я уехал в Ленинград и Царское Село. Через два дня я получил телеграмму от Е. П. Пешковой, что разрешение дано и послано в царскосельскую милицию. Я прожил в Царском Селе два с половиной месяца, вместо одного, так как все "ждал" получения милицией этого разрешения. Оно так и не пришло. Маленькие недостатки механизма!
Итак - я снова дома, после трехлетнего путешествия! Два с половиной месяца прошли, как один день. В. Н. медленно выздоравливала, а я занимался разбором и приведением в порядок своего литературного архива. Описи его у меня тогда не было, и я не мог точно установить, что именно было похищено у меня в ночь со 2-го на 3-е февраля 1933 года. Установил лишь, что пропали два больших пакета с оригиналами стихотворений Николая Клюева и Сергея Есенина. Не могу квалифицировать изъятие из моего архива этих рукописей иначе, как простой кражей, совершенной у меня следователем Бузниковым.
Не знаю, сам ли он такой ценитель автографов этих поэтов, или, что вероятнее, передал рукописи своему приятелю, следователю Лазарю Когану, который "собирал автографы" (легкий способ "собирания"!), но факт кражи остается фактом. Что еще было похищено ретивым следователем - установить по памяти не {228} удалось; я использовал два с половиной месяца пребывания дома, чтобы составить хотя бы краткую опись своего литературного архива, - на случай знакомства в будущем с теткиными сынами, подобными Бузникову и Лазарю Когану. Кстати о последних, чтобы (надеюсь!) попрощаться с ними: весною 1937 года, будучи в Ленинграде, я узнал, что Бузников арестован и сидит в том самом ДПЗ, в котором допрашивал меня, а Лазарь Коган не то расстрелян, не то сослан куда-то "на периферию"... Сегодня - я, а завтра - ты...
К середине мая 1936 года я "добровольно" вернулся в Саратов, чтобы провести там (надо же было где-нибудь проводить!) лето, а заодно получить и паспорт, вместо волчьего билета. Теперь у меня была с собой метрика, а также "справка" от ленинградского отделения Союза писателей, что "предъявитель сего, имярек, действительно является профессиональным литератором". Вооруженный этими документами, я, наконец, мог получить от саратовской милиции паспорт, в котором место "человека без определенных занятий" заменил "служащий писатель". На мое замечание паспортистке, что "служащим" я никогда не был - получил убежденный ответ: "В нашей стране есть лишь два класса - либо служащие, либо рабочие"... Как быстро, однако, приближаемся мы к бесклассовому обществу!
Однако паспортистка эта оказала мне большую услугу, за которую хочу помянуть здесь эту девицу добрым словом.
Когда я подал ей в окошечко свой волчий билет, она меня спросила:
- Почему вам был выдан временный вид на жительство?
- Потому что у меня тогда не было нужных документов.
- А теперь есть?
{229} - Теперь есть. Вот метрика, вот справка о профессии.
- Подождите немного.
Взяла документы и захлопнула окошечко. Минут через десять оно снова открылось и девица вручила мне паспорт, сроком на пять лет, пожелав всего хорошего и обменявшись со мной репликой по поводу "служащего-писателя". Когда я, вернувшись домой, стал рассматривать паспорт, каково было мое приятное удивление: в графе "на основании каких документов выдан паспорт", вместо сакраментального и закрывающего все двери: "на основании справки НКВД", стояло просто - "на основании метрического свидетельства за No 5632". Я готов был расцеловать милую паспортистку за такое непростительное с ее стороны служебное упущение.
Месяца через три, в палящий августовский день, поехали мы с Д. П. Коробовым на пляж, переполненный сотнями мужчин, женщин и детей в купальных костюмах. Мы спустились в самый конец пляжа, где народа было мало. Д. П. Коробов остался сторожить наше платье, а я пошел по пляжу далеко вверх по течению, чтобы потом сама вода понесла меня вниз, на расстоянии с добрую версту. Когда я среди толпы купальщиков вошел в почти парную воду, за мной вошла какая-то тоненькая блондинка с кудряшками и отдалась течению по середине реки рядом со мной.
- А я вас знаю, - сказала она.
- А я вас что-то не признаю, - ответил я.
- Вы живете на Чернышевской улице рядом с усадьбой Чернышевского.
- Верно.
- А я живу рядом, на Бабушкином взвозе. Вы писатель.
- Тоже верно.
- Вас зовут (она назвала меня).
- Опять-таки верно.
- А моя фамилия (она назвала себя). Значит, {230} вы все-таки не хотите меня признать.
- Простите, не вспомню.
- Какой же вы неблагодарный человек! А кто вам выдал весной этого года чистый паспорт?
- Как!
- Ну, да. Я паспортистка третьего отделения милиции...
Значит, с ее стороны это не было служебным упущением, не было ошибкой, а было сознательным добрым делом - избавить бывшего ссыльного от волчьего паспорта! Я не знал, что сказать ей, а в это время река донесла нас до того места, где на берегу сидел Д. П. Коробов, ожидая своей очереди. Выходя из воды и отряхиваясь, точно болонка, паспортистка сказала:
- Заходите ко мне, будем знакомы, ведь мы соседи.
Недели через две я навсегда простился с Саратовым и, каюсь, так и не зашел к милой девушке. А надо было бы зайти, занести ей букет цветов или коробку конфет, поблагодарить за добрый поступок. Немного стыдно мне признаться: помешала этому мысль, что она служит в милиции: мало ли кого я могу у нее встретить! Мундир часто заслоняет от нас человека. Так я и уехал из Саратова, не поблагодарив ее. Хоть с опозданием, но делаю это теперь.
И вот я - вольный советский гражданин! У меня - "чистый паспорт!" Могу ехать - куда мне угодно, могу жить - где мне угодно... за исключением того места, где хочу жить: дома. Ибо в запретной зоне ста километров вокруг Петербурга и Москвы провинциального паспорта не пропишут. Значит - надо было выбирать какое-либо место за пределами этих стокилометровых зон. А так как, во-первых, вокруг Петербурга нет такого ожерелья уездных городков, как вокруг Москвы, а во-вторых - лишь в Москве я надеялся получить какую-либо литературную работу, то я и остановил свой выбор на одном из {231} подмосковских городков. В начале сентября попрощался я с Саратовым, благодарный ему за все то, что он мне дал - и поселился в Кашире (108 километров от Москвы!).
Полная противоположность Саратову! Там у меня были милые знакомые, три рояля, прогулки и песчаный пляж летом. Здесь - вот уже год прошел - ни единой души знакомой, совершенное одиночное заключение, которое я называю заключением кубическим - так как комната моя является точным кубом: четыре аршина в длину, четыре в ширину, четыре в высоту. Тишина и молчание. Идеальные условия для работы.
Да, но сперва надо было найти работу. 1-го октября 1936 года я написал три одинаковых письма трем литературно-издательским китам (через лет десять никто, наверное, не будет помнить имен этих рыбешек, постараюсь хоть здесь помочь беднягам): главному редактору Государственного издательства художественной литературы, некоему Лупполу; главному редактору отдела классиков в Государственном издательстве, некоему Лебедеву-Полянскому; заведывающему Государственным издательством, некоему Накорякову. Текст всех трех писем был одинаков:
"Поселившись в Москве, я хотел бы узнать, могу ли рассчитывать на какую-либо литературную работу в ГИХЛ'е - текстологию, комментарии и т. п. Прибавлю к этому, что у меня лежит в совершенно законченном виде работа в 50 печатных листов о черновиках и вариантах стихотворений Александра Блока (в ней до 10.000 неизвестных его строк), а также материалы ко II и III томам монографии о Салтыкове, 1-ый том которой вышел в издании "Федерация" в 1930 году."
Через месяц будет ровно год, как я жду ответа на эти письма. Все это - в порядке вещей.
В это время (осенью 1936 года) Государственный литературный музей директор В. Д. Бонч-Бруевич {232} - собирался издавать том писем Андрея Белого к Александру Блоку, приобретенных Музеем у Л. Д. Блок (Позднейшее примечание: Том этот вышел в 1941 году.).
Я предложил музею приготовить к печати письма Андрея Белого ко мне (200 писем за время от 1913-го до 1933 года, около 40 печатных листов). Музей принял мое предложение, дважды дал мне командировку в Детское Село (в декабре 1936-го и в апреле 1937 года, оба раза на месяц), - и вот я, после трех лет отдыха, засел за работу по шестнадцати часов в сутки: по договору надо было представить законченный том в 50 печатных листов к 1 июля 1937 года: сорок печатных листов текста и десять печатных листов комментариев. День в день, 1-го июля, я сдал Музею всю эту работу, над которой просидел, не разгибая спины, семь месяцев. Когда она увидит свет - это вопрос другой. Подождем наступления бесклассового (и бесцензурного?) общества.
Как много значил для меня в жизни Андрей Белый, как потрясен я был, узнав в начале января 1934 года, в Саратове, о его неожиданной для меня смерти - обо всем этом говорю в посвященной ему главе воспоминаний, а потому повторяться здесь не буду.
И вот - с июля 1937 года я снова могу приняться за продолжение моих житейских и литературных воспоминаний. Они двигаются медленно вперед, так как все материалы к ним лежат в бывшем Царском, бывшем Детском Селе, ныне городе Пушкине. А когда получу я возможность завершить цикл моих юбилейных путешествий и вернуться домой? Для этого надо получить от специальной комиссии ЦИК'а "снятие судимости" (ведь меня же судили! и без меня осудили!), а для этого в свою очередь надо подать в означенную Комиссию особое заявление, в коем надлежит раскаяться в прошлом и обещать верноподданничество в будущем. Но как же я могу {233} раскаяться в том, что был "идейным центром народничества"?! Это напоминает мне рассказ старого знакомого, ныне покойного Д. П. Носовича, которого в 1919 году посадили в "концлагерь" Чесменской богадельни по обвинению в том, что его брат - министр в правительстве Деникина. Срок пребывания в концлагере был обозначен в сопроводительной бумаге кратко и вразумительно: "впредь до раскаяния". Безвыходное положение! Как можно раскаяться в том, что мой брат - министр?
Однако, я всё же попробовал найти выход - я обратился в указанную Комиссию (через политический Красный Крест) в конце марта 1937 года со следующим заявлением:
"В немногие оставшиеся годы (мне скоро 60 лет) мне хотелось бы довести до конца две основных работы моей жизни: 1) Монографию о Салтыкове-Щедрине, в 3-х томах (над которой я работал в изд. "Федерация" в 1930 году), 2) Почти готовое к печати исследование о черновиках стихов А. А. Блока (том в 50 печатных листов), над которым я работал со дня смерти поэта (1921 г.).
Работа эта была прервана моей ссылкой в Саратов, которая закончилась год тому назад (февраль 1936 года).
Работа может быть доведена до конца только в условиях занятий в архиве А. А. Блока и в рукописном отделении ИРЛИ (б. Пушкинский дом), находящихся в Ленинграде, который мне недоступен в виду невозможности для меня получить ленинградский паспорт.
Прошу Комиссию всероссийского центрального комитета по снятию судимости рассмотреть мое дело, дать мне разрешение на ленинградский паспорт - и тем самым дать возможность закончить книги, которые (полагаю это, без самомнения) вносят не мало нового в область литературоведения и которыми мне хотелось бы завершить свою более чем тридцатилетнюю литературную работу."
{234} В конце апреля, я получил от Красного Креста (официальное наименование его: "Помощь политическим заключенным") сообщение: "Ваше заявление мы переслали в Комиссию по делам Частных амнистий при ЦИК'е. Ответ получите непосредственно."
Через месяц будет ровно полгода, как я жду ответа на свое заявление. Всё это в порядке вещей.
Однако ответ пришел гораздо скорее, чем я думал, когда писал эти строки, да только пришел совсем с другой стороны.[лдн-книги2]
1934-1937
{235}
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Repetitio est mater studiorum.
Латинская пословица
I.
Последние строки писал я в сентябре 1937 года в Кашире. Продолжаю теперь ровно через два года, в сентябре 1939 года в городе Пушкине, бывшем Детском, бывшем Царском Селе. За эти два года чествование мое приняло особенно яркую окраску, так что рассказ о нем - продолжается (Первая глава настоящей части написана в 1939-1940 году в Пушкине, остальные в 1944 году в Пруссии, в городке Конице.).
29-го сентября 1937 года я спокойно сидел в своей кубической комнате в Кашире и работал над воспоминаниями. Написано было уже до пятнадцати печатных листов, но надежды беспрепятственно работать над ними было мало: с самого начала года волна арестов захлестнула всех, кто был четырьмя годами ранее привлечен к моему "делу". В январе кончался срок архангельской ссылки Д. М. Пинеса, просидевшего до того два года в Верхне-Уральском изоляторе. В самый день окончания срока он был арестован и заключен в архангельскую тюрьму, после чего следы его навсегда пропали. В апреле месяце арестована была его жена, Р. Я. Пинес. Тогда же арестован был в Чимкенте и отправлен в один из лагерей Сибири Г. М. Котляров, где через год и скончался. И еще, и еще, и еще. Так что одна из наших петербургских знакомых, во время апрельского моего пребывания {236} дома, не очень умно, но очень искренно вопрошала:
"Отчего вас не арестуют?" Я успокоил ее старой поговоркой: что отложено не потеряно. Но проходили месяцы - меня не трогали. Может быть, и не тронут? Как раз 29-го сентября днем я отправил В. Н. большое письмо, в конце которого привел прелестную басенку Даля, якобы написанную русским немцем, взявшимся за литературу (привожу ее по памяти):
"Один молодой козел пошел себя прогуливать.
К нему подошел городовой и спросил: "Молодой козел, что ты делаешь?" Молодой козел отвечал:
"Я ничего не делаю, я просто себя прогуливаю". Тогда городовой оставил его и пошел по своим делам. Нравоучение: какой великодушный бывает русский человек!"
Приведя эту басенку, я писал В. Н., что авось-де и старого козла оставят в покое, а великодушный городовой пойдет по своим делам, - мало ли их у него! Вот только великодушие современных городовых - под большим сомнением: мы далеко шагнули вперед со времен Даля.
Так вот, 29-го сентября 1937 года, в 9 часов вечера, когда я спокойно работал в своей кубической комнате, раздался стук в наружную дверь. Квартирохозяин мой, Евгений Петрович Быков (оказавшийся очень порядочным человеком, что по нынешним временам явление не очень частое) пошел отворять, а через минуту распахнулась дверь и моей комнаты.
А дальше - стоит ли рассказывать? Повторение пройденного!
Конечно, повторение - мать учения, а потому советская власть решительно пренебрегла другой, не менее почтенной латинской поговоркой:
Не повторяй дважды одного и того же, не сажай в тюрьму дважды по одному и тому же делу одного и того же человека, не повторяй ему дважды старых обвинений, пусть совершенно нелепых, но за которые {237} он однажды уже подвергся незаслуженной каре. Но ведь и то сказать: а кто мог помешать теткиным сынам придумать еще кучу и новых обвинений?
Следователь каширского НКВД предъявил московский ордер на обыск и арест. Сопровождавший его нижний чин начал с обыска моих карманов, в поисках оружия. Затем - с 9 до 12 часов ночи - обыск во всей комнате: опустошенные чемоданы, перевернутые тюфяки, прощупанные подушки, забранные письма и рукописи. Тут погибли и мои "воспоминания", две толстейшие клеенчатые тетради, - всуе трудился пишущий! Погибла и целая папка материалов по студенческому движению начала девятисотых годов: гектографированные прокламации, стихи, протоколы студенческого Совета Старост 1901-1902 года - и многое невосстановимое. Почти через полтора года я прочел среди документов моего "дела" - акт о сожжении взятых при обыске бумаг, как "не имеющих отношения к делу". Но чего же и требовать от малограмотного великодушного городового! А вот тетрадь "Юбилей" сохранилась чудом, хорошо была запрятана: теткин сын ее не заметил!
В 12 часов ночи автомобиль повез меня в Каширу. (Город расположен в трех верстах от станции и станционного поселка, в котором я жил). Накануне день был жаркий, я вернулся 28-го сентября из Москвы еще в летнем пальто; но теперь, умудренный опытом, я надел в дорогу шубу и шапку с наушниками. Следователь только покосился на такую предусмотрительность: не на новичка напал!
Каширский НКВД, каширская тюрьма ДПЗ, одиночная камера и бессонная ночь (лютые насекомые). В 10 часов утра - автомобиль. Два следователя (один - в штатском, с чемоданчиком взятых при обыске бумаг) везут меня в общем вагоне дачного поезда в Москву. Жарко. Публика с изумлением взирает на мою шубу и шапку с наушниками: что сей сон значит? Москва, час дня; такси на Лубянку 14, {238} в московский областной НКВД. Здесь, на Лубянке 14, я уже гостил в 1919 году; но теперь на месте небольшого двухэтажного дома с садом выросло многоэтажное, массивное здание: сильно разрослись теткины дела!
Меня провели на шестой этаж в дежурную комнату, где за письменным столом одиноко скучал очередной дежурный, и оставили с ним в молчаливом tete a tete . Ни он на меня, ни я на него не обращали никакого внимания за все те пять часов, которые я просидел на диване в этой дежурной комнате. За все время было только два небольших развлечения.
Часа в три раздался шум в коридоре, возбужденные голоса, и в комнату втолкнули молодого и приличного одетого человека с толстой книгой в руках. Он был очень возбужден и восклицал с явным немецким акцентом:
- На каком основании меня задержали? Что за безобразие! Требую немедленного освобождения!
Сопровождавшие его агенты сообщили, что взяли его у трамвайной остановки в Охотном ряду за агитацию среди толпы.
Дело было вот в чем: пользуясь воскресным днем и хорошей погодой, он решил отправиться в гости к знакомым, которым давно уже обещали привезти показать имевшуюся у него Библию с известными иллюстрациями Густава Дорэ. Отправился и стал ждать трамвая у многолюдной остановки в Охотном ряду, а так как нужный ему номер трамвая долго не приходил, то он сел на тротуарную тумбу и стал перелистывать Библию, рассматривая рисунки. Вскоре вокруг него столпилась группа любопытствующих, ему стали задавать вопросы, он стал показывать разные рисунки и объяснять их. Не успел он и оглянуться, как к нему подошли два "великодушных городовых" в штатском, и, несмотря на его уверения, что он только "просто себя прогуливает" - отвезли его сюда на Лубянку. Дежурный отобрал у него {239} книгу, бегло просмотрел и небрежно бросил на пол за своим столом.
- Почему вы мне ее не возвращаете? - возмутился молодой человек.
- А потому, что она - вещественное доказательство.
- Доказательство чего?
- Того, что вы вели религиозную пропаганду среди воскресной толпы...
Потом дежурный позвонил по телефону и сказал кому-то:
- Петя, тут есть подходящий субъект по твоей специальности, дело идет о религиозной агитации. Я сейчас его к тебе пришлю.
И молодого человека, совершенно ошарашенного, увели, а какой-то нижний чин понес за ним и "вещественное доказательство". Сколько лет тюрьмы, ссылки или лагеря получил этот неосторожный молодой человек, который так неудачно "пошел себя прогуливать" в воскресенье? И при какой другой юрисдикции, кроме самой свободной в мире "сталинской конституции", возможно что-либо подобное?
Пока все это происходило, в соседней комнате все время раздавались голоса. Вскоре дверь распахнулась и в дежурную комнату вошла целая толпа, человек тридцать молодых людей, кто в форме, кто в штатском, все с портфелями в руках. Возглавлял эту группу пожилой высокий и плотный человек, лет пятидесяти, начисто бритый, "Некто в желтом" - с головы до ног в желтой коже: желтые краги, желтые кожаные брюки, желтая кожаная куртка военного образца и на ней какой-то знак отличия. Остановившись, "Некто в желтом" сказал:
- Ну, на сегодня довольно. Надеюсь, что вы достаточно усвоили книжку товарища Заковского. В следующий раз - в воскресение продолжим занятия.
Я догадался: молодые люди были следователями, {240} "ежовский набор", которых насвистывал теткин сын старшего поколения. С этим желтым человеком я через месяц встретился при весьма необычных и очень памятных для меня обстоятельствах, имел с ним краткую, но поучительную беседу. Тогда же я узнал, что это был начальник секретно-политического отдела областного московского НКВД товарищ Реденс. Но об этом - речь впереди.
Часов в шесть вечера за мной пришел нижний чин и повел меня с шестого этажа дежурной комнаты в подвал, в "распределитель". Повторение пройденного: личный обыск, отобрание столь опасных вещей, как чемоданчик, кашне, часы, спарывание с брюк столь опасных орудий, как металлические пуговицы, анкета. Смешной разговор при заполнении анкеты дежурным: он меня спросил:
- Фамилия?
- Ивaнов.
- Ивaнов? ''
- Ивaнов.
- Почему Ивaнов? Иванoв!
- Степан - Степaнов, Демьян - Демьянов, Иван - Ивaнов; почему же Иванoв?
Аргумент этот настолько поразил дежурного своею неожиданностью, что он не стал спорить, мой филологический довод, по-видимому, его убедил. По крайней мере, поздно вечером, выкликая меня для посадки в "Черный ворон", он провозгласил: - Ивaнов!
Из анкетной комнаты меня втолкнули (буквально) в распределитель, густо населенную комнату ожидания в том же подвале. Время шло к вечеру. Распределитель все больше и больше наполнялся вновь прибывающими арестованными - мужчинами и женщинами. Одна из них, молоденькая, в легком платьице, с завистью сказала мне:
- Какой вы счастливый: и шуба и вещи... А меня взяли со службы, вот как есть...
{241} Брали и со службы и с улицы, и из дома, и без обыска, и с обыском. Перепуганные лица, вытаращенные от ужаса глаза... Картина незабываемая.
Надо вспомнить, когда все это происходило: это был 1937 год, когда во главе НКВД стал либо явно ненормальный, либо явный провокатор Ежов, когда по всему лицу земли русской аресты шли не тысячами и не десятками тысяч, а сотнями тысяч и миллионами, когда все тюрьмы, центральные и провинциальные, были набиты до отказа, когда спешно строились (знаю это про Челябинск, про Свердловск) новые и новые бараки для новых табунов арестованных. Худшего и подлейшего "вредительства" нельзя себе представить, а участь совершенно ни в чем неповинных миллионов людей нельзя оправдать никакими государственными соображениями. Явному дегенерату Ежову не за страх, а за совесть деятельно помогал явный мерзавец Заковский, прославившийся в 1937 году совершенно фантастической брошюрой о шпионаже, а в 1938 году сам арестованный (и расстрелянный), как шпион...
Интересно, вскроет ли когда-нибудь история подоплеку тех невероятных гнусностей, которые совершались за эти два года (1937-1938), или виновникам удастся замести следы и свалить вину на стрелочников?
Так или иначе, но я попал в волну массовых сентябрьских арестов - и прекрасно сознавал, что теперь это уже "всерьез и надолго". Так и случилось: просидел в тюрьме 21 месяц.
Поздним вечером - набитый до отказа "Черный ворон" забрал партию арестованных и повез нас в Бутырскую тюрьму. Здравствуй, старый знакомый 1933-го года, бутырский "вокзал"! И одиночная камера ожидания! И личный обыск по старинному ритуалу: "разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь!" и так далее, с одним лишь усовершенствованием (всюду прогресс!): "раздвиньте руками задний проход!" Потом баня, потом перекличка - и {242} группу человек в двадцать повели нас разными ходами и переходами на оседлое местожительство в камеру No 45, во втором этаже над банями (через год камеры были переномерованы). Я пробыл в ней полгода.
Если четырьмя годами ранее камера No 65 показалась мне перенаселенной, когда в ней было семьдесят два человека на двадцать четыре места, то что же сказать теперь о моем новом жилище, где нас набилось сто сорок человек? Днем мы сидели плечом к плечу; ночью бок о бок впрессовывались под нарами (это теперь называлось: "метро"), и на щитах между нарами (называлось: "самолет"), на нарах. Градация была прежней: новички попадали в "метро", по мере увеличения стажа попадали на "самолет" и с течением времени достигали нар, мало-помалу передвигаясь на них от "параши" к окну. Движение это было столь медленным, что я два месяца спал в "метро" и лишь через полгода достиг вожделенных нар у окна. Об академике Платонове я больше не вспоминал: до него ли было, когда под нарами лежали и нарком Крыленко, и многие замнаркомы, и важный советский генерал, "четырехромбовик" Ингаунис (командующий всей авиацией Дальневосточной армии при Блюхере) и знаменитый конструктор аэропланов "АНТ" - А. Н. Туполев, и многочисленные партийные киты, и ломовые извозчики, и академики, и шоферы, и профессора, и бывший товарищ министра генерал Ожунковский, и члены Коминтерна, и мальчики шестнадцати лет, и старики лет восьмидесяти (присяжный поверенный Чибисов и главный московский раввин), и социалисты разных оттенков, и "каэры" (контрреволюционеры), и мелкие проворовавшиеся советские служащие, и летчики, и студенты, и... да всех и не перечислить! Полная демократическая "уравниловка".
Начни я описывать все свои тюремные встречи, знакомства, впечатления описанию конца краю не было бы: ведь за двадцать один месяц путешествия моего {243} по разным тюремным камерам передо мной прошло никак не менее тысячи человек. Однако кое о ком и кое о чем расскажу. Сперва - о быте тюрьмы, потом - о людях и встречах, а потом уже - и моем "деле".
II.
Утром в шесть часов - оклик дежурного по коридору: "Вставать!", а иногда сразу же и другой, более желанный: "Приготовиться к оправке!". Ибо, вставая, мы часто мечтали о том - когда же нас поведут в уборную? Но тюрьма была переполнена, в уборную мы попадали иногда и в первую очередь, сразу же после вставания, а иногда и в последнюю, перед самым обедом, также и вечером иногда перед сном, часов в девять, а иногда будили нас для этого и в первом часу ночи. Наши сто сорок человек не вмещались в уборной, так что приходилось разбиваться на две группы. Староста выкликал: "Кому спешно?" При выходе из камеры в уборную дежурный выдавал каждому по маленькому листочку бумаги разумеется, не газетной и вообще не печатной. Мы умели экономить ее для других надобностей, особенно для надобности корреспонденции, о чем речь будет ниже.
Перед семью устроенными в полу отверстиями с нарисованными рядом ступнями ног выстраивались очереди и, в нарушение указа Петра Великого, происходило публичное оскорбление государственного орла. Тут же, в соседней комнате - ряд умывальных кранов. Очередь перед каждым из них.
В половине седьмого - окрик в дверную форточку: "Приготовиться к поверке!" Мы выстраивались на нарах в три ряда, еще один ряд стоял на полу. Отворялась дверь, входил "корпусной", староста докладывал: "В камере сто сорок человек, двенадцать на Допросе, пять в лазарете, налицо сто двадцать три человека". Корпусной шел по узкому проходу (к {244} тому же в середине его еще длинный стол мешал), молча пересчитывал нас, иногда путался в счете и начинал поверку сначала. Та же история повторялась и в половине десятого вечера, перед сном. Для чего происходила эта ежедневная двукратная процедура - неведомо: куда же мог испариться заключенный? Разве только - покончил самоубийством и лежал под нарами. Об одной из таких попыток к самоубийству еще расскажу.
Вскоре после поверки открывалась дверная форточка и наш выборный камерный староста принимал фунтовые куски хлеба и миску пиленого сахара - по расчету 21/2 куска на человека, таков был дневной рацион. Происходил дележ сахара и хлеба, причем постоянно раздавались просьбы: "Мне горбушку! Мне горбушку!" Горбушки считались экономнее и питательней, но их было мало и получали их в порядке очереди. Появлялись два громадных, ведерных металлических чайника с желтеньким настоем из сушеной моркови или яблочной кожуры. Каждому из нас была выдана кружка и староста разливал этот "чай".
В полдень подавался обед - вносились ведра с супом или борщом. Каждый имел металлическую мисочку, вместимостью тарелки в полторы, и деревянную ложку. Староста разливал. Надо признать, что по сравнению с 1919 годом (и даже с 1933-им) прогресс был большой: порции были достаточны, а супы и борщи совсем не плохие и даже разнообразные. Каждый день меню менялось: по понедельникам бывал густой борщ из свеклы и капусты, с микроскопическими кусочками мяса; по четвергам - густой рыбный суп из трески; в остальные дни - разные супы, тоже густые, но в которых всегда поражал какой-то необычный вкус, как оказалось от большого количества прибавленной соды.
Для чего это делалось - объяснил мне сосед по нарам, доктор. В своем месте упомяну о причине такой странной гастрономической приправы. Часов в шесть вечера {245} подавался ужин - большие ведра каши, каждый день разной и опять-таки по строго выдержанному расписанию: по понедельникам - гречневая размазня, по вторникам - пшенная каша, потом перловая, ячневая, манная и всякие другие. Каша бывала полита ужасным хлопковым или коноплянным маслом, полагалось ее, по тюремному расписанию, 200 грамм на человека. Не скажу, чтобы мы были сыты, но нельзя было и умереть от голода. Однако, цынгой заболевали, особенно проведя в тюрьме год, два, три, (были и такие). И это, несмотря на то, что существовала возможность сильно пополнять свое питание продуктами из "лавочки", о которой скажу ниже. - После ужина - вечерний "чай", такой же, как и утром.
В разные часы дня или даже ночи - прогулка. Двадцать минут мы могли беспорядочно толкаться и бродить по тюремному двору, специально предназначенному для прогулок. Иногда и в два часа ночи нас будили окриком: "Кто желает на прогулку!". А так как спали мы наполовину одетыми, то делать больших сборов не приходилось и желающих оказывалось всегда много.
Когда в тюремном режиме с весны 1938 года пошли разные строгости, то и прогулка была введена в строгие рамки: надо было молча ходить попарно, кругом, совсем как на картине Добужинского: посередине круга, вместо паука в маске, стоял дежурный по прогулке и наблюдал за гуляющими. Вскоре было введено еще одно правило: гуляя, закладывать руки за спину. Мне не нравилось быть иллюстрацией в такой паучьей картине, и я тогда совершенно отказался от прогулок: безвыходно просидел в разных камерах с весны 1938-го года по лето 1939-го года. Лишение прогулки было одним из тюремных наказаний за разные провинности: вступал в неуместные пререкания с дежурным, засиделся в уборной и не успел выйти из нее вместе с камерой, нагнулся и что-то поднял {246} с земли во время прогулки, царапал на стене уборной какие-то условные знаки - и многое подобное.
Выпуская камеру на прогулку, корпусной со списком в руке возглашал ряд фамилий, прибавляя: "Без прогулки!" Таким образом, я добровольно сам себя подверг годовому наказанию, - "никем не мучим, сам ся мучил", - и нисколько не сожалел об этом: слишком противно было вертеться по собачьему кругу под окрики паука в маске: "руки назад! не разговаривать! не нагибаться!". Правда, просидеть больше года в душных и вонючих камерах, особенно в палящее лето 1938 года, без движения и без воздуха, дело было нелегкое, и я вышел из тюрьмы на волю "краше в гроб кладут". Но зато до чего же приятно было раз в день оставаться в просторной камере одному и либо гулять по ней, либо молча лежать на нарах в обществе лишь двух-трех очередно наказанных! Тишина, безмолвие, покой... Вот уж подлинно
Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина!
Только тот может ее оценить в полной мере, кто месяцы и годы провел в шумной камерной толпе, впрессованный в нее и лишенный возможности хоть на миг уйти в одиночество. Я ходил по камере, либо ложился на нары и наслаждался симфонией тишины больше, чем на воле наслаждался любимыми симфониями в исполнении лучшего оркестра. Возвращалась с прогулки камера - и прощай, возлюбленная тишина, до следующей прогулки!
Около десяти часов вечера - окрик в дверную форточку: "Приготовиться к поверке!" - и снова повторение утренней процедуры: доклад старосты, молчаливый подсчет коридорного. И вскоре приказ: "Ложиться спать!". День кончен; наступает ночь.
Как спали мы на голых досках нар в дикой тесноте?
Ко всему человек привыкает, даже к синякам на {247} боках от твердых досок. Ночь была томительным временем. Заснешь на боку, подложив под голову мешок с вещами, накрывшись шубой и тесно впрессовавшись между правым и левым соседом; лежать на спине не приходилось, места для этого не было. Через полчаса-час проснешься от боли в костях - отлежал себе бок; встанешь, поворачиваешься на своей оси на 180 градусов - и снова впресовываешься другим боком между двумя спящими соседями. Попробуешь подложить шубу под бок - нечем накрыться, холодно; опять встаешь, опять поворачиваешься, опять впрессовываешься, засыпаешь. Но тут сосед справа начинает проделывать такую же операцию и этим будит тебя; чуть заснешь - этим же начинает заниматься и сосед слева. А через полчаса начинаешь и сам вновь проделывать всю эту процедуру сначала. Какой уж тут сон! К тому же поминутно то один, то другой из обитателей нар встает и шествует по нарам к "параше", через ноги и по ногам густо лежащих товарищей. Раздаются сонные ругательства разбуженных. Иногда шествующий (раз это случилось и со мной) спотыкался и падал всем телом на спрессованную массу спящих - можете себе представить, что тут происходило! В этом отношении счастливее были обитатели "метров": по крайней мере никто не мог пройти ночью по их телам. Какой уж тут был сон! Так проходила ночь. Наконец - побудка: "Вставать!" Слава Богу, ночь прошла. Встаешь, нисколько не освеженный сном, точно весь избитый, с мутной и туманной головой. А впереди длинный день томительного безделья и утомительного торчанья на тычке скамейки, бок о бок и плечо к плечу с такими же сонными соседями. И подумать только, что это будет продолжаться изо дня в день из ночи в ночь - неделю, месяц, год...
Забегая несколько вперед, скажу, что такая скученность населения камеры продолжалась лишь до нового года. Сентябрь-декабрь 1937-го года были {248} вершиной волны массовых арестов; сразу же началась и массовая фильтрация забранных. На допросы - теперь не только ночью, но и днем - водили людей пачками. Раз в неделю, вечером по субботам, являлся корпусной со списком в руках и оглашал фамилии: такие-то и такие-то - "собираться с вещами!". Обыкновенно партии эти заключали в себе человек двадцать и были предназначены к отправке в дальние лагеря. Отправляли их из разных камер в большую распределительную "этапную камеру" - в здании бывшей тюремной церкви посередине двора, и оттуда уже, большой партией в сотни человек - на поезда, для следования по этапу в лагеря.
О том, что девяносто девять и девять десятых процента из них были люди ни в чем не повинные - говорить не приходится. Осуждены были они быстрым Шемякиным судом после двух-трех допросов, чаще всего по статье 58 пункту 10: за контрреволюционные разговоры. Достаточно было доноса соседа по коммунальной квартире, зарившегося на комнату оговоренного, достаточно было любой анонимки, написанной по злобе, чтобы людей хватали направо и налево: потом разберемся! И разбирались в два счета. На волю не выходил никто, быть может, один из тысяч, а остальные шли партиями этапным порядком дополнять собою число египетских рабов в далеких лагерях.
Приток новых арестованных происходил ежедневно; но утечка превышала этот приток: в течение трех последних месяцев 1937 года число обитателей нашей камеры No 45 постепенно уменьшалось: из ста сорока на первое октября нас стало через месяц лишь сто десять, а к новому 1938-му году число наше стабилизировалось: нас осталось восемьдесят, крепко засевших в тюрьме по более серьёзным обвинениям: "шпионаж", "вредительство", "троцкизм", "терроризм", "организации"... Число это незначительно колебалось - то от прихода новых заключенных, то от ухода старых. Так продолжалось все то время, пока я {249} пробыл в этой камере No 45, до начала апреля 1938 года.
Восемьдесят человек после ста сорока - да ведь это земля обетованная! Есть старый - престарелый анекдот о бедном местечковом еврее, обитавшем с женою и шестью детьми в тесной халупе и жаловавшемся раввину на свою горькую и тесную жизнь. Мудрый раввин приказал: возьми в свою халупу еще и козу и приходи через неделю. Еврей взял козу и через неделю пришел к раввину с еще горшей жалобой. Раввин велел: возьми в халупу еще и корову. Взял - через неделю пришел в полном отчаянии: жить стало совсем невозможно! Тогда раввин сказал: убери козу. Убрал, немного полегчало. Еще через неделю раввин велел: убери и корову. Убрал - и пришел к раввину сияющий: так просторно и хорошо стало жить ему с семьей в прежней тесной халупе - точно в землю обетованную попал!
Когда я в 1933 году мимолетно попал в общую камеру Бутырской тюрьмы, густо населенную семидесятью двумя несчастными людьми, то мне она показалась с непривычки одним из кругов Дантова ада. Тогда я еще не испытал на себе, что значит жить в камере такого же размера с населением вдвое большим. Теперь же, когда нас осталось всего (всего!) человек восемьдесят (это на двадцать-то четыре нормальных места!) - как стало просторно и хорошо! Правда, по-прежнему приходилось и впрессовываться, и поворачиваться на 180 градусов (ибо разрядилось главным образом население "метро"), но какое же сравнение с прежним! "Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее" - возгласил около этого времени товарищ Сталин во всесоветское всеуслышание. А к тому же - к новому году администрация тюрьмы сделала нам неожиданный подарок: в один прекрасный вечер широко распахнулась дверь камеры и дежурный по коридору стал бросать нам тюфяк за тюфяком! Радость была неописуемая. Нам выдали {250} мочальные тюфяки в холщовых мешках по расчету два тюфяка на трех человек и по одеялу на каждого человека. Мы густо устелили тюфяками нары. Спать было по прежнему тесно, но бока уже не болели.
Вообще должен отдать полную справедливость администрации тюрьмы: она образцово справилась с трудной поставленной перед ней ежовскими сынами задачей - организовать жизнь в тюрьме, в былые времена вмещавшей не более двух-трех тысяч человек, а теперь вынужденной вместить в себя двадцать-тридцать тысяч одновременно. Вопросы размещения, питания, чистоты свалились на тюремное начальство, как снег на голову, и оно блестяще справилось с поставленной перед ним задачей. Прибывшие к нам из провинциальных тюрем рассказывали, что творится там. Эти кошмарные рассказы и вспоминать не хочется: вши, клопы, клоака, теснота. Наша перенаселенная Бутырка казалась им землей обетованной точь в точь как еврею в анекдоте о козе и корове.
Чистота! Соблюдать ее среди такой массы людей было задачей нелегкой, но она была разрешена в полной мере. Насекомых на нас не было, с клопами велась неутомимая борьба. Раз в десять дней нас водили в баню, отсутствие наше из камеры продолжалось часа два.
За это время в камеру приходили дезинфекторы и спрыскивали каким-то пахучим раствором все щели между досками, все углы и закоулки в камере, все скамьи и табуретки, и даже обеденный стол. Правда, весь следующий день у каждого из нас трещала голова от запаха ядовитой жидкости, но зато клопы пропадали, чтобы снова понемногу появляться в течение недели и снова исчезнуть при очередной бане.
Баня! Это всегда было для нас великим праздником, когда бы она ни происходила - утром, днем, или ночью. Нас вели в нижний этаж, вводили в жаркий предбанник, свободно вмещавший сотни полторы человек. Мы раздевались на изразцовых скамьях, все {251} платье, пальто, шубы, одеяла, холщовые мешки для тюфяков, всё, кроме белья, вешали на выдававшуюся каждому металлическую вешалку - и становились в очередь перед широкими окнами, ведущими в дезинфекционное отделение, где какой-то усатый старик (мы его прозвали "банным дедом"), окруженный несколькими нижними чинами, принимал от нас вешалки и вставлял их за крючья внутрь огромных металлических шкапов. Шкапы наглухо запирались, через них пропускался сухой пар, насыщенный дезинфекцией, потом температура в них поднималась до ста градусов - и по окончании мытья мы получали обратно наши вешалки (как трудно было найти свою среди сотни других!) с горячим и продезинфецированным платьем. Белье мы брали с собой в баню.
Не баня, а рай: обширное ярко освещенное помещение с четырьмя каменными столбами по середине и с изразцовыми скамьями вдоль стен. В столбы вделаны попарно краны с горячей и холодной водой. Каждый из нас, входя в баню, получал металлическую шайку и кусочек мыла: надо было не только вымыться самому, но и выстирать свое белье. У большинства из нас не было сменной пары белья. Мы стирали в шайках - на эту процедуру давалось полчаса - а потом развешивали выстиранное на специальных передвижных высоких вешалках на колесах, и "банный дед" увозил их в сушильное отделение.
Стирка для неопытного мужчины - дело хитрое. Я начал первый свой опыт с того, что заварил белье крутым кипятком, а потом удивлялся, почему же это мое столь тщательно выстиранное белье - не отстиралось? В следующий раз мне помог своими указаниями молодой китаец. Он работал в Москве в прачечном заведении, и теперь с недоумением повторял о себе: "Был пирлачка, стал шипиона!". Так вот, этот самый "Пирлачка-шипиона" (как мы его прозвали) и научил меня всем тонкостям прачечного искусства, так что белье выходило у меня на редкость чистое.
{252} Впрочем, с течением времени белье это стало обращаться в жалкие лохмотья...
На стирку нам давалось полчаса, а пока белье сохло, мы имели еще полчаса для мытья и прочих банных развлечений и удовольствий, а именно: в предбаннике появлялся голый парикмахер (свой же брат Исаакий), вооруженный машинкой для стрижки волос, и желающие могли стричься и бриться. Впрочем, "бриться"-это сказано условно: бритв, разумеется, не было и волосы с подбородка снимались той же машинкой. Тут же рядом можно было и обстричь ногти: на изразцовой скамье в предбаннике лежал с десяток - не ножниц, избави Бог! - а щипчиков-кусачек, которые не то чтоб обстригали, а как бы обгрызали ногти. Научиться искусству владеть этими кусачками было нелегко, но "повторение мать учения", и мы, в конце концов, научились владеть этими странными инструментами.
Пока все это происходило, а наше платье дезинфицировалось и белье сохло, мы не теряли времени даром: баня была почтовым отделением всей тюрьмы. Переписка велась со всеми камерами, мужскими и женскими, и как ни бился тюремный надзор, но заключенные всегда умели перехитрить его.
Строго было запрещено иметь в камерах карандаши, их беспощадно отнимали при обысках, а виновных в хранении сажали в карцер, - ничто не помогало: в каждой камере имелись карандаши, чаще всего - кусочки графита, тщательно припрятываемые в стельках башмаков, во всех швах пальто и шуб. И вот по стенам бани, часто даже на высоте двойного человеческого роста, пестрели многочисленные и часто сменявшиеся надписи: "Дора Никифоровна - 10 лет концлагеря"; "Писатель Пильняк приговорен к расстрелу"; "Щуренок, отзовись где ты?"; "Валя ждет письма" - и многие подобные. Но кроме этой стенной литературы, шла и настоящая переписка, так что Валя не напрасно ждала письма: попав в предбанник и {253} баню, мы быстро и незаметно обшаривали пол под изразцовыми скамьями и находили там хлебные катышки разных размеров. В изжеванный мякишь хлеба вкладывались записки, иногда целое письмо, хлеб скатывался шариком, шарик засушивался - предоставлялся на волю случая под изразцовыми скамьями предбанника и бани. Первый нашедший "распечатывал" это письмо, если адресат находился в этой же камере - письмо сразу доходило по назначению. Если же нет, то письмо снова "запечатывалось" тем же манером и оставалось ждать своей судьбы под скамьей. А так как за одной камерой немедленно же шла в баню другая, третья, и так вся тюрьма проходила баню в одну десятидневку, то письма чаще всего безотказно доходили по своему назначению. "Почтовое отделение No 2" - так мы называли баню. Номером первым была уборная, где камеры бывали два раза в течение суток и где таким образом переписка происходила быстрее и интенсивнее, но зато не со всей тюрьмы, а лишь с камерами нашего коридора.
Но вот закончены все процедуры - стирка, мытье, стрижка волос и ногтей, почтовые хлопоты - и банный дед выкатывает в предбанник вешалки с горячим и сухим бельем. Потом мы толпимся перед окнами выдачи платья - и получаем его тоже горячим и пропахнувшим острым дезинфекционным запахом. Выстраиваемся попарно и отправляемся "домой", в свою камеру, освеженные и развлеченные.
Кстати - о банном деде. Прошел уже год моего пребывания в тюрьме, я сидел в камере No 79, в третьем этаже другого коридора, как вдруг однажды открылась дверь и в камере появился собственной персоной - банный дед! Кто же из нас не знал его! Изумленные, мы стали спрашивать - какими судьбами попал он в наше общество? Оказалось, что в разговоре со своими помощниками по дезинфекционной камере, нижними чинами, он имел неосторожность сказать: "При Ленине этого бы не было"... Он, {254} старый коммунист, имел ввиду ежедневно проходившие перед его глазами рубцы на спинах от резиновых палок при допросах, синяки от кулачных ударов, и вобще разные видимые результаты физических аргументов ежовской юридической системы. Среди нижних чинов один (а, может быть, и не один) оказался "наседкой", высидевшей донос - и банный дед стал нашим товарищем по камере. Судьба его была решена скоро: месяца через два он получил пять лет концентрационного лагеря.
Мы с интересом расспрашивали банного деда о разных неизвестных нам подробностях административного тюремного распорядка, и с удивлением узнали между прочим, что во время купанья женских камер он продолжал исполнять свои обычные банные функции, только молодые нижние чины заменялись женским персоналом из уголовниц. На вопрос, не стыдились ли его женщины, он отвечал: "Чего меня стыдиться, я старик". Его спросили, много ли бывало избитых женщин, он кратко сказал: "Бывали!". А когда ему задали вопрос, как же сам он не стыдился, то он махнул рукой: "Кабы была одна голая баба - ну это точно, было бы совестно, а сто голых баб - вполне не впечатлительно!"..
III.
Баня была праздником - и отдыхом, и развлечением. Но развлечения бывали у нас и другие. Вот, например: каждую пятницу - обход камер комендантом, помощником начальника тюрьмы, для приема заявлений и жалоб. Рано утром корпусной предлагал старосте выяснить число желающих писать заявления. Число это бывало всегда очень большим - не менее трех четвертей камеры. Когда число было выяснено - дежурный по коридору выдавал такое же количество четвертушек бумаги, три-четыре чернильницы, с десяток ручек с перьями. (И как это не боялись {255} выдавать нам такие опасные острые орудия, когда даже металлические пуговицы спарывались с платья при первом же обыске!). Вплоть до обеда камера погружалась в сравнительную тишину: перья скрипели, разговоры шли шепотом, ожидавшие очереди получения перьев молчаливо обдумывали предстоящие заявления.
Писать вы могли о чем угодно и кому угодно: своему следователю, начальнику отдела, начальнику тюрьмы, прокурору НКВД, прокурору республики, наркомам, Политбюро, "самому Сталину". (Вот только нельзя было писать письма жене, дать ей знать о своем существовании...) И писали, писали, писали: жаловались на методы допросов, просили о свидании с больной женой (тщетные просьбы!), указывали на свою полную невинность, на оговоры, отказывались от ранее сделанного вынужденного сознания... Камерные "наседки" пользовались случаем и строчили доносы, сообщали о разговорах в камере, называли ряд фамилий. Одну из таких "куриц" удалось разоблачить: дальнозоркий сосед по писанию прочел несколько фраз в изготовлявшемся доносе. Произошел скандал, "курицу" изрядно потрепали, и начальство немедленно перевело эту "курицу" в другую камеру, а мы через почтовое отделение No 1 и No 2 поспешили оповестить об его фамилии всю тюрьму.
Но вот - заявления написаны, обед пришел. Часа в два раздавался окрик: "Встать!" - и в камеру входил в сопровождении корпусного помощник начальника тюрьмы, молча проходил по рядам, молча принимал заявления. Их по счету должно было быть ровно столько же, сколько было выдано четвертушек бумаги. Во время этого обхода можно было делать и устные заявления, - например, о недостаточном количестве получаемых камерой книг из тюремной библиотеки, о плохом качестве пищи, о недостаточном времени для прогулок (дежурные по прогулкам часто уменьшали наш "прогулочный паек") - и о тому подобных мелочах тюремного обихода. {256} Выслушав эти жалобы и приняв письменные заявления, помощник начальника покидал камеру, чернила и перья отбирались - и наш писательский зуд проходил до следующей пятницы. Как никак, а все же это было развлечением.
Я ни разу не написал ни одного заявления: знал, что это решительно ни к чему. Полагаю, что и большинство писавших прекрасно знало, что заявления эти не пойдут дальше следовательского стола, или, вернее, корзины под столом. Следователи прочитывали их и бросали в корзину для сорных бумаг. Был такой случай: одни из заключенных, московский педагог, написал на имя прокурора республики очень яркую жалобу на действия своего следователя. Он был приглашен к последнему, получил от него несколько затрещин, а разорванное тут же на клочки его заявление было брошено ему в лицо. Все это знали - и все-таки писали, писали, писали, быть может надеясь па русский "авось", а может быть, и ни на что не надеясь, просто для развлечения. Только один род этих заявлений приносил немедленные плоды: заявление об отказе от прежних показаний, вынужденных физическими аргументами следователя. Тогда взбунтовавшегося тюремного раба немедленно вызывали к следователю - и система допросов начиналась сначала. Плохое это было развлечение.
Но вот уже не развлечение, а настоящее событие, происходившее три раза в месяц: "Лавочка"!
Никаких личных передач не полагалось, да они были и невозможны при создавшихся условиях. Когда в тюрьме сидело три тысячи человек, как это было в 1933 году - еще можно было устраивать передачи продуктов и белья; но теперь, когда в той же тюрьме было скучено 30.000 человек - о возможности таких передач не приходилось и думать, вместо них, были разрешены денежные передачи. Каждый заключенный имел право получать от семьи (буде таковая оставалась на воле) по 50 рублей в месяц. Получки эти {257} могли происходить и не единовременно, а различными суммами. Надо сказать, что это обстоятельство давало возможность получать некоторые известия с воли. Например, - уходит из камеры "с вещами" один из заключенных: куда? в другую камеру, в лагерь, или на волю? Если на волю, то он дает обещание какому-нибудь своему товарищу, остающемуся в нашей камере, выслать ему в счет месячной суммы три рубля. Этого оставшегося товарища мучает вопрос: арестована ли его жена, или еще на свободе? Уславливаются: если она на свободе, то она пришлет мужу не три, а семь рублей, а если на свободе и старший сын, то восемь. И так далее, условия бывали многоразличны. Но к середине 1938 года тюремное начальство дозналось через своих "наседок" обо всей этой телеграфической махинации, и прием денежных передач был ограничен условием: можно было передавать или сразу 50 рублей, или два раза в месяц по 25 рублей. Это сузило телеграфические возможности, но не прекратило их, так как уславливались по новому: если сумма будет передана сразу - это значит то-то, если в два приема - означает то-то и то-то.
Получаемые деньги на руки не выдавались, а вносились в тюремною кассу. Заключенный получал на руки только квитанции с указанием имеющейся у него "на текущем счету" суммы. Он имел право расходовать ее на покупки из тюремной "лавочки", не более 16-17 рублей в десятидневку. В квитанции после каждой "лавочки" отмечался произведенный расход и остававшаяся на текущем счету сумма.
День "лавочки" был днем великого волнения. Утром староста получал от корпусного прейскурант тюремной лавочки и оглашал нам его во всеуслышание. Прейскурант делился на две части - продуктовую и мануфактурную. Оглашался список имеющихся на этот раз в лавочке товаров и цены на них. Некоторые запомнились: белые батоны
1 р. 40к., маргарин 12 р. килограмм, конфеты - 5р. кило, {258} пиленый сахар - 10 р. кило, осенью яблоки - 60 к. кило. Можно было получить черный хлеб, бублики, сушки, иногда селедки, соленые помидоры или огурцы, лук; всегда - махорку, спички и папиросы разных сортов, от 35 к. за четверть сотни до двух рублей. Из мякиша черного хлеба мы ухитрялись выделывать прекрасные трубки для куренья махорки, и после каждой "лавочки" дым столбом стоял в камере.
Мануфактурная часть прейскуранта состояла из разных вещей: рубашки - 10 р., кальсоны - 12 р., носки - 4 р., ватная куртка - 16 р., калоши - 10 р., башмаки - 45 рублей. Чтобы купить такие дорогие вещи, надо было копить деньги и поголодать. Например, чтобы купить башмаки - надо было пропустить две "лавочки" и лишь на третью позволить себе этот расход.
Каждый может покупать что ему угодно в пределах 16-17 рублей, накупать хоть двенадцать штук белых булок, хоть три кило конфет, хоть полсотни пачек папирос самого дешевого сорта, - полная свобода выбора, может накупать хоть на семнадцать рублей, хоть на один рубль. Но - при одной нагрузке "обязательного ассортимента": каждый покупающий на любую сумму должен непременно приобрести 200 грамм чеснока. Можете себе представить, какой чесночный аромат стоял в камере! Однако мы его не замечали: когда каждый ест чеснок, то не чувствует его запаха из уст другого.
Этот обязательный ассортимент объяснялся антицинготными свойствами чеснока. Мой сосед по нарам, доктор, указал однако, что другое свойство чеснока находится в полном противоречии со свойствами той соды, которою так обильно приправляли наши супы. Чеснок, хорошее противоцинговое средство, имеет однако свойство сильно возбуждать половую деятельность, а сода в больших количествах имеет свойство эту деятельность погашать. Так in anima vili и производился этот опыт борьбы соды с чесноком.
{259} Прейскурант оглашен. Староста записывает на выданном ему листе бумаги все заказы каждого поименно. Потом пять-шесть наиболее дюжих товарищей отправляются во главе со старостой и предшествуемые тюремным стражем в тюремную лавочку в первом этаже тюрьмы - и возвращаются, сгибаясь под тяжестью мешков. За это время расчищаются на нарах места, куда складываются все покупки - и староста производит дележ по именному списку. Начинается пир горой...
Все это, вместе взятое, занимало добрую половину дня, который считался настоящим праздником. Лишение же "лавочки" за какие-либо тюремные провинности камеры - было одним из самых больших наказаний. Наш доктор подсчитал, что дневной тюремный рацион плюс средний лавочный "приварок" составляют в день по 1.600 калорий на человека, количество достаточное при условии сидячей и бездеятельной жизни, какою мы жили. Вот только расходы нервной энергии при допросах не входили в этот подсчет...
Не все заключенные, однако, имели денежные передачи. Были "бедняки", не получавшие денег или потому, что некому было их посылать (например - если вся семья арестована), или потому, что следователь по своим соображениям лишал узника этого права. Я принадлежал к числу последних: следственные органы категорически отказались сообщить В. Н., где я нахожусь, и она в течение почти полутора лет ничего не знала о моей судьбе, а значит и не могла пересылать мне деньги. Таких по разным причинам "бедняков" или "лишенцев" бывало в камерах обыкновенно процентов десять, и камера приходила им на помощь, организовав так называемый "комбед" (комитет бедноты). Было принято за правило, по добровольному соглашению, отчислять десятую часть "лавочных" денег в пользу комбеда. Расчет происходил, примерно, таким образом: нас в камере 80 человек, из {260} них - 8 человек "бедноты", каждый из имеющих деньги покупает в эту "лавочку" рублей на 16-17, а значит все они вместе - на тысячу сто, тысячу двести рублей, так что на долю "комбеда" приходится рублей сто десять или сто двадцать, а на долю каждого "лишенца" по 14-15 рублей. Иначе говоря, мы, "бедняки", могли покупать каждый раз почти на такую же сумму, как и наши богатые товарищи. Случалось, что число "лишенцев" в камере возрастало - тогда на долю каждого приходилось меньше. Наоборот, если число их падало настолько, что каждому из них при такой системе распределения пришлось бы получить более семнадцати рублей, то процент отчисления понижался до семи и даже до пяти процентов. Вообще организация была продуманная.
Староста каждый раз сообщал общую сумму покупок по "лавочке", вычислял долю "комбеда" и каждого из нас и принимал наши заказы. Должен сказать, что не испытывал никакой горечи от такой товарищеской помощи, ибо делалась она обычно от чистого сердца. За все тюремное время помню только один случай, когда прибывший в нашу камеру коммунист Золотухин отказался отчислять в пользу "комбеда", заявив, что он - против всякой личной благотворительности. Когда вскоре после этого его, избитого следователем, привели с допроса в камеру и он попросил у соседа по нарам воды, сосед имел жестокость ответить, что и он тоже - против всякой личной благотворительности. После этого Золотухин стал отчислять в "комбед", но все "лишенцы" отказались принимать его отчисление.
Надо прибавить ко всему этому, что ежемесячная передача в 50 рублей была далеко не у всех единственным источником расходов: у многих камерных "богачей" иной раз лежало на текущем тюремном счету и по несколько сот, и по несколько тысяч, а у одного нашего миллиардера - даже целый капитал в 17.000 рублей. Это были те сотни и тысячи, которые {261} находились при них во время ареста, или намеренно были захвачены с собою в тюрьму. При вступительном обыске деньги отбирались и отправлялись в тюремную кассу на именной текущий счет, а обладатель этих тысяч видел себя богатым, яко же во сне, ибо все равно не мог истратить в месяц на "лавочку" более пятидесяти рублей, как и все прочие, менее богатые товарищи.
IV.
Баня и "лавочка" были событиями. Какие же еще развлечения были в нашей гиблой тюремной жизни? - "Газеты"!
Не подумайте однако, что мы действительно, получали газеты, нет, приток каких бы то ни было новостей в тюрьму был глухо-на-глухо закрыт. Никаких свиданий никому не полагалось, ни о каких газетах и помину не было. "Газетою" мы называли каждого новоприбывшего в нашу камеру. Иногда он почему-то переводился к нам из другой камеры, или, что бывало чаще, приходил из другой тюрьмы, - тогда мы узнавали новости из соседнего или вообще из тюремного мира. Иногда, что бывало еще чаще, он приходил "с воли" - и тогда мы узнавали новости из мира свободного. Можете себе представить, с какой жадностью набрасывались мы на "газету", как расспрашивали обо всем, что происходит на свете! "Газеты", очень частые в конце 1937-го года и в первой половине 1938-го года, становились потом все более и более редкими, а для меня и совсем прекратились с 6-го ноября 1938 года, по одному необычному случаю, о котором расскажу в своем месте.
Зато, кроме "газет", были у нас книги. Раза два в месяц тюремный библиотекарь приносил нам стопу книг - по расчету одной книги на трех человек, - а выбранный нами камерный "библиотекарь" распределял книги "по стажу": первым выбирал себе книгу дольше всех сидевший в тюрьме, за ним в порядке {262} такой же очереди и остальные. К концу 1938 года стаж мой был уже настолько велик, что я мог выбирать себе книгу из первого десятка, хотя передо мной были люди, сидевшие в тюрьме уже третий и четвертый год (всё еще в периоде "предварительного следствия!"). Книги были главным образом по переводной беллетристике, затем русские классики, несколько книг по математике и технике, но ни в коем случае не иностранные книги и не самоучители языков. Среди книг попался однажды том воспоминаний Аполлона Григорьева, вышедший в издательстве "Академия" под моей редакцией и с моими статьями - недосмотр тюремного библиотекаря! Том этот привлек особенное внимание камеры: всякий хотел прочитать книгу своего сокамерника.
Кроме книг, помогали проводить время и многочисленные "кружки по самообразованию". Таких кружков в камере обыкновенно существовало несколько: кружки по изучению французского, немецкого и английского языков, по низшей и высшей математике, по астрономии (это вел я), по автомобильному делу и даже по бухгалтерии. Самыми многочисленными были кружки бухгалтерский и автомобильный. Каким образом можно было вести эти кружки без бумаги и карандаша - дело загадочное, но однако оно велось целыми неделями. Свой "курс астрономии" я закончил в шесть недель при ежедневных занятиях часа по два между обедом и ужином. Кружки языков были еще более продолжительными. Конечно, они велись по "звуковой системе", всё бралось только на слух и на память. Один только руководитель автомобильного кружка лепил из мякиша черного хлеба детали автомобиля, конфискованные при первом же обыске (об этих обысках - речь особая). Как никак, а время проходило.
А тут еще дополнительные развлечения, прерывавшие наши занятия. Ежедневно между обедом и ужином появлялся в коридоре фельдшер с тележкой {263} лекарства. Мы заранее слышали скрип ее колес, и болящие выстраивались в хвост перед дверной форточкой. Диагнозов фельдшер не ставил, а просто давал по просьбе каждого какие-либо немудрящие лекарства: таблетку аспирина или салола, зубные капли (смочив ими кусок ватки), пригоршню ромашки, смазывал йодом порезы (и откуда только брались!), а главное - записывал в книжку тех, кто просился к врачу той или иной специальности. За все время моего пребывания в тюрьме никаких серьёзных эпидемий не было. Лишь в начале 1938 года все мы поголовно переболели гриппом, которым нельзя было не заразиться при нашей скученности от одной больной "газеты".
И еще ежедневное развлечение - кормление голубей, десятками слетавшихся на наши подоконники. Голубей мы кормили остатками каши и хлебными крошками. Кормление это было строго воспрещено и каралось, но тем не менее происходило.
Ходили тюремные легенды, что какие-то одиночные камеры приучили голубей и связались между собой голубиной почтой. Так это или не так, но тюремное начальство запрещало нам кормить голубей, а мы всё же кормили - и не один раз были за это лишены прогулок, а один раз и "лавочки".
Что же еще? Нас поочередно водили фотографировать. Затем - нововведение! водили даже в дактилоскопический кабинет, где мы оставляли отпечатки своих пальцев. При миллионах преступников дело совсем бессмысленное, но - чем бы дитя не тешилось...
Наконец, последнее: когда камера несколько поредела, козу и корову увели, и остались мы в комплекте около восьмидесяти человек закоренелых преступников, то утром после сна и вечером перед сном делающие занимались массовой физкультурной гимнастикой: утренняя зарядка и вечерняя зарядка. На нарах выстраивались в затылок и повторяли по {264} указанию "физкультурника" многоразличные движения, вплоть до "бега на месте", что производило на деревянных нарах потрясающий грохот. Начальство сперва не препятствовало, но вскоре, когда пошли разные режимные строгости, всякая гимнастика, массовая и индивидуальная, чтобы легче было бы сломать моральное сопротивление заключенного, была строжайше воспрещена.
При столь разнообразных наших занятиях и развлечениях (не считаю допросов) наш тюремный день был достаточно заполнен. Но вот наступал длинный вечер, осенний или зимний. Читать было невозможно - одна тусклая, слабосильная лампочка бледно мерцала под потолком. Тут приходило время деятельности выбранного камерой "культпросветчика": его задачей было организовать между ужином и сном ряд культурно-просветительных развлечений: лекций, докладов, литературных вечеров. Тюремное начальство сперва не только снисходило, но даже и поощряло: не один раз дежурный по коридору и сам господин (то бишь товарищ) корпусной, открыв дверную форточку, прислушивались к происходившему на сцене. Впрочем, сцены никакой не было, а просто на нары водружалась табуретка и на ней восседали лекторы, докладчики, декламаторы. Каждый вечер между ужином и сном камера нетерпеливо ждала очередных выступлений, всегда очень разнообразных. Бывали и научные доклады. Один табаковед прочел очень интересную для нас, курильщиков, лекцию о культуре и способах выработки табака (в камере - все закурили, даже и те, кто не курил на воле).
В другой раз инженер-конструктор поделился с нами сведениями о конструкции аэропланов и их истории. Его лекции дополнил летчик по прозванию "Миллион километров" (столько налетал он), рассказав о практике летного дела. И так далее. По средам я читал популярный курс истории русской литературы. Серьезные доклады перемежались выступлениями легкого жанра: артист {265} какого-то второстепенного московского театра Греков рассказывал довольно живо разные сценки и анекдоты; опереточный актер по прозвищу "Дальневосточник" пел и исполнял в лицах целые оперетки; выходили любители-декламаторы и читали на память стихи, иной раз целые поэмы.
Один из видных деятелей ГПУ (жаль, что не припомню его фамилии), попавший на наш бал прямо с корабля, из трехлетнего кругосветного путешествия, совершенного по заданиям Коминтерна, увлекательно рассказывал нам о своих путевых впечатлениях. Но самым большим успехом пользовались живые лекции помощника директора Зоологического Сада, профессора Сергея Яковлевича Калмансона, о жизни животных: это был блестящий курс популярной зоологии и все с нетерпением ждали отведенных для этих докладов дней. Один из наших сокамерников, шофер, сказал как-то раз: "Вот думал - дураком умру, не до книг нашему брату! Спасибо, Сталин и НКВД позаботились, посадили в тюрьму!"..
Однажды "культпросветчик" устроил интересный литературный вечер-чтение стихов "на всех языках мира": в нашей камере (еще в ноябре, когда в ней было более ста человек) была поистине такая смесь языков, племен и наречий, что хоть и не на всех языках мира, а на двадцати двух такое чтение удалось устроить. А камера должна была большинством голосов решить какому языку по его яркости и благозвучию она отдает пальму первенства. Началось с "мертвых языков" греческого и латинского: я прочел начальные десять строк "Одиссеи" и оду Горация о памятнике; потом пошли живые языки - украинский, русский, польский, чешский, сербский, болгарский, румынский, финский, эстонский, латышский, венгерский, французский, английский, немецкий, итальянский, персидский, турецкий, арабский, китайский и древнееврейский (впрочем - тоже "мертвый язык": на нем была прочтена знаменитая "Песнь Деворы").
{266} Вот какой конгломерат языков был в нашей камере! Особенно отличался кругосветный путешественник по заданиям ГПУ-Коминтерна: каких только языков он ни знал! Ему же была присуждена и пальма первенства за декламацию стихов на арабском языке.
Баня, "лавочка", прогулки, книги, кружки самообразования, лекции - всё это были розы нашей тюремной жизни; но как известно.- нет розы без шипов. Правда, настоящие шипы и тернии ждали нас в следовательских комнатах, но и в тюремном быту был среди других такой острый шип, который время от времени больно вонзался в тело каждого из нас. Я говорю об отвратительных и оскорбительных обысках, неожиданно производившихся два раза в месяц.
Дело происходило так. В самой середине ночи, обыкновенно между часом и тремя, открывалась дверная форточка и нас будил окрик: "Все с вещами!". Сонные поднимались мы, собирали все свои вещи - и выходили в коридор, там выстраивались парами - и нас вели через двор на "вокзал". Там загоняли нас в обширную изразцовую камеру, из которой вводили по восемь человек в соседнюю комнату, ярко освещенную и со столами посередине. На столы мы вытряхивали все свои вещи, раздевались догола (а в комнате бывало иной раз и очень холодно), и каждый смотрел, как один из восьми нижних чинов производит тщательный осмотр всех его вещей - платья, белья, продуктов. Обыск был артистический: вспарывались наудачу швы платья и шуб, наудачу выдирались стельки из башмаков, отдиралась в разных местах подкладка пиджаков и пальто, протыкались иглою шапки и платье, осматривались калоши, исследовались каблуки. Вся эта процедура продолжалась для каждого от четверти до получаса, смотря по усердию сыщика, а мы, голые, стояли и смотрели, дрожа от холода.
Затем начинался унизительный "физиологический обыск" по старому ритуалу: "Откройте рот! высуньте язык! {267} повернитесь! нагнитесь! раздвиньте руками задний проход!" - и так далее, до аристофановского многоточия включительно. Четырьмя годами ранее я насчитал таких тюремных теткиных крещений девять за почти девять месяцев, - детское число!
За повторительный курс тюремной выучки в 1937-1939 году обряд этот совершили надо мною по меньшей мере раз пятьдесят. Обряд окончен, обыск тоже. Нам разрешают одеться, собрать разгромленные вещи - и выпроваживают в третью комнату, а новую восьмерку вводят для нового обыска. Когда нас в камере было человек восемьдесят, то вся эта процедура занимала часа три-четыре. Затем нас сонных, злых, оскорбленных снова вели через двор в нашу камеру. Начинало уже светать.
Пока нас обыскивали на "вокзале", наша пустая камера подвергалась такому же разгромному обыску: дежурные по коридору переворачивали в ней всё вверх дном, поднимали нары, перевертывали столы и скамьи, исследовали каждую щель и мы находили в камере картину такого полного разгрома, "точно шел Мамай войной"; поэтому и весь обыск носил название "Мамаева побоища". Приходилось приводить в прежний порядок всю камеру, а с утра требовать от дежурного по коридору иголку и ниток, чтобы по очереди зашивать распоротые швы и отодранные подкладки. Иголка, иногда и две, выдавались старосте под его ответственность и подлежали сдаче до ужина. Весь день уходил на зашивание швов, подшивание подкладок, - для того, чтобы старая история повторилась при новом обыске. Он мог произойти через неделю, через две, через месяц (это уже обязательно), но несколько раз случалось, что следующий обыск происходил через две-три ночи после предыдущего, а один раз даже и на следующую ночь. С проклятиями поднимались мы среди ночи и шли на очередное издевательство. Такое быстрое повторение {268} обыска значило, что теткины сыны желают поймать нас врасплох, или что "наседки" спешно высидели очередное яйцо.
Чего же искали - столь тщательно и столь тщетно? Тщетно потому, что за все десятки подобных обысков происшедших при мне, ни разу не обнаружили в наших вещах и платьях ничего запрещенного, в то время как это самое запрещенное было у целого ряда заключенных. Искали главным образом четыре вещи: карандаши, бумагу, иголки и лезвия бритв, искали и никогда не находили, хотя и велели "открывать рот", "высовывать язык", "раздвигать руками задний проход" - а вдруг найдется там огрызок карандаша или завернутая в бумажку иголка? Но, конечно, никто не прятал их туда, зная обычный ритуал обыска, и всё же припрятывали, что хотели. Во-первых, владельцы всех этих сокровищ старались попадать в одну из последних "восьмерок" при обыске, когда производившие его нижние чины будут утомлены трехчасовой работой и станут менее внимательными. Впрочем, начальство вскоре дозналось (через "куриц", конечно) о таковой хитрости и предписало производить обыск в алфавитном порядке фамилий. Но и это не помогло. Действительно, не самые карандаши, а мелкие обломки графита и тонкие рулончики бумаги зашивались в швы платья, - но ведь не все же они распарывались, и вероятность открыть один сантиметр графита во многих метрах швов была совсем ничтожна, едва ли равнялась и одной тысячной. Лезвия бритв и иголки ловко запрятывались под корки краюшек черного хлеба, где усмотреть их было почти невозможно. Впрочем мне не приходилось заниматься подобными ухищрениями - ни карандашей, ни бумаги, ни бритв, ни иголок я не имел, они были мне ни к чему. А многомесячный сосед мой по нарам доктор Куртгляс, обладавший всеми этими сокровищами и еще многими иными, в роде карманного русско-немецкого словарика, ухитрялся сохранять все это {269} крайне простым способом: на черной ниточке длиною аршина в полтора, прикрепленной к оконной раме он выбрасывал за окно драгоценный пакетик и спокойно шел на обыск, а вернувшись с идиотского обыска благополучно выуживал этот пакетик обратно. Но эти шипы тюремного быта были ничто по сравнению с терниями, произраставшими в это же время в следовательских камерах Бутырки и Лубянки. Пора перейти к рассказу и о них.
V.
Был конец октября 1937 года. Я, еще "новичок", спал в "метро", под нарами (вернее не спал, а задыхался, так как воздух под нарами был с непривычки невыносим) : только месяц сидел в тюрьме. Мы собирались укладываться спать. На дворе было довольно тепло и фрамуга (верхняя часть окна) была откинута. Вдруг в камере наступила мертвая тишина и все стали прислушиваться. Откуда-то из-за окна доносились заглушенные крики:
- Товарищи, товарищи, помогите! Изверги, что вы делаете? Товарищи, помогите, убивают!
И после короткого молчания - нечленораздельный вопль:
- А-а-а-а-а!
Потом опять короткое мертвое молчание - и снова исступленные крики:
- На помощь! Спасите! Товарищи!
Вопли и крики эти с перерывами продолжались минут пять, нам показалось целую вечность...
Староста наш, профессор Калмансон, очнулся первым - сорвался с места, схватил табуретку и стал неистово колотить ею металлическую дверь, вся камера вопила. Сбежались дежурные со всего коридора, прибежал корпусной. Соседние камеры тоже неистовствовали. Нас старались успокоить заверением, что крики эти идут из окна камеры душевнобольных. {270} Наступила тишина - крики прекратились. Молча улеглись мы спать, но вряд ли многие могли заснуть в эту ночь....
Прекрасно понимали мы, что душевнобольные тут не при чем, что здесь мы были свидетелями - non oculis, sed auribus - следовательского допроса. Надо прибавить, что случай этот был первым и последним: следователь, вероятно, получил нагоняй за неумелое ведение допроса (еще бы - забыл закрыть фрамугу!) и за произведенный этим бунт в тюрьме. С тех пор избиения в следовательских камерах стали производиться при закрытых окнах.
Что в тюрьме бьют - об этом до нас и на воле доходили слухи, что в тюрьме пытают - тоже слыхали мы за достоверное. Но здесь впервые услышали мы собственными ушами вопль истязаемого. Следовательские комнаты были в третьем этаже над нами. Из открытой форточки одной из таких комнат и донеслись до нас эти вопли.
Пытки применялись, несомненно, и раньше, в ГПУ, но как исключительное явление, если не считать пресловутых массовых "парилок", в которых выпаривали у "буржуев" золото и доллары в середине двадцатых годов. Но вот в те же годы поэт Николай Клюев попал на три дня в "пробковую комнату" петербургского ГПУ и потом с ужасом рассказывал о своем там пребывании. Для чего-то и для кого-то была устроена ведь эта комната, не миф, а доподлинная правда. Рассказывали о разных формах пыток, например, о системе допросов "конвейером", но все это были только рассказы. Теперь же нам суждено было стать свидетелями, а многими и страдательными участниками ряда ничем не прикрытых пыток: ими, по приказу свыше, ознаменовал себя "ежовский набор" следователей.
Впрочем, должен сразу оговориться: пыток в буквальном смысле - в средневековом смысле - не было. Были главным образом "простые избиения".
{271} Где, однако, провести грань между "простым избиением" и пыткой? Если человека бьют в течение ряда часов (с перерывами) резиновыми палками и потом замертво приносят в камеру - пытка это, или нет? Если после этого у него целую неделю вместо мочи, идет кровь - подвергался он пытке, или нет? Если человека с переломленными ребрами уносят от следователя прямо в лазарет - был ли он подвергнут пытке? Если на таком допросе ему переламывают ноги и он приходит впоследствии из лазарета в камеру на костылях - пытали его, или нет? Если в результате избиения поврежден позвоночник так, что человек не в состоянии больше ходить - можно ли назвать это пыткой? Ведь всё это - результаты только "простых избиений"! А если допрашивают человека "конвейером", не дают ему спать в течение семи суток подряд (отравляют его же собственными токсинами!) какая же это "пытка", раз его даже и пальцем никто не тронул! Или вот еще более утонченные приемы, своего рода "моральные воздействия": человека валят на пол и вжимают его голову в захарканную плевательницу - где же здесь пытка? А не то - следователь велит допрашиваемому открыть рот и смачно харкает в него как в плевательницу: здесь нет ни пытки ни даже простого избиения! Или вот: следователь велит допрашиваемому стать на колени и начинает мочиться на его голову - неужели же и это пытка?
Я рассказываю здесь о таких только случаях, которые прошли перед моими глазами, но спорить о словах не буду: пусть это были не пытки со сложными средневековыми инструментами, пусть таких пыток не было. Буду говорить поэтому не о пытках, а об истязаниях: под это слово одинаково подходят случаи и "простого избиения", и лишения сна, и перелома ребер, и плевания в рот, и перелома ног, и обливания головы мочой. Свидетельствую: никаких орудий пыток ни на Лубянке, ни в Бутырке я не видел и {272} о них не слышал (они были, суди по рассказам, в Лефортовой тюрьме). Но одновременно с этим заявляю: все те случаи физических и моральных истязаний, которые десятками прошли перед моими глазами, сводились к той же цели, что и пытки - вынудить сознание в несовершенном преступлении. Средневековой "ведьме" надевали на ноги "испанские башмаки", утыканные внутри гвоздями, и раскаляли их, ведьма "сознавалась" и ее сжигали на костре. Современного "шпиона" или "вредителя" бьют резиновыми палками, плюют ему в рот, неделю не дают спать - он во всем "сознается" и идет на расстрел или в лагерь. Велика ли разница? Все дороги ведут в Рим!
Повторяю: все перечисляемые мною случаи - не рассказы, слышанные из третьих и десятых уст, - а впечатление очевидца. Несколько случаев из многих десятков - приведу, выбирая наиболее типичные. Оговорюсь только: далеко не все фамилии истязаемых остались в моей памяти, чаще помню прозвища, под какими они слыли в наших камерах, - но это дела нисколько не меняет.
В жаркое лето 1938 года распахнулась дверь нашей камеры No 79 -и дежурный впустил нового заключенного, средних лет человека в военном френче, на костылях. Он представился:
- Позвольте познакомиться, товарищи: Гармонист!
Помню, я удивился: такое типично русское лицо и такая типично еврейская фамилия! Но я ошибался - это была не фамилия, а профессия: он был баянистом в знаменитом московском "Красноармейском хоре песни и пляски". Мы набросились на новую "газету", и хотя не узнали от него никаких политических новостей, так как он пришел к нам не "с воли", а из этапных скитаний по разным тюрьмам, однако с немалым интересом выслушали мы одиссею "Гармониста": - это стало его камерным прозвищем.
Он был знаменитым виртуозом на баяне, первым {273} из шести баянистов "Красноармейского хора песни и пляски". Хор этот недавно, летом 1937 года, совершил триумфальную поездку в Париж, на всемирную выставку. Вернувшись на родину, часть хора отправилась в турнэ по Сибири. В Хабаровске Гармонист имел несчастье крупно поссориться с председателем "месткома" хора, приставленным к хору видным агентом НКВД. Дело дошло до взаимных оскорблений действием. На другой же день Гармонист был арестован и полгода подвергался допросам в хабаровском застенке. Его надо было в чем-то обвинить, но в этом отношении теткины сыны никогда не испытывают никаких затруднений; тюремная поговорка гласит: "был бы человек, а статья пришьется". Вот к Гармонисту и "пришили" обвинение по одному из параграфов пресловутой статьи 58-ой: обвинение в "индивидуальном терроре".
По его рассказам - несколько лет подряд, в Москве, вызывали его на вечеринки, то к Сталину, то еще чаще к Ворошилову: эстетические вкусы в Кремле стоят как раз на таком уровне, чтобы услаждаться игрою виртуоза на баяне. За последние перед арестом два-три года Гармонист, по его словам, приглашался к кремлевским владыкам не менее раз шестидесяти. "Бывало по вечерам, а то и в середине ночи - за мной автомобиль: везут на домашнюю вечеринку к Климу (Ворошилову), либо к самому Сталину. Поиграешь им, а потом с ними же да с гостями за одним столом и ужинаешь"...
Хабаровский НКВД обвинял Гармониста по этому поводу в террористическом умысле: он-де ездил к Ворошилову и Сталину каждый раз с револьвером в кармане, и если не произвел террористического акта, то лишь потому, что каждый раз мужества нехватало - все шестьдесят раз подряд. Чтобы Гармонист сознался в этом "задуманном, но не совершенном преступлении", к нему обратились с обычными аргументами в виде резиновых палок, а он заупрямился и сознаться не пожелал. Били его нещадно. Пыток не применяли: было простое {274} избиение. Во время одного из таких "допросов" ему переломили обе ноги ниже колен и замертво отнесли в лазарет. Вышел он оттуда на костылях - и был этапным порядком отправлен в Москву, ни в чем не сознавшийся. В нашей камере Гармонист каждую пятницу неустанно строчил заявления на имя Ворошилова, в твердой надежде, что "Клим не выдаст и выручит". С одинаковым успехом он мог бы адресовать послания и на луну. Следователь, конечно, просто отправлял их в сорную корзину. Месяца через три меня увели из этой камеры и дальнейшая судьба Гармониста мне неизвестна.
Но эти "допросы" имели место в далеком Хабаровске. Нам незачем было ходить так далеко: эти юридические методы были у нас перед глазами.
В апреле 1938 года меня из камеры No 45 повезли на допрос из Бутырки на Лубянку, где я неделю провел в битком набитом "собачнике". Рядом со мной на голом каменном полу лежал мой сокамерник, пожилой русский немец, коммунист, "красный директор" треста "Пух и перо" (я прозвал его, по Кузьме Пруткову, "Daunen und Federn"). Обвиняли его по пункту 6-му статьи 58-ой - в шпионаже, а заодно уж и во вредительстве, и стали его ежедневно водить из собачника на допросы в следовательскую камеру. Возвращался он оттуда иногда на собственных ногах, а иногда и на носилках. Пыток не было, было простое избиение. В собачнике была дикая жара и теснота, мы лежали в одних рубашках, я - спиной к спине с несчастным "Daunen und Federn". Моя рубашка стала прилипать к телу, я думал - от пота, оказалось - от крови, обильно сочившейся из его исполосованной спины. Нас вместе с ним отвезли на "Черном вороне" обратно "домой", в Бутырку, где поместили в новой камере No 79, откуда его немедленно же отправили в лазарет. Недели через две-три он снова появился в камере тенью прежнего человека, ходил с трудом, кашлял кровью, сломанные ребра еще не срослись.
{275} Пришлось снова положить его в лазарет, откуда он уже не вышел: месяца через два мы узнали из нашей банной почты о его смерти.
Майор охранных войск НКВД, приволжский немец Сабельфельд, сидевший в это же время в камере No 79, подвергался таким же "допросам" уже в самой Бутырке зачем так далеко возить! Еще не так давно сам он, хотя и по-иному, крутобойничал, а теперь пришлось испытывать все это на собственной шкуре. Обвинялся в шпионаже в пользу Германии. С "допросов" возвращался в камеру избитый и даже со следами юридических методов допроса на лице, что, вообще говоря, редко бывало: следователи предпочитали работать над менее видными частями тела, а Сабельфельд иной раз возвращался из следовательской с опухшим лицом, и с синяками под глазами, с исцарапанными щеками. Долго терпел, не сознавался - и, наконец, доведенный до отчаяния, решил объявить голодовку. Голодал дней десять (очень трудное дело в общей камере, где кругом едят) и был вызван к следователю:
- А, ты голодовкой запугать нас вздумал! Не надейся, голубчик, не запугаешь! Издыхай с голода! А впрочем - открой рот!
И густо харкнул в рот Сабельфельда:
- Вот тебе питание!
Вернувшись в камеру, Сабельфельд решил покончить самоубийством. Когда вся камера ушла на прогулку и остались в ней только я да двое очередно наказанных "без прогулок", он подошел ко мне и тихо проговорил, что "покончил самоубийством": только что проглотил кусочек стекла, незаметно подобранный на дворе во время прогулки. В ответ я рассказал ему о случае, когда за несколько лет перед этим мой хороший знакомый, писатель, пытаясь покончить самоубийством в тифлисском застенке, разбил на кусочки, разжевал и проглотил электрическую лампочку, окровавил рот, исцарапал пищевод и {276} кишки, и остался жив. (Эту изумительную историю я рассказываю в другой книге). Посоветовал я Сабельфельду не думать о самоубийстве и прекратить голодовку, что он и исполнил. Вскоре был взят "с вещами" и бесследно исчез с нашего горизонта. Почему-то думали, что он переведен в Лефортово.
К слову о самоубийствах: в моих камерах, кроме случая с Сабельфельдом, знаю еще две попытки и обе неудачные. В самом начале 1938 года, в камере No 45, как-то раз за вечерним чаем, среди сравнительной тишины, нас поразили какие-то странные хрипы, доносившиеся из "метро". Бросились смотреть - и вытащили из-под нар полумертвого руководителя нашего бухгалтерского кружка. Тоже доведенный до отчаяния "допросами", он придумал такой род самоубийства: завязал шею жгутом носового платка, просунул у затылка между платком и шеей деревянную ложку и стал ее вращать, туго затягивая жгут. Если бы мы не услышали его хрипов, то, может быть, он и довел бы до конца свою попытку.
Другой случай произошел через полгода в камере No 79. В августе месяце меня вызвали на допрос, причем я был весьма удивлен способом моего эскортирования. Бывало - приходил дежурный из следовательского коридора, выкликал фамилию и предлагал идти, сам шествуя сзади. Теперь же явились за мною три архангела, двое крепко схватили меня с двух сторон за руки и повлекли, а третий замыкал шествие. Вернувшись с допроса в камеру, я рассказал об этом удивленным товарищам, но с этого дня всех стали водить на допросы с таким же церемониалом. И еще одно событие случилось в тот же день: не вернулся с допроса в камеру полковник Лямин, давно уже измученный истязаниями на допросах. Так мы его больше и не видали, но из банной почты узнали, в чем дело. Оказалось вот что: Лямина вел дежурный на допрос, надо было спуститься по лестнице в нижний этаж. Лестницы в Бутырке, как и во всех {277} тюрьмах, обтянуты проволочными сетками, чтобы не было соблазна броситься в пролет. Но полковник Лямин избрал другой способ: он ринулся по лестнице вниз и с разлета ударил лбом о радиатор центрального отопления на лестничной площадке. (Незадолго до этого он прочел у нас "Трое" Максима Горького). Удар был недостаточно силен, он не разбил головы, но всё же Лямина замертво отнесли в лазарет, а по выздоровлении перевели в другую камеру. С этих пор и был введен новый церемониал с тремя архангелами.
VI.
Возвращаюсь однако к истязаниям. О "простых избиениях" я рассказал достаточно, перейду теперь к другим, более утонченным приемам пыток.
Соседом моим по "метро" и нарам в камере No 45 был военный доктор Куртгляс. Не очень твердо ручаюсь за фамилию, но ее можно было бы установить по телефонной книжке Москвы за 1937 год: последние годы доктор Куртгляс занимал должность старшего санитарного врача московского военного округа. Обвиняли его в прикосновении к известному заговору Тухачевского. Допросы с истязаниями, издевательствами, оскорблениями не привели ни к чему - доктор упорствовал и не желал "сознаться". Возвращаясь в камеру с допросов, измученный физически и морально, он часто говорил мне: - "Ну что там мучитель Достоевский! Мальчишка и щенок Федор Михайлович!". - Вскоре ему пришлось проделать опыт, который был бы, действительно, "сюжетом, достойным кисти" Достоевского.
Рано утром, сразу после побудки, в понедельник 3 декабря 1937 года, его увели на допрос, продолжавшийся шесть часов подряд и заключавшийся в том, что он все это время молча простоял около стены ("не сметь опираться"!), а следователь сидел за письменным столом, разбирал бумаги, перелистывал дела, {278} занимался, и лишь изредка приговаривал: - "Ну, что, мерзавец, не хочешь сознаться? Ничего, стой у стены, стой! Дай срок, скоро запоешь!". - В полдень дежурный отвел доктора к нам в камеру на обед, с приказанием быть готовым через четверть часа, а сам все это время наблюдал в "глазок". Доктор наскоро пообедал - и его снова увели на допрос. Вернулся он к ужину, часам к шести вечера, и рассказал, что "допрос" заключался в прежнем стоянии у стены, только следователь был другой, сменивший первого. Это называлось системой допроса "конвейером": следователи сменялись через каждые шесть часов, днем и ночью, и пропускали через такой своеобразный конвейер свою жертву.
После спешного ужина снова отведенный в следовательскую камеру доктор простоял в ней у стены всю ночь, двенадцать часов подряд, до шести часов утра вторника 4-го декабря, когда был снова отпущен в нашу камеру на четверть часа - пить чай. Истомленный сутками стояния у стены без сна, доктор попробовал прилечь на нары - и был сейчас же поднят окриком следившего за ним в "глазок" специального дежурного: "не сметь ложиться!" - после чего был немедленно же уведен в следовательскую для продолжения пытки конвейером.
Так прошли и понедельник, и вторник, и среда - в сплошном стоянии и без минуты сна. Когда истязуемый невольно задремывал стоя и начинал шататься (опираться на стену было запрещено), то следователь вскакивал, дергал его за бороду, приводил в сознание и осыпал ругательствами и угрозами. В пятницу утром, простояв без сна полных четверо суток, доктор был как всегда приведен на четверть часа в нашу камеру. Он сказал мне: "Какой молодец моя жена! Ведь ухитрилась же пробраться в Бутырку и незаметно от следователя сунула мне в карман четверку трубочного табака! Только куда же я задевал ее, эту четверку?" - и он стал растерянно шарить {279} руками по карманам. Такие галлюцинации повторялись всю пятницу, пятый день конвейера и потом прекратились. Как доктор, он нашел средство хоть чем-нибудь поддерживать свои сломленные бессонницей силы: он набивал карманы кусками пиленого сахара, которым мы снабжали его в изобилии - и незаметно от следователя клал в рот кусок за куском, этим только поддерживаясь.
Суббота 8-го декабря и воскресенье 9-го прошли без всяких перемен - и все же доктор стойко выдерживал пытку (вот где, действительно, подходит слово "стойко"!) и ни в чем не пожелал "сознаться". Как долго еще могло продолжаться это истязание? В шесть часов утра понедельника 10-го декабря доктора Куртгляса привели, как обычно, в нашу камеру "на четверть часа". Как еще он мог двигаться, ходить, говорить - непонятно. Прошло четверть часа, полчаса, час никто его не вызывал, в "глазок" никто не подглядывал. Мы поняли: пытка, продолжавшаяся ровно неделю - закончена, конвейер прекратил свою работу. Мы уложили доктора на нары, накрыли его шубой, подложили самодельные подушки под голову - и он не мог заснуть. Лишь понемногу, день за днем, стал он приходить в себя, и все повторял:
"Мальчишка и щенок Федор Михайлович!"
От опытных тюремных старожилов мы узнали, что пытку лишением сна производят с разрешения прокурора НКВД не долее недели - таков закон (закон!!). Выдерживают ее немногие; доктор Куртгляс выдержал. Через месяц его взяли "с вещами" и, как мы узнали потом, перевезли в самую страшную из московских тюрем - в Лефортово.
В Лефортове, судя по рассказам, применялись и настоящие пытки (железные скребницы, ущемление пальцев и многое иное в этом роде), но только так как я о них знаю не от очевидцев, или, вернее, не от страстотерпцев, то и не буду говорить о них. Скажу только, что через год, когда я сидел в камере No 113, {280} в соседней с нами камере сидел знаменитый конструктор аэропланов - "АНТ" - А. Н. Туполев. Он рассказывал о себе следующее: его арестовали и привезли в Лефортово, подсадив в одиночную камеру к известному военному и партийному киту Муклевичу, который после недельных лефортовых "допросов" уже во всем "сознался". Муклевич стал убеждать Туполева "сознаться" на первом же допросе и развернул перед ним картину всего того, что его ожидает в случае упорства. Картина была, по-видимому, настолько убедительная (Туполев о ней не пожелал рассказывать), что несчастный "АНТ" не решился испытать на личном опыте то, что уже проделали над Муклевичем, и последовал совету последнего: на первом же допросе признался во всем том, что было угодно следователю. Его избавили от пыток и перевели в Бутырку, где он и ожидал решения своей участи.
Вспоминаю еще, как в лубянском собачнике, в ноябре 1937 года, я мимолетно встретился с одним бородатым инженером. Он только что вернулся с допроса и рыдал, как ребенок: ему сказали, что раз он не хочет сознаться, то его немедленно отправят в Лефортово - и пусть тогда он пеняет сам на себя. Через несколько часов его, действительно, увели из собачника.
Доктор Куртгляс попал в это страшное Лефортово. Что с ним там делали - не знаю, но через год я узнал от одного переведенного к нам в Бутырку из Лубянки, что доктор сидит в общей камере Лубянки, "во всем сознался" и ждет - расстрела или отправки в концлагерь, если не изолятор.
Еще один из этой жуткой картинной галереи: студент (фамилии не помню), обвинявшийся в участии в студенческой контрреволюционной организации. Он заболел ангиной в острой форме, с температурой до 40 градусов, и заявил корпусному о необходимости лечь в лазарет. Через полчаса за ним пришли и {281} повели, но не в лазарет, а в следовательскую, где его усадили за стол, дали перо в руки и предложили подписать протокол допроса с полным "сознанием". Он швырнул перо на пол, получил удар массивным пресс-папье по голове (вернулся в камеру с багровой шишкой на лбу), упал со стула и впал в забытье. Очнувшись, увидел себя снова сидящим на стуле, с пером в руке, перед открытым листом протокола. До трех раз повторялась эта история - и, наконец, его вернули в нашу камеру в полубессознательном состоянии. Лишь к вечеру он попал в лазарет, а когда недели через две вернулся из него, то никак не мог вспомнить и мучился сомнением - подписал он, в конце концов, или не подписал этот проклятый протокол?
"Василек" - его фамилия была Васильев - таково было ласковое прозвище одного нашего сокамерника (в камере No 79), очень милого человека, военного. Вообще надо сказать - военных среди нас было довольно много и, как правило, все они обвинялись в прикосновенности к "делу Тухачевского". Василек заслужил свое прозвище. - Это был нежный и с открытой душой человек лет тридцати, прекрасный товарищ, увлекательный рассказчик: он был специалистом по "высокогорным походам", брал приступом не один пик на Памире.
- Мы часами слушали эти его рассказы. Верил в людей и даже в черном старался находить белое. Палачей-следователей жалел: несчастные, исковерканные люди! А потом - не все же звери! Раз, вернувшись в камеру с допроса, избитый в кровь даже по лицу, он стал рассказывать нам не об истязаниях, а о том, "какой великодушный бывает русский человек"!.. Когда окровавленного Василька отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним, и, вместо того, чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Василек подставил голову под кран - и рыдал, не столько от боли, сколько от пережитых {282} оскорблений и издевательств, а дежурный стоял и смотрел на него, по-бабьи подперши щеку ладонью.
- Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем не сладко живется, а терпеть надо. Ну избил он вас почем зря, а вы пренебрегите: его черной душе теперь может еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вот вы сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?..
Мы удивились: избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть ли не веселый: так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного...
Часто подвергавшийся на допросах избиениям и истязаниям, Василек ни в чем не "сознавался". Но однажды утром он вернулся с ночного допроса мрачнее тучи, лег на нары и до обеда молча пролежал, накрывшись с головой. Потом, немного успокоившись, рассказал нам, что во всем "сознался" - подписал нужный следователю протокол: выдержал десятки избиений - и не мог выдержать пустяка. Следователь повалил его на пол, таскал по полу за волосы и втиснул лицом в наполненную до краев плевательницу, тыкал в нее и приговаривал: "Жри, жри, мерзавец!". Этот "пустяк" переполнил чашу - Василек сказал:
"Довольно! подписываю ваш протокол!"
Такой же случай "морального воздействия" сломил волю и другого нашего сокамерника. С нами сидел молодой и пылкий грузин, Лордкипанидзе, сын того социал-демократа, который вместе с пятью партийными товарищами, членами четвертой Государственной Думы, был приговорен к каторге в связи с известным процессом 1915 года. Отец, не дождавшись революции, умер в саратовской пересыльной тюрьме, а сироту сына пригрел Ленин, сказав ему: "Партия будет тебе вместо отца"... Впрочем у него оставалась и мать. Она не нашла ничего лучшего, как в первые годы революции выйти замуж за слишком известного прокурора ГПУ Катаньяна, который усыновил пасынка, так что тот носил теперь грязное имя Катаньяна, {283} вместо чистого имени Лордкипанидзе. При такой высокой протекции юноша пошел далеко - и к моменту разгрома шайки Ягоды-Катаньяна занимал пост личного секретаря наркома легкой промышленности. Но в ежовские времена нарком попал в Лефортово, где во всем "сознался", а его секретарь Катаньян-Лордкипанидзе - в Бутырку, где ни в чем не сознавался. Мужественно переносил все допросы - и с чисто грузинской экспансивностью восклицал, что нет той пытки, которую он не выдержал бы: пусть убьют, а ложного сознания не получат! (Обвиняли в шпионаже). Но как и Василек- был повержен не большой горой, а соломинкой. Вернулся к нам в камеру после "сознания" - в истерическом припадке и долго не мог успокоиться, а потом рассказал: после обычных издевательств и избиений, следователь велел поставить его на колени и держать, а сам стал мочиться на его голову...
Восточная мудрость говорит: соломинка может переломить спину перегруженного верблюда...
А бывало, что переламывали спину и в буквальном смысле слова. Сидевший с нами летчик по прозванию "Миллион километров" долго подвергался в Пугачевской башне не пыткам, а простым избиениям. На последнем "допросе" ему так повредили позвоночник, что замертво отнесли в лазарет, где он пролежал месяцы, а потом попал в нашу камеру. Ходил он с трудом, согнувшись в три погибели, но утешался тем, что сидеть он еще может, а значит сможет сидеть еще и за рулем аэроплана. Кстати сказать - он был одним из немногих, несмотря на все истязания ни в чем не "сознавшихся". Таких из всей тысячи прошедших передо мной заключенных я насчитал всего двенадцать человек...
Не довольно ли этого кошмара? Я мог бы прибавить еще десятки портретов к этой жуткой картинной галерее, но ограничусь для концовки только двумя, и, начав с Хабаровска, закончу Асхабадом и Баку, чтобы показать, что по всему лицу земли советской {284} творились одинаковые преступления в эти страшные годы.
Поздним летом 1938 года появился в нашей бутырской камере No 79 капитан Димант, привезенный со спецконвоем из Асхабада после вынесенных там "допросов". Был обвинен в шпионаже, "сознался". Он был комендантом одной из многих крепостей, пограничных с Афганистаном и рассказывал нам много красочных и интересных историй из своей десятилетней боевой жизни (война с афганскими "шайками", иной раз численностью в десяток тысяч человек, никогда не прекращалась). Записать бы все эти рассказы - вышел бы целый том захватывающего интереса. Весною 1938 года капитана Диманта вызвали в Асхабад по делам службы. Он сделал 200 верст верхом и явился по начальству. Начальник посмотрел на Диманта и покачал головой:
- Старый боевой командир, а револьвер не в порядке, и запылен, и заржавел. Покажите-ка!
Изумленный Димант передал ему свой блестевший чистотою браунинг - и в ту же минуту на него напали, накинулись сзади, схватили за руки, отправили в асхабадскую тюрьму и в тот же день вызвали на допрос. Следователь предъявил ему обвинение в шпионаже в пользу Англии, а когда возмущенный Димант в резкой форме отверг это обвинение, следователь позвал четырех дюжих нижних чинов с резиновыми палками и во главе их сам приступил к острому ежовскому приему допроса. Димант пришел в ярость, а на беду их он был хорошо знаком с приемами борьбы джиу-джитсу. В результате "допроса" избит был не он, а следователь и четверо его подручных, заплечных дел мастеров. Один лежал без сознания получил удар ладонью плашмя в горло ("я боялся - не убил ли?"); другой корчился на полу и стонал от боли - получил полновесный удар ногой в пах; третий лежал врастяжку от "кнокаута", удара кулаком в подбородок; четвертый вопил от боли - {285} ему Димант в пылу борьбы вонзился зубами в мякоть руки повыше локтя и оторвал кусок мяса, после чего свалил на пол ударом кулака в живот; а после всего этого ("всё в полминуты кончилось") - избил следователя до потери сознания резиновой палкой и "превратил морду в кровавый бифштекс".
На шум сбежались, одолели Диманта, повалили, связали, пришел начальник отделения и составил акт о происшедшем. После чего можете себе представить, как били связанного Диманта. Унесли его без сознания в лазарет, вместе со всеми пятью жертвами системы джиу-джитсу.
Когда он немного поправился - стали продолжать такие же "допросы", принимая однако меры предосторожности: каждый раз связывали. Пыток не было, были простые избиения. Однако после одного из них - на одиннадцатый раз, когда его стали бить резиновой палкой по половому органу - он не выдержал и "сознался". После всего этого месяцы лежал в лазарете с отбитыми почками и мочился кровью, а когда выздоровел - был отправлен в Москву, где в нашей камере ждал решения своей участи.
К концу октября этого 1938 года подул какой-то новый ветер: мы стали замечать, что избиения происходят всё реже и реже, допросы начинают происходить без избиений. В первых числах ноября Диманта вызвали на первый в Москве допрос (месяца три просидел он у нас без допросов). Седоватый полковник НКВД начал вопросом:
- Скажите, товарищ Димант (товарищ! такого слова заключенные от следователей не слышали!), как вы могли сознаться в шпионаже?
- Я сознался на одиннадцатом допросе, - ответил Димант. - Разрешите доложить, что если бы такие же приемы допроса я применил к вам, то, быть может, вы сознались бы в чем угодно в первый же день допроса.
Полковник показал ему "дело", из которого {286} Димант узнал, что пока он сидел в Бутырке - в Асхабад был направлен военный следователь НКВД для рассмотрения его дела, что начальник асхабадского отдела, допустивший избиение (!) без разрешения начальника асхабадского НКВД (а с разрешения, значит можно?!) подвергнут взысканию, и что вообще вокруг этого дела в военных кругах поднят шум. Мы были очень рады за Диманта; ему повезло. Но как же с тысячами (миллионами!) других, столь же ни в чем неповинных Димантов? Они и до сих пор продолжают заселять собой изоляторы и концентрационные лагеря.
- В Туркестан вы, конечно, уже не вернетесь, - сказал в заключение полковник (а почему бы и не вернуться с полной реабилитацией?), - мы устроим вас на Дальнем Востоке...
Это - единственный известный мне случай из почти двухлетней тюремной жизни, когда "сознание" повлекло за собой не расстрел, изолятор или концлагерь, а вероятное освобождение. Впрочем, не знаю - через несколько дней после этого я покинул камеру No 79.
Около этого же времени, в конце октября или начале ноября, был привезен из Баку и попал в нашу камеру обвиненный тоже в шпионаже (на этот раз в пользу Турции) старый революционер, а потом член азербайджанского ЦИК'а Караев. Я провел с ним в общей камере не более недели, так что не слышал продолжения интереснейших его рассказов, но и слышанного было достаточно. Он, узнавая про московские, хабаровские и асхабадские истязания, только снисходительно улыбался и говорил:
- Ну, это что! Пустяки! Вот посидели бы вы у нас в Баку!
У него тоже был перелом ребер, его тоже били резиновыми палками, он тоже мочился кровью, но считал все это "детскими игрушками".
- А вот когда у меня содрали ногти на ногах, {287} и следователь топтал окровавленные пальцы тяжелыми каблуками, тут - запоешь! Это уже не игрушки!
И однако - он не "сознался", долго лежал в лазарете и был отправлен в Москву.
Довольно, слишком довольно! Заканчивая эти кошмарные страницы, хочу прибавить: истязаниям подвергались, разумеется, далеко не все допрашиваемые, только избранное меньшинство их. Для большинства достаточно было одних следовательских угроз, подкрепленных затрещинами и главное - криками и стонами из соседних следовательских камер, а также и рассказами страдавших на их глазах товарищей. Такие напуганные люди - большинство - "сознавались" легко, в роде А. Н. Туполева: будь что будет, лишь бы не было пыток. Впрочем, как мы уже знаем, пыток не было - были лишь "простые избиения".
VII.
О тюремных днях я рассказал много, о делах людей - достаточно. Пора теперь перейти, наконец, и к себе самому, к моим собственным "делам и дням".
После ареста и водворения в камеру No 45 настроен был я мрачно. Не только знал, что ежовское пленение это - "всерьёз и надолго", но был уверен и в большем: не сомневался, что на этот раз решено со мною так или иначе покончить. Расстрелять не расстреляют, а засадят в изолятор или в концентрационный лагерь "на десять лет без права переписки". И хотя законных причин для этого никаких нет, но мало ли можно придумать для этого причин незаконных: был бы человек, а статья найдется!
Юрисдикцию теткиных сынов я по опыту знал хорошо, чтобы не сомневаться в таком исходе своего дела, а потому был убежден, что на этот раз дело не ограничится тремя годами ссылки, что выхода на волю мне нет и не будет. А если так, то и решил - с самого же начала, с первого же допроса поставить вопрос {288} ребром и требовать быстрого совершения Шемякина суда. А что суд этот свершается теперь быстро - этому я был свидетелем весь октябрь месяц, первый месяц моего пребывания в тюрьме: десятками уходили люди из камеры после двух-трех незначительных допросов, уходили по этапу в концлагери, на место их приходили десятки других и уходили столь же быстро. Я думал, что и со мной покончат таким же ежовским темпом, - зачем тянуть?
В этом я ошибался - со мной не торопились. По закону (закону!!) предъявление обвинения заключенному должно быть сделано не позднее двух недель со дня ареста. Но вот в середине октября, две недели со дня моего ареста прошли, а на допрос меня не вызывают. Передо мной пестрым калейдоскопом проходят десятки и десятки вызываемых на допросы и отправляемых в концентрационные лагеря. Приходят новые десятки, чтобы испытать ту же судьбу. При допросах еще не прибегают к палочным доводам, незачем тратить силы для такой мелкоты: статья 58, параграф 10! Это всё - ежовская "вермишель", которую можно отцедить через следовательское сито в два счета и без применения сильно действующих средств. А что ни в чем неповинные люди эти пойдут заселять миллионами бесчисленные лагери - велика важность!
Но в калейдоскопе сменяющихся десятков (сотен!) лиц мы стали замечать в камере некое неподвижное ядро: люди, как тени, приходили и уходили, а ядро это оставалось на месте. Сотни прошли мимо, несколько десятков нас осталось. Мы все мало-помалу перезнакомились друг с другом, удивлялись - почему же это с нами тянут, и решили, что мы, остающиеся без движения - очевидно закоренелые преступники, с которыми и поступать будут более серьёзно. И действительно: всю человеческую вермишель отцеживали быстро, проводя через допросы тут же, в Бутырской тюрьме. А со второй половины октября мы стали {289} замечать, что отдельных членов нашего преступного ядра увозят допрашивать на Лубянку. Вызовут человека "без вещей" - значит на допрос, - а он исчезает на два-три-четыре дня. Потом возвращается и рассказывает довольно жуткие вещи о Лубянке, о "собачнике", о допросах. Вся камера разделилась на "бутырщиков" и на "лубянщиков", и надо сказать, что вторые завидовали первым: по крайней мере дела их решаются просто и быстро, а результат все равно будет одинаковый лагерь. Кандидатов на расстрел мы между собой не находили, и лишь позднее убедились в своей наивности.
Как бы то ни было, но прошло две "законных" недели - никто и никуда меня не вызывал; прошел и беззаконный месяц - товарищи поздравили меня со званием "лубянщика". И верно - прошло еще несколько дней и настал мой черед испытагь partie de plaisir на Лубянку. Это было 2-го ноября 1937 года, число очень мне запомнившееся, так как ночь со 2-го на 3-е ноября явилась одной из кульминационных точек моего тюремного чествования.
Рано утром 2 ноября меня вызвали "без вещей". Повели через двор на "вокзал", посадили в изразцовую трубу, держали в ней часа три. Потом повторение пройденного: явился нижний чин, велел раздеться "догола", произвел тщательный осмотр платья и белья, совершил по обычному ритуалу тюремную ектинью - "встаньте! откройте рот! высуньте язык!" - и ушел. Еще час ожиданья - и меня повели во двор к "Черному ворону". Он был по-видимому весь заполнен, все железные трубы-одиночки были уже заняты, - с открытой дверцей стояла лишь первая от входа кабинка, куда меня и втиснули. Ворон каркнул - поехали.
Приехали. Дверь "Черного ворона" открылась - мы во дворе Лубянской внутренней тюрьмы. Меня спускают по десятку каменных ступеней куда-то вниз, вниз, в глубокий, но ярко освещенный электричеством {290} подвал. Здесь я еще ни разу не был, это знаменитый "собачник", о котором знаю по рассказам уже побывавших здесь товарищей по камере. Прямо против входа - комендантская, там вносят меня в список собачника, краткая анкета (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, из какой тюрьмы прибыл), производят беглый наружный обыск, отбирают почему-то такую невинную вещь как очки - и уводят по коридору в назначенный мне номер собачника. Недлинный коридор тупиком; слева - четыре камеры собачника, справа - уборная и большая следовательская комната.
Ну, вот он, собачник. Подвал, шагов 8 в длину, шагов 5 в ширину, сажени 2 в высоту. Каменный мешок, ярко освещенный электрической лампочкой. Дневного света нет, хотя есть небольшое окно под самым потолком. Окно с тройными рамами, стекла густо замазаны мелом, так что свет почти не проникает. Окно выходит на улицу, на Большую Лубянку. Днем, когда лучи солнца падают на окно, и вечером, когда на улице против окна горит фонарь, на меловых стеклах можно видеть беспрерывно двигающиеся пятна - тени ног свободных людей, идущих по тротуару. Каменный пол, голые стены, ни нар, ни стола, ни скамей, только в углу сиротливо ютится зловонная неприкрытая параша. Голый, пустой каменный мешок, - вот он, собачник.
Попал я в подвал No 4 - как раз против уборной и наискосок от следовательской камеры. Подвал был почти полон - я был в нем восемнадцатым. Через полгода я убедился личным опытом, что подвальная комната эта может вместить и втрое больше народа. Нашел себе место у стены, сел на пол и перезнакомился с соседями.
Если наша бутырская уборная и баня были почтовыми отделениями NoNo 1 и 2, то собачник носил наименование "радиотелеграфной станции". Тут встречались и обменивались сведениями, новостями и {291} впечатлениями обитатели разных московских тюрем. На этот раз здесь была половина из разных камер Бутырки, половина из Таганки. Некоторые сидели здесь по дня два-три, другие - дня три-четыре. Только один сидел здесь уже пять дней с ежедневными допросами. Население собачника было текучее, быстро менялось. За те сутки, которые я просидел в нем, половина заключенных была снова разведена по своим тюрьмам, а три-четыре новичка прибыли к нам, так что я покинул собачник, когда в нем было человек двенадцать.
Среди заключенных только два обратили на себя мое внимание: профессор какого-то высшего технического заведения и бородатый инженер, вызванный при мне на допрос и вскоре вернувшийся с него. Пожилой человек, он рыдал, как ребенок: за отказ "сознаться" во вредительстве его направляли в Лефортово. Все мы знали по слухам про эту самую страшную из московских тюрем.
Профессор сидел в собачнике уже третий день, ежедневно вызывался на допросы - пока еще без применения сильно действующих средств, но с многочисленными угрозами дойти и до них. Ему надлежало "сознаться" в том, что будучи в 1919 году в Иркутске, где он преподавал, он держался "колчаковской ориентации", сотрудничал в "белых" газетах. Но позвольте - хотя бы и держался, хотя бы и сотрудничал? Ведь с тех пор два десятилетия прошло! Но для теткиной юрисдикции не существует земской давности.
Остальные заключенные в нашем собачнике - все на одну масть: "шпионы и вредители" (большинство), "троцкисты" и "террористы" (два ни в чем неповинных студента). Интересно, что ни в собачнике, ни в бутырских камерах я почти не встречал членов былых политических партий - эсдеков, эсеров, - со всеми с ними рассчитались уже в предыдущие годы.
{292} Скоро после моего водворения в собачник пришло время обеда - значит был полдень. Открылась дверь, за ней тележка с ведрами супа и каши: в Лубянке обед состоял из двух блюд. Тюремный повар наполнял миску за миской и передавал их нам, иногда купая большой палец в похлебке и тут же облизывая его, чтобы снова погрузить в новую миску. Пока он наливал и подавал восемнадцатую мисочку, первая была уже пуста, и он тем же манером наполнял ее кашей. Когда все было съедено, миски и ложки отбирались и дверь захлопывалась. Вся эта обеденная процедура продолжалась с полчаса. Пообедав, мы растянулись на голом полу, подложили шапки под головы и предались отдохновению. Было тесно, но места для всех хватало; можно было даже лежать и на спине, о чем мы напрасно мечтали в бутырской камере.
Недолго я отдыхал, - скоро открылась дверь (дверной форточки в собачнике не было) и дежурный выкликнул мою фамилию: "На допрос"! Идти было недалеко - в дверь наискосок, в следовательскую комнату этого собачника. Комната была большая и "прилично меблированная": диван, несколько стульев, шкап для бумаг, письменный стол с настольной электрической лампой. У стола стоял с портфелем в руке высокий начисто бритый человек лет тридцати в военной форме. Он сказал: "Ваш следователь, лейтенант Шепталов. Садитесь!". - И сам сел против меня.
Заполнив обычный анкетный лист (фамилия, имя, отчество, адрес, профессия, семейное положение), он явно иронически спросил:
- Конечно, как и все обвиняемые, вы не знаете, за что вы арестованы?
И был очень удивлен, когда я ответил:
- Знаю.
- Вот как! Это очень упрощает дело! За что же?
- За то, что я - не марксист.
Он пристально посмотрел на меня и засмеялся:
{293} - Ну, это - ах, оставьте! За идеологию мы не караем. Нет, у нас есть гораздо более серьезное основание привлечь вас к ответу. Не пожелаете ли прямо, честно и откровенно сознаться?
- Я желаю сделать письменное заявление вам и вашему начальству, - ответил я.
Он снова пристально посмотрел на меня, помолчал, что-то соображая, потом вынул из портфеля лист бумаги, пододвинул ко мне чернильницу и перо и кратко бросил:
- Пишите!
И я стал писать заявление, адресовав его высшим следовательским органам НКВД, ведущим мое дело. Содержание заявления было следующее:
В 1933 году я был арестован органами ГПУ по обвинению - категорически мною отвергнутому - в "идейно-организационном центре народничества", оторван от литературной работы, которой исключительно занимался, пробыл почти девять месяцев в одиночке ленинградского ДПЗ, а затем три года в ссылке в Новосибирске и Саратове. Отбыв срок ссылки, поселился в Кашире, вел совершенно замкнутую жизнь, работал над большим трудом по предложению Государственного Литературного Музея; никакой политической деятельностью не занимался, ни с кем, кроме двух-трех литераторов в Москве, не встречался, так что в настоящее время не могло быть никаких новых оснований для нового моего ареста. А между тем 29-го сентября сего года я был арестован и вот уже более месяца жду предъявления мне обвинений, в то время как по закону таковые должны быть предъявлены не позже двух недель со дня ареста. Считая этот арест недоразумением, непредъявление обвинения нарушением закона, настоящим заявляю: следственные органы должны либо признать совершенную ими ошибку и немедленно освободить меня, либо немедленно же предъявить статьи обвинения и объяснить мне веские и убедительные с их точки зрения причины нового {294} моего ареста, которые мне не трудно будет опровергнуть. Объявлю голодовку, если не получу немедленного ответа на это мое заявление и до исполнения одного из двух моих вышеизложенных требований.
Как видите - я решил "взять быка за рога", без малейшей надежды, конечно, оказаться сильнее этого чекистского животного. Но терять мне было нечего, рога его все равно уже уперлись в меня. Я был убежден, что пришел конец если не моей жизни, то свободе, даже эфемерной, "каширской". Конечно, я знал, что животное это не выпустит меня, что со мной, так или иначе, но решено покончить. Подавая такое заявление, я не ухудшал своего положения, но, разумеется, и не улучшал его, хотя, быть может, и ускорял неизбежное. А впрочем - кто знает: быть может, это заявление и сыграло роль в том отношении, что со мною, к моему счастью, не стали торопиться?
Во всяком случае, настроение мое было мрачное и добра я ни с какой стороны не ждал.
Следователь лейтенант Шепталов взял и прочел мое заявление, без всяких замечаний, кроме одного: прочтя вслух фразу, что следственные органы должны признать совершенную ими ошибку, - он подчеркнул:
- НКВД никогда не ошибается!
Сколько раз слышал я из уст следователей эту идиотскую формулу, и сколько тысяч, сколько сотен тысяч раз слышали ее от своих следователей другие, столь же ни в чем неповинные люди! "Энкаведэ" присвоил себе один из атрибутов Ягве, одного из свойств Господа Бога, даже несколько из них, в роде - безгрешный, всезнающий, вездесущий, всемогущий... Вот только "благим" - никак нельзя было назвать этого взбесившегося зверя.
Прочитав заявление до конца, лейтенант Шепталов помолчал, немного подумал и отрывисто сказал:
- Хорошо. Будет доложено. Можете идти. Вас вызовут.
{295} Этот следователь мне понравился: не многоречив, отчетлив, сух. Каков-то будет он, однако, при допросах? В собачнике меня встретили вопросами: - "Ну, как? не били?" - и удивились, узнав, что следователь был вполне корректен. Только профессор пессимистически заметил:
- Ничего, он еще себя покажет! Все они одним лыком шиты и одним миром мазаны!
Остаток дня прошел без особых событий. Уводили на допрос, приводили с допроса, одних целыми и неприкосновенными, других побитыми, - но не резиновыми палками, а собственноручными кулаками следователя. Часов в шесть вечера сервировали нам ужин, до которого я не прикоснулся, часов в девять - отвели "на оправку" в уборную и умывалку. Полотенец и мыла не было, умывайся, как знаешь. Приказа "ложиться спать"! - тоже не было: в собачнике каждый мог спать на голом каменном полу, когда угодно и сколько угодно.
Но мне в эту ночь спать не пришлось.
VIII.
Наивно было думать, что мое заявление может произвести в высших следовательских инстанциях замешательство, но что некоторую сенсацию оно по своей необычайности произвело - это показали события наступившей ночи.
Я крепко заснул на голом каменном полу, довольный уже и тем, что не надо вклиниваться между соседями. Когда окрик в открывшуюся дверь разбудил меня и я услышал свою фамилию - "на допрос!", - я совсем заблудился во времени и думал, что уже глубокая ночь. Встал и пошел, полагая перейти наискосок коридора, чтобы попасть в следовательскую, но меня вывели из подвала во двор, потом в оказавшийся рядом подъезд и по довольно грязной лестнице на четвертый этаж. Там разными {296} коридорами и проходными комнатами, наполненными людьми и в чекистской форме, и в штатском - ввели в очень большую и парадную следовательскую комнату (как оказалось - кабинет начальника отделения), где я и нашел лейтенанта Шепталова.
Комната была устлана ковром. На стенах - портреты вождей, большие стенные часы, только что пробившие 11 часов. Письменный стол, на нем два телефонных аппарата, широкая ковровая отоманка, два шкапа с делами, между ними - одинокий стул.
За письменным столом, поставленным наискось в углу, сидел спиной ко входной двери следователь Шепталов. Обернувшись и увидав меня, он предложил мне сесть, но не к столу, как это обыкновенно бывает, а указал рукой на стул между двумя шкалами, шагах в шести от письменного стола. Меня это удивило. Удивило и то, что у противоположной стены тесно был выстроен в ряд чуть ли не с десяток венских стульев.
Продолжая сидеть за письменным столом спиной ко мне, лейтенант Шепталов снял с аппарата телефонную трубку и кратко сказал в нее: "Привели!", - после чего продолжал заниматься своими бумагами, не обращая на меня внимания. Я сидел и ждал. В шубе и меховой шапке стало жарко.
Прошло минут десять. В комнату быстрыми шагами вошел человек в чекистской форме, со знаком отличия в петлице, небольшого роста, коренастый, лет тридцати пяти, начисто выбритый. Это уж такая у них форма: не видал ни одного следователя с усами. Лейтенант Шепталов встал при его приходе и показал рукой на меня, а потом снова уселся спиной к нам и сделал вид, что всецело погружен в свои бумаги. Новопришедший спросил, указав на меня перстом:
- Этот самый?
Потом подошел, остановился в двух шагах и с минуту разглядывал меня, заложив одну руку в {297} карман, а другою подпершись фертом в бок. Потом непередаваемо-презрительным тоном :
- Писссатель? Иванов-Разззумник?
Я молча смотрел на него.
Тогда, начав с низких тонов, но постепенно возбуждаясь и повышая голос, он заговорил:
- Писссатель! Иванов-Разззумник! Вы изволили адресовать нам сегодня ваше заявление? Вы позволяете себе обращаться к нам с требованиями? Вы, господин писатель, требуете соблюдения закона? Да знаешь ли ты, болван, что для тебя закон - это мы! Знаешь ли ты, писательская сволочь, что мы в котлету можем превратить тебя с твоим законом, ...твою мать! Это тебе не тридцать третий год, когда с вашим братом церемонились! Вот позову сейчас сюда наших молодцов, и они тебе с твоим законом покажут кузькину мать, ... твою мать! Дерьмо собачье, ты должен дрожать перед нами и во всем сознаться, а не голодовкой угрожать! Испугал, подумаешь, ...твою мать! Смеешь наглые требования предъявлять, ...твою мать!
И постепенно доходя до дикого крика, завопил:
- Встать, когда я с тобой разговариваю!
Продолжая сидеть и стараясь внешне быть спокойным, но внутренне весь дрожа от этого ливня грязных оскорблений, я спросил согнутую над бумагами спину:
- Гражданин следователь Шепталов, это с вашего разрешения и в вашем присутствии производится такое гнусное издевательство над писателем?
Спина ответила (следователь не обернулся):
- Я не имею права вмешиваться: с вами говорит начальник отделения.
А начальник отделения, прийдя в совершенное неистовство, продолжал вопить, потрясая кулаком:
- Встать, или я сейчас тебе в морду дам!
Встать, или я тебя вместе со стулом вышибу из этой комнаты! Встать, ...твою мать, говорят тебе!
{298} Снова обращаясь к спине и снова стараясь, чтобы голос мой не дрожал (думаю, что это мне плохо удавалось), я сказал:
- Следователь Шепталов, заявляю решительный протест против такого подлого обращения. Можете передать вашему начальнику, что он не услышит от меня ни одного слова.
- А, ты, сволочь, не желаешь со мной разговаривать! А, ты не желаешь встать передо мной! Ну ладно же! Не хочу об тебя рук марать! Вот сейчас позову вахтера, увидишь тогда, куда вылетишь вместе со своим стулом! Писссатель! Иванов-Разззумник, ...твою мать!
И круто повернувшись на каблуках, он быстро вышел из комнаты. Я его больше никогда не видал, а теперь очень сожалею, что тут же не спросил у следователя Шепталова фамилии этого достойного теткиного сына: приятно было бы огласить ее на настоящих страницах.
Уверенный, что сейчас начнется дикая расправа, я сказал спине следователя Шепталова:
- Еще раз заявляю решительный протест против всех этих гнусностей, угроз и насилия, на которые вы, очевидно, не желаете обратить внимания и поворачиваетесь к ним спиной. Можете быть молчаливым свидетелем того, что здесь сейчас произойдет, но после этого и вы не услышите от меня ни одного слова. Я знаю, что мне остается сделать.
Спина ответила:
- Ничего здесь не произойдет.
И действительно: проходили минуты - вахтер не являлся. Потом я понял: заявление мое обсуждалось "на верхах", где было решено - не подвергать писателя насилию, а попытаться взять его страхом, на что и был уполномочен начальник отделения. Взять страхом не удалось, - надо было перейти к обычным методам допроса, но без применения палочной системы. Почему? Потому ли, что писатель может {299} впоследствии оказаться печатным свидетелем? (Ведь вот и случилось же!). Не знаю, но должен засвидетельствовать, что после этого первого и последнего дебюта начальника отделения, во все последующие полтора года допросов, обращение со мной следственных органов было вполне приличным. А через полгода, допрашивая одного из свидетелей по моему делу (об этом эпизоде я расскажу в своем месте), следователь Шепталов заявил, что относится ко мне "с полным уважением": не за мое ли поведение во время попытки начальника отдела нагнать на меня страх?
Все это я понял только потом, а тогда, ожидая прихода чекистского вышибалы, приготовился ко всему. Когда я сказал следователю - "я знаю, что мне остается сделать", то имел в виду план дальнейших действий, решенный за несколько дней перед этим, в минуту исступленных криков о помощи истязуемого на допросе человека, доносившихся из-за фрамуги окна. Если дело дойдет до этого, то жизнь надо кончить, чтобы ответить этим на издевательство и истязания. Легко сказать, но трудно сделать в тюремных условиях. Мне казалось однако, что это хоть и трудно, но не невыполнимо. Надо отломать ручку от выданной мне тоненькой жестяной кружки для чая; в баню водят без обыска - и я легко пронесу с собой эту острую обломанную ручку. А там - шайка горячей воды, незаметно вскрытая вена; кто обратит на меня внимание в густом пару бани?
Надеюсь, что у меня хватило бы решимости привести в исполнение, если бы понадобилось, этот план. Не знаю, конечно, увенчался ли бы он успехом. Месяца через два мы узнали из банной переписки, что жена известного сотрудника Ягоды по литературным делам, Агранова, сидевшая в нашем же корпусе в общей женской камере, узнав о расстреле мужа, вскрыла себе вену в бане, была замечена, отправлена в лазарет и вышла из него с парализованной рукой. Судьба избавила меня от подобного испытания, но этого {300} я не знал тогда, когда с минуты на минуту ожидал появления вахтера и всего того, что должно было последовать. Но минуты проходили - вахтер не приходил. Вместо него, один за другим стали появляться на сцене другие лица; постепенно их набралось с добрый десяток.
Потому ли, что дикий рев начальника отделения раздавался по всему этажу и по всем следовательским комнатам, потому ли, что следователи были предупреждены обо всей этой сцене и сами желали воочию увидеть арестанта, позволившего себе сделать столь необычное письменное заявление, - но только не прошло и несколько минут после ухода начальника отделения, как в его кабинет стали входить один за другим молодые люди, кто в форме, кто в штатском: следователи и аспиранты секретно-политического отдела. Они один за другим рассаживались против меня на стульях, точно специально для этого поставленных у противоположной стены, и с любопытством разглядывали меня, очевидно ожидая продолжения действия. Оно и не замедлило. Но перед действием произошла еще небольшая интермедия.
Следователи смотрели на меня, пересматривались и чего-то ждали. Но один из них, молодой человек в штатском, рыжий, с ехидно-подлым видом подошел ко мне:
- Вы изволите быть господин писатель?
Я молчал.
- А отчего же это вы, господин писатель, не отвечаете?
Я продолжал молчать.
- А отчего же это вы, господин писатель, в шапочке здесь сидите?
- Оттого, что и все вы здесь сидите в фуражках.
- А! Вы изволили заговорить! Но вот видите ли, господин писатель; вы и мы - это две большие разницы! Мы - можем сидеть перед вами в фуражках, а вы должны снять перед нами шапочку...
{301} И осторожно приподняв двумя пальцами мою меховую шапку, он столь же осторожно опустил ее на пол. Вид у него был гнусный. Я уверен, что на допросах он вел себя, как садист-истязатель.
Подняв с пола шапку и надев ее, я еще раз обратился к спине лейтенанта:
- Следователь Шепталов, прошу оградить меня от издевательств ваших товарищей. Вы теперь не можете отговариваться тем, что они являются вашим начальством.
Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, но тут в комнату вошло новое действующее лицо, при появлении которого все почтительно встали - и следователь Шепталов вытянулся у письменного стола. Я сразу узнал вошедшего "Некто в желтом"! Он был так же одет, как и месяц тому назад, когда я видел его в дежурной комнате на Лубянке 14: желтые краги, желтые кожаные брюки, желтая кожаная куртка военного образца и на ней знак отличия, желтая клеенчатая фуражка на голове. В эту же ночь я узнал от следователя Шепталова, кто был этот желтый человек: начальник секретно-политического отдела всего московского округа латыш Реденс. Подойдя к Шепталову, он вполголоса перекинулся с ним несколькими не долетевшими до меня фразами. Надо полагать, что речь шла обо мне, так как оба они поглядывали в мою сторону. Возможно, что следователь докладывал, каков был успех выступления начальника отделения. Закончив разговор со следователем, Реденс подошел ко мне, продолжавшему сидеть на своем стуле. Все, стоя, ожидали - что произойдет? Но никто, и я первый, не мог бы догадаться, на какую тему заговорит со мною "Некто в желтом".
- Ну что, - спросил он, - хорошо издаем мы Салтыкова?
- Не так хорошо, как было задумано, но недурно, - в полном изумлении ответил я, - и это доставляет мне большое удовлетворение.
{302} - Вам? Ха! А какое вам дело до нашего издания Салтыкова?
- Очень большое, - сказал я, - так как ваш Салтыков издается в Государственном Издательстве по моему плану.
Реденс с минуту молча стоял и смотрел на меня сверху вниз; потом круто повернулся к почтительно стоявшим следователям:
- Вот, обратите внимание: перед вами - один из представителей той контрреволюционной интеллигенции, которую мы, к сожалению, до сих пор еще не всю выпололи до конца. Ярый враг марксизма. Прикрывает свои контрреволюционные мысли легальной литературной формой, с которой наша цензура часто бессильна бывает бороться. Но для того и существует бдительное революционное око НКВД, чтобы выводить этих тайных контрреволюционеров на чистую воду. Они мечтают о возвращении капитализма, хотели бы отнять землю у крестьян и вернуть ее помещикам, рады были бы снова посадить на трон какого-нибудь кровавого деспота, целятся стать министрами в его правительстве. Таков и вот этот представитель той враждебной нам эсеровской интеллигенции, которую нам теперь нужно, как дурную траву, выполоть вон из нашего коммунистического поля...
Следователи почтительно слушали и поддакивали. Должен сказать, что против первой половины речи Реденса и я не имел бы ничего возразить, но некоторые намеки во второй половине его речи привели меня в недоумение и стали понятны только через два месяца, после одного из очередных допросов. Когда Реденс закончил свою речь, я сказал:
- Если вы внушаете подобное и на своих следовательских курсах, то мне остается только пожалеть о ваших слушателях. Никогда эсеры не мечтали ни о восстановлении самодержавия, ни о возвращении капитализма и помещиков, никогда не целился я на {303} какой-то министерский пост. По отношению ко мне все это совершенный вздор.
Не удостоив меня ответом, Реденс снова перекинулся несколькими фразами с Шепталовым и вышел из комнаты, а за ним гуськом потянулись следователи и аспиранты, сии птенцы гнезда НКВД, питомцы желтого человека. Мы остались вдвоем со следователем Шепталовым. Часы подходили только к полночи, а мне казалось, что я провел здесь Бог знает сколько времени.
Через полгода, когда я сидел в камере No 79 Бутырской тюрьмы, мы обычным путем почты, радиотелеграфа и "газет" узнали, что в соседней камере сидит переведенный из Лефортова Реденс, который там "во всем сознался", а именно - в шпионаже в пользу Латвии... Должен признаться, я очень жалел, что не попал в одну камеру с ним - то-то было бы интересно повидать его теперь, в его новом обличий! Потом мы узнали, что он снова был взят в Лефортово.
Наконец, последняя весть о нем была та, что в середине лета 1938 года Реденс был расстрелян...
Фантастические дела творились в застенках НКВД!
IX.
Когда мы остались одни, следователь Шепталов предложил мне пересесть к столу против него; перед ним лежала объемистая папка в синей обложке - мое "дело". Никогда не думал, что за мной снова накопилось столько преступлений, сколько должно было заключать в себе это толстое досье!
- В вашем заявлении, - начал следователь, - вы выставили два требования, или скажем лучше, высказали два пожелания. Первое из них, о немедленном освобождении, является, как вы сами понимаете, только вполне неуместной в вашем положении шуткой, а второе, о немедленном предъявлении обвинений, я сейчас и исполню. Вот подробный набросок {304} будущего обвинительного акта с целым рядом пунктов, на которое вам надо дать ответ. Есть и еще обвинительные пункты, которые мы предъявим вам в ходе следствия. А пока - прослушайте и дайте письменный ответ по всем пунктам.
И он стал читать обширный протокол столь фантастического содержания, что у меня от изумления вылезли бы глаза на лоб, если бы я уже не был достаточно знаком с приемами составления таких филькиных грамот. Вся моя жизнь, вся моя работа с начала революции и за все эти двадцать лет была освещена год за годом с этого бдительного чекистского маяка, и освещение это могло привести только к одному неопровержимому выводу: заслуживает высшей меры социальной защиты!
Начиналось с указания, что с первых шагов своей литературной деятельности я в течение почти двадцати лет до революции был непримиримым противником марксизма, а после революции - стал непримиримым противником большевизма. Так, еще в апреле 1918 года, на втором Съезде Советов в Москве, произнес я антибольшевистскую речь и был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов. Этот бывший коммунист сидит теперь за "троцкизм" на Лубянке и уличит меня на очной ставке, если бы я вздумал запираться...
Далее. Знал о плане московского вооруженного восстания левых эсеров в июле 1918 года, но так как жил в Петрограде, то и не принял в нем непосредственного участия и вышел сухим из воды. Однако, уже в 1921 году, когда остатки разгромленных эсеров подготовляли террористические акты, я для одного из них покупал берданку, что тоже устанавливается неопровержимыми свидетельскими показаниями...
Еще далее. В начале 1919 года я был арестован органами ЧК за участие в предполагавшемся новом заговоре левых эсеров; благодаря слабой руке тогдашней Чеки мне снова удалось избежать кары, но {305} теперь у НКВД накопилось много материалов из той эпохи, которые позволяют вновь рассмотреть это дело и прийти к совершенно иным выводам о моей виновности.
Еще и еще далее. С 1919 по 1924 год я возглавлял "Вольную Философскую Ассоциацию", хотя и легальную, но контрреволюционную сущность которой можно усмотреть из артикля "Вольфила" в Большой Советской Энциклопедии. В это же самое время в петроградском народническом издательстве "Колос", возглавляемом эсером Витязевым-Седенко, выходили мои книги, все до одной - нежелательного направления, включая сюда даже выпущенный под псевдонимом Влад. Холмского перевод комедии Аристофана "Богатство". В 1922 году "Вольфила" тоже выпустила сборник "Памяти Александра Блока". (см. на нашей странице, ldn-knigi) Речь моя, напечатанная в нем, является резко антибольшевистской в ряде мест.
Далее, далее. В 1926-1927 году я редактировал и комментировал шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова-Щедрина, где позволял себе в комментариях явное издевательство над советским режимом, в доказательство чего к настоящему протоколу прилагается выписанная из комментариев к "Истории одного города" страница.
(Прибавлю от себя в скобках: то, что в 1933 году следователи ГПУ стыдливо таили в своей черной книге, то в 1937 году менее стыдливые следователи НКВД смело заносят в протокол! Это же относится и к следующему пункту).
Еще более явно сделал я это же в 1930 году, в книжке "Неизданный Щедрин", в которой "Сказка о вредном (или ретивом) начальнике" явно целит в настоящее время, что видно и из вырезанной издательством из предисловия фразы, сохранившейся в некоторых экземплярах.
Наконец, чаша терпения ГПУ переполнилась. В 1933 году я был арестован вместе со всеми своими {306} сообщниками и уличен в возглавлении идейно-организационного центра народничества. Сосланный на три года в Новосибирск, вскоре замененный Саратовом, я и там не прекратил своей контрреволюционной деятельности. В Саратове я примкнул к террористической организации местных ссыльных эсеров. Весною 1935 года мы выпустили там подпольную прокламацию, автором которой мог быть только я, что и подтверждают ныне арестованные саратовские эсеры-террористы. Летом того же 1935 года я нелегально приезжал в Москву, чтобы принять участие в подпольном съезде группы эсеров, продолжавшемся целую неделю с 10 по 17 июля. Пять из членов этой группировки (перечислены фамилии) подтверждают мое присутствие на всех заседаниях.
Отбыв три года ссылки и незаслуженно получив свободу, вместо заслуженной новой тюрьмы, я не угомонился и в Кашире, где я поселился с сентября 1936 года и где вел какие-то еще не вполне выясненные контрреволюционные злоумышления, которые НКВД еще вскроет, - что и продолжалось до последних дней перед сентябрьским моим арестом.
Таким образом, в 1918 по 1937 год, в течение полных двадцати лет, жизнь моя была сплошной цепью контрреволюционных антисоветских деяний; дальнейшие, еще более тяжкие обвинения, будут мне предъявлены в процессе следствия, теперь же мне предлагается дать письменные показания по всем вышеизложенным пунктам и принести чистосердечное сознание в многих многолетних преступлениях, которое одно только может несколько облегчить мою участь.
Зачитав этот обширный протокол, следователь Шепталов предложил мне тут же приступить к письменным ответным показаниям, предупредив еще раз, что только искреннее раскаяние может способствовать облегчению неминуемой справедливой и тяжелой кары.
Я молча взял перо и стал писать на отдельных {307} листах бумаги. Не буду, конечно, приводить здесь всего моего ответа на эту цепь дико-фантастических обвинений, но некоторые пункты приведу, - главным образом, в виду характерных реплик на мои слова следователя Шепталова.
Я указал, что не мог произнести никакой - ни контрреволюционной, ни революционной - речи в апреле 1918 года на втором Съезде Советов по той простой причине, что вовсе не был на нем, в чем легко можно убедиться и из списка членов в отчете мандатной комиссии Съезда, и из стенограммы речей ораторов. Очень прошу поэтому дать мне очную ставку с достоверным лжесвидетелем, стащившим меня за ногу кафедры. Попутно я предложил следователю Шепталову ознакомиться с моей книгой "Год Революции", вышедшей как раз в апреле 1918 года; содержание ее может показать, что в то время я никак не мог произнести "контрреволюционной речи". Следователь Щепталов ответил на это с величайшим апломбом и с полнейшим пренебрежением:
- Неужели вы думаете, что у нас есть время читать всякий контрреволюционный вздор!
Я заметил ему, что это, к сожалению, является его служебной обязанностью, но из дальнейшего разговора с ним убедился, что он вообще не читал ни одной моей книги и что ссылки на них в протоколе, Несомненно, принадлежат какому-нибудь более грамотному человеку, очевидно оставшемуся в наследство из предыдущего поколения следователей ГПУ нынешним следователям НКВД, безграмотным орлам школы Реденса.
В пункте о покупке берданки я указал, что не только никогда в жизни не покупал берданки или вообще какого бы то ни было оружия, но даже не знаю, что такое берданка и в чем состоит разница между ею и, например, винтовкой.
- И однако вы ее покупали, - ответил мне следователь Шепталов: - человек, продавший вам {308} берданку теперь тоже сидит в тюрьме по разным делам и на очной ставке подтвердит свое показание. Но как это вы не понимали, что нельзя же берданкой бороться с танками!..
Пункты о Салтыкове соответствовали действительности, но их было легко отвести ссылкой на пропустившую мои статьи цензуру. Однако ссылку эту следователь Шепталов резонно отвел:
- НКВД высшая инстанция над цензурой: она не доглядела, мы доглядели...
Что верно, то верно. Но когда я сказал, что справедливее всего было бы привлечь к ответу самого Салтыкова, то, к изумлению своему, услышал такой недоверчиво-чистосердечный вопрос:
- А разве он жив?
Хотелось ответить:
- Ну как же! Могу даже сообщить вам его адрес: Ленинград, Волкова деревня, дом бок о бок с домом Тургенева!
И таким безграмотным следователям поручали ведение литературных дел!
На пункты о террористической организации в Саратове и выпущенной ею прокламации, а также об эсеровском съезде в Москве и недавних моих злоумышлениях в Кашире - я кратко ответил решительным протестом против всех этих фантастических обвинений и требовал очных ставок с достоверными лжесвидетелями. Нечего и говорить, что никаких очных ставок ни с одним из этих лжесвидетелей мне так и не дали.
Писал я долго и написал много. Был уже третий час в начале, когда я положил перо и передал написанное следователю Шепталову. Он внимательно все прочел, потом аккуратно сложил листы, спокойно разорвал их и бросил в корзину со словами:
- Отказываюсь принять столь лживые и нелепые показания. Перечтите протокол и распишитесь на нем, {309} что читали его и ни в чем не пожелали сознаться. Но предупреждаю, что вы сами скоро пожалеете о выбранной вами линии поведения.
Когда я вторично стал перечитывать протокол, то на первых же строках официального введения, при первом чтении пропущенных мною (чье дело, фамилия следователя, дата), обратил теперь внимание на нисколько не удивившую меня подделку: протокол был помечен 10-м октября 1937 года, - законный двухнедельный срок предъявления обвинений... Ничего не говоря следователю Шепталову, я в конце протокола написал:
"Протокол мне предъявлен, а мои ответы на его пункты не приняты следователем лейтенантом Шепталовым - в ночь со 2 на 3 сего ноября 1937 года" - после чего и подписался.
Лейтенант Шепталов прочел - и столь же молча принял мое раскрытие его подделки, насколько молча я ее усмотрел, однако заметил:
- Вы очень неосторожно напрашиваетесь на принятие против вас репрессивных мер. К тому же, вместо чистосердечного признания и раскаяния, вы обнаружили в своих ответах злостную нераскаянность. Это тоже поведет к отягчению вашей кары.
Затем предложил мне пересесть от стола на тот стул между двумя шкалами, на котором я сидел в начале этой многопамятной ночи, а сам снова подставил мне спину и погрузился в свои бумаги. Так прошел час. И еще час. На стенных часах пробило и четыре, и пять, и шесть. Внезапно обернувшись ко мне, следователь Шепталов спросил:
- Спать хочется?
- Не очень, - ответил я.
- Придется не спать! - многозначительно пообещал он, но тут же позвонил и велел дежурному чину отвести меня обратно в собачник.
Только через месяц я уразумел смысл угрозы - "придется не спать"! - когда на моих глазах {310} произошла пытка доктора Куртгляса конвейером недельным лишением сна. Нисколько не сомневаюсь, что за время до второго моего допроса а он как раз произошел через месяц, в начале декабря - в высших инстанциях секретно-политического отдела НКВД решался вопрос: как со мною поступить? Передать ли на бессонный конвейер? Прибегнуть ли к резиновым допросам? Или пока что вести допросы, не применяя бессонных и палочных аргументов?
Оказалось, что решено было остаться при последней мере. Почему? спрашиваю себя еще раз. Потому, что я "писатель" к чего доброго когда-нибудь смогу и рассказать о претерпенном? Не знаю, но факт все-таки тот, что со мною, "писателем", обращались корректнее (если исключить эпизод с начальником отделения), чем с десятками моих сотоварищей-профессоров, инженеров, педагогов, генералов, летчиков и всей прочей "интеллигенции" в кавычках и без кавычек. Мне часто бывало стыдно перед сокамерниками, возвращавшимися с тяжелых и частых допросов, в то время как меня месяцами оставляли в покое, а допросы производили всегда в корректной форме. Что же касается количества допросов, то за все полтора года моего тюремного сидения в Бутырке их было всего-навсего пять: один вот этот, первый, потом два в декабре, один в апреле и один в августе. За исключением первого, все они происходили всегда днем, были кратковременны - продолжались не более двух-трех часов, - и повторяю, производились в вежливой форме. Правда, через полгода, в апреле месяце, я подвергся преддопросной недельной пытке, - но о ней речь будет особая.
Однако, я забегаю вперед, пора вернуться и в собачник. Вернулся я туда в седьмом часу утра, совсем разбитый не столько бессонной ночью, сколько предыдущими переживаниями. Эта ночь со 2 на 3 ноября 1937 года была поистине кульминационным пунктом всех моих юбилейных чествований: ливень {311} гнусных ругательств и оскорблений, вылитых начальником отделения на мою голову. Через полгода мне пришлось перейти через вторую "кульминацию", а спустя новые полгода - еще и через третью, но обе они были уже не моральные, а физические, и, несомненно, что первая горше двух вторых. И все-таки какие всё это пустяки по сравнению со всем тем, что переживали физически и морально те подлинные страстотерпцы, о которых я рассказал выше!
Улегся на голый холодный пол собачника, но заснуть, конечно, не мог. Соседи мои уже не спали. Профессор опять участливо спросил: "ну что, не били?", и узнав, что не били, но окатили ушатом грязных ругательств, удивленно протянул: "Только-то?"
Утренний чай, "оправка", обед - прошли для меня, как в тумане. После обеда я собрался было заснуть "всерьез и надолго", как вдруг меня вызвали в комендантскую, там проверили краткую анкету, вернули очки, а оттуда вывели во двор и посадили в "Черного ворона", битком набитого мужчинами и женщинами, которых развозили по разным тюрьмам. На этот раз я попал в "Черного ворона" иной конструкции - без купе и с одной общей камерой. Это было "почтовое отделение No 3" - столько новостей из разных тюрем надо было узнать и передать во время короткого переезда!
Наконец - приехали. Опять бутырский "вокзал", опять повторение пройденного, опять изразцовая труба, опять раздевание "догола", опять фиоритуры известной гаммы: "встаньте! откройте рот! высуньте язык!" - и так далее. Вставал, открывал, высовывал, нагибался - и так далее. Потом через двор - в свою камеру No 45, "домой"...
Странное существо человек! Ведь, действительно, я почувствовал себя "дома", в своем обжитом углу, среди знакомых, месячных товарищей: пожатия рук, приветствия, вопросы и о моем деле, и о радиотелеграфе, и о почтовом отделении No 3. Я рассказал все {312} новости - и завалился в "метро": отказался потом от ужина и проспал до вечерней поверки, да и после нее спал всю ночь до утра.
X.
Прошел месяц - никто меня и никуда не вызывал; очевидно "дело" мое варилось в высших инстанциях. Наконец, 5-го декабря, на третьи сутки бессонного конвейера доктора Куртгляса, меня после обеда вызвали "без вещей": ну, значит, опять "Черный ворон", опять Лубянка, опять собачник. Но нет повели меня не на "вокзал", а в первый этаж другого корпуса, где тоже оказались следовательские комнаты.
Интересно отметить к слову, как всегда совершались эти шествия через тюремный двор.
В разных местах двора стояли деревянные будочки, вмещавшие как раз одного человека. Если сопровождавший меня тюремный чин издали усматривал, что навстречу нам ведут другого заключенного, то немедленно открывал дверцу ближайшей будочки, впихивал меня в нее и захлопывал дверь, чтобы я не видел, кто пройдет мимо меня. Иногда встречный конвоир проделывал такую операцию со своим поднадзорным - и тогда мы проходили мимо будочки с заключенным. Оборачиваться на ходу было строго воспрещено под угрозой различных тюремных взысканий.
Меня ввели в следовательскую. Лейтенант Шепталов был настолько любезен, что сам приехал на допрос в Бутырку и избавил меня от лубянского собачника. Настроение мое было пониженное: весь под впечатлением пыточного конвейера, проделываемого над доктором Куртглясом, я мог ожидать всевозможных аргументов подобного же рода и от следователя Шепталова. Но опасения мои не оправдались. Предложив мне сесть, лейтенант Шепталов сказал:
- Сегодня мы начнем с конца, уточним вопросы о ваших саратовских и каширских преступлениях. Вот {313} появившаяся в Саратове ранней весной 1935 года прокламация. Свидетели, саратовские эсеры, указывают, что она написана вами. Признаете свое авторство?
И он протянул мне гектографированный листок, озаглавленный: "Убит Киров, очередь за Сталиным!" Если прокламация эта была изготовлена в недрах НКВД, что почти несомненно, то нельзя не удивляться, каким безграмотным аспирантам заказывает НКВД подобные литературные произведения. А если бы даже листовку эту и составили саратовские эсеры, что почти невозможно, то и им она грамматически - не делает чести. Начиналась листовка фразой: "Который был палачом народа - убит!", в середине были призывы "будировать (в смысле "будить") общественное мнение", и много всяких подобных же перлов. Указав следователю Шепталову на все эти безграмотности, достойные учеников начальной школы, я просил избавить меня от авторства этой безграмотной стряпни.
- Однако свидетели подтверждают ваше авторство, - повторил следователь Шепталов.
- Не думаю, чтобы вы мне дали очную ставку с этими лжесвидетелями, ответил я. - Слишком это было бы для них конфузно. А к тому же сообщаю к вашему сведению, что за все три года жизни в Саратове я не был знаком ни с одним эсером.
- А между тем ваш саратовский квартирохозяин, сапожник Иринархов, показал на допросах, что к вам часто приходили незнакомые ему люди, в которых он теперь опознал предъявленных ему арестованных саратовских эсеров.
- Очень огорчен за него, если это так, - сказал я, - это значило бы, что его заставили дать ложные показания.
Впоследствии я узнал, что эта ссылка на показания Иринархова была ложью: при ряде допросов он ни разу не дал ложных показаний, каких от него {314} требовали. Мне повезло на честных квартирохозяев - саратовского Иринархова и каширского Быкова.
- Хорошо, оставим пока в стороне вопрос об авторстве прокламации, согласился следователь Шепталов, - нам интереснее другое: ваше отношение к этой листовке не по грамматике, а по существу. Согласны ли вы с призывом к террору?
- Нет, не согласен. Считаю при создавшихся государственных условиях террор и никчемным, и вредным, и гибельным.
- А саратовские эсеры утверждают, что вы были вполне солидарны с их террористической установкой.
- Еще раз повторяю, что за все три года саратовской ссылки не встречался ни с одним из эсеров, и сомневаюсь, чтобы вы пожелали дать мне очную ставку с ними.
- А вот увидите!
И следователь Шепталов что-то отметил на листе бумаги. Само собой понятно, что никакой очной ставки дано мне не было, да и сами эти свидетельские показания были, вероятно, следовательскими измышлениями.
- Вы отрицаете также и свое участие в заседаниях московской эсеровской группировки с 10 по 17 июля 1935 года?
- Решительно отрицаю.
- И, однако, пять из участников этих собраний утверждают, - тут следователь Шепталов повторил пять совершенно мне неизвестных и сразу же начисто забытых мною фамилий, - утверждают, что вы в течение всей недели принимали в их собеседованиях деятельное участие.
- Названные вами фамилии совершенно мне незнакомы, но дело не в том, а вот в чем: я никак не мог находиться целую неделю июля 1935 года в Москве так как, пребывая в это время в саратовской ссылке, я должен был через каждые четыре дня в {315} пятый являться в ГПУ на регистрацию, что вам очевидно неизвестно, или упущено вами из вида. - На регистрацию являются три раза в месяц, недоверчиво заметил следователь Шепталов.
- А я являлся раз в пять дней. Можете запросить об этом саратовский НКВД.
- И в четыре дня можно съездить из Саратова в Москву и обратно.
- Можно. Но во-первых - где же тогда мое участие в этом мифическом съезде в течение целой недели? А во-вторых - главное: за все три года ссылки я ни на один день не уезжал из Саратова. Это может подтвердить вам и мой квартирохозяин, Иринархов.
- Запросим!
Больше никогда я ничего не слышал об этих "саратовских пунктах" обвинения. Обычная стряпня филькиной грамоты: нагромоздит как можно больше хотя бы самых нелепых обвинений; пусть большинство их в процессе следствия и отпадает, а всё же может быть кое-что и останется. А если принять во внимание методы физических аргументов при допросах, то нет ничего удивительного в том, что в самых диких и неправдоподобных преступлениях "сознавались" замученные жертвы чекистского террора.
- Теперь перейдем к Кашире, - продолжал следователь Шепталов. - Вы там прожили целый год, снимая комнату у гражданина Быкова. Он показывает, что к вам часто наезжали из Москвы подозрительные люди, с которыми вы запирались в своей комнате, и что вы вели с ним самые контрреволюционные разговоры.
- Значит он арестован?
- Кто, Быков? Это вас не касается.
- Почему же нет? Раз я вел с ним преступные разговоры, значит и он вел их со мной?
- Представьте нам знать, кого надо арестовывать, а кого нет!
{316} - Хорошо, пусть же он подтвердит мне свои показания на очной ставке!
Я был вполне уверен, что это чистая выдумка, как и оказалось впоследствии, когда я узнал, что Быкова после моего ареста неоднократно допекали допросами в каширском НКВД, требуя от него нужных им показаний. Он имел мужество стойко выдержать многочисленные допросы и не дать показаний ложных.
- А вот, - протянул мне следователь Шепталов лист, - протокол допроса вашего каширского соседа. Извольте ознакомиться.
Я "ознакомился". Неизвестный мне сосед по Кашире (я почти вспомнил, что иногда встречался с ним на улице) при допросе в каширском НКВД показал, что неоднократно видел приезжавших ко мне в Каширу подозрительных людей, которых я иногда провожал потом в Москву. Однажды он, железнодорожник, оказался в вагоне рядом с нами и подслушал наши контрреволюционные разговоры. Видно нехватило у него мужества, подобно Быкову, не пойти на ложные показания, а, может быть, кто его знает, был он и "сексотом" НКВД.
- Ну что ж, - сказал я, возвращая следователю Шепталову протокол, - вот и прекрасно: устройте нам тройную очную ставку, и пусть гражданин Быков и доблестный железнодорожник опишут мне тех лиц, которые неоднократно меня навещали. Заявляю, что за весь год моего пребывания в Кашире меня не посетила ни одна живая душа.
- Вы продолжаете одинаково упорствовать в отрицании как крупных, так и мелких фактов, - сказал следователь Шепталов, складывая бумаги, - тем хуже для вас. Хорошо, мы дадим вам все очные ставки, но ведь и без них для нас дело вполне ясно. Вы не можете отрицать, что относитесь враждебно к советской власти; ведь вы думаете, что каждый коммунист - провокатор.
{317} Последняя фраза требует пояснения. В течение ноября месяца мы разоблачили в своей камере трех "наседок" (иногда их именовали и "насидками"). Произошли скандалы, в одном случае дело дошло и до потасовки - "курицу" помяли, - за которую камера была оставлена "без лавочки", но всё же все три курицы немедленно были переведены от нас в другие камеры. Наш староста, проф. Калмансон, после изгнания третьей курицы сказал мне:
- Удивительно: все три наседки были коммунисты!
- Ничего удивительного нет, - возразил я: - ведь всякий коммунист по своему партийному долгу- доносчик.
Наш разговор a parte был очевидно подслушан четвертой еще неразоблаченной курицей, и следователь Шепталов был осведомлен о моих словах.
- Я, действительно, думаю нечто подобное, - сказал я, - хотя и не совсем в вашей формулировке. Но мало ли, что я думаю! Государство должно карать за дела, а не за мысли. Еще римское право знало, что cogitationis poenam nemo patitur.
- То есть, что это значит?
- Это значит: мысль - ненаказуема. Это установили римские юристы еще две тысячи лет тому назад.
- Вот были идиоты! - искренне удивился следователь Шепталов.
Этим допрос и закончился: следователь куда-то торопился и все время посматривал на часы. Позвонив дежурному, чтобы тот увел меня обратно "домой", следователь Шепталов посулил мне на прощанье:
- В следующий раз вам будет предъявлено еще одно обвинение, относящееся к тем же последним годам. О более ранних поговорим позднее. Но предупреждаю вас в последний раз: бросьте систему запирательств, она ни к чему хорошему вас не приведет; дайте искренние и чистосердечные показания.
{318} - Я их и даю, - ответил на ходу я, когда дежурный страж уже уводил меня из следовательской комнаты.
XI.
Следующего допроса мне пришлось ожидать снова почти месяц: с моим делом торопились медленно и это меня спасло, потому что в тюрьме я досидел и пересидел Ежова на его посту главы НКВД. Иди мое дело быстрым темпом - я к началу 1938 года, несомненно, был бы уже где-нибудь в изоляторе или концентрационном лагере. А как известно
Легок путь, ведущий в ад,
Но обратный - невозможен.
Нам преданья говорят
Царь подземный осторожен:
Всех к себе впускает он,
Никого не выпускает...
Попади только в это царство концлагерей - и все дороги назад для тебя закрыты. Нелегко было просидеть 21 месяц в общих камерах тюрьмы, но великое спасибо теткиным сынам за их волокиту и медленную в моем случае юстицию.
Днем 31-го декабря я был вызван прежним порядком на допрос и привезен в ту же следовательскую комнату. Следователь Шепталов предложил мне сесть не у самого письменного стола, а немного поодаль, пока он закончит разбор своих бумаг. Покончив с этой работой, он встал, прошелся по комнате, закурил папиросу, предложил мне другую, от которой я отказался, и продолжал молча ходить и курить. Вдруг, остановившись передо мной, он воскликнул:
- Какие у вас прекрасные, новые калоши! Это снова требует небольшого отклонения в сторону - и опять на тему о "курицах".
Одеваясь перед отправкой в тюремные странствия в своей каширской комнате, я выбрал, разумеется, {319} худшее и наиболее поношенное из своего платья, - в том числе надел и старые, истоптанные высокие сапоги, оставив в своей комнате новую башмачную пару. Выбор сапог оказался ошибкой: они так скоро отказались служить, что уже через два месяца подметки стали отваливаться; и как я их не подвязывал веревочками и тесемочками - к середине декабря пришлось отказаться от прогулок, которых я тогда еще не бойкотировал. Числа двадцатого декабря была у нас очередная "лавочка", - и я, "бедняк", вдруг получил неожиданный подарок: наш староста, проф. Калмансон, молодой студент-"троцкист" Зейферт и еще два товарища, фамилии которых я, к стыду моему, забыл - тайно от меня сложились между собой и купили мне калоши. Я был глубоко тронут их вниманием и подарком, о котором в камере знали только они четверо, да я пятый. Но мы забыли о шестом - о неизбежной, подслушивающей "курице". Казалось бы - ну, какой интерес может представлять столь ничтожный факт, как покупка в складчину калош "лишенцу" его состоятельными товарищами?
Но нет, и об этом сущем пустяке следователь был осведомлен! Это показывает, под каким внимательным "внутренним освещением" жили все мы в камере.
Немного удивленный восклицанием следователя, я ответил, что калоши, действительно, новые. А он продолжал разгуливать по комнате и курить, несколько раз останавливался и повторял:
- "Прекрасные, совсем новые калоши!", - так что я скоро догадался, что тут дело не обошлось без "курицы". Следователь продолжал настаивать:
- Замечательные калоши! Вы что же, из Каширы захватили их с собой?
- Может быть, и из Каширы.
- Удивительно! Как это я раньше на вас их не замечал?
- Раньше я их не носил.
- Что же, в мешке их держали?
{320} - Может быть, и в мешке.
- Не вернее ли будет сказать, что вы купили их в тюрьме?
- Может быть, купил и в тюрьме.
- А сколько вы за них заплатили?
- Десять рублей.
- Но ведь вы, кажется, не получаете денежных передач?
- Не получаю. По вашему же распоряжению.
- Откуда же деньги?
- Захватил с собой при аресте.
- Замечательные калоши!
Мне надоели эти шпильки и я сказал:
- Не понимаю, гражданин следователь Шепталов, какое отношение имеют эти калоши к предъявляемым мне обвинениям?
- Ближайшее отношение. А именно: вы и на все серьезные вопросы обвинения отвечаете столь же правдиво, как и на вопрос о калошах?
- На серьезные вопросы я и отвечаю серьезно. А история с калошами вам известна, очевидно, во всех подробностях, но я не намерен о ней говорить.
- Нам все известно, - подчеркнул следователь Шепталов, присаживаясь к столу. - Ну а теперь поговорим по серьезному.
Серьёзное заключалось в новом обвинительном пункте, не занесенном в обширный протокол 2-3 ноября. Произошел следующий диалог.
- Вам известно, что ваш личный секретарь и сообщник по идейно-организационному центру народничества Д. М. Пинес в январе месяце этого года был вторично арестован в своей архангельской ссылке?
- Известно.
- А что жена его, женщина-врач, была арестована в Ленинграде в апреле этого года - вам тоже известно?
- Тоже известно.
- Как вы полагаете, за что она арестована?
{321} - Вероятно, за то, что она жена своего мужа.
- Этот ответ столь же правдив, как и ваши ответы о калошах. Вы прекрасно знаете, за что она арестована.
- Нет, не знаю.
- Нет, знаете.
- Нет, не знаю.
- За то, между прочим, что в апреле прошлого 1936 года она предоставила свою квартиру на 4-ой Советской улице, в доме No 8, квартира 11, для тайного и с контрреволюционными, заговорщицкими целями свидания вашего с академиком Тарле.
Пора было бы перестать чему бы то ни было удивляться в недрах ГПУ и НКВД, но я был поражен таким сообщением. Академик Тарле, persona gratissima y кремлевских заправил, процветающий и благоденствующий, большевикам "без лести преданный", вошедший в особенный фавор после академического разгрома, имеющий доступ к "самому Сталину", неоднократно приглашаемый в Кремль - и вдруг обвинение в контрреволюционном заговоре! Поразительно! Но я-то тут причем?
- Раз вам всё известно, - сказал я, - то известно и содержание разговора между академиком Тарле и мною во время этого свидания?
- Известно. Гражданин Тарле нащупывал почву, согласитесь ли вы принять пост заведывающего министерством народного просвещения в том демократическом правительстве, которое должно заблаговременно быть организовано на случай крушения советской власти при возможной предстоящей войне.
- А что ответил я - тоже известно?
- Тоже известно. Вы ответили, что вполне сочувствуете идее демократического правительства, но желали бы быть более посвященным в его структуру и в его организационную деятельность.
- И при свидании этом никого третьего не было?
- Не было.
{322} - Значит все это вы узнали из показаний самого академика Тарле?
- Откуда бы ни узнали!
- Во всей этой сказке из тысячи и одной ночи есть только один верный пункт...
- Ну, вот видите! Хоть один, да есть! Какой же?
- Тот, что с февраля по май прошлого 1936 года я, действительно, бывал в Ленинграде, так как приехал из Саратова в Пушкин по случаю тяжелой болезни жены.
- Прекрасно! Значит в это время вы могли быть и на свидании с академиком Тарле?
- Мог быть. Кроме того, я мог быть и на собрании артистов драматического театра для выработки репертуара на предстоящий сезон, мог быть на вершине Исаакиевского собора, мог быть на опере "Кармен". Мог быть - но не был. Что же касается свидания с академиком Тарле, то довожу до вашего сведения, что не встречался с ним никогда в жизни, не видел даже его фотографии и не знаю, с бородой он, или бритый, с шевелюрой, или лысый... А организация демократического правительства и предложение мне участвовать в нем - это, извините, такая смехотворная шутка, которой никто не поверит.
- И однако это факт. Но все же вы признаете, что в апреле 1936 года бывали в Ленинграде?
- Бывал.
- И посещали квартиру женщины-врача, гражданки Пинес на 4-ой Советской улице, в доме No 8, квартира No II?
- Посещал не квартиру, а хорошую мою знакомую, жену моего друга, Р. Я. Пинес.
- Значит - посещали. Так и запишем. Итак - пишу: "Сознаюсь, что в апреле прошлого 1936 года был в Ленинграде и посещал квартиру гражданки Пинес"...
- Такого протокола я не подпишу.
- Почему? Ведь вы же признали этот факт?
{323} - Не "признал" и не "сознался", а установил.
- Никакой разницы нет.
- Громадная разница. Если "сознался", значит в чем-то виноват. А я ни "сознался", ни "признался", а просто утверждаю те факты, которые, действительно, были. Сознаться мне не в чем; все это совершенная фантастика.
- Вы тонко разбираетесь в этих глаголах. Обойдемся совсем без них, предлагаю вам подписать чистосердечно такой первый пункт протокола: "В апреле 1936 года, временно пребывал в Ленинграде, имел в подпольной явочной квартире женщины-врача гражданки Пинес (следует адрес) свидание с академиком Е. В. Тарле, с которым вел беседу по поводу участия моего в ответственном министерстве после свержения советской власти"...
- Вы смеетесь надо мной. Такого факта никогда не было и не могло быть.
- Значит, вы упорствуете в запирательстве?
- Значит, упорствую в правдивых показаниях.
Я так подробно привел этот диалог, чтобы хоть один раз показать, из каких нелепых и мучительных ненужностей и мелочей были сотканы все допросы. Этот допрос закончился тем, что был подписан протокол, начинавшийся словами: "Отказываюсь признать, что"... - а дальше шла формулировка следователя.
Так вот, между прочим, оказалось, где была разгадка непонятной для меня два месяца тому назад фразы Реденса о том, что я целюсь на какой-то министерский пост!.. Какая же однако все это неумная шутка!
Подводя итоги этому и предыдущему допросу, следователь Шепталов сказал:
- Итак, вы не желаете ни в чем сознаться, в то время как тщательно проверенные факты все говорят против вас. Этим вы сами себя губите. Обдумайте все это еще и еще раз. Если бы вы пошли нам навстречу, {324} ваша участь была бы смягчена; вы не очень стары, мы дали бы вам возможность плодотворно работать еще лет десять-пятнадцать. А если нет - пеняйте сами на себя. Мы выбросим вас, как ненужную тряпку, в корзину истории и никто никогда не вспомнит вашего имени.
- Вспомнит ли мое имя история русской литературы - не знаю, но одно твердо знаю, что это от вас нимало не зависит, - ответил я.
На этом мы и простились, - совсем простились, так как следователя лейтенанта Шепталова я больше никогда не видел. Он продолжал вести мое дело, но на следующие допросы меня по его поручению вызывали уже его помощники. Впрочем ближайший допрос состоялся только через три с половиной месяца.
Позвонив дежурному, чтобы тот увел меня в камеру, следователь Шепталов иронически напутствовал меня:
- Поздравляю с наступающим Новым Годом!
Вернувшись в камеру, я шепотом ("курицы"!) сообщил проф. Калмансону и двум-трем товарищам сенсационную новость: в Петербурге, несомненно, арестован академик Тарле! Несмотря на некоторый свой тюремный опыт, я все-таки попался на удочку следователя и поверил возможности ареста почтенного академика (впрочем таких ли еще китов арестовывали!) под предлогом мифического заговора. Был бы человек, а статья пришьется!
Через год я воочию увидел, как "шьются" такие дела.
Ровно через год, в декабре 1938 года, в камере No 113 Бутырской тюрьмы сидело нас не так много, а среди нас - один моряк, служивший свыше года в Париже, в торговом секторе полпредства. Полпредом (послом) был тогда "товарищ Потемкин", ставший потом заместителем и помощником Молотова в комиссариате иностранных дел. Так вот, моряк этот {325} вернулся как-то вечером с допроса в очень подавленном настроении и с явными признаками на лице весьма веских аргументов следователя (что, прибавлю в скобках, к концу 1938 года очень редко случалось). Впрочем, он был подавлен не самим фактом таких аргументов, а своим "добровольным сознанием" в том, что в 1937 году, в Париже, полпред Потемкин организовал среди членов полпредства и торгпредства боевую "троцкистскую" организацию, в которой и он, моряк, принимал участие...
Конечно - все это фантастично: фантастично то, что органы НКВД составляют лживый протокол о человеке, являющемся в это самое время сперва послом, а потом заместителем комиссара по иностранным делам, еще фантастичнее то, что такому протоколу не дается никакого хода. Он остается лежать в делах НКВД - на всякий случай: авось пригодится, авось придется арестовать и товарища Потемкина - так вот обвинение уже загодя готово, и достоверный лживый протокол и лжесвидетель налицо, и человек найден, и дело пришито...
Так шьются дела. Представьте себе теперь, что я "сознался" бы в подпольном свидании с академиком Тарле: тогда в руках НКВД было бы готовое обвинение на тот случай, если бы понадобилось изъять из обращения достопочтенного академика. А я-то по наивности подумал тогда, что он, обвиняемый в таком тяжком преступлении, наверное уже арестован... Ничуть не бывало! Когда я позднее, в 1940 году, встретился с его бывшей женой, пожилой писательницей, и рассказал ей обо всем этом - изумлению ее не было пределов. Вскоре я узнал от нее же, что и гражданин Тарле нимало не подозревал, какие сети плел вокруг него НКВД. Никто его не трогал и не тронул, он благоденствовал и продолжает благоденствовать даже и до сего дня...
Обвинение, связывавшее меня с преступлениями академика Тарле, кануло в Лету и более не {326} выдвигалось против меня. Но кто мог помешать доблестным птенцам НКВД выдвинуть против меня новую артиллерию столь же обоснованных обвинений? "Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?" - справедливо сказал в одном из своих афоризмов Козьма Прутков.
Но непромокаемого пороха мне пришлось ожидать еще три с половиной месяца до следующего допроса.
XII.
Новый, 1938 год, камера No 45 встретила угрюмо: участились допросы с избиениями, пошли в ход резиновые палки.
В конце марта исполнилось уже полгода моего сидения в этой камере "под предварительным следствием".
Надо сказать, что по советским "законам" такой предварительный арест может продолжаться только два месяца; по истечении их должно последовать новое разрешение прокурора на продолжение срока еще на два месяца. Нет ничего проще: следователи предъявляют прокурору НКВД списки заключенных, арест которых должен быть продлен в виду незаконченного следствия, и он механически штампует - "продлить", "продлить", "продлить", отнюдь не входя в рассмотрение существа самих дел. Через новые два месяца - повторение той же истории, и таким образом, заключенные могут годами сидеть в тюрьме "под предварительным следствием", а "закон" - соблюден.
Люди приходили и уходили, старожилов в нашей камере оставалось все меньше и меньше. Пришла, наконец, и моя очередь расставаться навсегда с камерой No 45, в которой я так длительно обжился и, пройдя все стажи от "метро" через "самолет" до нар, помещался уже на лучшем месте - на нарах почти у самого окна.
После утреннего чая 6-го апреля меня вызвали - {327} на этот раз "с вещами"! Такой вызов всегда был сенсацией: куда-то переводят человека из Бутырки? В другую тюрьму? В этапную камеру? О том, что могут выпустить "на волю" - никто не мечтал, таких случаев пока не бывало. Собрав вещи, я попрощался с товарищами. С некоторыми из них очень сжился. Прощай, камера No 45!
Повторение пройденного: "вокзал", обычная изразцовая труба, обычный обыск вещей, обычные и зычные окрики: "разденьтесь догола! встаньте! откройте рот! высуньте язык!" - и прочее, до конца этой тюремной ектиньи, столько уж раз мною прослушанной. Но и кое-что новое: мне предложили сдать казенные вещи одеяло, миску, ложку, кружку, а затем повели в анкетную комнату, проэкзаменовали меня по моей анкете и вычеркнули из списков Бутырской тюрьмы. Прощай, Бутырка!
"Черный ворон", - куда-то он меня увезет? Приехали, вывели - знакомое место! Двор Лубянской тюрьмы и спуск в подвал собачника. Комендатура, тщательный обыск, снова отнятые очки, - и меня с вещами направляют в один из подвалов. Здравствуй, собачник! Случаю угодно было, чтобы я попал в тот же No 4-ый, в котором просидел сутки почти полгода тому назад.
Так как мы дошли здесь до второй "кульминационной точки" моих чествований (первая была в ночь со 2-го на 3-е ноября), то на ней я остановлюсь несколько подробнее. Но - "найду ли краски и слова?" Тому, кто не видел этого воочию и не испытал на самом себе - всякое описание покажется бледным н неубедительным. Тут нужны глаз и рука художника, это поистине "сюжет, достойный кисти" Достоевского! Но попробую просто и протокольно описать быт этого собачника, в котором я до допроса провел целую неделю.
Когда в ноябре я пробыл сутки в этом собачнике, в том же подвале No 4, нас было в нем 18 человек и {328} на сорока квадратных аршинах можно было довольно свободно разместиться на голом каменном полу. Теперь же, когда я вошел... нет, не могу сказать "вошел", так как никакого прохода не было, войти в этот собачник было невозможно: все сорок квадратных аршин были заполнены тесно бок о бок сидящими спрессованными голыми людьми - в кальсонах, но без рубашек. Я прибыл шестидесятым - и уже, казалось, не было ни вершка свободного места: стоял в дверях. Собачник встретил меня ревом негодования: не против меня, а против людей, устраивающих такую пытку "сельдей в бочке".
Но дверь за мной захлопнулась - и надо было как-то и самому вклиниться, и мешок с вещами втиснуть на пол между двумя тесно спрессованными голыми людьми. А тут надо было еще снять шубу, пиджак, жилетку, а вскоре и брюки, и рубашку, чтобы положить все это на вещи и усесться на них. Как все это удалось мне сделать - до сих пор недоумеваю: ведь не было, казалось, свободного вершка, чтобы поставить ногу. Мне с великими усилиями дал место рядом с собой мой сокамерник "Daunen und Federn", привезенный сюда тоже "с вещами" за день до меня.
Не пробыл я и пяти минут в этом собачнике, как начал задыхаться. Вентиляции никакой не было, кроме узенькой щели у входной двери. Воздух и температура были невообразимые. Сидевший неподалеку от меня какой-то доктор утверждал, что в подвале нашем никак не меньше 40-45 градусов, причем, подумав, прибавил: "по Реомюру"... Не знаю, сколько показал бы термометр, но я снял с себя всё, что возможно, сидел без рубашки в одних кальсонах - и непрерывно истекал потом. После недели такого сидения на вещах - все они оказались точно в воде побывавшими, настолько были пропитаны потом, моим и чужим. Ручейки влаги пробивались и по полу - не то от нашего пота, не то от протекавшей в углу параши; и все это подтекало под нас и под наши вещи. {329} Впрочем, пришедших с вещами было мало, большинство прибыло из разных тюрем на допросы без вещей и жадно ждало времени возвращения "домой": Бутырка или Таганка с их перенаселенными камерами казались землей обетованной по сравнению с этим собачником. Мы сидели спрессованные, наши голые руки и спины соприкасались, наш пот смешивался - и на другой же день каждый без исключения заражался от соседа мучительной экземой, которую потом долго приходилось лечить. Все это было трудно переносимо, но было сущим пустяком по сравнению с главным мучением: мы задыхались, дышали, открыв рот, как рыбы, вытащенные на берег. А ведь так надо было сидеть не день, не два, а, может быть, неделю, а то и больше. Когда я через неделю уходил из этого места пытки, то в нем оставался среди других заключенных один кореец ("шпион"!), уже до меня пробывший десять дней в этом набитом собачьем подвале. Семнадцать дней такой пытки!
Температура и духота были невыносимы, а результатом их было главное мучение: беспрерывное отравление организма углекислотой от нашего дыхания. Красные пятна на лицах, ускоренный пульс (доктор говорил: - "до двухсот в минуту"...), шум в голове, стук в висках, тошнота, постоянное головокружение, одышка, нестерпимое биение сердца - все это ясно говорило о нашем отравлении углекислотой. Когда приток воздуха из открытой двери освежал нашу собачью пещеру - на минуту становилось легче, а потом мучения возобновлялись с прежней силой.
Особенно трудно было страдающим сердечными болезнями. Как страстотерпцы эти не умирали - вот что поразительно! Только один "летательный" случай за всю неделю был в нашем подвале. Полковник Рудзит (латыш - значит "шпион"!), вернувшись в наш собачник после тяжелого допроса, стал задыхаться и хрипеть; почти в беспамятстве повторял: "воздуха! воздуха!". Мы положили его, через ноги сидящих, {330} ничком к двери, он припал к дверной щели ртом и немного отдышался. Что за беда, если ручеек из переполненной и протекавшей параши подтекал прямо под него! Но вскоре припадок повторился и он впал в бессознательное состояние. Сидевшие около двери стали стучать в нее кулаками, весь подвал стал кричать: "Доктора! доктора!". Явился доктор, пожилой человек в белом халате, но лучше бы он не приходил. Небрежно пощупав пульс больного и в ответ на наши негодующие заявления, что все мы здесь отравлены, что дышать нечем, что это пытка и морильня - доктор сухо сказал: "Надо сознаваться!". И ушел. В этом совете заключался весь его рецепт, ограничилась вся его помощь больному. Хочется думать, что это был не доктор, а какой-нибудь мерзавец из теткиных сынов, разыгравший роль доктора. Рецепт не помог; но полковник Рудзит отдышался (дверь некоторое время была открыта) и был вызван на следующий день еще на один последний допрос, - последний потому, что на следующую же ночь он скончался у нас в собачнике от припадка новой астмы. Его унесли.
Истекая потом, мы с утра до ночи и с ночи до утра нестерпимо хотели пить: полцарства за кружку воды! Но воды нам не давали, и к пытке жарой, теснотой, экземой, удушением и отравлением присоединилась еще, едва ли не горшая пытка пытка жаждой. Но если мы не могли допроситься воды для умирающего полковника Рудзита, то что уж и говорить о нас!
Да, пыток в тюрьмах не было, были лишь "простые избиения", - да вот еще эти собачьи пещеры, из которых так легко было выйти: надо было только "сознаться"...
В течение дня мы испытывали четыре блаженных получаса: два во время обеда и ужина, два во время утренней и вечерней "оправки". Обед или ужин: широко распахивается дверь и нас, голых, распаренных {331} и с головы до ног облитых потом, охватывает струя холодного воздуха из коридора. Раздача обеда и ужина идет быстро, работает повар и трое дежурных, но все же полчаса мы дышали полной грудью, по-человечески, а не по рыбьему; струя холодного воздуха обсушивает за это время наши мокрые тела. После такого проветривания в собачнике час-другой дышится легче, но потом температура снова повышается (радиатор отопления - горячий) и снова мы задыхаемся и отравляемся, снова испытываем прежние мучения.
Еще блаженнее были получасы "оправки". Уборная была маленькая и нас водили в нее четырьмя очередями утром и вечером. Там мы пускали из кранов почти ледяную воду и обмывали до пояса свои потные, распаренные тела, подставляли под кран голову, - и пили, пили, пили... Потом, освеженные возвращались в собачий подвал, давая место другой очереди. Но беда была в том, что собачник за это время не проветривался и мы сразу попадали в прежнюю пыточную атмосферу и температуру. Впрочем, может быть, только благодаря этому никто из нас не заболел воспалением легких после такого ледяного душа на распаренные наши тела.
Ночь - самое жуткое время. Счастливцы, занявшие места около стен, могли спать сидя, опираясь на стену. Остальные спали тоже сидя, но без всякой точки опоры. Дня через два, когда человек пятнадцать ушло, а новых пришло только пять человек и стало возможно хоть повернуться, мы ухитрились устраивать ночлег таким образом: весь собачник образовывал четыре ряда, два крайних сидели у стен и спали сидя, а два средних укладывались на пол и клали головы на ноги сидевших у стен товарищей. Свои же ноги клали друг на друга, то сверху, то снизу, причем "нижние ноги" скоро затекали и каждый стремился занять для них верхнюю позицию. Спали в рубашках, так как экзема начала сильно {332} мучить и стало невыносимо быть спрессованным с голой спиной соседа. Рубашки были хоть выжми - мокрые от пота, а у кого и от крови из свежих рубцов на спине... Полгода тому назад мне казалось, что не может быть ничего кошмарнее ночей в нашей камере No 45 с ее ста сорока обитателями, но тогда я еще не знал, чего стоит хоть одна ночь, проведенная в таком собачнике.
Но ведь и дни были не слаще - с их вечной пыткой от жары, жажды и отсутствия воздуха. Однако их надо было чем-нибудь заполнять. Рассказы приходивших с допросов мало занимали и лишь скорее отягчали настроение. Мы стали рассказывать друг другу разные истории "легкого жанра": не до научных лекций тут было! Дня три подряд, с перерывами из-за невозможности дышать, я подробно рассказывал "Монте Кристо" Дюма. Пожилой китаец ("шпион"!), хорошо владевший русским языком, занимал нас замечательными народными китайскими сказками. Надо было чем-то и как-то убить время, лишь бы не думать о допросах.
А тут еще свалилась на наши головы неожиданная неприятность, вскоре ставшая причиной столь же неожиданной радости. На второй день моего пребывания в собачнике пришел к нам прямо "с воли" железнодорожный стрелочник, "вредитель" (неправильно перевел стрелку и устроил крушение поезда; ожидал расстрела). Хотя его и провели через баню, но и после бани на нем кишели паразиты, головные и накожные. Невероятно, с какой быстротой они одолели всех нас: не прошло и трех дней, как все мы были заражены этими незваными гостями, переползавшими от соседа к соседу. Вызвали коменданта собачника, показали ему, как соблюдается чистота в вверенных ему собачьих пещерах, - а я уже говорил, что тюремное начальство очень следило за чистотой. Комендант велел немедленно - это было на шестой день пребывания моего в собачнике - отправить {333} всех нас в баню, вещи отдать в дезинфекцию, камеру тоже продезинфицировать, а стрелочника после бани перевести в одиночную.
Мы отправились в баню. Нас повели какими-то дворовыми закоулками и переходами. В одном месте остановили у узкого прохода между двумя жарко топившимися на дворе печами для таяния снега, но вместо снега и дров кочегары щедро подкидывали в эти печи книги и бумаги. Это было аутодафэ запрещенных книг, а также и отработанных следователями бумаг, неудостоившихся чести остаться в архивах НКВД. Вот в каком крематории были сожжены и мои толстые тетради литературных и житейских воспоминаний! Без очков я не мог прочитать на обложках заглавия сжигаемых книг, попавших в Index librorum prohibitorum самой свободной страны в мире, но мой дальнозоркий сосед прочел кое-что и особенно удивил меня одним заглавием: предавались сожжению экземпляры "История материализма" Ланге, - очевидно за ее неокантианское направление...
Баня - вот это было наслаждение! Не было шаек и кранов, были только души, и пока дезинфицировалось наше платье и белье, нам выдавали мыло и мы могли в течение целого часа смывать с себя и насекомых, и пот, и грязь, налипшие на нас за время сидения в собачнике. Здесь, стоя под душем, я видел зажившие рубцы и свежо исполосованные спины, бока, а иногда и животы моих сотоварищей... Если в бутырской бане такие следы от "допросов" были видны на десятке из сотни заключенных, то здесь, наоборот, из пятидесяти, быть может, только десяток не носил на себе знаков следовательского усердия. Бедный "Daunen und Federn" смывал с себя кровь и охал: мыло больно разъедало свежие раны...
И все это творилось - в ХХ-ом веке, в Москве, в центре "самой свободной страны в мире"...
Мы вернулись в собачник, благодарные стрелочнику за временную неприятность и за последовавшее {334} неожиданное удовольствие: отмылись, отдышались и могли с новыми силами продолжать свою собачью пытку. Впрочем, для меня она уже подходила к концу.
XIII.
После обеда 12-го апреля меня, наконец-то, вызвали на допрос и повели прежними путями на четвертый этаж, но на этот раз не в памятный мне кабинет начальника отделения, а в обыкновенную следовательскую комнату. Два следователя сидели за столом и предложили мне присесть к нему. Без очков я по близорукости не мог разобрать их лиц, но по голосу признал, показалось мне, в одном из следователей Шепталова.
- Вы писатель Иванов-Разумник? - неожиданно спросил он меня.
- Да, - ответил я, удивленный, - а вы разве не следователь лейтенант Шепталов?
- Нет. Вы так плохо видите?
- Без очков вижу плохо.
- А где же очки?
- В комендатуре собачника. Следователь удивился - не знал, или сделал вид, что не знает о таких собачьих порядках.
- А как же вы будете без очков читать и подписывать протокол?
- Ничего, близорукие хорошо видят на очень близком расстоянии.
- Нет, так не годится. Но постойте, мы это сейчас уладим.
Ушел - я было подумал за моими очками - и скоро вернулся с целым подносом очков и пенснэ, тут их было, вероятно, с добрую сотню, настоящая гора. Он предложил мне выбрать себе на время допроса пару по глазам - и я скоро нашел подходящую пару. Только позднее сообразил я, откуда в недрах НКВД могла появиться такая странная {335} коллекция: несомненно, это были очки расстрелянных, накопившиеся за последнее время. Сообрази я это тогда категорически отказался бы пользоваться этими реликвиями мучеников.
Следователь сообщил, что он производит допрос по поручению лейтенанта Шепталова, занятого по моему же делу в другом месте, и что фамилия его Спас-Кукоцкий. Второй следователь был молчаливым ассистентом, быть может только еще и аспирантом.
- По поручению товарища Шепталова, -сказал новый следователь, - имею предъявить вам ряд новых обвинительных пунктов. Все старые, разумеется, остаются в силе. Чтобы ускорить дело, предлагаю вам просто прочитать протоколы допросов одного из бывших (он подчеркнул) заключенных. В этих протоколах вы часто встретите свое имя, а значит и предъявляемые вам обвинения сразу станут вам понятными.
И он передал мне синюю папку с протоколами допросов Ферапонта Ивановича Седенко (литературный псевдоним - П. Витязев). Витязев-Седенко был старый эсер, в свое время, еще до первой революции - член боевой эсеровской организации.
После 1905 года попал в ссылку в Вологду, где подружился с ссыльной сестрой Ленина, М. И. Ульяновой. Это высокое знакомство спасало его до 1930 года от тех преследований, каким подвергались остальные видные эсеры. После революции 1917 года он весь ушел в литературную и издательскую деятельность, стал неутомимым исследователем литературного наследства П. Л. Лаврова, печатал его сочинения, открывал неизвестные из них, составил картотеку в 20.000 карточек, посвященную жизни и творчеству Лаврова.
В 1918-1926 годах Седенко-Витязев возглавлял кооперативное издательство "Колос", в котором был издан ряд и моих книг. По этим издательским делам мне приходилось очень часто встречаться с ним в "Колосе", но "домами" мы не были знакомы, он никогда не приезжал {336} ко мне в Царское Село. В 1930 году его, несмотря на высокую протекцию, всё же припутали к "монархическому заговору" (это его-то, эсера!) при известном разгроме Академии Наук, арестовали, картотеку - работу всей его жизни - разгромили, а самого сослали на три года в карельские лагери. Высокие связи помогли ему досрочно освободиться и поселиться в Нижнем Новгороде, а вскоре даже и переехать в Москву. Но при воцарении Ежова он снова был арестован в начале 1937 года, сидел на Лубянке, где и подвергался допросам - очевидно с применением сильно действующих средств. Сужу это по тем протоколам, подписанным им (подпись его руки я сразу признал, если только она не была подделана), которые предъявил мне следователь Спас-Кукоцкий в качестве обвинительного материала против меня.
Пробежав эти протоколы, я пришел в ужас - не за себя, а за несчастного Витязева-Седенко. Протоколы - обширнейшие! - начинались примерно так:
"Теперь, когда я убедился, что следственным органам НКВД все известно считаю дальнейшее запирательство бесцельным и готов дать чистосердечные показания"...
И дальше на многих листах шло чудовищное признание во всех семи смертных антибольшевистских грехах, с перечислением десятков фамилий сообщников, признание в подпольной работе, в организации террористической группировки - и мало ли еще в чем, столь же фантастическом. А что это была сплошная фантастика - в этом я совершенно уверен, так как упоминаемое в десятках мест мое имя связано было с никогда не бывшими делами. Я с изумлением узнал, что мною была налажена связь группы Витязева-Седенко с заграницей, что я доставал для него, Седенко, выходившие в Европе антисоветские книги, что он с имярек таким-то и таким-то (названы были эсер Е. Е. Колосов, народоволец А. В. Прибылев - все покойники) бывал у меня в Детском Селе, где мы {337} вели контрреволюционные разговоры и обсуждали возможности свержения советской власти.
Как должны были замучить на допросах этого стойкого и мужественного человека, чтобы заставить его дать такие самоубийственные показания! Витязев-Седенко был энергичный и закаленный человек, старый боевик, повидавший на своем веку еще в царские времена и тюрьмы, и ссылки, и побеги, и новые аресты. И вот теперь...
- Ну что скажете? - спросил меня Спас-Кукоцкий, когда я, совершенно потрясенный всем прочитанным, вернул ему эти невероятные протоколы.
- Скажу, что долго же вы собирались меня арестовать: первый протокол Седенко подписан 14 июня 1937 года. Чего же вы медлили с моим арестом до конца сентября после таких разоблачающих меня показаниях?
- Это дело наших соображений, знать их вам совершенно излишне. Но что вы скажете о самих показаниях?
- Скажу, что все касающееся в них меня - дикий бред. Ни одного раза не был у меня в Детском Селе Седенко, ни один, ни с кем бы то ни было. Никогда ни одной зарубежной книги я ему не передавал по той простой причине, что ни одной из них не имел и даже не видел. Никакой связи с заграницей для него не налаживал, так как и сам ее никогда не имел. Решительно требую очной ставки с Седенко.
- К сожалению, это совершенно невозможно, - снова подчеркнул Спас-Кукоцкий. Я мог догадаться из этого, как и из предыдущего его подчеркивания, что по всей вероятности Седенко уже расстрелян. А, может быть, отправлен в какие-либо гиблые места на десять лет без права переписки"?
- В таком случае я ничего больше не имею заявить, кроме категорического отрицания всех этих касающихся меня показаний. Они фантастичны и совершенно ничем не могут быть подтверждены.
{338} - Вы играете в опасную игру, - заметил Спас-Кукоцкий. - Система запирательства до добра не доводит. Смотрите, как бы вам не пришлось разделить участь гражданина Седенко!
Эта угроза произвела на меня мало впечатления. Недельная пытка в собачнике и прочитанные жуткие протоколы совсем притупили во мне всякое желание бороться за свободу и за жизнь.
- Чем вы можете меня запугать? - сказал я, сильно волнуясь. - Расстрелом? Мне скоро будет шестьдесят лет. От работы вы меня оторвали. Жизнь моя кончена. Жена моя, от которой я вот уже полгода не получаю передач, вероятно, тоже арестована. Зачем же вы тянете? Зачем пытаете меня неделю в собачнике? Чтобы сломить мою волю? Это вам не удастся. Ложных показаний на себя я не дам. Кончайте скорее - это самое лучшее, что вы можете сделать...
- Не волнуйтесь, не волнуйтесь, - спокойно сказал Спас-Кукоцкий, - вот лучше выпейте воды. (Пить мне очень хотелось, но от предложенного им стакана воды я отказался). Никто не собирается с вами кончать ни в каком смысле. Жены вашей никто не трогал, передач от нее вы не получали и не будете получать по нашим соображениям. А теперь прочтите и подпишите протокол сегодняшнего допроса с вашим отказом признать предъявленные вам обвинения.
Я прочел краткий протокол и подписал его; рука моя сильно дрожала. Я был совершенно разбит и подавлен: недельная собачья пытка сказалась, а прочитанные протоколы совсем меня доконали.
- Вы очень волнуетесь, - повторил Спас-Кукоцкий. - Кончим на сегодня допрос, вы можете идти. Сегодня вам еще придется пробыть здесь у нас; завтра мы вас отправим отсюда, а куда - это мы еще обсудим.
{339} И меня отвели в собачник. Эх,
Улечься бы в пыльном бурьяне,
Забыться бы сном навсегда...
Не тут-то было: сиди и задыхайся в собачьей пещере... Но я думал, что после сегодняшнего допроса дело пойдет быстрым темпом: каких еще обвинений надо, чтобы покончить дело в два счета? Я ошибался:
просидеть в тюрьме мне предстояло еще больше года, а следующего вызова к следователю надо было ждать еще четыре месяца.
В это самое время, как я узнал потом, в тайниках НКВД собирали обо мне сведения с разных сторон. Известный мне случай: в феврале 1938 года был арестован в Москве писатель Евгений Германович Лундберг, старый мой знакомый, и просидел в Таганской тюрьме до мая. За все эти три месяца его допрашивали в Таганке только один раз - именно 12-го апреля, день в день и час в час с одновременным моим допросом на Лубянке. Допрашивал его - следователь Шепталов; не предъявляя никаких обвинений, а только предложил дать наиподробнейшее показание обо всем том, что он, Лундберг, обо мне знает. Изумленный Лундберг исполнил предложение, исписал листы, тщетно ожидая, какое же обвинение предъявят лично ему? Но так и не дождался. Следователь Шепталов сказал Лундбергу про меня: "Мы относимся к нему с полным уважением"... Значило ли это, что меня при допросах не били? И затем - опять "уважение": хоть и не "глубокое", как в 1933 году, а только "полное". И на том спасибо. Чтобы выказать это полное уважение в полной мере, меня, надо полагать, и держали неделю в пыточных условиях собачьей пещеры..
Но вот что самое удивительное: после этого Е. Г. Лундберга ни разу больше не допрашивали и через месяц выпустили из тюрьмы, не предъявив никаких обвинений. Он три месяца просидел в Таганке только для того, чтобы в три часа написать сводку {340} того, что знал обо мне. Не проще ли было бы вызвать его для этого из дома на три часа к следователю, чем три месяца держать в тюрьме? И на основании какого же "закона" был он арестован "в самой свободной стране в мире"?
Следователь Спас-Кукоцкий сдержал свое слово: промучаться в собачнике мне оставалось только сутки. Утром 13-го апреля я был вызван "с вещами" прошел через все процедуры, был посажен вместе с измученным "Daunen und Federn" на "Черного ворона" и отправлен - куда? "Куда - это мы еще обсудим", - сказал мне на прощанье Спас-Кукоцкий. Вот они и обсудили. Куда же - неужели в Лефортово? Все может статься.
Велико было мое удивление, когда, выйдя из "Черного ворона", я увидел себя на дворе Бутырской тюрьмы и был введен в всегда шумный "вокзал". Стоило для этого уезжать "с вещами"! Откуда уйдешь, туда и придешь"! Еще раз - здравствуй Бутырка!
Повторение пройденного: снова заполнение подробной анкеты, снова внесение меня в списки Бутырской тюрьмы, снова изразцовая труба, снова тщательный обыск вещей, платья и белья, снова "встаньте! откройте рот! высуньте язык!", снова баня. Собрав группу человек в десять ведут нас через знакомый двор в камеру, на этот раз в камеру No 79 на третьем этаже. В ней мне пришлось просидеть тоже более полугода.
XIV.
Немного отдохнем на этой точке.
Что - перестать, или "пустить на пе"?
"Пустить на пе" ("пустить на пе" - картежный термин, означающией "вчетверо увеличить ставку" см. А. С. Пушкин Домик к Коломне - ldn-knigi ). мне придется лишь через полгода, когда дело дойдет до моей третьей кульминации, а пока можно перестать рассказывать о самом себе и немного отдохнуть на этой точке, рассказывая о других людях. О некоторых из них я уже рассказал {341} мрачную повесть "простых избиений", издевательств, истязаний, конвейеров; теперь быстро пробегу памятью по тем лицам, которые запомнились мне во всех перемененных мною камерах. И чтобы установить хоть какой-нибудь порядок в этих беспорядочных записях, начну с самой многочисленной группы - с группы "шпионов".
Шпиономания была повальной болезнью советской власти вообще и органов ЧК и ГПУ в частности с самого начала Октябрьской революции, но достигла своего апогея к началу появления у власти Ежова и дикой брошюры Заковского о шпионаже. Достаточно было носить явно иностранную фамилию, чтобы попасть под подозрение в шпионстве; достаточно было получить командировку в Европу с научной или партийной целью, чтобы по возвращении быть заподозренным в шпионаже; достаточно было переписываться с родственниками или друзьями заграницей, чтобы по подозрению попасть в шпионы. А от подозрения был всего один шаг и до обвинения. Когда в камере появлялся новый арестованный, мы по разным этим признакам часто могли определить в нем новую жертву параграфа 6-го статьи 58-ой.
Открылась дверь, появился "новичок"; его окружили.
- За что арестован ?
- Если бы я сам это знал! За что, за что?
- Ваша фамилия, товарищ?
- Квиринг.
- А, Квиринг! Латыш! Ну тогда понятно - шпион!
Видный партийный работник Квиринг совсем озадачен:
- То есть позвольте, как это "шпион"? Какой вздор! Нет, действительно - за что, за что?
- А вот увидите!
В тот же день Квиринг вернулся с допроса совершенно потрясенный:
{342} - Действительно, оказался "шпионом"! Никогда бы этому не поверил! Какой ужас, какой ужас!
Надо сказать, что репертуар восклицаний всех новичков был до крайности однообразен, так что мы знали порядок восклицаний наизусть и называли их "грамофонными пластинками". Явившийся с воли в камеру чаще всего начинал с потрясенного восклицания:
- За что! За что?
Это называлось "пластинкой No 1". Ему кричали:
- Перемените пластинку!
Он удивлялся, а потом бросал свои "за что"? и растерянно повторял:
- Какой ужас! Какой ужас!
Это именовалось "пластинкой No 2". Ему опять предлагали "переменить пластинку". Восклицание: "Никогда бы этому не поверил!" - шло обыкновенно за двумя первыми и носило название "пластинки No 3". Таких "пластинок" мы насчитывали до семи. Когда новичок всех их пропускал через себя - он немного успокаивался от реплик камеры ("перемените пластинку!"), так как видел, что переживания его не единичны и что надо, подобно всем товарищам по судьбе, подчиниться неизбежному.
Через несколько дней после меня в камере No 45 появился проф. Калмансон. Недоумевал - "за что? за что?" (пластинка No 1). После двух-трех вопросов мы твердо определили - "шпион"! Действительно. родился в Болгарии (родители его, известные эмигранты-народовольцы назвали своего сына Сергеем в честь их друга, Степняка-Кравчинского). Среднее образование получил в Софии, высшее - в германских университетах; женился на немке. В 1930 году приехал с женой в Советский Союз, стал профессором зоологии в разных высших учебных заведениях и помощником директора Зоологического сада, Мантейфеля. Жена и он переписывались с родственниками и {343} друзьями в Германии и Болгарии. Ну, конечно "шпион", в этом нет никакого сомнения!
С первого допроса он вернулся в камеру торжествующий и сообщил нам:
- А вот же и не "шпион"! Только вредитель"!
В Зоологическом саду, кроме ученого директора, проф. Мантейфеля, был еще и неизбежный "красный директор", невежественный и наглый коммунист Остроухов, творивший всяческие безобразия. Проф. Калмансон разоблачил его деяния в большой статье, напечатанной в "Известиях" 1-го октября 1937 года, а 4-го октября был арестован - не Остроухов, как следовало бы ожидать, а сам Калмансон: у красного директора оказалась сильная рука в НКВД.
На первом допросе Калмансону предъявили обвинение во "вредительстве": он подписывал рационы животным Зоологического сада, а в результате оказалось, что за прошлый год погибло 16% обезьян. Проф. Калмансон указал, что обезьяны погибли не от вредительских рационов, а от климата, и что по статистике лондонского Зоологического сада в нем за тот же прошлый год погибло от туберкулеза 22% обезьян. В ответ на эти указания следователь сперва брякнул: "Ну, значит и в Англии есть вредители!"; а потом спохватился и отрезал: "Нам Англия не пример!" (Еще бы! Чехов уже раньше и лучше сказал: "Это тебе не Англия!"). Проф. Калмансон вернулся в камеру веселый, хохотал над идиотским обвинением и высмеивал наши камерные "шпионские" прогнозы. Но со второго допроса вернулся восхищенный прозорливостью камеры:
- Представьте себе - ведь, действительно, "шпион"!
Зафиксировав в протоколе первого допроса "вредительство", следователь теперь сказал: "Ну, все это пустяки. А теперь перейдем к главному вопросу - к вашей шпионской деятельности в пользу Германии"...
{344} Дальнейшей судьбы проф. Калмансона я не знаю; месяца через три его перевели от нас на Лубянку. Через год донеслись до нас слухи, что он сослан в какой-то дальний животноводческий лагерь. А вот - еще один германский "шпион". Как-то открылась дверь в нашу камеру No 45 и вошел с предельно-растерянным видом "новичок" - совсем необычной наружности: одет - с иголочки и в такой шикарный костюм, какого мы, полунищие советские граждане, давно не видали; несомненный европеец. Мы не ошиблись: новичок сегодня утром прибыл из Парижа и прямо с вокзала попал в тюрьму. По-русски не понимал ни слова и с ужасом спрашивал нас - куда это он попал? Немецкий еврей, коммунист, член Коминтерна, эмигрировавший четырьмя годами раньше из Германии, председатель антифашистской коммунистической организации в Париже, - он получил предписание от своей секции Коминтерна безотлагательно прибыть в Москву по партийным делам. Был предупредительно встречен на вокзале, усажен в автомобиль и прямым рейсом доставлен в Лубянский распределитель, а оттуда "Черным вороном" - к нам, в Бутырку. С круглыми от изумления глазами, совершенно потрясенный он сразу же завел пластинку No l: "wofur? wozu?". Мы объяснили ему, что он - немецкий фашистский шпион. Это, разумеется, и подтвердилось на первом же допросе. Можете вообразить, каково ему было в его блестящем европейском костюме лезть в грязное "метро" около параши: камера ни для кого не делала исключений. Недели две он ходил, как помешанный, потом понемногу обжился, обтерпелся, обтрепался, потерял весь свой лоск и стал таким же, как и все мы. Вскоре его взяли от нас, не то на Лубянку, не то в Лефортово, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Однако, можно одно с уверенностью сказать: в Европу он больше никогда не попадет.
Директор аэропланного завода в Москве, {345} инженер, четыре года работал на разных заводах Соединенных Штатов Америки, вернулся в Советский Союз и блестяще поставил дело на аэропланном заводе. За неделю до ареста получил высшую награду - "Орден Ленина". Арестован, как "шпион" в пользу Америки".
Организатор русского павильона на всемирной выставке в Париже в 1937 году, главный его начальник, видный коммунист Межлаук (латыш!) был собственноручно застрелен Ежовым, как "шпион", во время допроса. Погиб и брат Межлаука, не менее видный старый большевик. После этого и организатор павильона был вызван из Парижа в Москву и арестован по обвинению в шпионаже - "в пользу Франции".
Директор одного из ленинградских металлургических заводов, старый партиец из квалифицированных рабочих. Гордился, что в первые годы революции одна из улиц Таганрога, где он работал и состоял членом РВС (Революционного Военного Совета), была названа его именем. Не менее гордился он и тем, что во время наступления немцев на Таганрог расстрелял сидевшего там в тюрьме печально известного генерала Ренненкампфа. На свое несчастие был в начале тридцатых годов послан в Лондон "для повышения квалификации", провел там три года, вернулся и стал директором завода. Арестован, как шпион - "в пользу Англии".
Румынский военный летчик - очень курьезная фигура и едва ли не слегка поврежденный умом человек. В середине двадцатых годов, чем-то обиженный на родине, перелетел на военном аэроплане из Румынии в Советский Союз, где потом и работал в гражданской авиации в Туркестане. Рассказывал нам курьёзнейшие вещи из своего военного прошлого. Например, как однажды, во время войны Румынии с Болгарией, он, не имея бомб, вылетел на аэроплане с запасом арбузов и бомбардировал ими болгар, чтобы {346} нагнать на них панику... В начале 1937 года пожелал вернуться на родину и начал хлопотать о своем помиловании там и о своей репатриации. Немедленно был арестован, как шпион - "в пользу Румынии".
Китаец, любимец всей камеры "Пирлачка-шипиона" - был, конечно, шпионом "в пользу Китая".
Не было большой или малой страны в Европе и Азии, "шпионы" которых не проходили бы через тюремные камеры! Писатель Борис Пильняк оказался японским шпионом; писатель Анатолий Гидаш - шпионом венгерским; проходили мимо шпионы финские, шведские, норвежские, эстонские, латышские, литовские, турецкие (член азербайджанского ЦИК'а Караев), греческие, болгарские (два сподвижника Димитрова по известному процессу - "рейштаг поджог!"), итальянские, испанские, даже мексиканские, даже бразильские... Нехватало лишь шпиона княжества Монако.
Другая группа, не менее многочисленная - "вредители".
Профессор Худяков, ученый с европейским именем, виднейший - после провокатора Рамзина - представитель теплотехники, имел несчастье быть в командировке в Париже, был привлечен, как "шпион" к рамзинскому процессу, осужден и отправлен в один из сибирских лагерей, где занимался крайне производительным трудом - проектированием для лагеря отхожих мест. Вскоре, однако, был вытребован в Новосибирск для содействия в организации заводов Кузбаса, безустанно работал там годы, получил награды, снятие судимости и разрешение вернуться на жительство в Москву. Но на новую беду его - это возвращение как раз совпало с воцарением Ежова. Не успел проф. Худяков оглядеться в Москве, как уже был арестован - на этот раз по обвинению во "вредительстве" во время своих сибирских работ. Больной, измученный человек подвергался грубейшим допросам с ругательствами и издевательствами. Тяжело {347} страдал крайне мучительным воспалением нервных узлов на руке, которой почти не мог владеть. Будучи, на десять лет моложе меня, выглядел по крайней мере десятью годами старше. Настроен был безнадежно. Часто говорил мне в ответ на мои подбадривания:
"Неужели вы не понимаете, что мы с вами - обречены и не выйдем отсюда?" Он, по-видимому, и не вышел: как-то раз упал в обморок и был унесен в лазарет. Оказалось - цинга в острой форме. Черные пятна уже проступили на ногах, что мы заметили еще и в недавней бане, но он перемогался. Вскоре после этого меня увели из камеры No 79, где мы сидели вместе с ним, и я потом ничего не мог узнать о судьбе этого ученого с европейским именем и тихого и скромного человека. Вероятно, погиб в тюрьме, как сам себе и напророчил.
Цветков, тоже профессор, картограф - обвинялся во "вредительстве": не тем цветом заштриховал захваченную Румынией Бессарабию и со злостно-вредительскими целями неправильно обозначил границы Монголии. Получил пять лет лагеря.
Старший ветеринарный врач московского военного округа. В своих лабораторных работах изготовлял по вредительскому заданию свыше ядовитые токсины для инъекции лошадям. Погубил таким образом 25.000 лошадей из конного состава армии. Приговорен за это вредительство к расстрелу.
Кстати заметить: такая изумительная цифра не должна удивлять: с цифрами следователи НКВД обращались свободно, прибавить лишний ноль им решительно ничего не стоило, как ничего не стоило придумать и самую цифру. Один наш сокамерник, мирный бухгалтер, после многих резиновых допросов, наконец, "сознался", что был членом террористической организации и по ее заданиям получил однажды ящик с двумястами браунингов, который и донес собственноручно с Белорусского вокзала к себе домой на Патриарший Пруды (изрядный кусок Москвы).
{348} Через день следователь вызвал его на новый допрос и накинулся с ругательствами:
- Как ты смеешь, негодяй, вводить в обман советскую власть! Как мог ты, скотина, донести с вокзала домой ящик, в котором было 200 браунингов, весом в несколько пудов? Издеваться над нами вздумал! Подписывай новый протокол! Пиши: 20 браунингов!
"Бухгалтер-террорист" попробовал было заикнуться, что цифру 200, как и всё "дело", изобрел сам следователь, что никакого ящика и вообще-то не было, но получил предложение не рассуждать и угрозу вновь испытать резиновые допросы; смирился и подписал новый протокол, где в цифре 200 исчез один ноль.
- Двадцать браунингов - это куда ни шло, это возможно, теперь все в порядке, - сказал удовлетворенный следователь, и мирный террорист вернулся к нам в камеру с этим поучительным рассказом.
Наряду со "шпионами" и "вредителями" видной группой в камерах были "тухачевцы" - военные, арестованные по отголоску известного "дела Тухачевского". Среди них были и крупные военные киты, и разная мелкая военная сошка.
Старостой в камере No 79, куда я теперь попал, был "четырехромбовик", красный генерал Ингаунис, начальник всей авиации в Дальне-Восточной армии при вскоре расстрелянном Блюхере. Ингаунис обвинялся, конечно, и в шпионаже (литовец!), допрашивался в Лефортово, во всем "сознался" и был переведен в Бутырскую тюрьму "на отдых", впредь до решения дела. О допросах в Лефортово ничего не рассказывал, молчал, только усмехался, когда слушал жалобы наших сокамерников, подвергавшихся "простым избиениям". Рассказывал, что вызванный "по делам службы" из Владивостока, немедленно арестованный в Москве и препровожденный на Лубянку, он был уверен, что "недоразумение" это скоро разъяснится. Но во время {349} обыска в распределителе Лубянки, производивший обыск нижний чин, который еще вчера стоял бы вытянувшись в струнку перед генералом, стал спарывать с его кителя многочисленные знаки отличия, приговаривая: "Ведь вот, надавали же орденов всякой контрреволюционной сволочи!" - Тут только Ингаунис понял, что дела ему предстоят не шуточные.
Ингауниса скоро увели от нас, куда - неизвестно. Сам он был уверен, что на расстрел. На его место тюремное начальство назначило старостой камеры тоже "тухачевца", полковника еще царской службы Балашева. Полковник во всю старался выслужиться перед начальством, пытался завести в камере "военный порядок", но получив отпор своим стремлениям создать "тюрьму в тюрьме", скоро стал лебезить и перед камерой. Другой "тухачевец", мелкая сошка, военный писатель Скопин, бывший ярый белогвардеец и эмигрант, потом столь же ярый большевик - сумел привлечь к себе дружную антипатию всей камеры.
Сравнительно много было "каэров" - контрреволюционеров, привлекавшихся по самым разнообразным поводам и причинам. Один из них, арестованный по какому-то "бытовому" делу вроде взятки, был немедленно переведен в разряд "каэров", так как при обыске у него нашли - "контрреволюционное" стихотворение. Это было как раз в то время, когда побывавший в Стране Советов писатель Андрэ Жид напечатал в Париже книгу своих впечатлений, на которую по приказу свыше обрушилась с воем негодования вся советская печать. Чтобы вышибить клин клином, был спешно выписан из Германии писатель Фейхтвангер, с которым в Москве очень носились и которому поручено было за хорошие деньги написать в виде противоядия свою книгу о Советском Союзе (он ее и написал). По этому поводу ходило по Москве {350} следующее безобидное четверостишие:
Леон Фейхтвангер средь друзей
Сидит в Москве с довольным видом.
Боюсь я, как бы сей еврей
Не оказался тоже Жидом.
За обнаружение этой невинной шутки среди бумаг взяточника он получил три года лагеря в Казахстане.
Рад, что мне пришлось просидеть бок-о-бок три дня с другим "каэром", обвинявшимся в "монархическом заговоре" и скоро уведенном от нас неведомо куда. Это был В. Ф. Джунковский, когда-то генерал-губернатор Москвы, потом товарищ министра внутренних дел, неустанно боровшийся в свое время с кликой Распутина, разоблачивший известного провокатора, члена Государственной Думы Малиновского. За все это даже большевики относились к В. Ф. Джунковскому с уважением, не трогали его и назначили ему даже персональную пенсию. Но с приходом Ежова немедленно же был состряпан монархический заговор, к которому пристегнули и генерала Джунковского. Это был обаятельный старик, живой и бодрый, несмотря на свои семьдесят лет, с иронией относившийся к своему бутырскому положению. За три дня нашего соседства он столько интересного порассказал мне о прошлых днях, что на целую книгу хватило бы. К великому моему сожалению, его увели от нас, куда - мы не могли догадаться.
Бывали в камерах крупные представители противоположного лагеря, вплоть до "замнаркомов" включительно (по старому чину - тоже "товарищи министра"), а один раз в камеру попал даже и "нарком" - пресловутый и всеми презираемый народный комиссар юстиции Крыленко. Рассказывали, что в камеру соседнюю с нашей посадили прямо после ареста и перед отправлением в Лефортово этого патентованного негодяя - "чтоб сбить с него гордость". Он должен был начать свой стаж с "метро" около параши, а потом испытывать и все прочие камерные удовольствия. Он хватался руками за голову и вопил:
"Ничего подобного я не подозревал!" (вариация {351} пластинки No 3).
Через несколько дней его отправили в Лефортово, а потом расстреляли или нет - про это один только НКВД ведает.
Почти не было представителей партийных кругов, былых меньшевиков и эсеров; только два прошли передо мною среди всего этого тысячного людского калейдоскопа, все остальные были уже давно "ликвидированы". Зато много было "троцкистов", с которыми, вообще говоря, расправлялись круто. Один из них, Михайлов, заменивший собою профессора Калмансона на посту старосты камеры No 45, был красочной фигурой. Бывший гардемарин, потом коммунист, преподаватель диалектического материализма в каких-то школах, он был не так давно "вычищен" из партии, теперь привлекался по обвинению в "троцкизме" и всё не хотел "сознаться". Но тут следователь предъявил ему главное обвинение: Михайлов приезжал из Москвы в Ленинград 1-го декабря 1934 года, накануне убийства Кирова, - а значит... Дело шло уже не о "троцкизме", а о "терроризме". Вскоре меня увели в собачник на Лубянку и я не знаю, чем кончилось это дело; счастлив его Бог, если не расстрелян.
В "троцкизме" обвинялся и получивший первый приз в стихотворных состязаниях "на всех языках мира", видный агент ГПУ-Коминтерна. Еще до рождения НКВД, во времена ГПУ, он получил задание - объехать ряд стран всех пяти частей света по делам Коминтерна с какой-то тайной миссией. Три года продолжалось это его путешествие. Вернувшись в Москву, он сразу попал с корабля на бал - в распределитель Лубянки, а оттуда - в нашу бутырскую камеру. Обвиняли его в том, что во время своих путешествий он тайно от ГПУ посетил Троцкого. Клялся, что этого не было, но клятвам гепеушника нельзя, конечно, придавать особой веры. Горько плакался - зачем вернулся в СССР: ведь у него ко дню возвращения оставалось на руках из подотчетной суммы (тайные расходы Коминтерна велики!) {352} еще 75.000 долларов! "С этими деньгами я мог бы начать новую жизнь в какой-нибудь далекой стране, - сетовал он. - Ведь я еще не стар, языки знаю, все повадки и тайны ГПУ мне известны, никогда бы меня не нашли!".
После одного из допросов его отправили в карцер, якобы за резкие ответы следователю, а в действительности, чтобы сломить волю и вынудить "сознание": ведь такой карцер - тоже один из приемов пытки. Просидел в карцере 20 дней максимальный срок, разрешенный "законом"! Небольшая камера, шага 4 в длину, шага 3 в ширину; три соединенные деревянные доски вместо кровати, - в шесть часов утра их поднимают и прикрепляют замком к стене, а в двенадцать часов ночи опускают для шестичасового сна заключенного в карцере. Все остальное время он может сидеть на ввинченной в пол железной табуретке, на которую ночью опускается дощатое ложе. Под потолком неугасаемо горит электрическая лампа, силою свечей в двести; этот яркий электрический свет становится источником мучений заключенного. Сбоку на полу в отверстии стены - сильный вентилятор, посылающий в камеру струю холодного воздуха и при этом производящий такой шум, что голоса человеческого нельзя расслышать: тоже мучение, но уже не для глаз, а для ушей. При заключении в карцер - раздевают, оставляют только рубашку, кальсоны и носки. Если дело происходит зимою, то к пытке светом и шумом присоединяется еще и пытка холодом от беспрерывной струи холодного воздуха вентилятора: карцер не отапливается. Чтобы согреться, можно ходить и бегать по карцеру, но много ли набегаешь на двенадцати квадратных аршинах? Утром дают 200 грамм хлеба и кружку кипятка - питание на весь день. В углу - обыкновенная параша, куда надо свершать и малые и великие дела: из карцера никуда не выпускают. Умываться не полагается.
Наказание карцером за самые тяжелые тюремные или допросные провинности назначалось на два-три {353} дня, редко - на пять суток, а "ГПУ-Коминтерн" (как мы его прозвали) просидел в таком карцере 20 дней. Вернувшись в нашу камеру, отлежавшись и согревшись (дело было в декабре), он сказал: "Никогда не думал, что человек столько вынести может"... Вскоре после этого его отправили в Лефортово, откуда едва ли он вышел живым: со своими бывшими агентами НКВД расправлялось особенно круто.
Из "троцкистов" я встретил в камере No 79 довольно известного венгерского писателя и поэта Гидаша. Сидя до этого на Лубянке, он "сознался" и в "троцкизме", и в шпионаже, теперь в Бутырке ждал решения своей участи. Но действительной причиной его злоключений были и не "троцкизм", и не "шпионаж", а то обстоятельство, что он был женат на дочери известного венгерского, а потом и крымского палача Бела-Куна. Пока был в силе и славе тесть - процветал и зять, а когда в ежовские времена венгерский палач сам попал по обвинению в шпионаже в Лефортовский застенок, где "во всем сознался", то и Анатолию Гидашу пришлось плохо. Тесть его, изломанный допросами в Лефортове, сидел в соседней камере Бутырской тюрьмы и иногда, попадая в лазарет, переписывался с зятем. (Лазарет ходил у нас под названием: "почтовое отделение No 4"). Тесть ожидал расстрела, зять - концлагеря.
Мимолетно встретился я в камере No 45 еще с одним писателем, "троцкистом", безобидным марксистским критиком А. Лежневым (не смешивать с сотрудником "Правды" И. Лежневым-подхалимом, ради выгоды переметнувшимся к большевикам и покорно лизавшим их пятки). А. Лежнев тщетно старался догадаться "за что? за что?" (пластинка No 1), никак не мог вспомнить, где же мог оказаться "троцкизм" в его довольно серых критических писаниях? Его скоро увезли от нас на Лубянку.
Не буду продолжать дальше, чтобы не растянуть рассказа, до бесконечности ведь можно было бы {354} описать еще десятки людей. Тут был бы и председатель районного Исполкома, и начальник станции, и фининспектор (взятки!), и брат всесильного диктатора Украины Петровского (звезда которого уже закатилась), и неудачливый "сексот" какого-то месткома, и заместитель комиссара, и шофер, и член коллегии защитников, и агроном, и один из чинов военной охраны Сталина, и рабочий, и педагог, и московский районный прокурор, и престарелый раввин, и шестнадцатилетний хулиган. Целую главу можно было бы посвятить удивительному рассказу об отдельной камере "беспризорников" в нашем коридоре: мальчики лет от двенадцати до пятнадцати были спаяны между собой железной дисциплиной и властью своего старосты, приказания которого исполнялись беспрекословно. Камера эта держала в панике все тюремное начальство и справиться с нею не было никакой возможности.
В заключение расскажу только об одном нашем сокамернике, инженере Пеньковском, который хоть и не держал в панике тюремное начальство, однако доставлял последнему великие хлопоты и неприятности. Начальство как ни билось, тоже ничего не могло с ним поделать.
Инженер Пеньковский - фигура трагикомическая. Человек несомненно "тронутый": не то чтобы душевнобольной, но и не вполне душевноздоровый. "Инженер" он был маргариновый: просто окончил рабфак (рабочий факультет), потом какой-то техникум и получил звание "инженера стекольного производства" (ведь есть же в СССР и "инженеры молочного производства"!). Человек лет тридцати-пяти, мало интеллигентный. Перед арестом состоял директором стекольного завода в Клину под Москвой. Придя в нашу камеру No 79, он почему-то возлюбил меня, и часами занимая меня разными разговорами и своей автобиографией. Это было и занятно, и мучительно. Рассказывал, {355} например, как постепенно катился он под житейскую гору:
- Учился на рабфаке, жил в общежитии на широком Ленинском проспекте. Вы понимаете? На Ленинском! Это что-нибудь да значит! Поступил в техникум - снял комнату в узком Гавриковом переулке. Вы понимаете? Гавриков переулок, Гав-гав-риков переулок! Это что-нибудь да значит! Началась жизнь собачья. Кончил техникум - загнали меня в Клин. Вы понимаете! Клин! Это что-нибудь да значит! Клин, Клин, вот теперь меня и вышибло клином в тюрьму... Это что-нибудь да значит!
Обвинялся во "вредительстве": не то недоварил, не то переварил стекло...
Рассказывал совершенно невероятные вещи о встречах и разговорах; вполне несомненно - страдал манией преследования. И в то же время причинял тюремной администрации (а, вероятно, и следователям) уйму хлопот: он категорически отказывался подчиняться тюремным правилам и требованиям, которые казались ему "бессмысленными".
Чего только с ним ни делали, сколько раз в карцер сажали (тюремная администрация - не била, этим занимались только следователи) - ничто не помогало, и, наконец, тюремное начальство махнуло на него рукой.
В первый же день его перевода в нашу камеру - была пятница - нас обходил помощник начальника тюрьмы для приема заявлений. Обходя всех, он остановился взять заявление у слишком хорошо ему известного "инженера".
- Ну, гражданин Пеньковский, как проводите время в новой камере?
- Да так же бессмысленно, как и вы: я - бессмысленно здесь сижу, вы бессмысленно нас обходите...
Помощник коменданта махнул рукой и ушел, по опыту зная, что с этим заключенным лучше не связываться. Вместо заявления, инженер Пеньковский {356} написал письмо своей жене, что он регулярно проделывал каждую пятницу...
Особенно трудно было администрации с Пеньковским во время частых наших ночных обысков.
- Раздевайтесь догола!
- Не желаю!
- Говорят вам, разденьтесь догола!
- Не желаю! Я не в баню пришел!
- Разденьтесь немедленно!
- Не желаю! Сами можете раздевать меня, если вам это нужно!
И уже наученные опытом нижние чины, зная, что с этим арестантом ничего нельзя поделать, вдвоем начинали раздевать его. Он не сопротивлялся, но и не помогал.
- Откройте рот!
- Не желаю! Я не к дантисту пришел!
- Высуньте язык!
- Не желаю! Я вам не собака, чтобы язык изо рта высовывать!
И так продолжалось до самого конца обыска. Вот только одеваться приходилось ему самому. В то время как каждого из нас пропускали через обыск в четверть часа, много - в полчаса, с Пеньковским два нижних чина возились больше часа.
Так поступал он во всех мелочах тюремной жизни, доставляя бездну хлопот администрации. Мне думалось: а что если бы вдруг вся наша камера, вся наша тюрьма была заполнена такими Пеньковскими? Ведь тогда тюремная администрация с ног бы сбилась и карцеров на всех бы нехватило! Да, пожалуй, и сама тюрьма не могла бы тогда существовать...
XV.
Камера No 79, в которую я теперь попал, имела и плюсы и минусы по сравнению с покинутой мною камерой No 45. В той был асфальтовый и всегда {357} грязный пол, его нельзя было мести из-за переполненности камеры; лишь раз в десятидневку, во время нашей бани, его подметали дезинфекторы. В этой камере изразцовый пол блестел чистотой: каждое утро нам вручали две половые щетки и тряпку для вытирания пыли, двое ежедневно сменявшихся камерных дежурных должны были наводить безукоризненную чистоту. Та камера выходила на север, на тюремный двор с бывшей церковью, ныне "этапом", посередине и была всегда темной и мрачной; эта камера выходила на юг и была залита солнцем с утра и до вечера. Плюс этот вскоре обратился в чувствительный минус: лето 1938 года оказалось на редкость жарким, палящим, и мы пеклись на нашей изразцовой солнечной сковородке, раздевались до одних трусиков и все же изнывали от жары, несмотря на днем и ночью распахнутые окна. Зато из окон этой камеры мы видели не тюремный, мрачный двор, а Москву: если стать на нары, то можно поверх железного щита, закрывающего половину окна, видеть сквозь решетку и крыши, и трубы домов, а вдали - многоэтажный дом с ярко освещенными по вечерам окнами. За ними шла нормальная человеческая жизнь: дальнозоркие товарищи видели за этими окнами то семью за чайным столом, то вечернюю пирушку друзей, то кухонные хлопоты какой-нибудь "домработницы". Живут же значит еще люди, не все сидят за тюремными решётками... Это зрелище чужой "свободной" жизни и радовало, и растравляло тюремные раны: каждый переносился мыслью к своей семье...
Зато здесь мы были лишены той возможности, какою широко пользовались в камере No 45. Там, если прилечь на подоконник, можно было в щель между стеной и нижней частью железного заградительного щита видеть все, что происходит на тюремном дворе. Такое лежание на окне строго каралось, но заключенные, стоя группами перед окном, закрывали от всевидящего ока - "глазка" подсматривающего в {358} щель товарища. А подсматривать было что. Вот, например, вызывают из нашей камеры "без вещей": куда поведут? Если прямо через двор, "на вокзал" - значит на Лубянку, в собачник; если налево за угол значит на местный "бутырский" допрос; если направо - значит в фотографию и дактилоскопический кабинет. Или - вызывают "с вещами": куда поведут? Если прямо на "вокзал" - значит в другую тюрьму, если направо в здание бывшей церкви - значит в этапную камеру. Или еще: десятками водят каждый день через двор заключенных из других камер; среди них узнавали иногда знакомых или друзей, об аресте которых еще ничего не знали. Особенную сенсацию вызывало, когда оконный наблюдатель - а добровольцы эти сменялись с утра и до вечера вдруг возглашал:
"Женщину повели!" - Женский коридор был как раз под нашим. Тогда к окну бросались мужья, имевшие основание думать, а иногда и знавшие наверно, что жены их тоже арестованы и сидят в Бутырке. И не раз случалось мужу увидеть свою жену, а жены из женской камеры таким же способом высматривали своих мужей. Плохое это было утешение и, вместо радости, доставляло иногда и горькие минуты...
Жизнь в камере No 79 протекала по обычной тюремной колее, достаточно подробно описанной выше: "вставать!", поверка, "оправка", хлеб, сахар, чай, прогулка (не для меня), ужин, редкие бани и лавочка, обыски, допросы, заявления по пятницам, переписка в почтовых отделениях NoNo 1 и 2, "газеты", книги, кружки самообразования, тележка фельдшера с лекарствами, кормление голубей, вечерняя "оправка", вечерняя поверка, "спать!" - и тюремный день закончен. Одно нововведение было в этой камере: после вечерней поверки староста должен был отбирать очки у всех очконосцев и сдавать их на ночь корпусному; утром очки снова раздавались их владельцам. Делалось это, надо думать, для того, чтобы ночью кто-нибудь не вздумал острым осколком стекла вскрыть {359} себе вену, или проглотить его, по примеру Сабельфельда... Тюремное начальство очень дорожило нашей жизнью!
Вот только с "культурными развлечениями" дело обстояло плохо: всякие лекции и доклады были строго-настрого запрещены. Мы, однако, продолжали их устраивать, таясь от всевидящего ока. В камере No 79 особенно частыми докладчиками были я (на самые разнообразные темы) и некий коммунист "товарищ Абрамович", бывший начальник одной из северных полярных станций; он без конца рассказывал нам о жизни и быте на далеком севере, о пушном промысле, об оленьих и собачьих упряжках, о бое тюленей, об охоте на белых медведей, о чукчах и камчадалах, о лыжной тропе, об айсбергах и ледяных торосах. В жаркое, палящее лето слушать это было особенно приятно... Но "курицы" не дремали и взяли нас на учет: в свое время я и "товарищ Абрамович" понесли должную кару за нашу "культурно-просветительную деятельность".
Много часов провел я в этой камере за игрой в шахматы a l'aveugle с членом коллегии защитников Малянтовичем. Кстати сказать, вся вина его заключалась в том, что он был племянником своего дяди, министра Временного Правительства...
Благодаря своему полугодовому тюремному стажу, я сразу же получил в камере No 79 "приличное место" - на нарах, а через полгода возглавлял уже эти нары у самого окна. Но дни проходили за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами - дело мое не двигалось, как будто обо мне (к счастью для меня) совсем забыли.
Наконец, как-то раз в середине августа выкликнули и мою фамилию: "без вещей"! Вышел в коридор, был схвачен под руки архангелами (об этом я уже рассказал) и доставлен в следовательскую комнату в том же этаже. Меня дожидался там молодой {360} следователь, очевидно один из помощников Шепталова, предложил сесть.
- Мне поручено сообщить вам, что дело ваше производством закончено и оформлено. В самом ближайшем будущем можете ожидать решения. А теперь на основании 215 Уложения вы имеете право ознакомиться с обвинительным актом и со всеми материалами дела. Если пожелаете, можете дать и дополнительные объяснения.
И он пододвинул ко мне объемистую синюю папку с моим "делом". Прибавлю кстати, что я, быть может, не точно запомнил номер названного им параграфа, во всяком случае он был из порядка двухсотых.
- Никаких дополнительных объяснений не имею, а с обвинительным актом и материалами дела знакомиться не желаю, - отвечал я.
- Почему? - удивился следователь.
- Потому что, как я уже заявлял следователю лейтенанту Шепталову, считаю все дело придуманным, показания свидетелей подложными или насильно вынужденными, - зачем же я буду с этим всем знакомиться?
- Как хотите, - сказал следователь. - В таком случае напишите вот здесь: "Дополнительных объяснений не имею, а от предложенного мне ознакомления с обвинительным актом и делом отказался", затем подпишитесь и пометьте месяц и число. Дело ваше закончено, теперь ждать уже недолго, скоро покинете эту тюрьму.
- Давно пора, - заметил я: - вот уже скоро год, как я сижу здесь всё еще "под предварительным следствием".
- Сидят и больше! - утешил меня на прощанье следователь, и архангелы с прежним церемониалом доставили меня обратно в камеру.
Я уже привык к весьма растяжимому пониманию теткиными сынами слова "скоро", однако никак не {361} мог бы предположить, что на этот раз "скоро" продлится еще почти год! "Скоро покинете эту тюрьму" - для концлагеря? для изолятора? Я не сомневался, что это было уже предрешено годом ранее, еще до моего ареста. Но, к моему счастью, теткины сыны на этот раз торопились медленно.
А пока что - продолжалось тихое, безмятежное, бездопросное камерное мое житие, как раз в то тяжелое время, когда кривая истязательских допросов дошла до своей вершины, когда людей вызывали на такие допросы по несколько раз в неделю и мучили на них по несколько часов подряд. Иногда такие "допросы" затягивались на двое-трое суток, шли "конвейером". Тяжело было смотреть на перекошенные лица товарищей, вызывавшихся на допрос: шли они в ожидании избиений, истязательств, а в лучшем случае - издевательств и ругательств. Стыдно было смотреть им в глаза, когда они, измученные, возвращались с допросов, а сам ты месяцами спокойно сидел в камере, чувствовал себя точно чем-то виноватым перед ними...
Эта кошмарная волна истязаний при допросах достигла своей вершины в середине 1938 года, а потом стала медленно спадать. К концу года не только избиения, но и заушения (Заушение - пощечина; удар рукой по лицу. - LDN) случались лишь в редких единичных случаях. Но вскоре и на мою долю выпало внести свою, хоть и небольшую, лепту в общую сумму переносимых издевательств: приближался день третьего кульминационного пункта тюремных моих чествований, после ноябрьского ливня ругательств и апрельской пытки в собачнике. Теперь мой рассказ можно и "пустить на пе"...
29 сентября 1938 года исполнился год со дня моего пленения, тюремный стаж мой становился уже почтенным. Но зато вид мой был далеко непочтенный: за этот год я совсем обносился и обтрепался. Не говорю уже о том, что рубашки и кальсоны с каждой новой стиркой обращались все более и более в {362} неописуемые тряпки, так что с трудом можно было разобрать - где рубашка и где кальсоны? Но и брюки дошли до того, что при одном из обходов в пятницу помощник коменданта изволил обратить внимание на мой неприличный костюм и, узнав, что я не получаю передач и не могу купить брюки в лавочке, распорядился выдать мне казенное "галифе", хоть и заплатанное, но еще - по его мнению "приличное". Зато локти на рукавах пиджака вполне неприлично зияли дырами.
Прошел октябрь, подходил день торжества 7-го ноября, годовщина Октябрьской революции. Надо сказать, что оба пролетарских праздника, 1 мая и 7 ноября (по гениальному предвидению Салтыкова - весенний праздник предуготовление к бедствиям грядущим и осенний праздник воспоминаний о бедствиях претерпенных) ознаменовывались в тюрьме особыми строгостями: усилением коридорного надзора, ухудшением качества пищи, лишением камеры на два дня прогулок.
Вечером 6-го ноября после ужина я, закрытый от всевидящего ока - "глазка", рассказывал камере то, что знал о замечательных опытах парижского психолога-профессора Жиро по "гектоплазмии" (материализации). Раскрылась форточка и дежурный по коридору выкликнул мою фамилию, - неужели заметил?.. Но нет, тут же выкрикнул он и фамилию "товарища Абрамовича", прибавив: "Оба с вещами!". С вещами - это была уже сенсация! Пока мы собирали вещи, камера оживленно гудела, строя разные предположения, доходившие даже до мысли, что нас собираются выпустить на волю - в виде подарка к празднику... Подарок нас, действительно, и ожидал, но только несколько иного рода.
Прощай камера No 79! Просидел я в тебе более полугода, - куда-то теперь?
Повели на "вокзал", посадили обоих в одну изразцовую трубу, - значит собираются переводить в {363} другую тюрьму. Но почему же - в самый канун праздника воспоминаний о бедствиях претерпенных? Нет, никто не приходит с неизбежным обыском. За дверью шум, беготня, голоса; "Больше в карцерах нет местов!"... Вот оно что! Не переезд в другую тюрьму и тем паче не свобода (дикая мысль!), а праздничный карцер! Мы поняли, что это дело "куриц" и кара за нашу "культурно-просветительную деятельность".
Мы были взяты одними из последних, когда все карцеры были уже заполнены. Наши товарищи из других камер, попавшие в первую очередь, испытывали все удовольствия того обычного карцера, о котором я уже рассказал выше; их посадили по двое в каждый такой карцер. А с нами и с немногими нам подобными, пришедшими к шапочному разбору карцеров, очевидно, не знали, как и поступить. Хорошего мы не ждали: tarde venientibus ossa; какими-то костями угостят нас на этом карцерном пиру? Мы долго, сидя в изразцовой трубе, ожидали решения своей участи. За дверью бегали, говорили, кричали. Наконец, - открылась дверь и нас повели.
Повели снова на церковный двор, потом, в полутьме, какими-то закоулками и переходами между корпусами, какими-то проходными дворами и двориками; вывели к самой тюремной стене и здесь подвели к ступеням в черную тьму глубокого подвала. Мы спустились ощупью и попали в ярко освещенное холодное и сырое помещение с низким потолком, заваленное чьими-то вещевыми мешками; нас встретили три-четыре нижних чина во главе со своим подвальным командиром. Он велел нам сложить вещи на пол, а самим раздеться, оставив на себе только рубашку, кальсоны и носки; все остальное приложили к нашим остающимся в этом подвале вещам. Посмотрев на меня, увидев мой почтенный возраст и то, что я дрожу от холода - температура в подвале была ноябрьская - командир, очевидно, из особой милости разрешил мне одеть жилетку. Потом нас вывели в {364} коридор, коротенький тупичок, с двумя дверьми направо. Первую из них открыли и предложили войти в полную тьму. Мы вошли во тьму и вступили в грязь. Дверь захлопнулась.
- Осторожнее! Тут сидят люди! - раздался голос из тьмы. Сидели тут такие же "карцерники", которым так же как и нам нехватало места в обычных карцерах. По случаю праздника 7-го ноября мобилизация для наполнения карцеров была произведена "во всетюремном масштабе".
Ощупью и натыкаясь на сидящих на полу стали мы куда-то пробираться. Другой голос из тьмы сказал - "Здесь у стены есть место!" - и мы двинулись на этот голос. Действительно, около стены, с которой стекала от сырости вода, нашлось еще два места для меня и моего спутника. Но когда мы попробовали сесть на пол и ощупывали его руками, то руки наши вершка на два погрузились в густую, липкую и холодную грязь. Но что было делать? Не стоять же целые сутки или сколько там придется! и все наши раньше пришедшие товарищи уже сидели в этой грязи, предлагая и нам последовать их примеру. Раздумывать было нечего: я снял с себя жилетку, сложил ее вчетверо, подложил под себя - и погрузился в холодную клейкую жижу. Два из наших сокарцерников долго лечились потом от полученного в этой грязевой холодной ванне мучительного ишиаса. Сколько времени предстояло нам праздновать в этих необычных условиях осенний пролетарский праздник, годовщину Октябрьской революции, праздник воспоминаний о бедствиях претерпенных за последние двадцать лет?
Подвал был глухой, без окна, очевидно, служивший раньше складочным местом овощей. Холод был осенний, сырость пронизывающая. Зуб на зуб не попадал. Полгода тому назад пришлось испытать в собачнике пытку жарой. Здесь предстояла противоположная крайность. Но мало-помалу мы нагрели {365} подвал своими телами и своим дыханием: через день температура стала приближаться к терпимой, а к концу нашего сидения в этом подвале стала переносимой. Мы не задыхались от углекислоты: была, очевидно, как и во всех овощных подвалах, вытяжная труба, но мы не могли различить ее в кромешной тьме.
Пока мы устраивались и копошились в грязи, за дверью раздались женские голоса: в соседнюю дверь очевидно вели наказанных, как и мы, женщин. Надо было думать, что они пришли в ужас от предстоящего пребывания во тьме, в холоде и в грязи (ведь их тоже раздевали до рубашек), так как мы услышали плач, крики и отдельные голоса: "Я не могу! - Я не могу! - Я больна! - Это издевательство! Доктора!" - Послышался шум, последовала возня, еще крики и плач, удары и стоны, потом все смолкло, - очевидно, женщин впихнули в подвал и захлопнули за ними дверь. Издевательство? - Конечно, издевательство, но чем же мы могли им помочь? Мы были сами братьями этих сестер по судьбе. - "Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее" - объявил во всесоветское всеуслышание товарищ Сталин...
Все успокоилось - и мы успокоились. Наступила ночь, - впрочем она всегда была в этом подвале. Мы спали - если это можно назвать сном - дремали, дрожа в потрясающем ознобе, то и дело просыпаясь, опершись спиной о стену, с которой струйки воды стекали нам за ворот рубашек. Скоро вся спина рубашки была хоть выжми, а кальсоны насквозь пропитались водой от холодной грязи, в которую мы были погружены. Холод пронизывал до костей и мокрое белье клейко прилипало к телу.
Счет времени был потерян. Пока длилась эта бесконечная ночь, мы могли думать, что прошли уже целые ночи и дни. Но мы знали, что в шесть часов утра нам принесут кипяток и хлеб - и это было единственным за сутки мерилом времени. Мечтали о кружке {366} кипятка, как о великом несбыточном блаженстве: согреться, согреться!
И вот, наконец, голоса в коридоре, шум шагов дверная форточка открылась и нас ослепил луч света яркого электрического карманного фонаря: дежурный по карцеру просунул его в форточку, и, водя фонарем, пересчитал нас, после чего возгласил: - "Пятнадцать!" - и форточка захлопнулась, мы снова погрузились во тьму. Но за короткое время света мы, хоть и ослепленные, успели разглядеть и подвал, и друг друга: Боже, какой неописуемый вид был у нас! В углу мы разглядели ведро-парашу. Можете себе представить, как удобно было пользоваться ею в полной тьме и какие последствия это иногда имело... На "оправку" нас не водили: карцерникам довольно и параши. К счастью, пользоваться ею приходилось мало, ведь обедов и ужинов у нас не было, а кипятка выдавали только по одной кружке в день.
Вскоре снова загремела форточка, снова ослепил нас свет - и мы стали передавать от соседа к соседу наши дневные рационы хлеба, по 200 грамм на человека. Впрочем, веса в них оказывалось больше, столько налипало на них глины и грязи от наших рук. Потом таким же порядком передавали мы друг другу по обжигающей руки кружке кипятка - форточка захлопнулась. Дрожа от холода, стали мы в полной тьме наслаждаться горячей влагой. Хлеб пополам с грязью хрустел на зубах. Это был наш чай, завтрак, обед и ужин - все, до следующего утра. Форточка опять открылась, дежурный по карцеру отобрал у нас кружки. На просьбы некоторых дать вторую, кратко ответил: "Полагается по одной", и захлопнул форточку. Мы снова остались в полной тьме - на целые сутки.
Горячая вода согрела и оживила нас, да и температура подвала немного поднялась. Следующие сутки мы уже не дрожали от холодав даже в наших мокрых компрессах с головы до ног. Стали знакомиться друг {367} с другом, переговариваться; завели граммофонную пластинку No 1: "За что? за что?" Из разговоров выяснилось, что все мы здесь сидели за одно и тоже: за неуместную и запрещенную "культурно-просветительную деятельность" в своих камерах. Мы немедленно наименовали наш подвал и самих себя "Клубом культпросветчиков" и решили, что раз уж начальство собрало здесь такие высококвалифицированные тюремные лекторские силы, то мы не ударим в грязь лицом в этом наполненном грязью подвале, а заполним время беспрерывными лекциями, докладами, рассказами каждого по очереди и по своей специальности. Каждый предлагал свои темы и они выбирались большинством голосов. Что было делать нам другого, сидя во тьме?
А потому заключение наше оказалось менее томительным, чем этого желало бы тюремное начальство. Мы с большим интересом прослушали обстоятельный доклад инженера, специалиста по "ракетной проблеме", ученика Циолковского. Организатор русского павильона на парижской выставке очень живо рассказал нам и об этом павильоне, и обо всей выставке. "Артист эстрады" развлекал нас сценками и скетчами. Между прочим, рассказал нам, в виде характерного анекдота, за какой анекдот сам он попал в тюрьму. Сам еврей, попал он прямо с эстрады в Бутырку за антисемитизм, проявившийся в следующем, рассказанном им со сцены невинном диалоге еврея с русским:
- У вам грязь на спине!
- Не "у вам", а "у вас".
- У мене?!
- Не "у мене", а "у меня".
- Ну, я же и говору, что у вам!
Диалог продолжался в таком же роде, и еврей между прочим объяснял русскому, что обозначают известные сокращения - ЧК и ЦК: - "ЧК - это Чентральный Комитет, а ЦК - это Црезвыцайная Комиссия"... За эту антисемитскую агитацию, а {368} попутно и за насмешку над "Црезвыцайной Комиссией" бедный "артист эстрады" уже третий месяц сидел в Бутырке и его следовательница находила, что дело это "очень серьезное", стараясь кроме статьи за "контрреволюционную агитацию" "пришить" ему еще и другие параграфы...
Да, дело его вела следовательница - и это в первый раз столкнулся я с таким фактом среди сотен рассказов о допросах. "Следовательница" - этот сочный фрукт революции достался НКВД по наследству еще от ГПУ и ЧК. В начале деятельности Чеки славилась женщина-провокаторша и следовательница-садистка Денисевич. В первых легионах Чеки восседала беглая политическая каторжанка, а потом левая эсерка Биценко. Несколько позднее террорист и бывший левый эсер Блюмкин (убийца Мирбаха), ставший позднее агентом Чеки, был подведен под расстрел своей молодой женой, оказавшейся подосланной к нему следовательницей-чекисткой.
Мне только два раза пришлось мимолетно встретиться лицом к лицу с этими выродками рода женского: один раз - когда меня в мае 1933 года ночью везли следователи - гепеушники из Бутырки на Лубянку; в их числе была и молодая следовательница - чекистка. Во второй раз - несколькими месяцами позднее - я встретился с такой же молодой следовательницей в комендатуре Новосибирского ГПУ. Оба раза это были изящные молодые женщины, с маникюром, в прекрасных туалетах, с модно перекрашенными волосами. "Артисту эстрады" пришлось столкнуться с этим типом вплотную, дело его вела именно такая изящная молодая женщина, "модель от Пакена", как он ее именовал. Он был совершенно ошарашен, когда на первом же допросе из уст этой изящной и изысканной "модели от Пакена" полилась такая отборная и изысканная ругань, какую бывалый артист не слыхивал даже от матросов, особенно славившихся фиоритурами многоэтажных и хитрозакрученных непечатных ругательств. Облив его {369} этими каскадами, "модель от Пакена" закончила угрозой:
- Погоди, я тебя законопачу в такой лагерь, что ты там десять лет ни одной женщины не увидишь!
При этом она, вместо слова "женщина", воспользовалась такой реторической фигурой, которая в учебниках словесности именуется фигурой pars pro toto.
Артист эстрады сказал ей:
- Гражданка следовательница, - преклоняюсь: вы артистка в своем роде...
Интересно было бы знать - имеют ли эти выродки рода женского семью, детей, мать? Бывают ли сами они матерями? Или слово "мать" доступно им только в трехэтажных ругательствах?
Но я уклонился в сторону от рассказа о нашем "Клубе культпросветам и поочередных наших докладов и рассказов в нем. Когда очередь дошла до меня, то, по желанию большинства членов клуба и для поддержания настроения, я подробно рассказал о бегстве Бенвенутто Челлини из римской башни Св. Ангела и о не менее фантастическом бегстве Казановы из венецианской свинцовой тюрьмы Пиомби. Устроить побег из Бутырки или Лубянки было бы, конечно, гораздо фантастичнее. Иногда после доклада или рассказа раздавался чей-нибудь голос:
- Господа члены клуба, а не пора ли спать? Ведь уже, надо думать, ночь! А другие голоса возражали:
- Что вы, что вы! Да, вероятно, еще и до вечера не дошло!
Мы совершенно заблудились во времени: спали днем, разговаривали ночью, думая, что это день. Очень удивились, когда загремела форточка утром 8-го ноября: мы как раз собирались в это время "ложиться спать". Кстати сказать лечь спать можно было бы, места хватило бы, но ни у кого {370} нехватило решимости всем телом погрузиться в липкую грязь.
Так прошли сутки. И вторые сутки. Утром 9-го ноября нам выдали обычный наш суточный рацион из хлеба и кипятка.
Странное дело, есть не очень хотелось. Я вспомнил свою пятисуточную вагонную голодовку двадцатью годами раньше и находил, что "ГПУ-Коминтерн" прав: можно и двадцать суток выдержать такой режим, ведь он выдержал же! Сколько-то еще нам придется выдержать? Уже двое с половиною суток продолжались наши грязевые ванны в подвале.
Мы потом сравнивали наше подвальное наказание с положением тех товарищей, которые попали в чистые и слишком светлые настоящие карцеры - и находили, что нам очень повезло. Правда, сидели мы в грязи - но в блаженной тиши, без рези в глазах; сидели в жиже - но без неумолчного шума вентилятора; сидели в жиже, но в сравнительном тепле, когда подвал нашими телами обогрелся, и без пронизывающей струи холодного вентиляционного воздуха; сидели во тьме и грязи - но большой компанией, целым "Клубом культпросветчиков", и интересно провели время. И настоящие "карцерники" нам завидовали: вот как всё относительно на белом свете!
Только что мы утром 9-го ноября покончили с хлебом и кипятком, как дверь открылась, нам предложили выйти, одеться и взять свои вещи. Двое с половиною суток сидели мы в грязевой ванне - и зато в каком же виде вышли! Пришлось одевать платье на липкое от грязи тело и белье, сапоги не налезали на облепленные глиной пудовые носки; руки и даже лица наши были черны, как у трубочистов только не от сажи, а от грязи. На дворе нас ослепило небо восходящего солнца, третьи сутки пребывали мы во тьме. Нас выстроили попарно и повели, - но куда же поведут нас, таких с головы и до ног облепленных грязью? Нас повели - прямым путем в баню.
{371} Не нахожу слов, чтобы выразить, каким наслаждением была для нас эта баня! Таким же, как полгода тому назад баня после пытки в собачьей пещере. Нам выдали по двойной порции мыла - одним кусочком мы не отмылись бы - и сообщили, что дают нам двойное время на стирку и на мытье. В обширной светлой и жаркой бане, вмещавшей полтораста человек, наша горсточка в пятнадцать грязных с головы до ног карцерников совершенно распылилась. Мы наслаждались безмерно, мылись бесконечно, стирали белье в десяти водах - и все-таки не отстирали. После этого мое белье, бывшее лохмотьями, превратилось уже окончательно в тряпки.
Совершив весь банный обряд, мы попарно двинулись - куда? Неужели каждый в прежнюю свою камеру? Нет, начальство решило изолировать культ-просветную заразу и всем карцерникам отвело отдельную камеру. Нас привели на третий этаж, в камеру No 113, совершенно пустую. Мы расположились в ней по-барски (но - по стажу), заняв лучшие места. Вслед за нами стали приводить и других карцерников, кого из таких же подвалов, а значит и прошедших через баню, кого и из отдельных карцеров, где они сидели подвое. Им бани не предоставили. Понемногу набралось нас 60 человек - весь "культпросвет" тюрьмы, и с этих пор мы были строго изолированы от всех других камер.
Я пробыл после этого в Бутырке еще почти пять месяцев - и за все это время в нашу камеру не ввели ни одного новичка, ни одной "газеты", ни одного из других камер, и число наше всё таяло и таяло, так что ко дню моего прощания с Бутыркой в нашей камере "карцерников" (так называли нас в тюрьме) нас оставалось только 18 "закоренелых преступников"...
Так отпраздновал я дни 7-8 ноября 1938 года, осенний пролетарский праздник воспоминаний о бедствиях претерпленных, так чествование мое в третий раз дошло до своей кульминационной точки. И это {372} при том "полном уважении", какое питал ко мне следователь лейтенант Шепталов... Оно и понятно: "хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, и стало быть что захочу, то с тобой и сделаю"...
Впрочем лейтенант Шепталов был тут не при чем: на этот раз так чествовало меня тюремное начальство.
XVI.
"Клуб культпросвета" - так стали мы называть и нашу камеру
No 113 - зажил обычной тюремной жизнью. Ввиду перенасыщенности клуба всякими докладчиками и лекторами, время в нем проходило быстро: лекции, рассказы, доклады, следовали "конвейером", и мы теперь не так уже опасались всевидящего ока - "глазка": что могли с нами, "карцерниками", поделать? Кроме того, мы были уверены, что среди нас нет больше "куриц".
И еще одним отличались последние месяцы 1938 года. Не имея под руками материалов, не могу точно установить, когда именно закатилась звезда расстрелянного или попавшего в сумасшедший дом Ежова. По-видимому, это произошло осенью 1938 года. Тюрьма стала это ощущать по одному признаку: прекратились резиновые допросы, физические аргументы стали редкими, а потом и крайне редкими; с начала 1939 года прекратились и они. Люди шли на допросы без перекошенных лиц и возвращались с допросов бодро. Это сразу же сказалось на эпидемии отказов от прежних вынужденных "сознаний": по пятницам десятками посыпались заявления о том, что нижеподписавшийся, вынужденный "сознаться" вследствие таких-то и таких-то истязаний, берет теперь свое сознание обратно и требует начала нового следствия, а о преступных действиях следователя сим доводит до сведения прокуратуры. Заявления эти попадали, конечно, в руки тех же самых следователей, но {373} последние принуждены были теперь давать им ход - начинать новое следствие; при этом дело чаще всего передавалось и новому следователю. Камера повеселела и приободрилась; к тому же и камера снова попалась светлая, солнечная, веселая, "с видом на Москву".
Прошел ноябрь; декабрь подходил к середине; наше число таяло: в "Клубе культпросвета" оставалось нас человек сорок - это после ста сорока-то год тому назад! Как-то раз открылась дверная форточка и корпусной прокричал мою фамилию. "С вещами" или "без вещей"? - Ни то, ни другое: он предъявил мне через форточку некий документ, в котором значилось, что законченное следствием мое дело передано в суд, и что я отныне числюсь не за НКВД, а за московской прокуратурой. За кем бы ни числиться, лишь бы делу конец! Прочел, расписался на документе, что он оглашен мне сего 15-го декабря, и стал ждать, когда и в чем проявит прокуратура свое отношение ко мне.
Ждать пришлось больше месяца. За это время мы успели встретить новый 1939-ый год - совсем не в том настроении, в каком встречали год проклятой памяти 1938-ой.
В "Клубе культпросвета" к новому году осталось нас человек тридцать - и мы встретили Новый Год довольно весело: после приказа "спать!" - улеглись и предоставили артисту эстрады до полуночи развлекать нас новогодними сценками и рассказами.
Окрики в дверную форточку не помогали, дисциплина в нашей камере явно падала; а, может быть, тюремное начальство снисходительнее относилось к "карцерникам".
25-го декабря после ужина меня, наконец-то, вызвали - "к прокурору"! Повели обычным порядком ("архангелы" к концу года были отменены) в знакомую мне следовательскую комнату в первом этаже. Сидевший за письменным столом штатский {374} пожилой человек лет пятидесяти, вида вполне "интеллигентного", с усталым лицом и пристальным взглядом, удивленно посмотрел на меня: оборванца в таких лохмотьях трудно было признать за писателя.
- Вы Иванов-Разумник? - спросил он меня, и на мой утвердительный ответ рекомендовался: - Я - товарищ прокурора московского округа (назвал свою фамилию, которую теперь не припомню), мне поручено допросить вас перед передачей дела в суд. Вы ознакомились с обвинительным актом и с материалами своего дела?
"Дело" мое, разбухшая от бумаг папка в синей обложке, лежало перед ним на столе.
- Нет, не ознакомился, - ответил я.
- Как так? - удивился прокурор. - Следователь НКВД обязан был по окончании следствия предъявить вам для прочтения все дело.
- Следователь тут не при чем, - сказал я: - в "деле" этом вы, вероятно, не обратили внимания на самую последнюю бумагу о том, что от ознакомления с делом я отказался.
Прокурор раскрыл "дело" и нашел этот листок.
- Вы имеете право ознакомиться с делом и теперь.
- И теперь не желаю.
- Ваши мотивы?
- Мотивы те, что я считаю все материалы этого дела с начала и до конца подложными, а показания против меня ряда свидетелей - вынужденными из-за палочных методов допроса следователями НКВД, что вам, конечно, хорошо известно.
- Вы ни в чем не пожелали сознаться?
- Мне не в чем было сознаться. Каждое показание против меня я опроверг вполне убедительными доводами, но следователь лейтенант Шепталов не пожелал заносить их в свои протоколы.
- Он не имел права не занести в протоколы ваших контр-показаний. Можете привести примеры?
{375} - Сколько угодно.
И я стал перечислять их один за другим, а прокурор тщательно записывал все эти мои "контр-показания". Я указал, что не присутствовал на Съезде Советов в апреле 1918 года, а когда потребовал очной ставки с лжесвидетелем - мне ее не дали. Подчеркнул, что опровержением самой возможности моей "контрреволюционной" речи в то время является одновременное появление моей книги "Год Революции" - с этой книгой следователь не пожелал ознакомиться. Ответил, что по дикому обвинению в тайном, "с контрреволюционными целями" свидании с академиком Тарле - очной ставки с ним не получил, точно также как и по не менее дикому обвинению в покупке берданки. По поводу обвинения участия в мифическом съезде группы эсеров в Москве летом 1935 года не было запрошено ни саратовское ГПУ, ни мой саратовский квартирохозяин, которые могли бы подтвердить, что я ни на один день не отлучался из Саратова за все время моей трехлетней ссылки. И так далее, и так далее, и так далее...
Прокурор тщательно записал пункт за пунктом. Потом перечел написанное, перелистал "дело" и стал писать какое-то заключение. Закончив, сказал:
- Прокуратура не может принять от НКВД дела в таком виде. Придется направить его к доследованию.
- Куда направить?
- Обратно в НКВД.
- Благодарю вас! Я год и три месяца просидел в тюрьме, числясь за НКВД "в порядке предварительного следствия", а теперь вы снова передаете дело в НКВД, чтобы он начал сказку про белого бычка с начала! Ведь это "его же царствию не будет конца"!
- Ничего не могу сделать, - ответил прокурор, - дела в таком виде я принять не могу. Будем надеяться, что на этот раз новое следствие пойдет скорее. Не имеете ли какого либо заявления?
- Заявления не имею, но имею просьбу, - {376} сказал я, - Вы сами видите, в каком виде я нахожусь. Вот уже год с третью, как я лишен денежных передач. Прошу, чтобы жене моей дали знать, где я нахожусь, и разрешили бы мне получать денежные передачи.
- Адрес, имя и отчество? - спросил прокурор и записал их. - Ваша жена будет извещена и денежные передачи вы будете получать, могу обещать вам это, но, к сожалению, это и всё, что я могу для вас сделать.
- Это будет более, чем достаточно, позвольте поблагодарить вас, - ответил я прокурору, и свидание наше было закончено. Меня отвели обратно в камеру, где товарищи жадно набросились на меня: я был первой ласточкой, долетевшей из НКВД до прокурора - и, к сожалению, снова прилетевшей обратно.
Я разочаровал своих товарищей, но и сам был разочарован: возвращение под власть НКВД мне весьма не нравилось. Но, быть может, оказалось, что все к лучшему в сем лучшем из миров... Через неделю, в конце января, корпусной снова предъявил мне прежним порядком в форточку новый документ, в котором меня извещали, что дело мое возвращено из прокуратуры на доследование и что я теперь снова числюсь за НКВД. Прочел и расписался. В этой неприятности слегка утешала меня только мысль, что лейтенант Шепталов получил из-за меня некоторый афронт: прокуратурой признано, что следствие ведено им (мягко выражаясь) неудовлетворительно. Уверен впрочем, что на его служебной карьере в НКВД это ни в какой мере не отразилось.
Прокурор сдержал свое слово: через месяц с небольшим я, действительно, получил первую денежную передачу в 50 рублей, и, к великой своей радости, узнал из этого, что следователь Спас-Кукоцкий не обманул, и что жену мою действительно "никто не трогал"; да и В. Н. впервые узнала, что за эти полтора года меня тоже "никто не трогал" из тюрьмы. Но, {377} чтобы рассказать об этом, надо вернуться на полтора года назад.
Узнав о моем аресте, В. Н. через три месяца, в конце декабря 1937 года, поехала из Царского Села в Москву, чтобы попытаться навести обо мне справки: раньше трех месяцев со дня ареста никому никаких справок о заключенном не давали. Попала в Москву в день самого разлива волны декабрьских арестов: накануне ночью было арестовано несколько сот человек, и первое, что В. Н. увидела у Лубянки - толпу человек в пятьсот растерянных и плачущих женщин, мужья, сыновья или братья которых были арестованы в эту ночь.
Никаких справок они, конечно, не получили, а В. Н. и не пыталась получить их на Лубянке. После тщетных поисков меня по разным тюрьмам - в том числе и в Бутырке, - после долгих скитаний и разведывании, узнала, наконец, что справку обо мне можно получить там-то, у такого-то прокурора НКВД. Явилась к нему на прием, дождалась очереди и объяснила свое дело: ищет арестованного три месяца тому назад и без вести пропавшего в Москве мужа. Прокурор отыскал "дело", достал синюю папку, на обложке которой красным карандашом ярко значилось мое имя, заглянул в папку и кратко сказал:
- Сослан. Получите письмо от него из лагеря.
Спрашивать, за что сослан, куда, надолго ли - было бы излишним трудом. Хорошо и то, что узнала: сослан "с правом переписки"! А я-то сидел в это время в Москве, в Бутырке, не подозревая, что уже сослан куда-то ретивым прокурором.
Так и неизвестно: намеренно ли он обманул, чтобы только отвязаться, или только немного предвосхищал события, а ссылка моя в концлагерь была в это время уже предрешена. Но к частью, повторяю, на этот раз теткины сыны торопились со мною медленно.
Надо было вооружиться терпением и ждать письма "с момента ссылки". Но прошел год, прошло полтора года - письмо не приходило. В самом начале {378} марта 1939 года В. Н. снова поехала в Москву, а приехав получила вдогонку телеграмму из Царского Села о том, что на ее имя пришла бумага от московского прокурора с извещением о пребывании моем в Бутырской тюрьме. Оказалось, что я целых полтора года просидел в Бутырке, в то время как В. Н. ждала от меня письма из какого-нибудь сибирского концентрационного лагеря! Немедленно же отправилась она в Бутырку, где в канцелярии беспрекословно приняли от нее 50 рублей на мой "текущий счет". Принимавший деньги чин, найдя в картотеке мое имя и краткую анкету, ворчливо заметил:
- Чего же это вы, гражданка, полтора года зевали да ждали, денег не передавали?
Не стоило объяснять ему, что в этой самой Бутырке на справку обо мне больше года тому назад ответили, что такого заключенного в списках тюрьмы не значится (это было, очевидно, распоряжением следователя). А теперь, когда В. Н. в ответ на его слова, попросила разрешения передать больше пятидесяти рублей, чтобы загладить этим свою полуторагодовую преступную небрежность и забывчивость - чин ответил категорическим отказом: больше пятидесяти рублей в месяц вносить не разрешено.
Так через полтора года и узнали мы с В. Н. друг о друге: я - что ее, действительно, "никто не трогал", она - что меня тоже пока еще "никто не трогал" из Москвы.
Впрочем скоро "тронули" - если и не из Москвы, то из Бутырки: мне оставалось провести в ней меньше месяца. Этот последний месяц был проведен в условиях исключительных: число наших сокамерников всё таяло и таяло, хотя "на волю" еще никто, по-видимому, не выходил, а если и выходил, то это был редчайший случай, как это и раньше за все полтора года бывало. Уходили из камеры главным образом по двум направлениям: одних переводили в другие тюрьмы, других отправляли "на суд".
{379} Перевод в другие тюрьмы был связан с указанной выше эпидемией конца 1938 года - повальным отказом от вынужденных ранее "сознаний". В таких случаях следователь вызывал подавшего заявление и пытался уговорами и угрозами заставить заявление взять обратно; но так как уговоры эти не сопровождались более палочными аргументами, то успеха не имели. Тогда дело передавалось новому следователю, следователи же были прикреплены к разным тюрьмам - к Бутырской, Таганской, Лубянской и иным. Для нового следствия заключенного переводили в ту тюрьму, к которой был прикреплен следователь.
Других уводили "на суд" - в тех случаях, если прокуратура соглашалась принять дело от НКВД. Тогда в один прекрасный день нашего товарища по камере уводили "с вещами" и о дальнейшей судьбе его мы ничего не знали. Но бывало, что в тот же день подсудимый снова возвращался "с вещами" в нашу камеру: суд либо отложил дело, либо снова отправлял его на доследование обратно. Вернувшиеся красочно рассказывали о суде, но рассказы эти выходят за пределы моей темы.
Так или иначе, но факт оставался фактом: камера наша все редела и редела. Теперь, к весне 1939 года, нас в "Клубе культпросвета" оставалось всего 18 человек! И мы стали именовать нашу камеру "Клубом закоренелых преступников".
В один, действительно, прекрасный февральский день мы получили неожиданный приказ: "Все с вещами!" Неужели же обычный повальный обыск со всеми его ухищрениями? Быть может, такой обыск бывал только в середине глубокой ночи! Нет, не обыск! Нас провели по тому же коридору и распахнули перед нами дверь одной из соседних камер. Боже, какое великолепие! Вместо деревянных нар подъемные полотняные койки на железных стержнях, 24 койки по дореволюционной норме, по койке на каждого из нас, да еще шесть пустых коек, которые мы {380} немедленно подняли к стене, образовав таким образом в передней части камеры "зал для прогулок". Мы разместились по прежнему стажу. Мне, тюремному старожилу, досталась лучшая койка у окна, "с видом на Москву". Как дети, радовались мы новой игрушке, каждый своей койке, и долго не могли нарадоваться и привыкнуть к такому великолепному обороту в нашей жизни! Впрочем, тюремные сидельцы имеют психологию детей: пустяк их огорчает, пустяк и радует;
это еще Достоевский заметил.
В остальном жизнь наша, конечно, не переменилась, вот только "культурная деятельность" стала затруднительной: осталось нас мало, мы пересказали друг другу, кажется, всё, что знали. К концу марта месяца было даже выдвинуто предложение - переименовать наш "Клуб культпросвета" в "Клуб беспросвета", но предложение это было отклонено большинством голосов, и мы решили, "напрячь последние силы", чтобы сохранить за клубом прежнее наименование. Каждый постарался найти или припомнить новые темы, но я, по французской поговорке j'ai epuise tout mon latin. В таком трудном положении я решил подробно рассказать камере "написанный" мною (в голове) шесть лет тому назад, в одиночке петербургского ДПЗ, авантюрный роман "Жизнь Полторацких", выдав его за прочитанный мною роман зарубежного издания. Роман был длинный и занял несколько вечеров. К одному из дней конца марта я довел рассказ до самой драматической точки, и камера с нетерпением ждала вечера, чтобы услышать развязку этого "захватывающего дух романа"... Но в этот день, после обеда, неожиданно отворилась дверная форточка и дежурный по коридору выкликнул мое имя, прибавив: "с вещами!"
Как всегда - это было сенсацией, взбудораживавшей всю камеру: куда везут? Но на этот раз, пока я укладывал свои вещи, товарищи окружили меня и говорили о другом: стали просить - рассказать хоть {381} в двух словах развязку "романа"... Авторское самолюбие мое было приятно польщено, но досказать "роман" не удалось: дежурный стоял у форточки и торопил с отправкой. Пришлось наспех попрощаться с товарищами, бросить последний взгляд на уютную камеру (ведь вот до чего можно довести человека!) - и последовать за своим провожатым в неизвестность. Куда - Бог знает, но уж во всяком случае не на свободу.
XVII.
Повторение пройденного. Сдача казенного имущества. "Вокзал". Изразцовая труба. Обыск вещей. Обыск личный. "Встаньте! Откройте рот! Высуньте язык!" Анкетная комната. Вычеркивание из списков Бутырской тюрьмы. "Черный ворон". Ну, на этот раз окончательно - прощай Бутырка! Провел я в тебе день в день ровно полтора года...
" Куда везут? По всей вероятности, на Лубянку. Прошло уже два месяца после беседы с прокурором и передачи меня опять под высокую руку НКВД. За это время - ни одного вызова, ни одного допроса: обо мне опять забыли. Но вот теперь вспомнили и следствие должно начаться сначала - сказка про белого бычка...
Куда-то приехали. Вывели из "Черного ворона". Нет, не Лубянка - какой-то незнакомый тюремный двор. Повторение пройденного: канцелярия, подробная анкета, внесение в инвентарную книгу и в списки тюрьмы (какой? спросил - не ответили), обыск вещей, личный обыск - "разденьтесь догола!" (в который раз?), баня, выдача казенного имущества - одеяла, кружки, миски, ложки, - и меня повели какими-то переходами по первому этажу многоэтажной тюрьмы, распахнули в одном из коридоров дверь в камеру No 62.
После нашей последней парадной камеры в {382} Бутырке мне показалось, будто из светлых и просторных барских апартаментов попал я в мрачную и грязную людскую, к тому же набитую до отказа. Меня окружили, спросили - откуда? Я сказал, что из Бутырки и поинтересовался узнать, куда это я попал. Ответили: в Таганку!
Таганская тюрьма на противоположном конце Москвы была, по сравнению с Бутырской, во всех отношениях тюрьмой второго сорта. Камеры грязнее и темнее, к тому же в первом этаже, полы щербатые, асфальтовые, стены облезлые. Население битком набитой небольшой камеры - я был семьдесят первым - тоже второстепенно по сравнению с нашим "клубом закоренелых преступников": очень мало "шпионов", всё больше "вредители" разных рангов и степеней. Стаж их был тоже второсортным: не было ни одного, сидевшего более полугода, так что я со своим полуторагодовым стажем сразу же получил хорошее место на нарах, рядом с пожилым представительным человеком. Узнав мое имя, он сказал:
"Приятно, приятно получить в нашу камеру Разумника", на что я, узнав его фамилию, ответил, что и мне не менее приятно оказаться соседом доктора Здравомыслова. Доктор Здравомыслов, известный московский гомеопат, неудачно лечил жену одного из кремлевских заправил, за что и попал в тюрьму, как "вредитель". При мне уже получил он за это три года лагеря и отбыл из Таганки "в неизвестном направлении". Другим моим соседом оказался не менее известный московский окулист, доктор Невзоров, автор ряда научных работ, появлявшихся и в германских медицинских журналах. Это его и погубило: переписывался с Германией.
Был в камере одним из немногих "шпионов".
Еще запомнился мне в этой камере два священника. Как ни странно, а в многолюдном бутырском калейдоскопе за полтора года священника я не встретил ни одного. Первый из них, священник - {383} "обновленец", был упитанный, толстый, веселый, неунывающий человек. Считал свой арест "недоразумением", ничего не рассказывал о допросах и не говорил, в чем его обвиняли. Другой священник-тихоновец, молчаливый, благообразный и истовый старик, произнес неудачную проповедь о терпении, как долге христианина при всех земных напастях. "Земные напасти" большевики сочли камнем в свой огород и арестовали священника за контрреволюционную агитацию.
Остальные обитатели камеры были все мелкие "вредители", проворовавшиеся исполкомщики, неудачные взяточники и разная "контрреволюционная" мелюзга. Начальник пожарной команды какого-то московского театра недосмотрел короткое замыкание тока в зрительном зале, и хотя быстро потушил возникший пожар, но был произведен во "вредители"; скоро был выпущен "за прекращением дела". Повар "фабрики-кухни" отравил недоброкачественным студнем несколько десятков рабочих, и хотя продукты были выданы санитарным надзором кухни, однако был для острастки посажен в тюрьму; предстоял "показательный процесс". Молодой парень из подмосковного села в пьяной драке ударил бутылкой по голове председателя сельского совета "коммуниста" и попал в тюрьму за покушение на жизнь представителя большевистской власти. И еще, и еще - десятки подобных случаев прошли передо мною.
Быт Таганской тюрьмы ничем существенным не отличался от быта наших бутырских камер, только все было здесь второго сорта: и обеды, и ужины, и "лавочка", и грязная уборная, и баня. Нет, баня была даже не второго сорта, а чем-то похуже. Баня в Бутырке была праздником, баня в Таганке - наказанием. Нашу камеру водили в баню почему-то всегда в середине ночи. Надо было связать все свои вещи узлом в одеяло и, кроме того, тащить с собой тюфяки - полагался один на двоих. В бане тюфяки и узлы с вещами сдавались в дезинфекцию, а нас загоняли {384} в узкий, тесный и холодный предбанник, через силу вмещавший человек сорок, но в который втискивали нас и все семьдесят. Мы раздевались в невероятной тесноте, платье и белье сдавали тоже в дезинфекцию: стирать белье в этой бане не полагалось. Шаек и кранов с водой не было, было штук пятнадцать душей, под каждым одновременно мылось человек пять. А потом - мука с получением белья и платья, мука с одеванием среди дикой давки, мука с разбором развязанных одеяльных узлов с вещами. Измученные всем этим, возвращались мы под утро в свою камеру.
А один раз после бани нас ожидало и еще одно удовольствие: нам не позволили одеваться, оставили дрожать голыми в холодном предбаннике и стали поименно выкликать по списку; вводили по одиночке в соседнее и еще более холодное помещение, где молодая женщина-врач, несколько конфузившаяся, делала нам инъекции - прививку сыворотки против сыпного тифа. Через несколько часов после этой прививки все мы дрожали в потрясающем ознобе, вскоре сменившемся температурой до 40 градусов. В следующую баню эту инъекцию повторили. Удовольствие было ниже среднего.
Еще одно очередное мучение - стирка белья. Два раза в месяц камере раздавали металлические жетоны с номерами. Каждый заключенный должен был связать свое грязное белье в узел, прикрепить к нему веревочкой свой номерной жетон и сдать узел в стирку. Номера жетонов и фамилии владельцев записывались. Через несколько дней мы получали обратно свое уже выстиранное белье, но Боже, в каком виде! Оно было еще более грязное, чем до стирки, только желтым от дезинфицирующего хлорного раствора, смятым и разорванным. Жетоны были перепутаны, владельцы не могли отыскать свое белье, часто попадавшее и в другие камеры.
К счастью для меня, всеми этими таганскими удовольствиями мне пришлось наслаждаться только два {385} c половиной месяца. После образцовой Бутырской тюрьмы мне казалось, что я попал в провинциальную тюрьму где-то на окраинах России.
Но приходившие к нам в Таганку из провинциальных тюрем не могли нахвалиться нашим бытом - пищей, чистотой, порядком, отсутствием тесноты, вежливым обращением администрации. Можно себе представить, что там у них творилось! Вероятно, Бутырская тюрьма показалась бы им землей обетованной.
Так как эта камера No 62 Таганской тюрьмы была последней из всех обитавшихся мною, то теперь, прежде чем перейти к эпилогу и к рассказу о собственной судьбе, остановлюсь немного не на быте камеры, а на общем впечатлении от всего тюремного калейдоскопа. Прежде всего - мало молодежи и мало пожилых людей; большинство - люди цветущего, среднего возраста.
Затем - совершенно неожиданный вывод статистики, сделанный еще в камере No 45 нашим старостой, профессором Калмансоном, когда нас было в ней сто заключенных: среди этой сотни оказалось тридцать процентов коммунистов и тридцать процентов евреев.
Если иметь ввиду, что и коммунистов и евреев порознь во всем Советском Союзе не больше двух-трех процентов всего населения, то нельзя не удивиться этому чрезмерному проценту их в населении тюремном. При этом, конечно, не каждый из тюремных коммунистов был еврей, и не каждый еврей - коммунистом. Возможно, однако, что эта статистика в камере No 45 была случайной и исключительной.
Немногочисленные пожилые люди производили в общем хорошее впечатление: они прошли через горнила революции, через огонь и воду и медные трубы, многие из них побывали уже и в тюрьмах, и в ссылках, и в лагерях, - и тем не менее, большинство из них еще не утратили бодрости духа. Профессор Худяков, впавший в тихое и безвыходное отчаяние, {386} был среди них не правилом, а исключением, да и то многое можно было отнести за счет его тяжелой болезни.
Совсем иное впечатление производила молодежь, по крайней мере половина ее, но должен сразу оговориться: молодежи было очень мало и случалось так, что в нашей камере No 45 были сыновья высокопоставленных военных и штатских коммунистов. Очевидно, в этой среде юноши росли с детства развращенными сладкой жизнью и сознанием безнаказанности своих отцов. Юноши эти, лет семнадцати-восемнадцати сидели по обвинению "в недонесении" на своих родителей. С допросов возвращались веселые, рассказывали, как следователи угощали их чаем с пирожными, а они в благодарность за это подписывали любые оговоры на отцов, все, что приказывали им следователи. Камера относилась к ним с единодушным презрением. Юноши, как на подбор, оказались на редкость тупыми, ни один из них не вошел в какой-либо "кружок самообразования".
Они занимались между собой лишь разговорами о футболе и иных видах спорта и рассказывали друг другу сальные анекдоты. Отец одного из них был начальником штаба московского военного округа, отец другого - начальником милиции города Москвы, отец третьего - замнаркомом. К ним скоро присоединился и четвертый самый молодой в камере (ему было шестнадцать лет) и самый богатый. В тюремной кассе за ним значилось 17.000 рублей. Когда отец его, видный партиец, был арестован, жена с сыном стали распродавать вещи и обстановку; через две недели арестовали и их обоих.
"Я дал мамаше шестьсот рублей, а себе взял 17.000: на что ей? Она уже пожила всласть, надо теперь пожить и мне"... Заранее объявлял, что покажет на допросе все, что прикажет следователь, хотя бы пришлось утопить и отца, и мать: "Они свое от жизни взяли, а мне надо о себе подумать"... Все эти четыре юноши были законченные мерзавцы, достойный плод {387} коммунистического воспитания. В стороне от них держался и был приятным исключением сын помощника командующего московским военным округом Горбачева, уже расстрелянного по "делу Тухачевского": юноша вдумчивый, многим интересующийся; к своим развращенным сотоварищам и он относился с презрением.
Но это были дети развращенной партийной верхушки, обобщать эти наблюдения не приходилось. Рядом с ними в камере сидели и другие юноши (их тоже было не много - трое-четверо), например, мой многомесячный сосед, студент "троцкист" Зейферт, молодые люди по двадцать лет. Они с презрением смотрели на "партийных ублюдков" (по их выражению), интересовались наукой, искусством, литературой, философией, жадно расспрашивали о всем том, что было запретным плодом в круге высшего советского образования. На допросах вели себя стойко и часто возвращались с них, претерпев и удары, и издевательства, - вроде того студента, заболевшего ангиной, о котором я рассказал в своем месте. Они составляли часть тех "не сознавшихся", которых вообще не так много было в камерах.
Я уже указал, что за все время моего пребывания в тюрьме я насчитал только двенадцать человек, имевших мужество "не сознаться" даже после самых тяжелых резиновых допросов. Не сознаваться, если не применялись палочные аргументы заслуга не великая, но не сознаться, когда после допроса приходилось иной раз быть замертво доставленным в лазарет - совсем другое дело. Вот таких мужественных людей я насчитал всего двенадцать из тысячи, прошедших передо мною. Громадное большинство "во всем сознавшихся" относилось к этим единицам с явным недоброжелательством, хотя, может быть, и с тайным уважением. Но недоброжелательство брало верх. А, ты после истязаний все же не пожелал сознаться, а я вот не вытерпел, "сознался".
Ты значит {388} хочешь быть лучше меня? В забытом рассказе Леонида Андреева "Тьма" эта психология выражена в сжатой формуле - в словах проститутки, обращенных к революционеру: "Как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?" Надо сказать, однако, что недоброжелательство это никогда не проявлялось в грубых формах. Но в других тюрьмах оно, судя по рассказам, доходило до границ невероятного.
В середине 1938 года в нашу камеру No 79 попал привезенный из Челябинска и Свердловска "вредитель", просидевший по три месяца в тюрьмах каждого из этих городов. Он, конечно, пришел в восторг от "райских условий" нашей бутырской жизни, рассказал жуткие вещи о быте провинциальных тюрем в этих городах, где спешно были выстроены и новые тюремные бараки. Но бараки эти предназначались только для "уже сознавшихся". "Еще не сознавшиеся" сидели в тюрьме, где к ним применялись провинциальные методы воздействия - вроде тех, о которых рассказывал нам доставленный в Бутырку из Баку член азербайджанского ЦИК'а Караев. Если все эти воздействия все же не приводили к желанному результату, то упорствующему говорили: "Ну, хорошо же, завтра переведем тебя в барак No 1". Это был барак "сознавшихся", знаменитый на всю тюрьму. Староста в нем был некий звероподобный грузин, вполне усвоивший себе формулу андреевской проститутки. Упорствующего доставляли в этот барак и сообщали: "Вот этот не хочет сознаваться!" - "А, ты не хочешь сознаваться, а я вот сознался? Ты хочешь быть лучше меня? Как ты смеешь быть хорошим, когда я плохой? Ну погоди же!"
- И начинались пытки, перед которыми бледнели все тюремные истязания. Грузин начинал с того, что сажал упорствующего по горло в полную мочой бочку парашу и держал в ней его сутки. Если это средство не помогало, начинались пытки, о которых и вспоминать не хочется... Слава барака No 1 была столь велика, что многие {389} упорствовавшие в тюрьме, предпочитали "сознаться" при первой же угрозе отправки их в этот барак... Грузин был зверь и выродок. Но весь барак, сотни людей смотрели и видели, некоторые, быть может, помогали, некоторые быть может злорадствовали... Вот до какого озверения может довести людей озверевшая советская власть!
Можно спросить: как же при всем этом люди сохраняли еще свой разум, не сходили с ума? Многие сходили. И еще удивительно, что в общем лишь небольшой процент заключенных заболевал душевно. Впрочем, для них, тихих и буйных, было отведено в Бутырке обширное помещение. Кандидатов в "тихие" мы не один раз наблюдали среди наших сокамерников. Сидит человек и горько плачет, не переставая, никакие утешения и уговоры не помогают. Или в полном отчаянии сидит молча, уставясь глазами в одну точку, сидит часами, отказываясь от еды, не вступая в разговоры, не отвечая на вопросы. Потом то один, то другой из них, вызванный на допрос "вез вещей", больше не возвращался в камеру. Дежурный по коридору приходил за их вещами и уносил их куда-то. Ну, значит - попал уже бедняга, в тихое или буйное отделение. А о "слегка тронутых", вроде румынского летчика, или инженера Пеньковского, я уж и не говорю.
Когда меня в ноябре 1937 года отправили в первый раз на Лубянку, я, в ожидании отправки, часа три просидел в изразцовой трубе бутырского "вокзала". В соседней трубе безумолчно гудели два голоса: тоненький фальцет и густой бас. Что-то невероятное: в соседней трубе происходил как будто настоящий допрос!
- Так ты, мерзавец, ни в чем не хочешь сознаваться? - гремел бас.
- Товарищ следователь, ну как же я могу признаться?.. Верьте моей совести, ни в чем, то есть ни в чем не виноват! Ах, Господи Боже Ты мой, ну как {390} мне, ну как же мне убедить вас, дорогой товарищ следователь! - жалобно плакался фальцет.
- Я тебе не "товарищ", сукин ты сын! Вот тебе! Получай за "товарища"! раздался гулкий звук оплеухи.
- Господин следователь...
- Получай за "господина"!
- Гражданин следователь, ради Бога не бейте меня!
Я долго пребывал бы в полном недоумении, если бы не раздался стук в соседнюю дверь и окрик: "Не шуметь в изоляторе!" Голоса смолкли, но через минуту-другую диалог возобновился в прежних тонах. Душевнобольной разыгрывал сцену в лицах: густой бас - это был "следователь", плачущий фальцет - он сам допрашиваемый... И неужели же этого больного человека тоже везли на допрос в Лубянку? Или, может быть, наоборот - из Лубянки привезли его в Бутырку, в камеру душевнобольных?
У многих из нас возникал вопрос: знают ли кремлевские заправилы о нависшем над всем Советским Союзом кошмаре избиений и пыток в тюрьмах?
Надо полагать, что Кремль не мог не знать о всех тех преступлениях, какие именем его, творились по всем закоулкам страны, начиная с первопрестольной столицы. А если не знал - тем хуже: чего стоит такая власть, которая не знает, что творится именем ее среди бела дня, в пяти минутах ходьбы - от Кремля до Лубянки!
XVIII.
Сказка про белого бычка началась для меня в середине апреля: меня вызвал на допрос новый следователь, сменивший собою лейтенанта Шепталова. Такого же возраста, как и Шепталов, но небольшого роста, более юркий и подвижный, "старший следователь Чвилев" (как он отрекомендовался) на первом же допросе обнадежил меня следующим сообщением:
{391} - Мы очень разгрузим ваше дело: значительную часть материала мы просто выбросим за борт. Ну вот, например, - он стал перелистывать синюю папку с "делом", - вот, например, покупали вы или нет берданку - это оставим в стороне, тем более, что очной ставки со свидетелем дать вам не могу, он выбыл из Москвы. По той же причине не могу дать вам очной ставки со свидетелем вашего контрреволюционного выступления на Съезде Советов в Москве, в апреле 1918 года. Оставим в стороне и дело о свидании с академиком Тарле, - ну, это по особым причинам. Выбросим и обвинение в участии в московском съезде группы эсеров летом 1935 года, так как наведенные справки подтверждают, что все это время вы, действительно, не выезжали из Саратова. И еще одно за борт: саратовские эсеры взяли назад свое показание о вашем авторстве известной вам прокламации. А обвинение вас каширским соседом о предосудительных разговорах с неизвестными лицами не заслуживает большого доверия...
Остается немного, но достаточно веское, о чем мы потолкуем с вами в следующий раз. Но сперва мне хотелось бы уяснить себе, чем вы были заняты не десять и двадцать лет тому назад, а вот в самый последний год перед вашим арестом, когда вы жили в Кашире и так часто проживали днями в Москве, не имея на это, прибавлю, никакого права...
После этого предисловия он взял лист бумаги и стал записывать все то, что я ему рассказал о моей работе в 1936-1937 году для Государственного Литературного Музея. Спросил фамилию директора. Поинтересовался - есть ли в библиотеке Музея мои книги? Вон оно куда пошло! По-видимому, у этого старшего следователя Чвилева было время читать "всякий контрреволюционный вздор" !
Заполнив все это, он отпустил меня с обещанием "вплотную заняться" моим делом. Весь допрос продолжался не более часа, и старший следователь {392} Чвилев напутствовал меня словами: "До скорого свидания!". Это скорое свидание состоялось, однако, только через месяц, в середине мая, когда тюремному сидению моему пошел уже месяц двадцатый.
За это время много событий свершилось и в самой тюрьме, и за ее стенами. В Таганской тюрьме мы стали замечать, что каждую субботу вечером вызывают поодиночке то одного, то другого "с вещами". По верным тюремным признакам мы знали, что эти субботние счастливцы идут на свободу... Ничего подобного не приходилось наблюдать в Бутырке. Это нисколько не мешало тому, что одновременно с освобождением единиц на волю, десятки шли обычным порядком по этапу в концлагери. При мне в камере No 62 это произошло два раза, в апреле и мае: каждый раз вызывали "с вещами" сразу по пятнадцать человек. Во вторую из этих этапных партий попал и мой сосед по нарам, доктор Здравомыслов, к которому питаю живейшую благодарность: так внимательно старался он разными тюремными микстурами поправить мое значительно пошатнувшееся здоровье. Камера наша редела; к июню месяцу в ней оставалось лишь тридцать человек.
А за стенами тюрьмы в это время происходили следующие, касающиеся меня события. Передав в бутырский тюремный банк на мое имя 50 рублей в марте месяце, В. Н. уехала домой в Царское Село, откуда в начале апреля отправила мне почтовым переводом такую же сумму по старому адресу, в Бутырку. Но вскоре перевод вернулся к ней обратно с пометкой: "Адресат выбыл". Куда? Чтобы узнать это, В. Н. в начале мая снова отправилась в Москву. В Бутырке ей подтвердили только, что "выбыл", а куда - не могли или не хотели сообщить; это же их не касается. На Лубянке тоже не удалось ничего добиться. Наконец, В. Н. узнала, что все такие справки теперь сконцентрированы в канцелярии областной московской тюрьмы, адрес которой носит {393} идиллическое название "Матросская Тишина". Отправилась в "Матросскую Тишину" и узнала, что я переменил местожительство - переведен в Таганку. Немедленно направилась туда и там у нее приняли 50 рублей на мой месячный "текущий счет". Значит, верно, я в Таганке.
Затем В. Н. отправилась в Коллегию защитников, чтобы поручить одному из ее членов ведение моего "дела". Там любезно согласились взять все хлопоты на себя, но для этого предложили сперва узнать - по какой статье или по каким статьям предъявлено мне обвинение?
В. Н. снова вернулась в "Матросскую Тишину" и добилась нужной справки, которая не мало ее поразила: оказалось что мне еще... не предъявлено никакой статьи! И это после двадцатимесячного содержания в тюрьме "под предварительным следствием"! С такими неутешительными - или утешительными? - сведениями вернулась В. Н. в Коллегию защитников, где были немало удивлены таким сообщением и заявили, что пока статья не предъявлена - Коллегия защитников лишена возможности взять на себя ведение дела; вот когда предъявят статью "мы к вашим услугам"...
Наконец последнее, что посоветовал В. Н. сделать один московский друг, писатель, сам недавно испытавший прелести Таганки: она отправила Молотову и "самому Сталину" по экземпляру первого тома моей монографии о Салтыкове-Щедрине с приложением писем, в которых указывала, что автор этой книги, ее муж, вот уже двадцать месяцев сидит в московских тюрьмах без предъявления ему обвинительного акта и статьи.
Больше В. Н. ничего не могла сделать - и вернулась домой в Царское Село ожидать не у моря непогоды.
В это самое время "вплотную занялся" моим делом и старший следователь Чвилев. Как я потом узнал, {394} он отправился в Государственный Литературный Музей и попросил его директора, В. Д. Бонч-Бруевича, дать обо мне и моих литературных работах исчерпывающую справку. Мне рассказывали потом сотрудники и сотрудницы Музея, что после этого посещения В. Д. Бонч-Бруевич всех их поднял на ноги: посылал в Ленинскую библиотеку (бывший Румянцевский Музей) за нужными для моей литературной характеристики книгам, давал перестукивать на машинке выдержки из них и отдельные части составляемой им обо мне литературной "справки". Она вышла объемистой, размером с целую большую статью в два печатных листа. Вот было интересно прочитать такую исчерпывающую критическую статью о самом себе! Но она была передана старшему следователю Чвилеву при вторичном посещении им Музея. Думаю, что этой статье я в значительной степени обязан своим освобождением. Конечно, в "ежовские времена" она не произвела бы никакого эффекта, но теперь времена слегка изменились: как раньше попал я в волну арестов, так теперь выплыл на свет божий в волне освобождений.
Старший следователь Чвилев не ограничился этим: он пожелал прочитать мою книгу "Год Революции", быть может, в чаянии найти там какие-нибудь "контрреволюционные" места. Достал эту книгу в Ленинской библиотеке и сделал из нее ряд выписок, которых и приложил к моему "делу". Выписки эти были совершенно неожиданного содержания, как я увидел это на следующем допросе.
Он состоялся в середине мая. В следовательской камере, кроме Чвилева, находился еще один молодой человек в военной форме, - не то помощник старшего следователя, не то обучавшийся следовательскому делу новичок, молчаливый ассистент. Чвилев встретил меня словами:
- Ну-с, теперь я достаточно ознакомился и с вашим делом и вообще с вашей деятельностью. Должен {395} сказать, что часть материалов, которые мы в прошлый раз выбросили за борт только для облегчения нашего судна, теперь отпала бы и по другой причине - в виду отсутствия состава преступления. Вот, например, обвинение в контрреволюционной речи в апреле 1918 года. Из вашей книги "Год Революции", вышедшей как раз в то время, я мог убедиться, что такое обвинение не имеет под собой оснований. Я сделал ряд выписок из этой книги и приложил к делу. Вот, прочти, - обратился он к своему молчаливому ассистенту, - это занятно!
Тот стал читать ряд перестуканных на машинке страниц, некоторые строки были густо подчеркнуты красным карандашом. Мне тоже было "занятно", что "занятного" нашел следователь в моей книге и какие выписки из нее сделал? В этом дневнике революции 1917 года есть заметка под заглавием "Улица", помеченная 8-м июля, написанная после неудачного июльского восстания большевиков. В ней я с негодованием отзываюсь о брошенном тогда В. Л. Бурцевым обвинении Максима Горького и Ленина в том, что они - шпионы, подкупленные немецкими деньгами. Я полагал, что именно это место и ему подобные выписаны следователем Чвилевым, и спросил его:
- Можно узнать, что именно выписано вами из моей книги?
- Да так, ничего особенного. Это ряд ваших отзывов о Максиме Горьком: занятно, очень занятно!
В книге, действительно, была полемическая заметка о Максиме Горьком, как публицисте. В ней, насколько помню, указывалось, что в 1914 году этот путанный человек был "оборонцем", в 1917 году стал "интернационалистом", а потом струсил Октябрьской революции и стал писать "Несвоевременные речи". Не лучше ли ему, Максиму Горькому, бросить публицистику, в которой он так бездарен, и вернуться к художественному творчеству, в котором его сила? Мне было "занятно", что все это показалось {396} "занятным" теткиным сынам. Не в первый раз замечал я, что отношение партийных людей к этому писателю бывало не только отрицательным, но иногда даже и враждебным.
- Так вот, - продолжал между тем старший следователь Чвилев, - мы выбросили за борт весь обвинительный балласт, но после него остался серьезный и тяжелый груз - показания против вас Ферапонта Ивановича Седенко-Витязева. Их за борт не выкинешь, они остаются в полной силе.
Я ответил, что остается в силе и прежнее мое заявление: всё, что в этих показаниях касается меня - дикий бред. Установить правду можно только очной ставкой с Седенко, в которой мне было отказано. К тому же я далеко не уверен, что он теперь не взял обратно свои показания.
- Очная ставка продолжает оставаться неосуществимой, взять обратно свои показания он не мог, а потому давайте-ка шаг за шагом пройдем за всеми его выставленным против вас обвинениям.
И мы стали "шаг за шагом" проходить по всем протоколам допросов Витязева-Седенко. Это был самый длительный допрос, выдержанный мною (если не считать памятной ночи со 2-го на 3-е ноября): допрос продолжался от обеда и до ужина. На каждое обвинение я отвечал решительным его отрицанием, приводя ряд доводов. Всё это подробно закреплялось в протоколе допроса, продолжавшегося шесть часов. К концу его оба мы устали. Молчаливый ассистент давно уже дремал на своем стуле. Заканчивая допрос и как бы подводя ему итог, старший следователь Чвилев бросил:
- А впрочем - Ферапонт Иванович был сволочь порядочная!
Меня больно кольнуло и грубое ругательство, и слово "был", как бы подтверждающее, что Седенко-Витязева нет уже в живых. Но жив он или нет - был он человек честный, убежденный, был энергичный и {397}
самоотверженный политический и литературный деятель. Это я и высказал лейтенанту Чвилеву (к слову сказать - он, как и Шепталов, тоже был лейтенантом). Чвилев ничего на это не ответил и, отпуская меня, пообещал:
- Скоро увидимся!
Я давно уже привык к теткиному "скоро", - ведь еще в августе 1938 года следователь сообщил мне, что теперь "ждать уже недолго" и что я "скоро" покину стены тюрьмы. И вот теперь - май 1939 года, девять месяцев прошло, срок женской беременности, а я всё еще не могу родиться на свет божий из чрева тюрьмы - куда бы то ни было: в изолятор, в концлагерь, в ссылку, на свободу...
XIX.
На этот раз "скоро" продолжалось только месяц. Суббота 17 июня 1939 года была для меня многознаменательным днем. Начать с того, что после ужина, в совершенно неурочное время, меня выкликнули в дверную форточку и вручили денежную квитанцию на 50 рублей. Обыкновенно, такие квитанции выдавались гуртом, десяткам заключенным сразу, и всегда по утрам. Кто-то из товарищей сказал:
- Торопятся. Это значит, что сегодня суббота, выпускают на свободу...
И действительно - свершилось...
В десятом часу вечера после поверки, когда мы уже собирались ложиться спать, меня выкликнули - "с вещами"! Камера тихо загудела: "На волю, на волю", раздались поздравления и пожелания. Я, однако, решил не поддаваться этой уверенности, чтобы не испытать горького разочарования: а, может быть, переводят в другую тюрьму? В коридоре у меня отобрали казенные вещи - одеяло, кружку, миску, ложку - и повели не в обычную следовательскую комнату во втором этаже тюрьмы, а к канцелярии и выходу.
{398} Там велели сложить вещи в небольшой пустой камере, а меня повели в соседнюю, где за письменным столом уже восседал лейтенант Чвилев. Перед ним на столе лежала синяя папка с моим "делом".
- Дело ваше закончено, - сказал он мне. - Тщательно обсудив все его обстоятельства, рассмотрев его всесторонне, советская власть, народный комиссариат внутренних дел и коммунистическая партия решили: приговорить вас...
Тут он сделал эффектную паузу: приговорить - к чему? К расстрелу? К изолятору? К концлагерю? К ссылке? - Но, выдержав паузу, он торжественно закончил:
- Приговорить вас - к освобождению!
Безграмотно, но эффектно.
Поблагодарив в его лице "советскую власть, народный комиссариат внутренних дел и коммунистическую партию" за суд скорый и милостивый, я спросил старшего следователя Чвилева - будут ли мне возвращены бумаги, взятые при обыске? Он перелистывал мое "дело" (на синей обложке которого я прочел надпись красным карандашем: "к прекращению") и дал мне прочитать акт о сожжении взятых у меня при обыске материалов, как "не имеющих отношения к делу"... Погибли толстые тетради житейских и литературных моих воспоминаний, которые я писал в течение трех лет! Как жалко было затраченного труда! Право, я готов был бы еще месяцы просидеть в тюрьме, лишь бы получить обратно эти мои тетради...
Критически оглядев меня и мой костюм, следователь Чвилев недоуменно заметил:
- Как же вы в таком виде пойдете по улицам Москвы?
Действительно, вид был возбуждающий сожаление: брюки "галифе" с заплатами - еще куда ни шло, а вот пиджак представлял собою нечто неописуемое. Кроме того - в Таганской тюрьме я ни разу {399} не стригся и не брился. Вид лица совершенно соответствовал виду костюма. А если прибавить к этому, что, просидев двадцать один месяц в тюрьме, я за последние пятнадцать месяцев ни разу не выходил из камеры на прогулку, то можно себе представить, как я должен был выглядеть...
- Ничего, - успокоил я следователя, - пиджак я сниму, а одену купленную в лавочке рубашку, подпояшусь веревочкой... А к тому же - мне решительно все равно, что подумает обо мне публика.
- Вам все равно, но нам не все равно. Скажут - вот в каком виде выпускаем мы людей из тюрьмы!
Этому разговору приписываю я то обстоятельство, что процедуру выпуска моего из Таганки намеренно задержали до часа ночи, когда народа не так уж много на улицах Москвы.
Старший следователь Чвилев, прощаясь, напутствовал меня:
- Ну, желаю вам никогда больше не попадать к нам!
- Это зависит не от меня, а от вас, - ответил я, прощаясь с ним на ходу.
Меня отвели в соседнюю камеру, где лежали мои вещи. В ней я просидел долго. Странное дело: не испытывал никакого прилива бурной радости. Чувства были притуплены. Думалось только: ну, слава Богу, дело кончено...
Через час пришел нижний чин для обыска. Тщательно рассмотрел все мои вещи. Потом - "разденьтесь догола!" - и начался в последний раз столь знакомый и всегда столь унизительный ритуал. На берег радостный выносит мою ладью уж не девятый, а пятьдесятый вал. Нижний чин ушел, я оделся и снова долго ждал. Потом он явился, велел оставить вещи в камере, и повел меня через двор к корпусу квартир высшего тюремного начальства. Поднялись в третий этаж. Во втором этаже, квартира коменданта, играли на рояле, {400} раздавались звуки веселых голосов. Странно было слышать все это в стенах тюрьмы... В третьем этаже - канцелярия коменданта, меня ввели в его кабинет. Часы показывали одиннадцать. Комендант, усатый старик, вероятно, служака еще царских времен, глядя на лежащий перед ним лист анкеты, стал экзаменовать меня: фамилия, имя, отчество, когда арестован... На мой ответ - "29 сентября 1937 года" - еще раз переспросил и, посмотрев на меня, покачал головой: вероятно такие сроки заключения были необычны для Таганской тюрьмы. Затем он подписал ордер о моем освобождении, передал его конвоиру, который повел меня в соседнюю комнату, где стрекотали пишущие машинки и какой-то тюремный чин сидел за письменным столом.
Он огласил бумагу - мое обязательство: никогда, никому, даже самым близким людям, не рассказывать о том, что я видел и слышал в тюрьме или сам пережил в ней; неисполнение обязательства грозило арестом и новым возвращением в тюрьму, без надежды когда-либо выйти из нее. Я молча подписал обязательство. Как же, однако, боялись "советская власть, народный комиссариат внутренних дел и коммунистическая партия", что их тюремно-пыточная правда выйдет когда-нибудь на свет божий! Но, по словам Писания, нет ничего тайного, что не стало бы явным...
Конвоир отвел меня в прежнюю камеру и ушел. Прошел еще час. Но тут события пошли уже быстрым темпом. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, еще раз опросили по анкете, потом вернули мне чемодан, часы, паспорт, золотое обручальное кольцо (все эти вещи, неведомо для меня, переезжали за мной из Бубырки на Лубянку, оттуда обратно в Бутырку, оттуда в Таганку; надо воздать честь образцовой постановке дела в тюремных кладовых). Взяли у меня денежные квитанции, взамен которых выдали все причитающиеся мне по моему тюремному "текущему {401} счету" деньги, что-то около семидесяти рублей с копейками. Потом начальник канцелярии вручил мне освободительный документ. Этот листок лежит теперь передо мною:
СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ НКВД
по
Московской обл.
1-й Спецотдел
"17" июня 1939 г.
No 394
С п р а в к а
Выдана гр. Иванову Разумнику Васильевичу, 1878 года рожд., уроженец г. Тбилиси в том, что он с 29 сентября 1937 г., содержался под стражей и 17 июня 1939 г. освобожден в связи с прекращением дела.
Справка видом на жительство не служит.
Нач. 1-го Спецотдела УНКВД МО
(подпись)
(печать)
В этом документе особенный интерес представляет номер исходящей бумаги: судя по нему, можно предположить, что за полгода, с начала 1939 года, из Таганской тюрьмы вышло на волю 393 человека; я был 394-ым. Скромное число, если сравнить его с общим числом заключенных в этой тюрьме, с числом депортированных за эти же полгода в ссылки, концлагеря, изоляторы!
Но - все хорошо, что хорошо кончается. Освобожден в связи с прекращением дела, без предъявления статьи обвинения и за отсутствием состава преступления, просидев за это в тюрьме только 21 месяц... И как мало счастливцев, дела которых закончились бы столь же быстро - столь же благополучно!
{402} Наконец, все формальности закончены. Уже час ночи. Я беру свои вещи - в одной руке чемодан, в другой связанная в узел шуба с меховой шапкой - и конвоир ведет меня широким коридором к железным воротам и железной калитке тюрьмы. Там вооруженная стража проверяет ордер о выпуске -и я на улице, глухом и безлюдном Таганском переулке. Прощай, тюрьма!
Эти места Москвы мне совершенно незнакомы, но язык до Киева доведет. Где-то вдали гудит трамвай, он ходит до двух часов ночи. Добираюсь после ряда пересадок и ожиданий у трамвайных остановок до другого конца Москвы. С последним трамваем еду к родственникам В. К., на авось - в Москве ли они летом? Немногочисленная трамвайная публика взирает на мою фигуру с диким недоумением.
В глухом переулке, который мне надо было пересечь, сойдя с трамвая, загородили мне дорогу такие же, как я, два оборванца.
- Что в чемодане?
- Вещи из тюрьмы.
- В какой сидел?
- В Таганке.
- Ну, пойдем, Мишка! Это свой!
А Мишка пожелал мне вдогонку:
- Смотри, не засыпься!
Он, вероятно, думал, что чемодан-то я несу из тюрьмы, а узел с вещами где-нибудь по пути да подтибрил...
Был третий час ночи, когда я перебудил стуком в дверь коммунальную квартиру. Из-за двери сонные голоса ворчливо ответили мне, что таких-то нет, они на даче, а ключ от комнаты взяли с собою. Куда мне было деваться в середине ночи? К счастью, я вспомнил, что в соседней комнате жила знакомая мне милая интеллигентная старушка, которая по доброте своей, вероятно, не раз сокрушалась о моей участи.
- А гражданка Голубева дома?
{403} - Дома. Спит.
- Разбудите ее, пожалуйста, и попросите выйти.
Но она еще не спала, вышла на шум в переднюю и отворила дверь. В передней было темно и столпившиеся коммунальные жильцы не могли испугаться моего вида. Я громко объяснил ей, что только что приехал в Москву, явился прямо с вокзала и теперь, не найдя родственников, не знаю как быть. Она предложила мне гостеприимство, увела в свою комнату, там обняла меня и поплакала надо мной. Вид мой был, надо полагать, внушающий сострадание. Потом захлопотала, приготовила на электрической печурке чай (настоящий! китайский! сколько времени я его не пил!), угостила какими-то невероятно вкусными яствами, вынула бутылку вина, - и вообще, говоря словами народной сказки, накормила, напоила и спать положила: постелила мне на диване постель (настоящие простыни! настоящая пуховая подушка!), и сама улеглась за ширмой на кровати.
Но спать я, конечно, не мог. Было уже совсем светло, четыре часа утра, а на столе рядом с диваном лежала пачка свежих газет. Я, как голодный, накинулся на них и читал до позднего утра, узнавая, что делается на белом свете. Впрочем за этот год и девять месяцев на свете не произошло ничего хорошего...
Утром милая старушка, продолжала хлопотать. Увидев мой внешний вид, она "экипировала" меня с головы до ног: достала новую пиджачную пару своего за год перед этим скончавшегося мужа - спасибо покойнику, был он одного со мной роста - нашла цветную мужскую рубашку, галстук, туфли, летнюю шляпу - и я мог бы сойти за прилично одетого советского гражданина, если бы не волосы и борода. Немедленно же отправился я к парикмахеру. Тот, брея меня, заметил: "Давненько, гражданин, не изволили бриться!", - а потом прибавил: "Видно с севера приехали, совсем не загорели!". "Из-за {404} полярногo круга!" - ответил я, видя в зеркале свое белое, как бумага, лицо. Потом отправился на почту и дал В. Н. телеграмму: "Переменил квартиру, пиши", на что она мне телеграммой же ответила: "Уточни адрес"...
Адрес я "уточнил" у старушки Голубевой: родственники В. Н. жили на даче неподалеку от Москвы. В то же утро поехал к ним, произвел радостный фурор своим появлением и стал жить под их гостеприимным кровом. Лежал целый день в саду и в лесу под соснами, загорел, отдышался и приходил в нормальный вид. Только недели через две стал я немного приходить в себя и впервые осознавать вот она - воля! Можно и отдохнуть после всего пережитого и перенесенного. А много ли я перенес по сравнению с другими тюремными страстотерпцами?..
XX.
На этом можно бы и остановиться - рассказ о тюрьмах и ссылках закончен. Но так как тюрьмы и ссылки эти продолжали отражаться и на последующих годах моей "свободной жизни", то прибавлю еще небольшой эпилог.
Начать с того, что, выйдя из тюрьмы, я немедленно повторил свое ходатайство о "снятии судимости", которое в первый раз послал еще в марте 1937 года в "Комиссию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета". Тогда ответа от Комиссии я не дождался, вместо нее ответил через полгода НКВД - моим арестом. Теперь я, повторяя свое ходатайство, указывал, что только что освобожден из вторичной многомесячной тюрьмы - без предъявления статей обвинения и за прекращением дела в виду отсутствия состава преступления .А это само по себе должно свидетельствовать, что ныне нет никаких оснований против снятия с меня судимости и против возможности дать мне жить и работать дома, {405} в городе Пушкине. Ответ пришел скорее, чем я мог ожидать - в виде подарка на Новый Год: 31 декабря 1939 года В. Н. получила извещение от Комиссии, что в снятии судимости мне отказано без объяснения мотивов. Это значило, что я не могу вернуться домой, не могу жить в Царском Селе, ныне городе Пушкине. И, однако, я жил в нем все время до эвакуации его советской властью в сентябре 1941 года. Обязан я этим московскому Государственному Литературному Музею и главным образом милой девушке, саратовской брюнеточке.
Немного отдышавшись под подмосковными соснами и приведя себя в человеческий вид, я отправился в Москву повидать верных друзей-писателей (и всего-то их было два) и побывать в Гослитмузее, как именовался он в сокращении. Там я узнал, что, вероятно, Музею я и обязан своим освобождением. В Музее предложили мне начать с нового года новую работу и для этого дали мне командировку на три месяца в Ленинград по делам Музея, а также дали и справку о моей предыдущей работе в нем. Вот и еще один документ лежит передо мной. По этому командировочному удостоверению проехал я в августе месяце домой к семье. Отдельный домик, в котором жила семья, принадлежал местной Санатории, и новый управдом, безграмотный и наглый коммунист, товарищ Гущин, встретил меня почему-то в штыки. Он ничего не знал о моей тюремной эпопее, но, видимо, подозревал что-то. Взяв для прописки мой паспорт и командировочное удостоверение, он, вернувшись из участка, сообщил мне, что меня требует к себе начальник паспортного стола. Очевидно, товарищ Гущин что-либо наговорил обо мне, как человеке подозрительном. Я пошел. Начальник паспортного стола оказался начальницей, - женщиной лет сорока в милицейском мундире. Испытующе глядя на меня, она сказала:
- Надо заполнить о вас небольшую анкету.
{406} И стала ее составлять. Боже мой, сколько анкет пришлось мне заполнить о себе за эти годы! Уж никак не менее числа раз обряда голого крещения по теткиному ритуалу! Дойдя до конца анкеты, начальница отрывисто спросила:
- В ссылке не были?
И не дожидаясь ответа, посмотрела в паспорт и сама себе ответила:
- Нет, конечно, не были!
Ах милая, милая трижды милая кудрявая брюнеточка,...........! Без твоего "служебного упущения" никакое командировочное удостоверение не помогло бы!
- Не понимаю, для чего вся эта анкета, - сказал я, когда опасный риф был пройден. - Перед вами мой паспорт и командировочное удостоверение. Если этого вам мало, то вот еще справка из Союза Писателей о том, что я являюсь профессиональным литератором, а вот справка от Гослитмузея о моих работах для этого учреждения. В чем же дело?
Рассматривая предъявленные справки, начальница подобрела, прописала и вернула мой паспорт и все документы и на прощанье сказала:
- Простите, товарищ писатель, что потревожила вас!
Так благодаря совместному действию Гослитмузея и милой брюнеточки мне удалось временно прописаться в Царском Селе, а когда трехмесячный срок командировки истек - получить продление ее еще на три месяца. За это время я подготовил для Музея большую работу - "История стихотворений Александра Блока" и в конце декабря отвез ее в Москву, в окрестностях которой поселился на полгода, чтобы провести для Музея еще одну большую архивную работу.
В середине 1940 года В. Д. Бонч-Бруевич был отставлен от созданного им Музея: старое поколение большевиков не в чести у кремлевских заправил. Назначенный на его место новый директор предложил {407} мне быть представителем Гослитмузея в Ленинграде, - и с июля 1940 года я прочно осел в Царском Селе, получая каждые три месяца новые удостоверения о продлении моей командировки еще на три месяца, чтобы иметь возможность каждый раз "временно" прописываться в городе Пушкине.
Так прошел целый год - до начала русско-германской войны летом 1941 года. Вскоре мне пришлось, в связи с нею, пережить по воле НКВД день, который я считаю самым опасным днем моей жизни. Но незадолго до этого опасного дня удалось пережить один и радостный день - всё благодаря милой брюнеточке.
26-го мая 1941 года кончался срок моему паспорту и я с некоторой тревогой ожидал этого дня. Я знал, что при получении нового паспорта, обыкновенно, происходит опасная волокита. Старый паспорт милиция чаще всего передает в НКВД, заявляя: "Приходите за новым недели через две". А за это время органы НКВД производят тщательное исследование обстоятельств дела, и не раз случалось, что, придя через две недели, гражданин, вместо нового паспорта, получал предписание немедленно покинуть город Пушкин, а иной раз, вместо нового паспорта, получал новую тюремную квартиру. Все это меня тревожило, но выхода не было, надо было идти напролом.
В день окончания срока паспорта я явился в милицию, к начальнику паспортного стола; прежней начальницы уже не было, ее заменял молодой человек. Я предъявил ему паспорт и все документы, заявив, что я - уполномоченный московского Государственного Музея (очень хорошо действует на советских чинуш слово "уполномоченный"), и что паспорт мне необходим спешно - через несколько дней мне надо выехать по делам в Москву (никуда выезжать мне не надо было). Изложив все дело, я спросил, когда могу я зайти за новым паспортом? Рассмотрев внимательно все предъявленные документы и особенно {408} внимательно паспорт, начальник стола неожиданно для меня сказал:
- Зачем заходить? Подождите здесь минут двадцать.
Забрал все мои бумаги и ушел с ними к начальнику милиции.
Эти двадцать минут провел я в волнении, не зная, поможет ли и на этот раз милая брюнеточка?
Вскоре начальник паспортного стола вернулся, вручил мне обратно мои бумаги, положил на стол передо мною новый уже заполненный и на этот раз бессрочный паспорт и, передавая перо, сказал:
- Напишите свою фамилию вот тут на паспорте. Я написал, но должен сказать, что вместо моей подписи получилось какое-то гоголевское "Обмокни", так задрожала моя рука - на этот раз от неожиданной радости...
Теперь я спокойно мог жить и работать дома. Однако "спокойно жить" пришлось не долго. Через месяц, 22-го июня, грянула война. Фронт быстро откатывался к Петербургу. С 28-го июня проезд из Царского Села в Петербург стал разрешаться только по особым пропускам, и я крепко засел дома на июль и август. А фронт подкатывался. В середине июля был оставлен Псков, в середине августа - Нарва, бои шли уже под Гатчиной. Царское Село ежедневно бомбили немецкие аэропланы. Стало ясно, что скоро будет эвакуировано и Царское Село. Мы с В. Н. решили положиться на судьбу и не трогаться с места.
Но внезапно пришлось "тронуться": неожиданно и спешно выехать в Петербург. 30-го августа, в пять часов утра, разбудил нас милицейский чин и вручил мне повестку от местной милиции с предложением немедленной явки в нее. Мы с В. Н. отправились в милицию. Там я получил пропуск в Ленинград и повестку, согласно которой я в это же утро должен явиться "в Главное Управление Милиции на площади Урицкого дом No 6, этаж 4-ый, комната 202, к {409} следователю Николаеву". Пропуск у меня был, но В. Н. не хотела отпускать меня одного - и с великим трудом получила пропуск и для себя, после того как я категорически заявил, что без жены не поеду, могут арестовать меня и везти под конвоем. Не до конвоев им было - и В. Н. получила пропуск.
Часов в девять утра были мы уже в Петербурге, но к следователю Николаеву я не заявился, решив отправить к нему сперва лазутчика на разведку. Была суббота - я решил "прорезать" и ее, и воскресенье, никуда не являясь. Мы бросили якорь в семье моего друга, скончавшегося, быть может, к счастью для него, полгода тому назад. Вдова его была человеком решительным, находчивым и энергичным. Я попросил ее отправиться в понедельник 1-го сентября, вместо меня, к товарищу Николаеву - но с письмом от меня. В письме я сообщал, что еще третьего дня прибыл из Пушкина в Ленинград по его вызову, но внезапно захворал и нахожусь теперь на квартире такой-то, адрес такой-то.
Пока прошли два дня - мы с В. Н. посетили ряд петербургских друзей. Все в один голос советовали не являться по этому вызову НКВД и рассказывали всякие ужасы о судьбе "политически подозрительных" людей, которых немедленно и насильственно эвакуируют из Петербурга. Рассказывали, что все бывшие на учете эсеры и меньшевики были погружены на две баржи и отправлены вверх по Неве. По пути аэроплан (вражеский или свой?) так удачно сбросил бомбу, что обе баржи со всеми пассажирами пошли ко дну. Советовали "объявиться в нетях", перейти на подпольное положение и не лезть добровольно в пасть НКВД, а ждать неминуемого развертывания военных событий.
Но вернувшаяся в понедельник утром от следователя Николаева вдова моего друга успокоила: выслушав ее и прочитав мое письмо, товарищ Николаев милостиво изрек:
{410} - Пусть возвращается домой в Пушкин и ждет там. Чего "ждать" однако?
Мы с В. Н. решили еще день погостить в Петербурге, благо вырвались в него через запретный кордон. Но вдруг - в середине ночи на 2-ое сентября получил я на квартире в Ленинграде новую повестку от следователя Николаева - об обязательной явке к нему в 11 часов утра, "независимо от состояния здоровья". Посоветовались с В. Н. и решили - надо лезть удаву в пасть, будь, что будет!
В назначенный час явился. В приемной перед комнатой No 202 - толпа встревоженных людей, вызванных такими же повестками и ожидающих очереди. В комнате No 202 заседают десять следователей НКВД, вершат судьбы призванных к допросу. Толпа человек в полтораста - наполовину лица с немецкими фамилиями, наполовину "репрессированные" в свое время люди, вроде меня. Вызывают по очереди. Некоторые после допроса возвращались обратно через приемную комнату, некоторые не показывались больше: их уводят другим ходом и они исчезают бесследно.
Считаю этот день 2-го сентября 1941 года - самым опасным днем в своей жизни: решался вопрос - уцелеть или погибнуть.
Прождав часа два, был вызван к столу следователя Николаева. Последовало составление обычной анкеты (еще раз!), главный упор которой был направлен на вопросы о прежней "судимости", о тюрьмах и ссылках. Отвечая, особенно подчеркнул, что из последней тюрьмы освобожден два года тому назад за прекращением дела, без предъявления статей и в виду отсутствия состава преступления.
- Судимость снята? - спросил следователь.
- Нет еще.
- По какому же праву вы живете в Пушкине?
Ответил:
{411} - Живу по временной прописке, как командированный московским Государственным Музеем.
Следователь Николаев помолчал, что-то обдумывая (в эту минуту решалась моя судьба), потом написал какую-то резолюцию на анкете и сказал:
- Можете возвращаться в Пушкин. О дальнейшем узнаете на месте.
Что же однако должен был я "узнать на месте"? Во всяком случае, я пока что вышел живым из пасти удава. В тот же вечер мы с В. Н. уехали из Петербурга, не подозревая, что прощаемся с ним навсегда.
В Царском Селе за эти четыре дня сильно почувствовалось приближение фронта. Горела Вырица, в немногих десятках верст от нас. На бульваре у Египетских ворот стояло тяжелое шестидюймовое орудие и глухо ухало. Рядом с нашим домиком то и дело обстреливала небеса "зенитка", весь дом содрогался от ударов. Стекла наших окон были разбиты, рамы выбиты, двор и сад зияли воронками от аэропланных бомб.
Две следующие недели пришлось почти безвыходно провести в "щели" - канаве в человеческий рост, сверху уложенной бревнами и засыпанной землей. Наконец, мы узнали: в ночь на 17-ое сентября все власти предержащие бежали из Царского Села в Петербург, а утром мы увидели на бульваре около нашего домика авангардные части немецких самокатчиков...
Через несколько дней помещение милиции и местного НКВД было исследовано организовавшимся русским городским управлением. Из найденных там бумаг я узнал, как надо было понимать загадочные слова следователя Николаева: "Возвращайтесь в Пушкин, о дальнейшем узнаете на месте". - Был найден список четырехсот граждан города Пушкина, которые с семьями подлежали аресту и высылке. Назначен был и день для этого - 19-ое сентября...
{412} Но события на фронте развернулись слишком скоро, органам власти пришлось спешно самим бежать из города, и приказ об аресте не мог быть приведен в исполнение. Он опоздал только лишь на два дня! В этом проскрипционном списке значились и мы с В. Н. Но судьбе на этот раз было угодно избавить меня от новых тюрем и ссылок, а нас обоих - от верной гибели.
Полагаю, что весь этот характерный эпизод является достаточной концовкой к теме о тюрьмах и ссылках, и заканчиваю им свое растянувшееся на сорок лет повествование...
***
В русской ссылке, в 1934 году, начал я писать эту книгу. Заканчиваю ее в 1944 году, в прусском изгнании... Тоже своего рода десятилетний "Юбилей"!..
1944.
Кониц (Вестпреусен).
БИБЛИОГРАФИЯ:
"История русской общественной мысли" в 2-х томах, 1907, изд. 5-ое - 1918
"Об интеллигенции", 1907-1908, 2-ое изд.
"О смысле жизни", 1908, 2-ое изд. - 1910 г.
"Литература и общественность" - статьи публицистические, 1910
"Что такое Махаевщина", 1908, 2-ое изд. - 1910 г.
"Творчество и критика" - статьи критические, 1912 г.
"Великие искания" - 1912 г.
"Лев Толстой" - 1913 г.
"Пушкин и Белинский" - статьи историко-литературные, 1916 г.
"Год революции" - сборник статей, 1918 г.
"Две России" - 1918 г., Петроград.
"Александр Блок. Андрей Белый" - сборник статей, 1919 г.
"Что такое интеллигенция", Берлин, 1920 г.
"А. И. Герцен" - сборник статей, 1920 г., Петроград.
"Русская литература XX в.", 1920 г.
"Книга о Белинском", 1923 г.
"Вершины", творчество А. Блока и А. Белого, 1923 г.
"Судьбы писателей", изд. Литер, фонда, Нью-Йорк 1951 г. (часть погибшей книги)
Кроме того, под редакцией Иванова-Разумника (обширные комментарии и литературно-биографические сопроводительные статьи) были изданы:
Собр. соч. Белинского, ПБ 1911 г.
Собр. соч. Салтыкова-Щедрина, Москва, 1926-1927 г.
Восп. И. Панаева, Ленинград, 1928 г.
Восп. Ап. Григорьева, 1930 г.
"Неизданный Щедрин", сборник, 1930 г.
Салтыков-Щедрин, I часть, 1930 г., II и III погибли в годы тюрем и ссылок.
Работы, не появившиеся в печати;
"Оправдание человека" (Антроподицея, 1920-1944 г.)
"Холодные наблюдения и горестные заметы", 1944 г., погибла во время бомбардировки.
"Письма без адресатов", 1944 г., погибла во время войны.
"Два юбилея", 1944 г.
"Человек в очках", 1944 г.



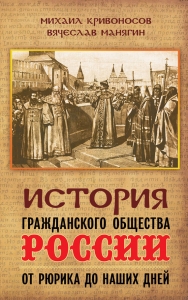
Комментарии к книге «Тюрьмы и ссылки», Разумник Васильевич Иванов-Разумник
Всего 0 комментариев