Книга вторая Первая инквизиция
Глава первая Лангедок в 1216 – 1229 гг.
Основатели нищенствующих орденов. Подъем патриотического сознания в Провансе и Лангедоке. Осада Бокера. Первое восстание в Тулузе и его подавление. Второе восстание в Тулузе, осада Тулузы и смерть Симона Монфора. Слабость власти Амори Монфора. Политика Филиппа II и пап по отношению к Лангедоку и альбигойцам. Походы Людовика VIII. Покорение Лангедока французами; изъявление покорности графом тулузским. Парижский договор 1229 года. Тулузский собор и опыт трибунала
Основатели нищенствующих орденов
На восточной окраине старой Тулузы долгое время сохранились следы античных стен Нарбоннского замка. Этот укрепленный замок, проживший вместе со страной всю историю, некогда служил местом пребывания римских сановников, цитаделью вестготских королей, дворцом герцогов Аквитании и резиденцией графов Тулузских. К одной из наружных стен этой крепости, со стороны, обращенной к Гаронне, в 1214 году приютился монастырь, котором временно поселились первые последователи испанского проповедника и подвижника Доминика.
Осыпавшиеся двойные арки, разделенные белыми мраморными колоннами, серые кубические кирпичи, — все показывает, что католическая обитель воздвигалась на римских руинах. Архитектура свидетельствует о древности постройки, постепенно подновлявшейся. Главный фронтон этого монастыря, расположенный напротив нынешнего Дворца правосудия, принадлежит в настоящем виде XVI веку.
Вид здания мрачен и тяжел, как и то, что некогда совершалось за его стенами. Над воротами его крупными буквами было написано: DOMUS INQVISITIONS — дом квизиции. Эти слова, некогда столь страшные для горожан, уже сгладились временем, но еще недавно можно бы ч видеть прочие надписи и украшения фронтона. TUA RURA — «Твои селения»— так гласит надпись, видимо взывающая к небу и окружающая герб с изображением голубя, который несет в клюве масличную ветвь мира. Середину фриза украшают соединенные вместе герб доминиканского ордена (пальма и звезда на белом с черным фоне) и герб Франции (лилии с королевской короной). По обеим сторонам гербов было изображено: SIMUL IN UNUM, DIVES ET PAUPER — «Вместе воедино, богатый и бедный». На тимпане читались многозначительные слова: «Един Бог, одна вера».
Небольшая галерея с дугообразным сводом, на который опирается портал, ведет во двор здания. Прежде и ней помещались статуи святого Доминика и Петра-мученика. Стены крытого дворика и плафон были разрисованы картинами, изображавшими жизнь и чудеса Доминика. Сухая и болезненная фигура святого, со звездой на челе, имела вид грустный и несколько суровый. Недалеко от монастырской церкви путешественнику укажут келью, в которой, по преданию, первое время жил святой Доминик.
Это здание было подарено основателю ордена богатым тулузским гражданином Петром Челлани в 1214 году. Когда спустя два года после утверждения братства первые последователи Доминика оставили это тесное убежище и переместились в новый, более просторный монастырь, то инквизиционный трибунал сделал его местом своих собраний. Титул великого инквизитора тулузского существовал почти до самой Великой французской революции. В 1774 году здание было куплено одним тулузцем, который завещал своим наследникам хранить дом инквизиции на память поколениям. В последнее время здесь помещалась капелла одного религиозного общества. Историки полагают, что именно здесь святейший отец Доминик задумал будущие меры для истребления альбигойской ереси, из-за которой война в земле Лангедока тянулась уже почти десять лет.
Старые католические летописцы не стесняются награждать основателя доминиканского ордена, этого братства проповедников, далеко не лестной славой первого инквизитора в христианском мире. Один из них начинает свой длинный перечень великих тулузских инквизиторов Домиником и помечает первые отправления инквизиционного учреждения 1209 годом (1)[1]. В его глазах доминиканский орден и инквизиция почти тождественны. Другой писатель— монах Мачедо — идет гораздо далее и, сочиняя панегирик инквизиции, относит ее к отдаленнейшим временам, ставя во главе этого учреждения уже не Доминика, а самого Господа (2).
«Сам Иегова, — восклицает этот фанатик, — исполнял обязанности инквизитора, когда громил возмутившихся ангелов. Он продолжал поступать так и здесь, на земле, когда наказывал нашего пращура Каина и тех безумцев, которые созидали башню Вавилона. Он передал это дело святому Петру, который впервые применил такую кару против Анании[2]. Первосвященники римские, непосредственные преемники этого князя апостолов, перенесли впоследствии свои права на святого Доминика и его орден».
Такой преемственностью объясняется, по мысли автора, святость инквизиции.
Но, оставляя в стороне фантазии Мачедо, следует ли возложить на Доминика ответственность за изобретение первого инквизиционного трибунала? Справедливо ли объединять в неразрывное целое личность Доминика и век инквизиции — эти позорные для католичества страницы?
Может ли подобное церковное учреждение явиться плодом творчества одного человека? Не коренится ли оно и более глубоких причинах и в более существенных условиях? Имя этого человека сделалось известным в Лангедоке о первых годов XIII столетия. Мы рассказывали уже о начало его деятельности[3]. Причина его необыкновенной популярности в средние века заключалась в мнимом даре чудотворства, который видели в нем склонные к сверхьестественному современники. Если бы историк захотел собрать и изложить бесчисленные легенды о его подвигах и чудотворстве, он имел бы неистощимый источник в трудах католических монахов.
Никому из католических деятелей, кроме святого Франциска, не посвящено столько страниц в летописях и исторических трудах, сколько Доминику. Первые доминиканцы тщательно собрали все мельчайшие подробности о деятельности своего патрона, разукрашивая их по собственному разумению. А то поколение, которое видело собственными глазами подвижничество Доминика, спешило скрепить своим ручательством все легенды, которые принято было рассказывать о знаменитом человеке, искусство и заслуги которого признавали даже альбигойцы. Вскоре после его смерти стали составляться подробные жизнеописания Доминика. Мч авторами были такие небеспристрастные авторы, как сю последователь второй генерал ордена, Иордан, и доминиканские духовные лица: Бартоломей Тридентский и Теодорик де Апольда, страстные поклонники своего учителя (3).
Ореол кротости и святости, который они пытаются придать основателю проповеднического братства, решительно противоречит тем рассказам о жестокости и кровожадности, которые, по мнению протестантских историков, были характерны для мнимого изобретателя страшной инквизиции. Естественно, что фантастичность католических сказаний далеко в силах сколько-нибудь умалить той понятной ненависти, которую питали к торжествовавшему католицизму и его представителям первые жертвы религиозного свободомыслия.
Рожденный в Кастилии, где каждая пядь земли напоминала о борьбе христианских рыцарей с неверными за дело и торжество креста, Доминик де Гусман был более какого-либо другого способен поддержать католическую веру в Лангедоке, где духовенство, изнеженное и бездеятельное, было бессильно перед крепкой организацией противников, перед влиянием и чистотой жизни их вождей, перед молодой силой новаторских религиозных убеждений.
Согласно католическим легендам самому рождению Доминика предшествовали видения и чудеса. Он был родом из местечка Каларнога. Отца его звали Феликсом, мать — Иоанной. Семейство д'Аца, известное в округе благочестивой жизнью, было в родственных связях с местными епископами. Брат Доминика также приобрел некоторую известность благочестивыми делами, но она была затенена славой основателя доминиканского ордена, который уже родился со звездой на челе — как бы с печатью избрания. Еще до рождения этого избранника матери казалось, что она носит в утробе щенка, который лаем всегда напоминает о себе; а иногда ей виделось, что она родила младенца, который зажег весь мир своим светильником. Воспитывал ребенка дядя-епископ, который вместе с матерью наставлял его на путь смирения и благочестия, умудряя чтением Библии.
Отправленный учиться в Паленсию, в этот «museum», из которого позже возник Саламанкский университет, Доминик первым делом продал свои уже прочитанные книги,чтобы раздать деньги бедным. Он чуждался общества сверстников, не шутил, не смеялся, вел жизнь затворника, не ел мясной пищи, спал на камнях или на голой земле. Его видели только в церквях, где он со страстным вниманием вслушивался в проповеди. Книга Кассиана «Сравнение отцов» оказала на него большое влияние и привела к духовному совершенствованию; он слепо подчинился ее наставлениям (4).
Когда богословское образование юноши было завершено, Диего, так звали епископа, предложил Доминику духовную карьеру, исключительно подходившую к одностороннему аскетическому складу его натуры, и тогда же сделал его каноником в своей церкви, посвятив в августинский орден. Душа молодого августинца не могла удовлетвориться тесным кругом проповеднической деятельности в какой-нибудь Паленсии. По выражению поклонника Доминика, Апольда, слова его зажигали слушателей, подобно светильнику Илии.
«Он готов был, — говорит Бартоломей Тридентский, — разорвать тело свое на куски из ревности к вере, а любви божественной в нем было так много, что для выгод христианства он готов был пожертвовать собой, продать себя, если бы то потребовалось» (5).
Сама судьба привела Доминика в Лангедок в свите дона Диего. Где, как не там, предстояли подвиги ревности католических подвижников! От катаров, от этих гонимых еретиков, Доминик предлагает заимствовать чистоту жизни, их воздержание, их презрение к плоти. Известно, с какими словами он обратился к легатам и к сопровождавшим их священникам (смотри том I, глава 3); испанская миссия на этот раз несла с собой не поучение, а живой пример.
Какими поступками, как не мнимою способностью к чудотворству, можно было завоевать симпатии и известность в тот суеверный век? Только на них могла опираться прочная сила и популярность человека, замыслившего нран ственное обновление католического общества. И действп тельно, куда бы ни приезжал этот человек, он везде производил сильное впечатление на людские массы своей личностью, огненной речью и особенно обаянием чудес.
Шли слухи, что он обладает тайной исцелять самые разнообразные болезни, своими молитвами ставит на ноги умирающих, излечивает сумасшедших, изгоняет нечистых духов, которые повинуются одному его мановению, Утверждали даже, что он, подобно Христу, может век крешать умерших. После его смерти одна женщина, которая, не доверяя этим слухам, злобно посмеиваясь над чудесами святого, была наказана жестокими язвами и болезнью, от которой не могли помочь никакие усилия тогдашних медиков; только одно раскаяние перед образом святого, в день его праздника, сразу и совершенно исцелило больную (6). По кончине Доминика в теле его, как известно, сохранилась та же таинственная целительная сила, помогавшая верующим, какую он имел смо« собность обнаруживать при жизни. В приложении к житиям обыкновенно помещаются целые списки чудес. Они подписаны более чем тремястами свидетелей: доминиканцы, инквизиторы, посторонние мужчины и женщины под присягой свидетельствуют достоверность сказанного ими и записанного с их слов.
Насколько условна такая достоверность, видно из свидетельства некой Беренгарии, бывшей еретички, обращенной Домиником в католичество. Она собственными глазами видела беса, который сидел в девяти еретикаках и вышел из них по мановению святого, причем Беренгария успела тщательно определить размеры этого загадочного существа. По ее словам, вылетевший бес величиною был с собаку, похож на кота, глаза как у быка, весь красный, как в пламени, язык у него с полфута, а хвост с пол-локтя.
Некоторые из чудес, совершенных молитвами Доминика, уже после его кончины, были довольно странного свойства. Одна девушка, желая посвятить себя иноческой жизни, отказывалась от замужества, вопреки настояниям отца. Когда всякое дальнейшее сопротивление стало бесполезным, она обратилась в молитвах к святому Доминику и, в канун назначенного брака невеста проснулась с таким обезображенным лицом, что жениху оставалось отказаться от свадьбы и позволить девушке идти в доминиканский монастырь.
Легенды гласят, что своему желанию Доминик мог менять органы человеческого тела. Так случилось с одним испанским юношей, который матерью был предназначен в доминиканцы, но который от рождения нес на себе печать уродства: вместо мужского полового органа он имел женский; молитвами святого этот недостаток был исправлен, и женский орган быстро превратился в мужской (7).
Личное подвижничество Доминика также было засвидетельствовано очевидцами. Он подвергал себя тяжелому изнурению, носил вериги, власяницы. В двух-трех местах он назван «преследователем ереси, упорным гонителем ее и словом и примером», но всюду его личность представляется кроткой, щедрой, радушной, скромной, готовой на всякие жертвы для блага всех христиан, чуждой сует нашего мира(8). Его девственность, которую он сумел сохранить в продолжение всей своей жизни засвидетельствовали, по католическим обычаям того времени, три женщины, безуспешно пытавшиеся совратить Доминика.
Слава подвижника и необычайного человека была приобретена Домиником с первых лет его пребывания в Лангедоке. Вместе с Диего он обдумывал план духовного воздействия на ересь. Назидание и христианское воспитание обращенных согласовались с помыслами тогдашнего папы Иннокентия III. Монашеское братство, состав и характер которого он уже представил, думая о том еще на родине, могло, по его расчетам, соответствовать стремлениям первосвященника. Прежде чем просить духовного разрешения на утверждение общества, собиравшегося охватить своей деятельностью весь католический мир, Доминик желал сперва проверить некоторые свои предположения.
Как известно, он основал, по благословению Диего, свой монастырь, неподалеку от Монреаля, на земле тулузского епископа. Он предназначался для укрепления в вере обратившихся еретичек, преимущественно из известных провансальских фамилий; на первое время там он набрал одиннадцать девиц. Учащимся Пруллианского монастыря (de Prouille) было запрещено оставлять свое жилище и предписывалось разгонять скуку работой.
По инициативе Доминика возникли и мужские школы, питомцы которых готовились к проповедованию слова Божия и к обращению еретиков. Мало-помалу стали открываться монастыри общества «бедных католиков», предшественника доминиканского ордена. В этих монастырях собирались поклонники Доминика, его первые последователи. Описанный нами в начале этой главы тулузский монастырь, позже превратившийся в дом инквизи ции, был одним из таковых. Братия и ученики жили милостыней.
Иннокентий III принял эти монастыри под свое покровительство (9), но еще не учреждал доминиканского общества, не утверждал особой конгрегации, так как дал обещание не разрешать их ввиду многочисленности прежних орденов. Диего не суждено было дожить до осуществления мечтаний своего питомца. Он вернулся в Кастилию, где вскоре умер. Доминик остался один и стал бороться с ересью.
Когда он частным образом основывал свое братство, желая служить примером для небольшого кружка истинно благочестивых католиков, то вряд ли тогда в его голове носились картины допросов, пыток, казней, костров и всего того, что сделало столь страшным инквизицию. Напротив, есть причины думать, что он имел в виду исключительно духовное назидание. Два года он хлопотал об учреждении регулярного братства для содействия церковным делам в Ланге доке. Как ни трудно было получить такое разрешение от Ин нокентия III, Доминик выхлопотал его на том же латеран ском соборе, на котором, между прочим, было постановле но не допускать создания новых духовных орденов.
Доминик со своим обществом должен был подчиниться какому-либо прежнему уставу. Он избрал новейший августинский, к которому принадлежали преимущественно ду ховные ученые, но добавил к нему несколько строгих аске тических правил. Так как целью братства была проповедь и разнообразных местностях, то орден не должен был приобретать недвижимости для своего обеспечения, а довольство ваться сборами и подаянием. Когда с этим желанным разре шением, осуществлявшим первую половину его мечтании. Доминик вернулся в Тулузу, то город, по настояниям епископа Фулькона, предложил в его распоряжение особую церковь с монастырем по имени S. Romain .
В это приорство, названное впоследствии инквизиционным домом, в 1216 году перебрались шестнадцать доминиканцев.
Но этим прообразом ордена, этим полузаимствованием, не мог удовольствоваться человек, считавший себя призванным свыше создать особое, самостоятельное учреждение в Римской Церкви. Он боялся, что умрет, не завершив своих начинаний. В том же году он опять пошел в Рим, дабы у ног Гонория III вымолить разрешение на создание особого проповеднического братства. Доминик, очевидно, со всей готовности к самопожертвованию не чужд был тщеславной мысли оставить свое имя в истории церковно-католических учреждений. Он усердно молился в церквях вечного города, прежде чем предстать перед первосвященником.
Однажды ночью, после напряженного бдения, ему было даровано видение, которое записали набожные биографы: Доминик увидел Сына Божия, восседавшего в пределах горних на высоком троне по правую сторону от Бога-Отца. Он сидел гневный, раздраженный, у ног Его были толпы грешников, склонившихся перед ним. В Его руках было три копья, предназначенных для истребления прегрешивших, — одно для гордых, другое для скупых, третье для развратных. Пресвятая Матерь обнимала Его ноги, умоляя о милосердии к падшим, о смягчении их участи. «Разве не видишь?— отвечал Ей Иисус, — сколь неправды они соделали мне? Моя справедливость не потерпит столько безнаказанного зла». Тогда Пресвятая Дева сказала ему: «Ты ведаешь, Господи, каким путем надо направить их. Я знаю верного слугу, которого ты пошлешь в мир, дабы он возвестил твое учение. Тогда все познают и обрящут тебя. Я дам ему в помощники еще другого слугу, который совершит то же дело». По желанию Господа, которого смягчили Ее просьбы, Она подвела Ему монаха, в чертах которого Доминик узнал самого себя. «Он способен исполнить то, что сказала ты», — изрек Господь. Следом за ним Она подвела другого монаха, который предназначался в соратники Доминику. Лицо его было незнакомо, Доминик никогда не видел его прежде.
Но, придя на другой день в церковь, он нашел его между молящимися и тогда, смело обратившись к нему, воскликнул:
— Ты — товарищ мой, ты пойдешь вместе со мной. Мы будем действовать вместе, и никто не одолеет нас!
Нового знакомца звали Франциском (10). Это был другой фанатик собственных убеждений.
Он жил в Риме с той же целью, что и Доминик. Он имел с ним удивительное сходство по желанию подвижничества, по склонностям. Его помыслы стремились к тому же пробуждению католического духовенства от долгой апатии, к тому же нравственному обновлению общества, но идеалы Франциска были исключительно аскетического свойства. Познакомиться с этой личностью весьма важно для изучения той эпохи.
Франциск (в миру Джованни Бернардоне) был сыном богатого купца из итальянского города Ассизи (11). Он с дет ства почувствовал свое призвание. С самой молодости он удерживал вырученные за товары деньги ради бедных и больных. Раз, когда в храме читали об евангельском отречении от всех земных благ ради имени Христова, его экзальтированная натура, уже давно подготовленная к тому поста ми и молитвами, была надломлена окончательно. Он отка зался от отцовских богатств и, приняв имя Франциск, и рубише, босой, стал ходить по городу, питаясь милосты ней. У него начались галлюцинации: ему являлись странные видения, он слышал пение ангелов, беседовал с Богом. Отец через епископа прибег к уговорам вернуться к нормальной жизни, а потом и к строгим мерам — семья с презрением изгнала его.
Франциск расторг все связи с родственниками и стал проповедовать необходимость строгого покаяния, суровой жизни и отречения от мирских благ. Он притупил свои чувства и тело. Перед этим аскетическим героизмом начали преклоняться. Один ассизский богач смеялся над Франциском, но однажды, после его страстной проповеди, распродал свои богатства и пошел за этим человеком, оригинальным, но магнетически притягательным. Тогда к нему присоединилось еще шесть человек. Все они поселились у ручья, в тесном шалаше, в окрестностях города; попеременно они ходили на проповедь.
В 1208 году Оттон IV короновался в Риме; Франциск послал письмо, где напомнил императору о суете мирской и о том, что вся слава его пройдет как сон.
Его страстная натура не могла успокоиться на самоуглублении и созерцании, он всячески истязал свое тело. Трижды в ночь он бичевал себя: один раз за свои грехи, другой — чп живущих, третий— за души в чистилище. Чтобы притупить телесные ощущения, он, нагой, кидался в снег, и, даже умирая, распростертый на сырой земле, оставался тем же героическим аскетом, каким всегда был при жизни.
Добиваясь неведомых подвигов, Фрзнциск, напрасно выпрашивая у Иннокентия III разрешения открыть братство «нищенствующих францисканцев», обошел всю южную Италию и отправился в Палестину. Он был в Сирии н Египте; всюду его сопровождала молва о чудесах. Говори ли, что его жизнь напоминает жизнь Спасителя от самого рождения, что он даже превосходит Христа своими подвигами. Его миссионеры распространяли идею отречения от мира в Испании и в северной, и южной Франции, однако в Германии их постигли неудачи. «Германия не для нас, — повторять Франциск, — избавь нас Господь от немцев».
Вторично он явился в Рим в конце 1216 года, одновременно с Домиником, но опять потерпел неудачу. Доминик был счастливее его. Орден «проповедников» наконец был утвержден Гонорием III. Необходимость бороться словами с ересью альбигойцев и вальденсов, которые не переставали беспокоить Церковь, была, вероятно, причиной того, почему папа двадцать второго декабря 1216 года — с целью учреждения общества на началах «Божиих и правилах святого Августина» — дал «брату Доминику, приору S. Romanis в Тулузе», утвердительную буллу, оставив разрешение вопроса о францисканском братстве до это времени.
Франциску суждено было увидеть исполнение своих заветных мечтаний лишь спустя шесть лет, когда число его «миноритов», этих «меньших братий», действительно стало поразительным, когда они удивили Церковь своей готовностью отречься от благ мира, которые они старались не видеть из-за капюшона своей убогой одежды, и своей способностью воздействовать проповедями на простой народ. Но и сейчас за Франциском стояло уже несколько тысяч последователей. Во многом именно им был обязан Доминик своими успехами в Риме. Франциск бескорыстно поддерживал его перед папой и кардиналами, забывая на время свое собственное дело.
Новое доминиканское братство имело мирные, не воинственные цели. Проповедь, и только проповедь, была его непосредственным назначением. Самое название «проповедническое» вытекало из обращения, какое сделал к Доминику Гонорий III в своем послании: «Брату Доминику и его проповедникам в тулузской стороне» (12).
«Принимая во внимание, — так начиналась папская булла, - что братья вашего ордена всегда будут защитниками веры и истинными светочами мира, мы утверждаем орден со всем его имуществом и правами».
Другая грамота содержала в себе четырнадцать статей. Папа брал под свое покровительство церковь святого Романа и соглашался, чтобы орден каноников, который там находился, существовал на вечные времена. Он предоставллял братству обладание его церковным имуществом и всем, что оно приобретет впоследствии, освобождая братьев от платежа десятины с земель, которые они обрабатывают своими руками или на свой счет, а также и от натуральных церковных повинностей. Братство должно обращаться к местным епископам за святым мирром и при глашать их для освящения алтарей и церквей и для посвя щения клириков. Приоры в монастырях должны выбирать ся монахами свободным голосованием, без всякого посто роннего влияния (13).
Первоначально орден еще не был нищенствующим — это было братство обыкновенных каноников. Обеты нищеты, целомудрия и послушания сформировались впоследствии, пока что определилось только непосредственное назначение братства — проповедь и обращение еретиков в истинную веру. Гонорий III не решался так скоро уничтожить формальное запрещение своего предшественника.
Учреждение нищенствующих орденов знаменует довольно приметный перелом в нравственном настроении тог дашнего общества. Это была реакция на успехи ереси, ко торая доселе проявлялась в массах.
Мы имели случай заметить, что с 1216 года, когда начались заседания четвертого латеранского собора, альбигойская ересь теряет то значение знамени патриотических интересов, какое имела доселе, и существует, скорее, как внугреннее верование отдельных личностей. Что реакция была сильна, что идеалы нищенствующих коренились в самом обществе, что на них отзывались сильно— видно из той изумительной быстроты, с какой увеличивалось число последователей Доминика и Франциска. Не прошло и двадцач и лет со дня утверждения первого ордена, как в Западной Европе насчитывалось четыреста доминиканских и тысяча францисканских монастырей. Между тем, чтобы быть францисканцем того первого времени, от человека требовалось много энергии и самоотвержения.
Всякий, поступавший в орден миноритом, уже тем самым отказывался от настоящей и будущей собственности. Никто из францисканцев не мог иметь собственных денег; самая одежда, серая или коричневая ряса, прикрывавшая тело, принадлежала всему ордену, который обязался не приобретать имений и чего-либо свыше необходимого. Церкви францисканцев, без каких-либо украшений, были тесны от люда; пища едва удовлетворяла чувство голода.
По степени подвижничества и по образу жизни францисканцы разделились позже на конвентуалов, спиритуалов, бо соногих и прочих. Из них вышли также и капуцины[4].
И доминиканский, и францисканский ордены управлялись каждый своим «minister generalis»; отдельными провинциями заведовал «minister provincialis»; непосредственная власть была у «minister guardianus». Терциаты, кающиеся, составляли первую ступень отречения; они жили в свете, хотя и принадлежали к францисканскому братству. Не связанные всей строгостью монашеских обетов, они были необходимы для целей ордена; живыми примерами они указывали испорченным современникам образец простой, умеренной жизни, чуждой крайностей того и другого направления.
Так формировалось новое воинство для борьбы с ересью.
Многие историки, старые и новые, католические и протестантские, с удивительной простотой приписывают учреждение инквизиции тому самому Доминику, который был основателем братства проповедников; они склонны даже смешивать доминиканский орден с инквизиционным трибуналом. Подобное заблуждение происходит из поверхностного взгляда на историю, из стремления объяснять сложные исторические явления мелкими причинами. Для таких историков самое главное — придумать изобретателя системы, будь то Луций III, Иннокентий III, Доминик, Гонорий III, Григорий IX, Иннокентий IV. Весьма распространенное, особенно в старой литературе, мнение об инквизиторстве Доминика ошибочно. Полицейская система допросов, розыска по церковным делам, с их известными всякому последствиями, постоянное применение светского меча — все это развивается из сущности римско-католических воззрений, подкрепленных их историей. Эта система не входила, конечно, в католическое учение непосредственно, но привилась к нему в то время, когда в ее применении чувствовалась надобность, когда католическая Церкви начинала грозить опасность, когда слов убеждения становилось мало и ощущалась потребность в содействии той темной силы, которая извращенному пониманию казалась способной возместить силу духа и убеждения.
Такую опасность почувствовало католичество в эпоху альбигойства. Для земли языка провансальского первые шестнадцать лет XIII столетия были годами борьбы за торжество той или другой веры. Новое учение исповедовали там не отдельные личности, а целый народ. После первого периода войн некогда торжествовавшее под покровительством Раймонда VI, из политических целей выдававшего себя иногда за ревностного католика, альбигойство сделалось гонимым.
Альбигойское учение для так называемых верных допускало коварство и обман в вопросах веры и далеко не предписывало страданий за религиозные убеждения. То сливаясь с католиками, то снова выделяясь из них, альбигойцы-катары не давали выследить себя католическому духовенству. Часто оказывалось, что умиравший католик был в душе заклятым врагом той веры, ярмо которой он осмеливался сбросить только на пороге могилы.
Потому-то со времен первого подавления ереси потребовалось отдельное учреждение, которое давало бы возможность отличать католиков по политической необходимости от католиков искренних. Новые гражданские власти стали бы оказывать ему деятельное содействие, так как благодаря ему узнавали бы сторонников прежнего порядка.
Вся предыдущая история католицизма давала богатый материал и целый ряд примеров, который освящал прошлым обычность если не самого учреждения, то основной идеи нетерпимости, положенной в ее основание. Такие побуждения были причиной организации первой инквизиции, легальную необходимость которой католические отцы старались мотивировать свидетельствами Библии.
Первая инквизиция, учрежденная над альбигойцами, —-так мы называем ее в отличие от позднейшей, испанской, — находилась в зависимости от хода политических событий в главном центре ереси, в лангедокской земле. Только полное торжество католической власти способно было вызвать инквизиционный трибунал с казнями и заточениями, и только падение или даже ослабление ее устраняло возможность существования инквизиторских преследований. Муниципальные власти, стесненные феодалами-завоевателями, оказывались сторонниками двух противоположных религиозных направлений; они были то альбигойцами, то католиками, то снова альбигойцами. Они то карают ересь, то предоставляют ей послабления. Инквизиция устранилась бы, если бы французское завоевание было способно утвердить в стране католическую веру. Всякий взрыв ереси находился в непосредственной связи с ходом политических дел.
Подъем патриотического сознания в Провансе и Лангедоке
Понятно, что весть о передаче папой и отцами латеранского собора земель тулузского графа французам и ненавистному Симону Монфору должна была произвести на все провансальское население страшное впечатление. До сих пор еще надеялись на прощение, на снисхождение. Раймонд VI, симпатичный уже одними своими несчастьями, был искренно любим в стране. Его династия была вполне национальная.
На французов смотрели как на пришельцев-истребителей, как на варваров. Народные певцы разжигали эту ненависть пламенными стихами; стансы трубадуров оплакивали несчастья павшего государя, «развенчанного попами». Быть или не быть новому учению — это зависело от той или другой династии. Раймонд VI отличался если не сочувствием к ереси, то самой широкой веротерпимостью. Издавна между графами Тулузскими и их подданными существовала неласная договоренность — одна сторона не выдавала другую во время опасности.
В тяжелые минуты для альбигойства, когда Рим грозно и публично карал Раймонда VI за равнодушие к успехам ереси, последняя тем не менее существовала, скрывшись под пеплом общего гонения. Промышленность и торговля развивались в тулузских землях с большим успехом, чем в других пределах Галлии. Здесь земледельцы были или свободны, или, прикрепленные к земле, спокойно переносили не тяжелую зависимость от местного феодала. Рыцарство видело в падшем графе своего лучшего и благороднейшего представителя.
Так все элементы, все сословия на тулузском юге соединились в одном сочувствии к угнетенному государю. Его унизило и карало римское духовенство, а оно было всегда непопулярно в этой веселой стране. Горесть общин и рыцарей усиливалась еще тем, что отныне их судьба оказалась в руках ненавистного Монфора. Надо было приложить последние усилия, чтобы спасти династию, а с ней и свою национальность.
Несколько рыцарей с их вассалами решились первые выразить народное настроение. Они собрались в Авиньоне приветствовать возвращавшихся из Рима Раймонда VI и его сына. Давно знали, что оба графа отправились из Рима в Марсель морем. Лишь только они ступили на марсельский берег, как на них посыпались народные благословения и выражения общей радости. Консулы города поднесли им ключи. Старый Марсель был свободной купеческой общиной; он никогда не принадлежал тулузской династии, имел номинального сюзерена, титуловавшегося графом Прованса, но город чувствовал кровную связь с общей землей провансальского языка, а Раймонд VI всегда представлялся единственно сильным из провансальских феодалов. Дело, за которое он сражался, было делом свободы и независимости провансальцев вообще. Монфору нужны были не только трупы альбигойцев; его французы приносили с собой ненависть к местным свободным учреждениям. Марсельцы были добрыми католиками, но католики-французы казались поработителями.
Через три дня после прибытия графов в Марсель к ним явился герольд из Авиньона и, поздравив с приездом, сообщил радостную весть, что триста рыцарей ждут их с нетерпением в Авиньоне, обещают содействие и приносят клятву не покидать их правого дела. Раймонд и не думал отказываться от таких услуг. Тотчас же отец и сын отправились в Авиньон, который тоже не принадлежал Тулузе. Там, неподалеку от городских стен, на берегу Роны, один из рыцарей, Арнольд Одегар, торжественно приветствовал приезжих.
— Весь Авиньон, — сказал он, — отдается вам, жизнь и имущество каждого гражданина отныне ваши. Говорим это без лжи и гордости. Тысяча храбрейших рыцарей и сто тысяч других храбрых и добрых людей обязались клятвенно восстановить вас в ваших владениях, государь. Вы получите все ваши права над Провансом, все доходы и налоги, которые вам принадлежали. Мы займем теперь же все переправы на Роне и клянемся предавать огню и мечу все. пока вы обратно не получите Тулузы и всего вашего графства.
Граф был глубоко тронут.
— Господа, — отвечал он им. — Вы делаете дело вели кой доблести и благородства, принимая меня под свою защиту. Во всей земле языка провансальского и во всем христианстве не будет людей более славных, если вам удастся восстановить торжество нашего дела, а с ним храбрости, счастья и благородства (14).
Этими словами, вложенными поэтической хроникой и уста Одегара и старого Раймонда, обрисовывается популяр ность графа и той идеи, что возвращалась с ним. В авиньон ской ратуше граждане с увлечением присягали на верность графу.
«Авиньон поднимается в Провансе, несмотря на свое изнеможение и на последствия войны. Молю Господа, чтобы он помог городу, потому что им движет восторг и великодушие. О, могучий и изящный народ, твоя отвага — гор дость провансальцев...» — писал Томьер.
Но хотя граф и утвердился в Авиньоне, однако без об ладания Тулузой он не имел прочной опоры в своем госу дарстве. Между тем ехать в Тулузу ему было нельзя. Там стояли французы и жило семейство Симона де Монфора На башнях Капитолия и Нарбоннского замка веяло знамя Монфора — белый лев на красном поле. Раймонд VII, поручив свое дело храбрости приверженцев, вернулся в Марсель и поселился неподалеку от города в ожидании дальнейшего развития событий.
Однако его сын хотел попытать счастья. Оставив отца, он вернулся к рыцарям в Авиньон. Бароны провансальские и тулузские не щадили слов для выражения негодования по поводу торжества надменных французов. Юный Раймонд, выступавший теперь самостоятельно на политическую сцену, был средоточием их надежд. Он вторил им и напоминал былые дни их славы, все, что было дорого для них.
— Благодаря Монфору, Римской Церкви и ее проповедникам, — говорили ему, — куртуазность попрана и подверглась поношению; рыцарство так унижено, что если вы не поднимете его, то все будет потеряно навсегда.
— Если Христос сохранит моих дорогих друзей и меня, — было ответом, — если он возвратит мне Тулузу, чего я так сильно желаю, то куртуазность и рыцарство не пострадают никогда. Во всем свете не нашлось бы человека достаточно могущественного, чтобы сокрушить меня, если бы не Церковь.
Эти страстные слова дышали благородной отвагой, но говоривший их не обладал такими дарованиями, которые были необходимы, чтобы соответствовать высоте задачи. Впрочем, для народа было довольно и одних слов. Граждане Авиньона встретили молодого государя с выражениями самой горячей преданности. «Из всех домов, на всех улицах, — говорит летописец, раздавались крики: "В Тулузу, за отца и за сына, да здравствует победа!" Народ кидался на колени перед графом. "Господи Иисусе, дай нам силы и помоги возвратить законное наследие", — молились на площадях. Приходилось разгонять толпу угрозами и ударами» (15).
Все ликовали, точно после великой победы. На этот раз радовались не одни альбигойцы. Католики шли в кафедральный собор слушать молебен о даровании торжества в правом деле. Постепенно стали съезжаться в Авиньон бароны и владетели, желавшие под знаменами Раймонда драться с французами и грабителями-крестоносцами. Свободные коммуны Марселя, Тараскона, Оранжа и других провансальских городов, понимая, что победа над Монфором послужит и их собственному спасению, со своей стороны, наняли отряды и предложили их Раймонду. Весь Прованс восстал. Нет ничего трогательнее в истории того времени, как это благородное сочувствие городов к национальной династии, вызванное ее несчастьем.
Со своими союзниками молодой Раймонд собирался вторгнуться в Лангедок в конце мая 1216 года. Отряд был на походе, когда к графу прибыли послы из Бокера. Граждане звали его к себе, посылали ему клятвы в верности и обещали предать французский гарнизон, который занимал бокерский замок. Раймонд принял предложение. Дорогой к нему прибывали отряды из приронских коммун.
Осада Бокера
Гарнизоном Бокера командовал Ламберт Лемузенскии, человек стойкий и отважный. Он, не ожидая нападения противников, пытался сделать вылазку из замка, но безуспешно. Раймонд начал осаду по всем правилам тогдашнего военного искусства. Его воины пробрались под самые стены, засыпали ров и готовились поджечь ворота. Гарнизон вступил в переговоры, требуя свободного пропуска. В этом было отказано.
Осажденные готовились погибнуть голодной смертью Они отразили первый приступ, хотя тем нисколько по облегчили своего положения. Но они не знали, что в эти самые дни к ним на помощь спешит сам Монфор.
Вождь крестоносцев только что прибыл из Франции и завоеванную им страну. Он с негодованием узнал о восстании своих подданных, как он называл провансальцев, и об осаде бокерской цитадели. С ним было много новых авап тюристов, много знатных баронов, ожидавших себе наград и земель, — но у него почти не было пеших воинов. С ним были и оба его брата.
В Ниме, в верстах пятнадцати от Бокера, Монфор со брал свои отряды, исповедался, приобщился к святым Таинствам и пошел на Раймонда. У него уже нет, как прежде, безусловной уверенности в успехе своего дела. Он не с прежней смелостью идет на противника, который межлу тем окрылен успехом. Это видно из тона хроник той и другой стороны (16).
Счастливый доселе вождь потерял долю той несокрушимой веры в себя, которая прежде приводила его к победам. Он словно предчувствовал, что счастье может со временем изменить и ему. Он видел общее раздражение против французов, переходившее постепенно в восстание, Гордые феодалы Франции презирали коммуны на своей родине, хотя почти всегда терпели неудачи в борьбе е ними. Но они никогда не видели такого единодушия рьпм рей и горожан, как в Лангедоке. Вместо того чтобы тяготеть к своему сословию, как всегда бывало в средние века, провансальские бароны, к удивлению французов, стояли в одних рядах с презренными торгашами и вилланами.
Раймонд Юный, как его теперь называли, спокойно ждал приближения Монфора. На полях Бокера и произошло сражение. С обычной своей горячностью провансальцы бросились в бой. Битва была кровопролитная, но с довольно неопределенным исходом.
Монфор вынужден был к вечеру отойти в Бельгард и потому может считаться побежденным. Раймонд вошел в Бокер. На следующий день французы обложили город, но без каких-либо надежд занять его. Между тем провансальцы по-прежнему держали в блокаде замок и сохранили свои сообщения с Тарасконом, Монтобаном и другими городами, откуда могли получать припасы и вспомогательные отряды. Раймонд был настолько силен, что мог не только с успехом отбивать нападения Монфора, но в то же время стеснить бокерский гарнизон до последней крайности.
Сам Монфор скоро оказался в оборонительном положении и относительно Раймонда, которого он хотел принудить к сдаче: он должен был укрываться от назойливых вылазок провансальцев двойными палисадами. Ожесточение с обеих сторон было дошло до предела — провансальцы вешали, душили и четвертовали пленных, а части их трупов выставляли на городских стенах (17).
Бокерский гарнизон выкинул большое черное знамя, которое должно было известить Монфора, что скоро голод вынудит осажденных к сдаче, если он не выручит их в самое ближайшее время. Вождь приказал набранным крестьянам строить большую подвижную башню, которая должна была громить город. Сделанную наспех башню подвели к стенам города, но прежде, чем она стала действовать, ее зажгли, а тех, кто пробовал перейти на стену, обливали кипящим маслом. На штурм Монфор не решился, а между тем в замке прибегнули к последнему, отчаянному средству, рассчитывая пробиться, но безуспешно. Честь не позволяла сдаться этим храбрецам. Изможденные от усталости и недостаточной пищи, они геройски отбивались от нападений провансальцев и тоже сожгли их стенобитную машину.
В таких тяжелых для себя обстоятельствах Симон Монфор собрал военный совет из баронов и рыцарей. Он был слишком горд, чтобы предложить отступление, позорное для его герба. Но того требовала необходимость. При общем молчании встал Гюи Монфор и высказал то, что было в мыслях у каждого. Два месяца осады не привели ни к чему. Неудачи крестоносцев только усиливают общее недовольство и грозят восстанием. Спасти гарнизон, очевидно, не возможно, остается одно — отдать замок Раймонду и просить у него свободного пропуска гарнизона. Как бы для довершения впечатления в совет был введен воин, про бравшийся из замка. Он объявил, что гарнизон уже второй день без съестных припасов, но не сдается.
С Раймондом вступили в переговоры. Он с провансальской галантностью оказал самый любезный прием неприятельским парламентерам и, к удивлению, скоро принял предложенные условия, со своей стороны желая освободиться от Монфора, который после того вернулся в Ним.
Впервые побежденный, Монфор увидел, что почти вся страна объята восстанием. В Тулузе, этой столице Юга, все еще развевалось его знамя, но трудно было рассчиты вать на сочувствие ее населения. Действительно, оно пол нялось при одном слухе о неудаче крестоносцев. Граф Симон очень рассчитывал на свое личное присутствие, среди граждан, на обаяние своего грозного имени. Только; оно одно, полагал Монфор, могло смирить «эту неверную и презренную породу», как честил он тулузцев. Оставив свою конницу в Ниме для наблюдения за окрест ной страной, он поспешил в Тулузу.
Первое восстание в Тулузе и его подавление
Одна сторона говорит, что тулузцы первые поступили коварно, захватив передовых воинов, посланных Монфором, вследствие чего последний велел жечь окрестные города. Другая утверждает, что Симон первый поступил вероломно, арестовав городских депутатов, отправленных к нему для изъявления покорности (18). Во всяком случае, движение на Тулузу сильных отрядов Раймонда Юного, получившего подкрепления из Каталонии, было несомненной причиной похода Монфора.
В трех лье от столицы (то есть за тринадцать верст), именно в Монгискаре, полчища крестоносцев останови лись. Когда опасность разгрома казалась неминуемой, тулузцы отправили к своему ненавистному государю депу тацию для переговоров, которая должна была принести изъявления покорности и просить прощения. Симон вначале отказался принять ее, но потом допустил к себе и, осыпав депутатов оскорблениями и бранью, неожиданно объявил, что самые зажиточные из них должны остаться его заложниками. К такому поступку побудили его советы изменника Фулькона, епископа тулузского, бывшего в рядах крестоносцев. Указанных немедленно схватили, связали и отправили в Нарбоннский замок, несмотря на возражения и просьбы многих крестоносцев, и даже самого Гюи Монфора. Если даже это насилие и было ответом на захват передовых крестоносцев, то тем не менее Монфор не мог сделать ничего более бестактного, более вредного для своих собственных интересов. Направляясь в свою резиденцию в качестве законного государя, утвержденного высшей папской санкцией, он делался теперь в глазах тулузцев и всех провансальцев вероломным разбойником.
Муниципальный дух Тулузы восстал, старые силы пробудились, патриотический энтузиазм моментально охватил все население, словно вспыхнул от искры стог сена. Все поднялись на защиту дорогого города. В крепости находился неприятельский гарнизон, но у граждан были руки, чтобы защищать свои дома. Всякий взрослый мужчина стал на эти дни воином. Тулузцев было много, но рыцари Монфора, прославившиеся на турнирах, закаленные в боях, готовые броситься в бой по одному мановению знаменитого вождя, презрительно относились к противникам, которые готовились умирать под их мечами.
Тулузцы надеялись, говорит их поэт, что Бог не оставит их, поддержит правых. Они знали, что борются с ложью и коварством, так как то и другое было постоянным оружием их врага.
Монфор не соглашался ни на какую сделку с гражданами. Он неизменно отвечал тулузским посланным, молившим о пощаде:
— Я войду в Тулузу во что бы то ни стало, с оружием или без оружия. Прежде я не трогал вас, но вы между тем не переставали сноситься с бокерцами. Вы меня и без того когда не любили — вы клялись повиноваться не мне, а графу Раймонду да его сыну... (19)
Тот самый Фулькон, по совету которого были задержаны парламентеры, придумал, как французам взять столицу даже без борьбы. Епископ смело поехал в город, окруженный многими рыцарями и оруженосцами; он был уверен, что его влияние на католическую паству еще не исчезло. Он явился в городское собрание и заявил, что единственное спасение горожан в немедленной покорности; лицемерно он скорбел об участи своего бедного стада.
— Всякий, кто дорожит своей семьей и имуществом, должен сейчас же оставить город и идти в лагерь французов, — говорил Фулькон, — может быть, почетнейшие из граждан своей покорностью смягчат гнев властителя.
Несчастный народ поверил коварному прелату. Многие из влиятельных и богатых граждан решились идти первыми к Монфору. Южане были замечательно легковерны; их не научил пример сограждан, уже сидевших в оковах под стражей. Длинной вереницей тянулись тулузцы во французский лагерь; их встретили воины Монфора. Как и следовало ожидать, всех их тотчас же схватили и связали. Оставшиеся позади кинулись бежать и распространили в городе общее смятение. Теперь настал час народной мести.
Крестоносцы первые начали резню с католиками же. Воины, бывшие в свите епископа, оставшись в городе, схватились с горожанами. Они совершали насилие даже на.ц женщинами и детьми. «Было ужасно видеть, — замечает летописец,— сколько зла в короткое время успел сделан, епископ для своей паствы».
Но горожане не собирались уступать свой город — всякий, кто мог еще владеть оружием, вооружился, и нача лась битва в улицах. В разных местах вдруг выросли баррикады. Приходилось силой овладевать каждой преградой, и из-за каждой нещадно били врага.
Через несколько часов рыцари были утомлены такой непривычной для них борьбой. Тогда, в свою очередь, горожане перешли в наступление. Они бросились вперед с не истовством, точно «львы голодные и разъяренные. Они решились лучше умереть, чем жить в рабстве,» — говорит их историк (20).
Опытные и воинственные рыцари не выдержали напора и побежали от плохо вооруженных горожан, потерян убитыми более половины бойцов. Горожане ретипо преследовали бежавших, загораживали отступление и гна ли по главной улице к Нарбоннскому замку. Здесь французы думали укрыться в ожидании прибытия своего вождя, который замешкался.
В этот самый момент в Тулузу въехал вспомогательный отряд Гюи Монфора. Он хотел остановить бегущих, но, увлекаемый общей паникой, вместе с бегущими скрылся к Нарбоннском замке. Наступила ночь.
Симон наконец прибыл в замок, но дело было уже проиграно. Со свойственной ему жестокостью он, в порыве мести, велел поджечь город. С этой целью в разные части столицы направились особые отряды. Но жители были настороже. На площади святого Стефана произошла жестокая схватка, французы были опять разбиты: одни спешили укрыться в кафедральном соборе, другие — и епископском дворце; следом за ними туда ворвались граж дане. Тогда Симон Монфор сам пошел выручать своил но безуспешно. Напрасно он разил своим мечом направо и налево. Численность горожан брала перевес над воинским искусством. Такова была ярость и храбрость народа, что опытные рыцари должны были признать себя побежденными.
Была минута, когда Монфор боялся за собственную жизнь. Он укрылся в кафедральном соборе; кровь текла по стенам этого величавого здания, площадь устилали трупы и раненые. Рыцари напрягли последние силы и с Монфором во главе прорвались через толпу, оставили город и вернулись в Нарбоннский замок, где у Монфора был много пленников в качестве заложников. Взбешенный постыдным поражением, он объявил им, что если город не сложит сейчас же оружия, то они погибли, все без исключения. Но город, опьяненный победой, был на таком подъеме патриотического чувства и в таком безначалии, что невозможно было и думать об успехе каких-либо переговоров.
Казалось, что древняя муниципия счастливо спасла себя от порабощения. Но злой гений Тулузы в лице ее епископа опутывал ее новыми сетями. Вместе со старым приором кафедрального собора Фулькон поехал по улицам города, заклиная жителей сложить оружие. Он обещал им своей епископской митрой, от имени Монфора, полное забвение прошлого; в противном-де случае погибнут все их лучшие люди, находящиеся в плену. Опять новая борьба в сердцах горожан и сановников. Влиятельные лица собрались на совещание. Мнения решительно разделились: одни, наученные опытом, видели обман; другие, беспокоясь о судьбе пленников, соглашались на сделку. Епископ и аббат в соседнем шомещении нетерпеливо ожидали решения. Прения продолжались долго.
Чувство жалости и любовь к землякам одержали верх. Тулуза соглашалась покориться.
С радостью поспешил прелат к Монфору. Вождь велел благодарить капитул и просил передать, что завтра он лично прибудет в Капитолий для подписания договора и приглашает туда всех должностных граждан, носящих оружие, то есть местных рыцарей. Монфор прибыл, окруженный своими баронами. В город между тем вступили его войска и подошли к Капитолию. Когда заседание в присутствии графа б$ыло открыто, то первое слово было дано аббату святого Сатурнина. Он говорил о той счастливой дружбе, какая настала теперь между новым государем и тулузцами.
— Всем этим вы обязаны ходатайству вашего епископа, — прибавил он.
В честь изменника раздались восхваления.
— Может быть, между вами есть недовольные, — продолжал аббат. — Они могут свободно удалиться из города. Оставшимся же не будет причинено никакого насилия. Я и епископ в том порукою.
Нельзя было лицемерить с большим искусством. Прелатам были хорошо известны намерения Монфора насчет города. Он не был тронут покорностью и смирением победителей. Неблагоразумно явившиеся на собрание стали жертвой его гнева. Все присутствовавшие, окруженные его войсками, вынуждены были сложить оружие, а рыцари и знатнейшие горожане были заключены в оковы. Все главные пункты и башни города были немедленно заняты. И страхе и в предчувствии новых бедствий расходились обезоруженные граждане. Скорбь была написана на лицах Но тулузцы не знали еще всей той ненависти, какую способен был питать к общине французский вельможа того времени. К Тулузе же Монфор питал теперь особенную ненависть, так как она глубоко уязвила его самолюбие.
Он собрал своих баронов и сделал предложение, кото рое должна была устрашить даже средневековых феодалом. Он объявил, что хочет разрушить город до основания и сровнять его с землей. Любимый город древних кельтов, столица тектосагов[5], крепость римлян, Тулуза должна была окончить свое историческое существование от руки свирепого франка и предводимых им крестоносцев.
Первым восстал против такой меры брат вождя — Гюи; он видел в ней покушение отчасти и на свое достояние.
— Тулузцы и без того жестоко наказаны, государь, говорил он. — Если, увлеченный жестокостью, ты разру шишь город, то приобретешь дурную славу в христиане ком мире. Ты берешься защищать имя Христово между еретиками, а между тем делаешься ненавистным Церкви (21).
Даже Фулькону не могло понравиться такое намерение. Симона с трудом уговорили ограничиться большой контрибуцией, которой тулузцы выкупили существование своего славного города. Монфор велел консулам и советникам собраться в церкви Святого Петра; туда же были приведены пленники из замка. Победитель объявил здесь городу свою волю. Тулуза должна уплатить ему тридцать тысяч марок серебром. Для ограбленных жителем это была огромная сумма. Но эта же мера послужила и к спасению Тулузы.
Добыть такие деньги можно было только или открытым грабежом, или невыносимыми вымогательствами. Ответственность за уплату была возложена на особых сбор щиков, выбранных из состоятельных лиц. Последние но платились большей частью своего имущества, и их ном висть к французским порядкам могла лишь усилиться.
Долго пересказывать те жестокости, которые совершались при сборе налога. «Народ стонал в рабстве», — лаконически выражается католический историк альбигойской войны, близкий к описываемым событиям. «Слуги Монфора, — рассказывает очевидец, тулузский патриот, — стали чинить всякие насилия, оскорбления и несправедливости. Везде они стали появляться угрожающие, свирепые; спрашивали и брали что хотели. Во всякое время и повсюду можно было встретить в Тулузе и мужчин и женщин, одинаково печальных, неутешных и негодующих, слезы лились у них из глаз и сердце сжималось от боли. Иностранцы хозяйничали в городе, скупая все у жителей, так что им самим не оставалось ни муки, ни зерна, ни порядочных одежд».
«О благородный город Тулуза, так глубоко униженный, каким позорным людям Бог предал тебя!» (22)
Воспоминания о старом, прирожденном графе и его сыне, этих несчастных скитальцах, было единственным утешением в великом народном горе. С изгнанниками тулузцы установили тайные связи, и, лишь только Монфор выступил из столицы для покорения графства Фуа, агитация против иноземного господства снова усилилась.
На этот раз она прошла далеко не бесследно. Приближались дни хотя и временного, но довольно продолжительного торжества национального дела в Лангедоке. Вместе с этим торжеством должно было усилиться альбигойство.
Второе восстание в Тулузе, осада Тулузы и смерть Симона Монфора
Монфору уже не суждено было больше увидеть город, которому он принес столько зла. Оставляя Тулузу, он не одозревал, что целым рядом событий и даже небесславных для него успехов, он постепенно отдаляется от главной цели крестового похода.
Владетель графства Фуа, Раймонд Роже, лишенный своего наследия Иннокентием III, обратился с мольбой к новому папе, Гонорию III, об оказании справедливости. С этою целью он отправил к нему посольство. Со всех сторон слышал Гонорий предостережения против еретика, но, желая ознаменовать первые дни своего правления актом правосудия, приказал двадцать седьмого ноября 1216 года местному легату ввести графа де Фуа во владение его землями, в последнее время управляемыми Римской Церковью. Извещая об этом Раймонда Роже, он писал ему между прочим:
«Многие лица не советовали мне возвращать тебе самый замок Фуа из опасения, что, получив его, ты снова смутишь мир и оскорбишь веру, но мы решились привести в исполнение наше решение, так как ты поклялся перед кардиналом Петром Беневентским верно служить Церкви, почему этот легат и дал тебе разрешение. Мы не хотим навлекать нарекания на Римскую Церковь, что она не держит своих обещаний. Но если ты откажешь нам в повино вении, то будь уверен, что наша рука всегда простерта над тобой, дабы немедленно наказать тебя».
Тут же папа сообщает, что такая милость сделана отнюдь не даром и не оплошно, что сам граф Роже Бернар, его сын и граф Коммингский, его племянник, дадут проч ное обязательство, что не нарушат более мира и «не станут мутить веру». Они должны были обещать, что при первой таковой попытке замок Фуа навсегда перейдет к Римской Церкви. Сверх того Раймонд Роже должен заплатить пяг надцать тысяч солидов Церкви за охрану Фуа.
Исполнив все эти обязательства, граф надеялся получить свою столицу. С такими мечтами он ехал из Каталонии, где жил изгнанником. Он рассчитывал, что невзгоды его прошли. Он был уже стар; энергия оставляла его. Никто ш провансальских князей не отличался никогда такой ненавистью к Риму, как Раймонд Роже, но теперь он чувствовал, что новая вера не может продолжать борьбу с тиарой. Вряд ли он был способен на какую-либо инициативу. Им сцену выступало новое поколение. Те герои Прованса, которые проявили себя на заре альбигойства, пережили столько бедствий за ересь дуалистов и за учение Вальдо, что могли со спокойною совестью передать продолжение борьбы своим детям.
Чем был Раймонд Юный для Тулузы, тем для Фуа стал Роже Бернар. Отцы оставались зрителями подвигов своих детей, когда последние с юношеской отвагой рвались в неравную борьбу. Отцы, конечно, готовы были разделить радость торжества, — оно было чаянием их жизни, — но и теперь и впредь они предпочтут оставаться пассивными участниками.
Монфор очень хорошо понимал это. Он знал, что местные династии — центр притяжения для населения, и потому поставил себе целью искоренить их. Он понимал, что ересь погибнет лишь тогда, когда его крестоносцы водворятся в Лангедоке как землевладельцы, на феодальных отношениях к нему одному. А для этого надо было уничтожить представителей прежних династий. Потому ему было весьма неприятно снисхождение, оказанное Гонорием III Раймонду Роже. Но как обойти всемогущую папскую буллу, как попытаться вторично изгнать графа из его областей? Он искал предлог и нашел его.
В последнее время около замка Фуа был возведен укрепленный городок Монгреньер. Он был построен с удивительной быстротой. В Лангедоке при счастливых экономических условиях это бывало нередко. Монгреньер находился на вершине горы, доступ на которую был очень затруднен. Полагали, и небезосновательно, что новая крепость станет крепким орешком для тех, кто попытается овладеть ею. Там-то, по словам Петра Сернейского, поселились «возмутители и гонители» истинной веры; там было убежище врагов Римской Церкви (23).
Крепость занимал Роже Бернар. Слова хроникера дают достаточное основание причислить молодого графа к главам вождям альбигойского движения. Монфор знал, какое население жило в Монгреньере. Совершенно неожиданно, шестого февраля 1217 года, он явился со своей армией и встал перед крепостью. Роже Бернар считал, что находится в совершенной безопасности. В горах лежал снег; зима в этой местности была всегда суровее, чем в окрестностях. Всадники Монфора привыкли преодолевать бури и непогоды — чего нельзя было достичь силой, они достигали терпением.
Вопреки ожиданиям жителей, их город скоро оказался в плотной блокаде. Французы пресекли все пути сообщения; в городе истощались припасы продовольствия.
Пока сын находился в такой опасности, отец не решался вернуться в Фуа, потому что того не желал Монфор. Напрасно он ссылался на папскую буллу, гарантировавшую ему мир. Духовенство вняло было его представлениям, и в Перпиньяне депутация клириков явилась в лагерь Монфора. Но Симон решительно заявил, что не уважит их просьбы, что он не собирается допускать возвращения династии Рожеров и что намерен занять и укрепить замок Фуа. Духовенство не хотело менять Монфора на бывшего друга еретиков и дозволило вождю крестоносцев нарушить папскую буллу до прибытия нового легата, кардинала Бертрана, назначенного папою в январе 1217 года.
Между тем положение Роже Бернара становилось опасным. Воинов у него было немного, на вылазку он не решался, а помощи от отца ожидать было невозможно, поскольку французы уже заняли Фуа. Он принужден был заговорить о капитуляции Монгреньера, требуя свободного выхода с оружием для себя и пропуска для осажденных еретиков. Едва ли Монфор принял бы такие условия, если бы не вести о новых волнениях в нарбоннском диоцезе. Он согласился на пропуск, взяв при этом обязательство с Роже Бернара не поднимать оружия на французов в продолжение года.
Снова обреченный на скитальчество, Бернар поехал к отцу на каталонскую границу. В Монгреньере и Фуа были оставлены французские гарнизоны.
Восстание в нарбоннском диоцезе и лига нижних приронских городов показали французам, насколько непрочна власть завоевателей на все еще враждебной территории. Монфору удалось погасить мятеж, но против лиги, душой которой был город Сень-Жилль, усилия крестоносцев оказались бесполезными.
Бывший свидетелем позора Раймонда VI, Сень-Жилль ревностно стоял за эту династию. Дошло до того, что сен-жилльцы явно возмутились против духовенства, с которым были связаны воспоминания о насилиях чужеземцев. Со святыми дарами в руках, босые, местный аббат и его клир вышли из Сен-Жилля торжественною процессией, предварительно произнеся проклятие над еретическим городом. Только этого и хотели горожане. Они тотчас же провозгласили над собой власть Раймонда как законного государя.
Монфор начал свои подвиги на Роне убийствами и резней в замке Бернис, где, «сообразно заслугам», вздернул на виселицы тех, «кого следовало» (24). Эти казни произвели то действие, что альбигойцы стали сосредоточиваться в цитаделях Сен-Жилля и Бокера. В лагере Монфора находился только что прибывший легат, кардинал Бертран. Дорогой он едва не попался в руки еретиков. Его наблюдению поручались провинции Эмбрен, Вьенна, Арль, Нарбонна, Ош и диоцезы Менд, Пюи и Альби с правом вершить в них все «дела мира и войны». Прован сальские прелаты безусловно должны были исполнять сю распоряжения, а для духовных назиданий он выписал и тулузский край из Парижа нескольких молодых богосло вов. Он готовился быть свидетелем окончательного и проч ного водворения католичества на берегах Роны. Рыцари Монфора уже подошли к Сен-Жиллю. Легат остался выжидать в Оранже после того, как получил от сен-жилльцев решительное запрещение входить в город, он заявил, что достигнет того силою.
Между тем Раймонд Юный, этот живой дух страны, приносивший повсюду свежую энергию, побывав в Сен-Жилле, учредил свою резиденцию в Авиньоне. Он вел отсюда сношения с тулузцами, производил между ними агитацию и, считая себя независимым государем, издавал грамоты, в которых титуловался: «Раймонд, Божиею милостью, молодой граф Тулузы, герцог Нарбонны и марки Прованса» (25). От своего имени он давал разные льготы городам Прованса, как, например, Марселю и Бокеру, актами утверждая их самоуправление и содействуя тем развитию их промышленности и торговли.
Старый дух свободы живительно повеял на эти древние общины. Те узы, которыми Раймонд привязал себя к местной коммуной жизни, были настолько прочны, что отряды Монфора терпели поражения везде, где только ни появлялись. Крестоносцы отступили от Сен-Жилля для спасения легата, которого марсельцы, авиньонцы и бокерцы осадили в Оранже. Разогнав одним появлением пехоту общин, Монфор по совету легата сосредоточил все свои силы в Вивьере для перехода через Рону. Во всех других пунктах переправа была невозможна, поскольку городские дружины укрепили местность и неусыпно наблюдали за берегом, а авиньонцы пустили несколько судов по Роне, чтобы препятствовать переправе крестоносцев.
Наконец, преодолев упорное сопротивление, Монфор перешел Рону под Вивьером. Вешая и предавая огню всех, кто попадался ему на пути, он остановился ненадолго в Монтелимаре, жители которого изъявили ему покорность, но отказали в подчинении легату. Видимо, Монфору это даже понравилось. По намекам летописи, здесь жило много еретиков, но Симон неожиданно смягчился, когда получил от владельца замка ленную присягу. Он готовился к нападению на замок Крёст, в диоцезе Валенции, который принадлежал Адемару де Пуатье, графу Валентинуа, другу Раймонда Юного. Вероятно, этот замок представлял выгодную позицию и был хорошо укреплен, ибо для его осады потребовались почти все силы Монфора и еще сто французских рыцарей, присланных королем Филиппом. То был первый факт прямого участия французского правительства в крестовом предприятии и в истории завоевания страны.
События под Крёстом показали, насколько чужд был Монфор делу непосредственного служения Римской Церкви. Всегда отважный и неуступчивый, он, невзирая на присутствие легата, вступает в переговоры с графом Валентинуа, даже предлагает ему свою дочь в замужество с тем только, чтобы ему уступили этот драгоценный замок и чтобы граф Адемар впредь не нападал на крестоносцев. Об альбигойцах в договоре не было и помину. Предложение было принято, и вот друг Раймонда Юного делается другом вождя крестоносцев и даже связывает себя с ним родственными узами.
Но это был последний успех Монфора. Он думал, что заключил выгодную сделку, что его соперник обессилен отделением от него сильного союзника, что Раймонды теперь удалятся из Прованса, что французы восторжествуют... Но тут-то и постигло его разочарование. Думая достигнуть тихой пристани, он попал в новые бури, которые на этот раз сокрушили его.
Когда переговоры с графом Валентинуа были окончены, в лагерь пришла весть, что «коварная» столица возмутилась снова и что она провозгласила государем Раймонда, своего старого графа.
Тулуза не переставала поддерживагь постоянные сношения с Раймондом VI. Лишь только все было приготовлено к восстанию, графа известили. Он набрал армию арагонцев с каталонцами и перешел Пиренеи. Граф Комминга Бернар и Роже Бернар де Фуа со своими верными вассалами также присоединились к нему. В его рядах были католики вместе с еретиками и их покровителями. Не доходя нескольких верст до столицы, под Сельветатом, граф Бернар, шедший впереди, встретил значительный отряд всадников тулузского гарнизона, которые занимались грабежом в окрестных селениях. Быстрым натиском французы были смяты и рассеяны, но, убедившись в малочисленности нападавших, они снова построились и теснили их, в свою очередь, до тех пор, пока не подошли главные про вансальские силы. Тогда крестоносцы обратились в бегство, оставив множество трупов на месте боя (26).
«Бог покровительствует вам, граф!— так приветствовал своего дядю Раймонда, Бернар де Комминг. — Так бу дет со всеми вашими врагами, если небо поможет нам!»
Действительно, победа, неважная сама по себе, имела огромное значение. Надо заметить, что в это время Тулуза не была укреплена. Раймонд расположился на ночлег перед столицей; огни его лагеря были видны в Тулузе, его воины разъезжали вокруг города. Бежавшие крестоносцы принес ли радостную для горожан весть, а беспорядочные остатки отряда навели панику на товарищей, торопившихся поки нуть город. Тулузцы готовились завтра же идти навстречу своему графу в праздничных одеждах.
Ночь прошла для крестоносцев в тревоге. Не решаясь ни на что, они ожидали мести от жителей Тулузы. Францу зов было слишком мало, чтобы перед сильным неприятелем держать тулузцев в прежнем страхе. Оставить город означало наткнуться на провансальцев и во всяком случае подвергнуться их преследованию, а рассчитывать удержаться в городе до прибытия самого Монфора было немыслимо. Они были отрезаны также от цитадели, где, соединившись с товарищами, могли бы еще продержаться длительный срок. Поэтому они вошли в переговоры с гражданами, рассчитывая получить свободный пропуск в Нарбоннский замок. Но население не расположено было выпускать живыми людей, которые своим поведением и всегдашней надменностью навлекли на себя столько ненависти и раздражения.
Лишь только занялось утро, как на улицах Тулузы началось кровопролитие. Провансальцы стали входить в город. Горожане загородили доступ французам в цитадель; на каждого крестоносца нападали порознь и убивали беспощадно. Началась погоня за воинами креста и их истребление. Народ вооружился «камнями, дубьем, ножами и стал избивать людей Монфора», выразительно говорит летописец. Большая часть гарнизона погибла от рук озлобленных тулузцев. Ничтожное число пробралось в замок. Там графиня Алиса, жена Монфора, решила вместе со своими защитниками не сдаваться живой; она уже разослала вестников ко всем начальникам крестоносцев, занимавших города Лангедока.
Между тем в тот же день, то есть восемнадцатого сентября 1217 года, в лагере Раймонда происходили иные сцены. Навстречу ему веселыми толпами стремились тулузцы. Прием, оказанный графу, по выражению поэта Прованса, был «воплощением радости, увенчанной цветами». Раймонд VI переправился через Гаронну и вступил в город среди восторженных криков освобожденного народа. Капитул и цехи со значками приветствовали его как законного государя. Шляпы летели в воздух везде, где появлялся старый граф. Простолюдины падали на колени и цеплялись за стремена его коня. Всякий теснился к освободителю, чтобы поцеловать его руку, край его одежды. Незнакомые друг с другом тулузцы лобызались на улицах. «Наш добрый граф вернулся» — это приветствие переходило из уст в уста в продолжение нескольких дней.
Принимая знаки горячего сочувствия народа, Раймонд должен был обезопасить себя от нападений своего заклятого врага. Сколько раз ему приходилось в последнее время покидать свою родину и столицу предков. Он смотрел на ее разрушенные стены и хорошо сознавал, что Монфор с такой же легкостью вытеснит его, с какой ему посчастливилось овладеть городом. Следовало безотлагательно укрепить столицу. Восстановление старых стен отняло бы много времени. Со дня на день надо было ждать приближения крестоносцев. Решились сделать укрепления на скорую руку. Стали рыть канавы и устраивать широкие валы, укрепляя их палисадами. Граждане вызвались рыть и носить землю. «Никогда и нигде, — верно замечает летописец, — не было видано таких богатых и знатных работников. Здесь работали графы и рыцари, буржуа и их жены, богатые купцы, взрослые и дети, а вместе с ними мальчики и девочки, слуги и маклеры» (27).
Благодаря энергии граждан в скором времени были возведены достаточные укрепления для отражения нападений. В этом убедился Гюи Монфор, который, не ожидая встретить перед собой тулузских укреплений, спешил из Каркассона со своими французами.
В те времена, которые мы описываем, Тулуза занимала только один, правый, берег Гаронны, тогда не было гранитной набережной, которая теперь украшает этот берег; город более распространялся к западу. Нарбоннский замок, теперь не существующий и на месте которого находится, между прочим, здание судебных мест, уединялся к востоку. Перед замком простиралось обширное плато, представляющее теперь, напротив, лучшую и наиболее заселенную часть города.
В страхе перед Монфором тулузцы должны были обезо пасить себя от вылазок из замка и в то же время укрепить западную, северную и северо-восточную линию города, для отражения нападений. Гюи Монфор подошел из Каркассона и напал на город из долины Монтолье, но неудачно Он, правда, ворвался в улицы, разгоняя все на пути, его воины даже успели поджечь несколько строений, но ею встретил Роже Бернар, всегда искавший боя. Рыцари Бернара прошли через толпы народа, дружно и внезапно ударили на французов и нормандцев с криками «Тулуза и Фуа!». Вид развевавшегося знамени воодушевлял провансальцев. Роже Бернар сошел с коня, встал на возвышенном место и лично управлял боем. Между тем пехота коммунаров обошла французов с тыла; со всех сторон и с крыш домов на них сыпался град камней.
Теснимые отовсюду, крестоносцы не знали, где искать спасение. С трудом и с большими потерями они вырвались из города и едва успели укрыться в Нарбонн ском замке. Пленные французы были повешены народом. «Нас победили безоружные горожане, французское имя опозорено, лучше бы нам не родиться на свет», — говорили французы.
Между тем к Раймонду один за другим прибывали лангедокские рыцари. Тут были синьоры из Гаскони и Керси, из Альбижуа и из прилуарских земель. Около Раймонда собрался цвет провансальской аристократии.
«Настало наше счастье, пришло наше время, да здравствует Тулуза» — такие клики раздавались в столице.
Симон Монфор и не предполагал ничего подобного. Вестник, посланный к нему от Алисы, нашел его на берегу Роны. Он изумился его словам. Не доверяя посланному и наградив его несколькими отборными проклятиями, он позвал капеллана и велел прочесть письмо жены, так как сам не владел «книжной мудростью». Письмо подтвердило ужасную для него истину.
На минуту им овладело страшное бешенство, но он сумел взять себя в руки и обрести прежнее хладнокровие. Сомневаться было невозможно. Оставалось только обдумать план действий. Передать эту весть войску значило произвести в лагере панику. Всю страну охватило восстание. Все долгие труды, вся кровь крестоносцев, видимо, не благословлялись Богом, не приносили плодов. Все завоеванное было снова и позорно потеряно. Дух французов должен был пасть от частых неудач; крестоносцы могли разойтись по домам и в эту решительную минуту оставить вождя одного против сильных противников.
Монфор прибегнул к хитрости как к единственному средству удержать войска. Под страхом смерти он запретил вестнику и капеллану разглашать правду, которую некоторое время должны были знать только он сам да они во всем лагере. Капеллану было обещано епископство, вестнику — начальство над сотней копейщиков, в противном случае Монфор пригрозил отдать их в руки палача. Они должны были рассказывать всем об очередных победах. Этими вымышленными успехами Монфор обрадовал рыцарей, когда они, узнав о прибытии вестника, собрались в его палатку.
— Воистину, — говорил он им, — великое благодарение должен я воздать Господу за те благодеяния, которые ниспосылает на нас. Мой брат Гюи и моя возлюбленная супруга Алиса извещают меня, что отныне во всем Лангедоке нет ни одного мятежника и что уже забыли и думать о Раймонде Старом. Теперь, господа, и я и вы можем насладиться отдыхом и спокойно отправиться в Тулузу в обществе наших дам и товарищей, которые готовят нам почетный прием.
Французские рыцари поверили этим словам, сказанным самым спокойным тоном. Монфор был весел, шутил; но когда смеялись его губы, он болел сердцем. Поспешно снялся лагерь, и крестоносцы Монфора в самом радостном настроении поспешили усиленными переходами в Тулузу. Толковали о предстоящих обещанных удовольствиях, забавах и турнирах. Но общее веселое настроение сменилось изумлением, когда в Басьеже вождь стал строить свое войско в боевой порядок, готовясь к атаке. Только сейчас он решился объявить истину:
— Рыцари, готовьтесь колоть и рубить, — произнес он своим громовым голосом пред их рядами, — вот настало время отомстить нашим врагам. Раймонд взял у меня Тулузу. Когда мы отнимем ее, то клянусь Господом, что на этот раз, если Раймонд попадется мне в руки, я сдеру с него кожу заживо.
Крестоносцы были так поражены неожиданностью, что, вопреки обыкновению, не ответили вождю боевыми кли чами.
«Монфор под Тулузой!» — для горожан это было страшное известие. Теперь он не шел, как прежде, искоренить дворянскую куртуазность, он хотел явно поработить столицу Юга, если не стереть ее с лица земли.
Легат предлагает Монфору умертвить графа и перевешать мужчин. Епископ Фулькон умерил такую ревность Бертрана, он советовал пощадить правоверных католиков.
— Нет, — решил кардинал, — не слушайте его, граф. Если я вам предал тулузцев, то Бог не потребует у вас отчета в них и не будет мстить вам (28).
Но желания кардинала не сбылись. На этот раз гонимые восторжествовали. Неудача постигла Монфора при первом же нападении на тулузские валы. Он был вынужден отступить, его кавалерия была жестоко побита народом, к которому в решительный момент боя подоспели графы Комминга и Фуа. Вождь едва успел скрыться в Нарбоннском замке. Он убедился, что ему предстоит вести серьезную осаду.
Это было в конце сентября 1217 года. Алиса поехала ко двору короля Филиппа Августа просить его содействия, а известный проповедник Иаков Витрийский вместе с епископом Фульконом отправился в Германию поднимать новые пополнения крестоносцев.
Монфор понял, что снова предстоит начать покорение Лангедока и истребление ереси. Он видел, как восстание разливалось по всему Югу. Реакция на французское владычество приняла патриотический характер; всякий феодал, говоривший на провансальском языке, спешил принеси! свой меч на защиту святого дела. Было некоторое сомнение в славном Раймонде Роже, графе де Фуа, который долю оставался равнодушным к делу Тулузы, но вот и он появился с наваррцами на помощь братьям. Религиозный характер движения был мало заметен, но торжество национальных династий, несомненно, приносило с собой некоторую веротерпимость. Альбигойцы могли свободно собираться на свои consolamenta, на свои службы; им не было надобности запасаться теперь на целые месяцы заготовленным хлебом и тайно разносить по деревням этот символ альбигойского единства. Все обряды стали совершаться торжественно при свете огней. Вальденсы теперь также цели возможность свободно молиться, не опасаясь темницы.
Но в любом случае сектанты составляли меньшинство населения, и только ненасытная корысть могла выдавать восстание угнетенной национальности за посрамление христианства. Подобным людям все представлялось в мрачном свете, тем более что, окидывая взорами всю Европу, они нигде не ожидали встретить содействия своему делу. Неутомимый гонитель ереси, великий боец католицизма, Инокентий III сошел в могилу. Гонорий III не обладал его энергией.
Крестоносцы под видом защиты католической веры в сущности заботились о феодальных приобретениях на Юге и о подчинении себе местных баронов. Хотя они не теряли веры в счастье Симона Монфора, однако не переставали взывать о помощи к Европе, а особенно к Франции. Впрочем, прием этот несколько устарел — им так часто злоупотребляли на глазах одного и того же поколения. Крестовая идея вообще перестала вызывать сочувствие, поскольку давно утратила свою чистоту и святость. На зов проповедников никто не откликался. И бароны, и вилланы Франции стали понимать, что осада Тулузы — личное дело Симона Монфора.
Монфор был предоставлен самому себе, а укрепления Тулузы росли на его глазах. Он хотел бы обложить столицу со всех сторон и выморить ее защитников голодом, но для этого у него не было достаточных сил. Он попытался для начала прервать сообщение тулузцев с Гасконью через Гаронну, в том самом месте, где было перекинуто два моста, подступы к которым были хорошо укреплены. Симон расположился на этой дороге, оставив сына Амори у Нарбоннского замка, но отряды последнего стали подвергаться частым нападениям тулузцев. Отец боялся за него. Разъединив свои силы, он таким образом облегчал действия осажденных. Не принося никакого вреда им на своем наблюдательном посту, Симон готовился обратно перейти Гаронну. Его биограф, говоря о добровольном удалении Монфора с этого пункта, скрывает поражение, которое могло быть нанесено непобедимому вождю «коварными и низкими тулузцами» и которое принудило его к отступлению (29).
Милиция предместья Сен-Субра, вооружившись кольями, вероятно ночью, неожиданно кинулась на французов, отряды нападающих проникли в центр лагеря. Может быть, схватка с рыцарями окончилась бы не в пользу еретиков, если бы граф де Фуа с конными наваррцами не подоспел в решительную минуту. Он смял французов, вытеснил их из окопов и преследовал до Мюрэ. Здесь, на берегу Гаронны, беглецов охватила паника. Кто спешил вскочить в судно, чтобы уйти от наваррцев; кто бросался вплавь вместе с конем. Монфор, который не мог удержать бежавших, был среди последних. Его закованный конь и тяжелая кираса увлекли его ко дну; казалось, что на этот раз некому будет его спасти, как за четыре года перед тем на том же самом месте. Но он опять счастливо избежал опасности, его и на этот раз спас один из телохранителей.
В то время, когда граф де Фуа, этот «цвет рыцарства», приветствуемый тулузцами после победы, объезжал с триумфом улицы города, Монфор, приведя в порядок остатки своих войск, спешил к Нарбоннскому замку. Роже Бернар стал героем и идолом народа— ему удалось победить самого Монфора; это было неожиданное счастье для тулузцев. Когда Раймонд созвал баронов под своды храма святого Сатурнина, чтобы толковать о мерах защиты Тулузы, то обратился с благодарностью к победителю, при зывая и других «баронов города», — как провансальские феодалы называли себя (30), — не оставить его помощью и защите наследия предков. Граф де Фуа, отвечая от лица всех синьоров, говорил, что каждый из них готов умереть за Раймонда, что все они будут помогать ему до конца борьбы, что они умрут вместе с ним, но не покинут его. Потом стал говорить один из почетных мужей капитула; это был красноречивый доктор Бернар. Он объявил, что граждане Тулузы клянутся принести свою жизнь и свое имущество в эту торжественную минуту на алтарь спа сения отечества, что все, чем они владеют, отныне при надлежит их природному государю и его воинам; от имени города он горячо благодарил рыцарей и баронов за то, что они оказали содействие графу Раймонду и единодушно защищают права Тулузы (31). Тогда было принят решение выступить против Нарбоннского замка, где держался Монфор.
Тотчас выкатили камнеметные орудия, стати увеличн вать рвы между городом и замком, застилая их фальшивы ми фашинами (ггаЬи^иегг). Стены, срытые Монфором, стали возводить на глазах французов, прикрываясь бастионом и защищаясь стрельбой из мортир. И теперь, как и в начале осады, женщины и дети помогали мужчинам в сооружении укреплений. Дело было закончено так скоро, что французы, которые продолжали бездействовать, чувствуя свое бесссилие, не успели опомниться. Тулуза готовилась повторить пример Нуманции[6]. Муниципальный дух столицы творил чудеса.
Когда укрепления города с этой стороны были завершены, то роли переменились: осаждавшие превратились в осажденных; стрельба из тулузских мортир так усилилась, что от тяжелых камней старые стены Нарбоннского замка стали осыпаться. Французам стало небезопасно оставаться в замке.
Монфор, безуспешно пытаясь казаться равнодушным, приказал накануне выступить из замка и расположился в долине Монтолье. Здесь он собрал совет из рыцарей и прелатов. Епископ Фулькон предлагал дождаться прибытия новых крестоносцев, которых давно вызывал кардинал-легат.
— Тогда, — предсказывал он, — погибнут под острием меча мужчины и женщины и даже грудные дети тулузские, а оставшиеся в живых будут разосланы по монастырям.
На этот хищный вызов ренегата последовал благородный протест одного французского крестоносца.
— Ваш совет пагубен, — говорил Роберт де Пекернэ. — Графу Раймонду улыбнулось счастье — война разгорается все серьезнее. Мы, которые завоевали эту землю, не могли привлечь сердца жителей. Всегда, лишь только победитель начнет господствовать, становится возможным потерять завоеванное; счастье изменчиво. Француз всегда имеет успех в начале борьбы, но когда он достигнет цели, то становится надменным: гордость губит его и с высоты опрокидывает в пропасть. Все, что он приобрел некогда храбростью, теряет теперь управлением. Так, от французской надменности погибли в Испании Роланд и Оливье[7]. И если теперь граф наш лишается этой земли, то потому, что мы были плохими властителями. Он завоевал страну крестом и мечом от ворот Реола до Вивьера, он владел всем, кроме Монпелье. Он получал отовсюду доходы марками и денариями. Но он отдал страну в управление ненавистных людей, которые возбудили против себя народ своим произволом. И вот Бог, который всегда справедлив, услышал их вопли, увидел ежедневные наши несправедливости и теперь послал нам новых врагов. Тулуза терпела столько невыносимых мучений, что неудивительно, если она возмутилась. Из-за того, что мы посадили правителями лакеев и негодяев, теперь приходится расплачиваться нам всем; на наших земляков стали смотреть как на разбойников. Конечно, барон, который преследует, грабит и убивает своих подданных, должен всегда быть наготове, чтобы с огнем и мечом отражать их возмущение. Вот почему, господа, наступил конец нашим успехам (32).
Смысл этой речи объясняет точнее всяких описаний как побуждения французов, разносивших крест и меч по Лангедоку, так и характер их господства в завоеванной стране. Сомнительно, что Роберт де Пекернэ произносил именно эти слова, но это и не особенно важно. Для нас интересно то, как понимали дело современники и очевидцы событий, и речь, вложенная эпической поэмой в уста француза, кто бы он ни был, приобретая особенный смысл и значение, освещает истинным светом эти знаменательные события. Конечно, подобные убеждения оставались исключением; их не могли разделять рыцари в лагере Монфора на глазах вождя, который всегда был настороже против недовольных.
— Всякие разговоры в таком случае — потерянное время, — заключил один из крестоносцев на речь де Пекернэ. — Осадой мы наживем себе беды на десять лет. Завтра, лишь только взойдет заря, а тулузцы еще будут погружены в сон, мы кинемся к воротам, перережем часовых и произведем страх и смятение в полках и в городе. Там же — будь что будет, лучше смерть в честном бою, чем позор.
Это предложение было принято. Широкое плато перед воротами Монтолье делилось между французами и тулузцами, сторожившими свои укрепления. Чтобы пробраться к воротам, надобно было занять эту линию и опрокинуть передовую стражу. Граждане, впрочем, ревностно соблю¬дали сторожевую службу. Лишь только забрезжил свет, крестоносцы кинулись из засады, заняли передовые укрепления и понеслись к воротам. Но тулузская пехота уже была на ногах: не успевшие одеться, они тем не менее держали в руках оружие.
Однако натиск крестоносцев был столь силен, что близ ворот тулузцы были смяты и побежали. Они падали в овраги, наполненные водой, и тонули без счета. Французы наносили страшные удары и устилали свой путь трупами. Молодой Амори, сын Симона, был впереди. Он ворвался в город. Раздались крики народа и вопли: «Святая Мария, спаси нас!» Пешее войско обратилось в нестройную толпу Но вот Роже Бернар с провансальскими рыцарями явился защищать народ. Красные кресты приостановились, как бы готовясь плотной стеной принять врага. Произошла схватка грудь в грудь; резались беспощадно. Долго ни те ни другие не поддавались.
«С той и другой стороны наносили столько ударов, что стук мечей был слышен по всему городу и отдавался в поле и даже в замке».
Наконец провансальцы одолели; французы отступили. Их преследовали с такой быстротой, что теперь уже они, израненные, летели в овраги; там многие из них нашли смерть. В открытом поле расстройство было довершено. Но новый отряд французов, вышедший из замка, поспешил на помощь.
Через несколько дней подобная же попытка была повторена против ворот Сен-Субра. Она была также неудачна.
— Счастье отвернулось от меня, — говорил Симон Монфор. — Тулузу, которую я покорил крестом, отнимают у меня мечом (33).
В довершение своих неудач он стал получать частые известия о выходе из под его власти завоеванных городов Лангедока. Хроники не указывают, какие именно города свергнули на этот раз французское владычество, но надо полагать, по многим косвенным данным, что национальное движение становилось общим. Неудача патриотов в Монтобане указываются летописцем как исключение. Это был единственный успех французов со времени восстания.
В Монтобане стояло восемьсот человек католического гарнизона с сенешалем Аженуа, но коммуна, несмотря на это, надеялась избавиться от пришельцев. В этой общине было много альбигойцев. Здесь даже консулы были из еретиков. К Раймонду VI был послан гонец. Он доносил, что три тысячи граждан готовы поднять оружие за графа тулузского и перерезать французов, если только он окажет свое содействие. Раймонд благодарил общину и обещал прислать пятьсот арагонских копейщиков. Ночью этот отряд достиг Монтобана и тайно был впущен городскими властями. Думали застать крестоносцев спящими и избить их. Уже сделано было распоряжение захватить начальников и католического епископа. Но консулы не догадывались, что среди заговорщиков есть предатель. Сенешаль знал о заговоре и предупредил гарнизон. Стройная рать ждала арагонцев на указанном месте. Такая неожиданность изумила нападавших. Они бросились бежать; месть обрушилась на жителей и мятежный город. Заготовленные на некоторых улицах баррикады с рассветом были взяты французами, и утром последовала жестокая расправа с заговорщиками. Ряд казней заставил большую часть жителей спасаться бегством в Тулузу. Крестоносцы, по их собственному свидетельству, разграбили и сожгли город (34).
Между тем к Монфору стали прибывать огромные подкрепления из Оверни, Родеца, Бургундии и Фландрии. Численность новых крестоносцев трудно было определить даже с приблизительной точностью. Некоторые историки утверждают, что их пришло до ста тысяч. Во всяком случае, ревность и искусство проповедников еще раз оказали услугу французскому завоеванию. Им помогли молодые доминиканцы своим увлечением и проповедями, они-то, главным образом, и вербовали эти легионы. С таким многочисленным ополчением нельзя было оставаться в выжидательном положении, поэтому осаждающие опять разделились на два лагеря, из которых второй расположился у Мюрэ. Время проходило в мелких стычках на аванпостах. Некоторые вылазки осажденных были весьма удачны. Крестоносцы громко роптали — продолжительная осада была тяжким испытанием для их терпения.
Монфор в последнее время становился все более равнодушным к религиозным интересам; он имел чисто практические расчеты. Он не прочь был бы, во избежание случайностей долгой борьбы, войти в сделку с Тулузой, вступить в переговоры с Раймондом VI. Но он далеко не все значил в лагере крестоносцев; там была другая сила, которая в таких вопросах значила столько же, как и сам Монфор, если не больше.
Папский легат пришел в страшное негодование, лишь только ему намекнули о переговорах с осажденными. Кардинал бросил в глаза Монфору обвинение, которое было невыносимо для его гордости. Он задел его военные дарования и личную храбрость, которая притупилась годами и неудачами — это означало уязвить средневекового рыцаря в самое чувствительное место. Монфор объявил на совете в Нарбоннском замке, что он не отступит от Тулузы живым.
Две башни перед городскими укреплениями, занятые провансальцами, были взяты осаждающими и разрушены ими же при отступлении, так как удержать их под тулузс-кими выстрелами не было никакой возможности. Но Монфор надеялся заставить замолчать осажденных новым орудием, которое стали строить по его приказанию; оно должно было действовать греческим огнем.
— Это сарацинское изделие даст себя знать во всей Тулузе, — говорил Монфор. — Завтра с рассветом мы подкатим его к городским стенам и зажжем город греческим огнем: умрем вместе или победим. Надеюсь, что вы будете пировать в Тулузе и разделите поровну и честь, и добычу.
Это обещание вызвало в большинстве восторг, но в не которых зародило сомнение. К числу последних принадлежал граф Амори де Крюн. Он резко заметил, что Тулуза изобилует защитниками, что только голодом и жаждой можно принудить столицу к сдаче. За такое сомнение кардинал тут же сделал ему строгое внушение и в виде епитимьи наложил на него однодневный пост: граф был осужден на хлеб и на воду. Крюн был не из покорных и не трусливых католиков, он резко протестовал против образа действий легата.
— Никто и ничто не дает вам права лишать кого-либо наследия предков. Если бы я дома знал ваши тайные умыслы, то никогда ни я, ни мои люди не были бы здесь.
Монфор вмешался в спор. Он, со своей стороны, напомнил графу о необходимости безусловного повиновения легату.
— Этим вы покажете свою преданность Церкви, — добавил он.
Но расчеты Монфора не сбылись. Его снаряд с греческим огнем был подбит удачными выстрелами из тулузской катапульты. Большая часть прислуги, которая была при снаряде, погибла. Монфор привык к неудачам и уже не смущался их, его характер окончательно закалился. Он велел исправить машину и изобретал новые средства сжечь город. Над машиной работало множество воинов. На этом громадном орудии, а уже не на личной храбрости, основывались последние надежды Монфора. Он предчувствовал, что события принимают роковой для него характер.
— Клянусь вам, — сказал он однажды епископу Фулькону, — клянусь Святой Девой, что я или возьму Тулузу через восемь дней, или погибну при ее штурме (35).
И в Тулузе сознавали, что решительный час наступает. Повреждения, сделанные в укреплениях, быстро заделывались; строились новые. Члены капитула на своих плечах носили кирпичи и камни, необходимые для построек: дамы, девушки и дети, распевая кансоны и баллады, также принимали посильное участие в работе. На них летели камни и снаряды из лагеря крестоносцев, но все они уже привыкли к опасности. Многие из них погибали на стенах, но гражданам не приходила и мысль о возможности сдачи. Напрасно предполагать, что осажденными руководили альбигойские интересы, — большинство южных баронов, рыцарей и их воинов оставалось католиками. Они не отказывали в повиновении папе, но не забывали, что в прелатах, особенно французских, имеют непримиримых врагов; они верили, что Бог дает «мудрость, смелость, умение следовать по пути правды и средства поразить чужеземцев, которые пришли для завоевания и для того, чтобы погасить свет, уничтожить куртуазность и с нею доблести рыцарские».
Когда был созван совет для окончательных распоряжений, то в него вместе с баронами были приглашены консулы, все члены магистрата и даже многие буржуа. Здесь собравшиеся были вдохновлены речью того же доктора Бернара, к которому не раз в трудные для себя времена город обращался за советом.
— Вы идите первые на орудие Монфора, — говорил он баронам, — а мы будем следовать за вами. Или умрем вместе, или победим. Лучше честная смерть, чем позорная жизнь.
Провансальские бароны отвечали громким криком восторга. Они дали обещание биться, по обычаю предков, вместе с гражданами, так как всегда куртуазность и Тулуза были неразлучны. Решено было ночью спуститься со стел по лестницам в неприятельский лагерь, овладеть машинами Монфора и сжечь их.
Это предположение было исполнено на заре двадцать пятого июня 1218 года. В то же время, в другом направлении, со стороны Мюрэ, с целью отвлечь внимание неприятеля, также было решено произвести вылазку (36).
Лагерь крестоносцев спал крепким сном. Священники пели раннюю мессу; Монфор уже проснулся и слушал обедню. Вдруг послышались крики: «Тулуза или смерть!» Они становились громче и громче. Им стали вторить дру гие: «Монфор, Монфор!» Битва загорелась в двух противоположных местах, но главные силы тулузцев были со средоточены за палисадами, вблизи зажигательного снаряда. Здесь их позиция была почти неприступна; из-за палисадов они поражали врага меткими выстрелами и шаг за шагом подвигались вперед, намереваясь завладеть машиной. Этим отрядом командовал граф де Фуа. Не сколько далее, по той же линии, на плато Монтолье, шла отчаянная кавалерийская схватка. Не прошло и часа, как земля была покрыта трупами и окровавленными членами; закованные в железо всадники уже изнемогали от жары и усталости. В густых рядах провансальцев виднелось множество арагонских и каталонских знаков. Рога и трубы не умолкали. Сам Раймонд Тулузский руководил боем и ободрял рыцарей собственным примером. Обе стороны дрались с одинаковой храбростью, и ни одна не поддави лась. Но чему удивлялись французы, так это отсутствию своего вождя. Гораздо хуже для них шло дело около машины— спасти ее от огня не было возможности, увезти также; ее защитники были покрыты ранами.
Между тем Симон Монфор не появлялся. К нему бы послан оруженосец, он нашел его в церкви; обедня епь продолжалась, хотя крики сражавшихся и трубные звуки достигали до молящихся. Взволнованный оруженосец сообщил вождю о неблагоприятном ходе битвы и просил его скорее прибыть на место сражения. Но Монфор оставался невозмутим:
— Ты видишь, что я стою у Святых Тайн. Прежде чем уйти, я должен вкусить этот залог искупления.
Не успел он произнести этих слов, как вбежал другой вестник.
— Спешите, граф, — сказал он, — битва стала опасной. Нашим не устоять.
— Я не выйду отсюда, пока не увижу моего Искупителя, — повторил Монфор с таким же благоговейным спокойствием. Наконец Святые Дары были вынесены. Симон преклонил колена и произнес, простирая руки к небу: — Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром. — Он приобщился и воскликнул: — Идем, и, если надо, умрем за Него, как Он умер за нас (37).
Между тем по его приказанию со всех сторон прибывали резервные отряды, еще не участвовавшие в битве. Появление вождя во главе их придало последние силы уже расстроенным французам. Стремительно ударил Монфор на графа Тулузского; провансальцы стали отступать под прикрытие своих укреплений. Натиск свежей конницы был подобен урагану, который сметал со своего пути всех сопротивляющихся.
Тулузцы, не успевшие пробраться через мост, падали в овраги; все плато было очищено. За рыцарями спешили пилигримы со своими посохами; они думали, что крестоносцы уже ворвались в Тулузу. Действительно, Монфор рассчитывал на полное торжество. Он перестроил свои ряды.
— Еще один натиск, воины Христа, и Тулуза наша! — воскликнул он и отдал приказ овладеть укреплением.
В этот момент тулузцы успели оправиться от страха. Их пехота подбежала к своим камнеметным машинам, заняла снова палисады, виноградники и встретила нападавших градом камней и стрел.
Гюи, брат Симона, находившийся впереди, был ранен в бок стрелой. Симон поспешил к нему. Он не видел, что встал прямо под машиной, которая осыпала французов камнями. Один камень ударил ему в голову с такой силой, что пробил его шлем и почти раздробил череп (38). Вождь упал мертвый, весь черный. Два рыцаря поспешили прикрыть его лицо платком. Последним конвульсивным движением умирающий ударил себя два раза в грудь и испустил дух.
Скрыть смерть Монфора было невозможно. Лишь только его труп понесли с места боя, как между рядами французов стало распространяться страшное волнение. Нападавшие забыли, что стоят под враждебным городом, что почти достигают цели долгой борьбы, и бросились бежать, преследуемые выстрелами.
Скоро в лагере французов услышали вопли и плач. Таково было влияние этого человека на крестоносцев, что все дело всегда держалось им одним. Теперь, когда его не стало, то первое время никто и не думал о Тулузе, как будто столица была нужна ему одному. Во французском рыцарстве и в толпах пилигримов проливались слезы Зато радость и крики торжества царили между тулузцами Монфора видели, когда целили в него, — он стоял как раз под стеной; он упал, его унесли, и сомневаться в его смерти было невозможно. С понятной быстротой распро странилась такая желанная весть по всей столице. Все горожане торжествовали, что он умер. Но благородный Раймонд Тулузский, как истинный рыцарь, не выказал такой радости; он всегда чтил в Симоне твердость, спо собности, храбрость и все качества, которые приличе ствуют государю (39).
В Тулузе, где имя Монфора вызывало такой ужас, о нем сохранилась память в народной песне. Она воспеваем смерть волка, убитого в долине Монтолье. Свирепого вождя крестоносцев предание уподобило хищному зверю. Под аккомпанемент рожков народ повторяет припев: «Монфор умер; да здравствует славная Тулуза, могучий город, честь и доблесть восстанут, Монфора нет». В городе Кастельно дарри пастухи еще и теперь наигрывают этот марш в день городского праздника, как бы отгоняя тем самым страшное воспоминание.
Старший сын Симона, граф Амори, по предложению кардинала-легата был провозглашен вождем крестового ополчения. Епископ Фулькон, все французские бароны и рыцари разделяли мнение легата и обещали молодому наследнику защищать и оберегать земли, которыми владел его отец. Кастеляны и бароны принесли ему феодальную присягу. Кардинал благословил его на подвиги отца. Знали также, что папа не откажет признать его во всех отцовских правах.
Но если всякий из присутствовавших понял, что смертью Симона половина дела уже проиграна, то были в католическом мире люди, которые шли дальше и полагали, что все дело Римской Церкви посрамлено, что ересь восторжествовала со смертью Симона, который сделал Церкви столько добра благодаря своей отваге.
Святой Доминик жил тогда в монастыре. Заснув после долгого бдения, он за несколько дней до смерти Монфора видел во сне, как роскошное дерево, покрывавшее землю своими ветвями, усыпанное поющими птицами, пало вдруг от одного удара и разбило все, что укрывалось под его тенью. По словам легенды, Доминик тогда же стал предсказывать скорую кончину Симона. Но фанатичный дух его не унывал. Доминик считал себя призванным продолжать дело, за которое погиб вождь крестоносцев. Ему слышался во сне и наяву голос, взывавший как с неба: «Иди и учи».
Слабость власти Амори Монфора
Молодой Монфор считался отважным рыцарем, но никогда не выделялся военными способностями. Он был известен как человек мягкого и доброго характера, и в этом он составлял полную противоположность своему знаменитому отцу. Ему недоставало того воздействия силой духа, которое производил покойный Симон на рыцарство и на крестоносцев.
Воспитание Амори получил исключительно военное, но оно состояло лишь в физических упражнениях; постоянное наблюдение сурового отца не давало ему встать на ноги, развиться, действовать самостоятельно. Оттого он казался каким-то забитым, покорным советам других и рабом людей энергичных. Он не был способен возвыситься над событиями силой духа, подчинить их себе, и, понятно, обстоятельства нуждались не в таком человеке.
Первое известие, которое он получил с поля битвы, только приняв командование, было для него неприятным. Лагерь крестоносцев против предместья Сен-Субра подвергся нападению тулузцев уже через несколько часов после того, как штурм Монфора был отбит. Крестоносцы, напуганные известием о смерти вождя, бежали, победа восставших была легкая, поскольку рыцарей в тот момент в лагере почти не было; лагерь был взят и разграблен. Множество пленных воинов и пилигримов было приведено в Тулузу, богатые палатки со всем имуществом и оружием достались победителям.
Гордому французскому рыцарству пришлось впервые переговариваться с еретиками о выкупе пленных; тулузцы разбогатели в этот несчастный для крестоносцев день. Амори решил поправить беду решительным нападением на Тулузу. Он торжественно поклялся, что возьмет непокорную столицу и примерно накажет ее. Он торопился, чтобы не дать времени крестоносцам разойтись. Но это уже не первый штурм, громкие приготовления к которому могли бы испугать горожан. Были заготовлены повозки, наполненные доверху соломой, валежником, засохшей лозой; эти повозки подвезли к самым укреплениям и подожгли хворост в надежде, что пламя перекинется в город. Но тулузцы видели все: в то время, когда воины сделали вылазку против крестоносцев, горожане с бочками воды бросились тушить пламя и бить людей, охранявших тележки.
В той же долине Монтолье, которая пропиталась кровью французов и тулузцев, произошла новая битва, которая, по словам летописцев, превосходила кровопролитием все прежние. Кончилось тем, что крестоносцы отступили, а провансальцы вернулись в город с пленниками и добычей40. Это было месяц спустя после смерти Симона Монфора.
Постоянство неудач придало смелости искренне высказаться самому влиятельному лицу в лагере крестоносцев. Пои Монфор, один из братьев Симона, мог не бояться, что его уличат в трусости или предательстве. Он кровью не раз доказал свою преданность делу Церкви. Теперь он видел, что крестоносцы, эти «лукавые отступники», большими отрядами покидают лагерь, что счастье придало столько бодрости осажденным, что они сами начинают теснить французов. Поэтому он откровенно предложил рыцарям снять осаду и вернуться в более благоприятное время с новой армией. Амори оказал некоторое сопротивление, но многие бароны поддержали Гюи, решительно заявив, что постоянные непогоды, недостаток припасов (окрестная страна была опустошена), наконец, невозможность одолеть возрастающего численностью неприятеля, не позволяют им оставаться больше возле Тулузы и что они разойдутся по домам, несмотря ни на что (41).
Увещевания епископа и легата не помогли. Амори должен был уступить. В день Святого Иакова лагерь стал быстро сниматься, бараки и другие строения были подожжены. Унылые крестоносцы потянулись от стен города Тулузы, забрав все, что смогли; удаляясь, они зажгли Нарбоннский замок. Амори взял с собой то, что являлось самым дорогим для него, — он вез тело своего погибшего отца.
Он привез его в Каркассон, а оттуда отправил во Францию. Здесь, вблизи родового замка Монфоров, и монастыре, мирно покоится тело Симона Монфора, этого божьего бича Юга, покрывшего кровью и пеплом благословенные долины Лангедока и Прованса. Над готической гробницей сделано его горельефное изображение с сложенными руками пред алтарем. В Каркассоне, где напрасно отыскивали его могилу, Людовик Святой и его преемники заказывали ежедневные мессы на поминание души Монфора, как бы желая почтить тем самым его кровавые дела.
По прибытии в Каркассон легат стал увещевать Амори не терять бодрости духа, он предложил ему занять гарнизонами некоторые важные пункты. Тогда же епископ Фулькон был отправлен ко двору французского короля просить его прибыть в мае следующего года в Лангедок со всеми войсками, чтобы отомстить за смерть Симона Монфора. Извещая папу о несчастье, легат просил его святейшество о новой крестовой проповеди против еретиков.
Рим никогда не отчаивался в неудачах. Упорная и величавая политика пап, преследуя одну и ту же цель, не поддавалась и при более важных несчастьях. Легат действовал энергично. Он беспощадно отстранял всякую мысль о переговорах. Когда граф Сакс предложил ему помириться с Раймондом Тулузским, кардинал с волнением ответил:
— Прежде чем входить в переговоры с Тулузой, надо содрать кожу с живых тулузцев, отомстив за смерть графа Монфора (42).
Граф Сакс после этого разговора оставил войско.
Но Тулуза не думала ограничиться одной обороной, давая опомниться неприятелям, Раймонд Юный пошел следом за ним, а граф Комминг выступил в другом направлении с целью отвоевать свои владения. И тот и другой преуспели в своих целях. Граф Комминг возвратил себе все, что хотел, француз Жори, который сидел в его синьории от имени Монфора, был взят в плен и убит. А Раймонд занял Кастельнодарри, наполненный альбигойцами, и гнал перед собой мелкие французские гарнизоны.
Амори поспешно собрал свои силы и осадил Кастельнодарри, но в одной из схваток потерял брата Гюи и отступил.
К весне 1219 года Раймонд владел большей частью своих родовых синьорий и деятельно готовился к весенней борьбе. Он теперь смело мог сразиться с Амори Монфором, поскольку граф де Фуа и другие бароны разрознили и ослабили силы крестоносцев. Но Раймонд опасался вмешательства французского короля.
Его опасения оправдались. Филипп Август, всегда державшийся выжидательной политики, понял, что час его торжества приближается. Крестоносцы обессилены, фигура Монфора как независимого государя на Юге, успевшего собрать под свою руку мелкие владения, больше не пугала его. Теперь можно было, отстранив фанатиков креста, самому воспользоваться плодами их трудов, их крови. Редкий государь представлял собой такой прозаический контраст идеальным устремлениям века, как Филипп II Французский. Он в этом смысле опередил свое время. Расширение владений короны каким бы то ни было способом было его заветной целью.
Со стороны Рима напрасно было бы ожидать протеста. Гонорий III не отличался ни энергией, ни особыми дарованиями. В свою бытность кардиналом он приобрел известность как хороший финансист. Родом из римской патрицианской фамилии Сабелли, он со времени Целестина III заведовал хозяйством курии. Он привел в порядок папский бюджет и издал его в 1192 году под названием «Liber censuum Ecclesiae Romanae» (Книга имущества Римской Церкви); тогда он был еще простым каноником. Получив титул кардинала Ченчио, он стал трудиться над церемониалом римского двора (43). Папой он был избран не за особые таланты, а за угодливость конклаву и кроткий характер. Он не принес на папский престол никакой новой мысли, и для него было довольно, если бы он оказался в силах поддерживать начинания предшественников. Он видел, что Церковь на Юге погибает и что она может возродиться только при условии, что сильный французский король поднимет там свое знамя. Понятно, что последний будет действовать в личных интересах, характер Августа в Риме был хорошо известен. Но он по крайней мере подавит ересь и возвратит заблудших к истинной вере.
В ожидании вооруженного вмешательства французского короля Гонорий рассчитывал на успех убеждения. Братство проповедников, основанное Домиником, соответствовало такому назначению. За полтора года до описываемого события, когда альбигойство едва решалось поднимать голову, папа так писал приору и проповедникам святого Романа:
«Полные огня милосердия, вы распространите ту небесную благодать, которая утешит неиспорченные сердца и оживит страждущих в вере. Как добрые врачи, вы внушайте им поучение, которое предохранит от гибели и посеет между ними Слово Божие силой святого спасительного красноречия... Непобедимые воины Христовы вы смело несете щит веры и шлем спасения, не опасаясь тех, кто умерщвляют тело, великодушно обращаясь к вра гам веры со словом Божиим, проникающим глубже, чем самый острый меч. Но так как конец борьбы венчает дело и только постоянство собирает плоды всех добродетелей, то мы просим и увещеваем вашу любовь этим апостоль ским посланием во искупление ваших грехов распространять Евангелие неусыпно и во всякое время, дабы исполнить достойно долг священства. И если на этом пути вы встретите какие-либо неудачи, то не только переносите стойко, но радуйтесь и торжествуйте с Апостолом, так как удостоитесь тем выносить бесчестие за имя Иисусово. Ибо эти легкие и короткие огорчения ведут к неиссякаемому источнику славы, с которым несравнимы бедствия нашего времени» (44).
Возлагая большие надежды на Доминика, Гонорий III тогда же воздал ему и его братству особые почести и собственно для него учредил постоянный сан «магистр святых небес». Права этого сановника были обширны. Он стал папским авторитетом в богословии; он был верховным цензором сочинений, которые писались в Риме, и всех богословских трактатов; только он мог возводить в докторскую степень, и только по его указанию могли произноситься проповеди в присутствии папы. Эта должность присвоена исключительно братьям-проповедникам. Из этого факта, конечно, нельзя заключить об инквизиторском характере ордвна. Скорее подобное направление можно видеть в словах, сказанных Домиником при расставании с братьями и сестрами монастыря Прулль. Тут присутствовали окрестные прелаты, многие крестоносцы и сам Монфор. После обедни Доминик произнес слово на текст: «И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами ради Царства Небесного»[8]. Расставаясь со своими братьями, Доминик говорил им о необходимости неустанной борьбы с ересью, и, обращаясь к толпе народа, в которой, как он полагал, было немало альбигойцев, он призывал их к скорому покаянию. Взывая еще раз к своим питомцам по духу, он заключил:
— Я создал ваше братство, я питал вас молоком поучения, но я возлюблю вас лишь за труды и опасности, которым вы подвергнетесь при служении. Никто из вас да не презрит этот орден благочестия, и никто да не уклонится от торжества борьбы. Не людям, а Богу вы посвящаете ваши души, вы воюете во имя творца всех. Ваша борьба такова, что тот выйдет из нее победоноснее, кто больше претерпит. Спешите, братия мои, прежде всего к стезе бессмертия (45).
Действительно, мирное создание Доминика стало облекаться воинственным характером, сообразно ходу политических событий на Юге. В дни неудач для крестоносцев Доминик как бы на себе хотел вынести дело Церкви.
В тот самый год, когда при папском дворе был учрежден особый сан для Доминика, его же именем было осенено новое, уже церковное воинствующее братство — этот орден прямо назвался воинством Иисуса Христа (ordo militiae Jesu Christi) и предназначался для создания и упрочения Северной Церкви и для борьбы с «ливонцами, варварами, русскими и другими неверными»[9]. Из этого видно, как в короткое время забыли в Риме планы и расчеты Иннокентия III и его понимание дел на Востоке Европы. Ордену была присвоена белая одежда с черным крестом.
Но тем не менее основная деятельность Доминика была направлена на словесное убеждение. С этой целью он в не удачный для крестоносцев год с удивительной быстротой основывает свои монастыри. С посохом в руке, принужденный оставить Юг, где стало усиливаться влияние ерети ков, он задался мыслью учредить свои общества в столицах Запада. Три города тогда властвовали над Европой: Рим, Болонья и Париж. Рим — своим первосвященником, Болонья — своей школой права, Париж — своими профессорами В этих трех городах были основаны центры ордена. Перед отправлением в Италию Доминик располагал только шее тнадцатью проповедниками разных национальностей: двое остались в пруллианском монастыре, двое в тулузском Сен Романе, семеро, и между ними Матвей Французский, н Париже, в монастыре Святого Иакова, четверо были на значены в Испанию. С одним только Стефаном из Меца отправился Доминик в Рим и основал там монастырь и честь святого Сикста.
Через три года в Риме насчитывалось более ста братье и проповедников. Отсюда поклонники Доминика распрост ранились по Германии и Польше. Известно также, что Бо лонья, куда прибыл Доминик без всяких спутников, была долгое время главным центром ордена. Ее доминикански н монастырь стал богатейшим и многочисленнейшим; там, как известно, Доминик завещал похоронить себя.
Узнав о смерти Монфора, Доминик опять совершил путешествие в Тулузу, по обыкновению пешком, босом, с сумой на плечах, подпоясанный веревкой. Обувь он надевал, только входя в города и селения. Оба монасты ря, пруллианский и Святого Романа, он нашел в совер шенной безопасности благодаря надзору духовенства, а не епископа, как полагают биографы Доминика; известно, что Фулькон был в лагере крестоносцев и что ему, как изгнаннику, нельзя было показываться в Тулузе. Если такому неукротимому проповеднику, каков был Доминик, можно было свободно проживать в Тулузе зимой 1218 года, во время торжества патриотической и альбигойской партии, то можно судить, как слабела пропаганда ереси и с ней численность сектантов. Но тем не менее Доминик весьма недолго прожил в Тулузе. В конце того же 1218 года мы встречаем его уже в Испании, где он основал столь прославившиеся впоследствии своим диким фанатизмом монастыри в Сеговии и Мадриде. Оттуда он предпринял странствие в Париж. Здесь его не мог не обрадовать быстрый рост монастыря якобитов.
Пребывание в Париже знаменитого подвижника, наполнившего Запад славой своей жизни, оказало влияние на политику французского короля. В Париже Доминик выбрал нескольких учеников для проповеди и тем положил основание прочим монастырям во Франции. Кто пошел в Реймс, кто в Мец, в Пуатье, в Орлеан. Тулузец Петр Челлани был отправлен в Лимож. Узнав о поражении Амори Монфора, Доминик не решился возвращаться в Италию через Тулузу. Вероятно, альбигойцы стали смущать и тревожить его. Обратное путешествие его в Италию с немногими спутниками было продолжительно; погода была холодная и сырая, он шел около полугода, питаясь милостыней и останавливаясь на ночлег в монастырях или чаще под открытым небом. Он спал не раздеваясь, острые камни и скалы язвили до крови его ноги, реки и ручьи странники переходили вброд. Больной Доминик не позволял себе вкушать мяса и питался всю тяжелую дорогу кореньями и плодами. За всякое подаяние странники благодарили с умилением, становясь на колена.
Враг всякой собственности и роскоши, Доминик, придя в Болонью, с негодованием узнал о том, что тамошнему монастырю подарены большие земли. Он собственными руками разорвал дарственный документ. Даже в церквях он не терпел богатого убранства и не допускал ни серебряных, ни золотых сосудов. В то время, когда западная Европа покрывалась сетью его монастырей, нельзя было предполагать, что орден радикально изменит свой характер и назначение, почти тотчас после смерти своего знаменитого основателя. Ересь могла бы быть побеждена одним примером самоотвержения сподвижников Доминика без костров и тюрем инквизиции. Из болонского монастыря Доминик наблюдал с напряженным участием за ходом дел в Лангедоке, куда влекло его все, что еще только привязывало к жизни.
Но историческое значение альбигойства носило не один только церковный характер. Если для Доминика оно представлялось заблуждением, которое следует уничтожить примером и убеждением, то, для французского короля оно являлось не чем иным, как средством выгодно увеличить в благоприятный момент владения короны...
Филипп Август, не желая принимать непосредственного участия в походе на еретиков, не препятствовал попытать счастья своему сыну. Но, по обыкновению, он вое пользовался сбором доли доходов с церковных имущестк, разрешенным папой. Король и его сын принц Луи уже получили папские послания от тринадцатого августа 1218 года. в которых Гонорий III убеждал их поднять крест на альбигойцев. Он обещал полное отпущение грехов принцу и всем тем, кто примет участие в походе (46).
Напрасно Раймонд VI употреблял все усилия, чтобы остановить поход и уничтожить королевскую инвеституру на имя Монфора. С ним даже не вступали в переговоры, как видно из папского послания от пятнадцатого мая 1219 года.
До Парижа доходили слухи, что провансальцы действительно становятся опасными. Вильгельм Красивый, принц оранский, друг Монфора, отправился в поход на Авиньон, который признал власть Раймонда Тулузского. Вильгельму не посчастливилось — он был разбит и взят в плен: с него живого авиньонцы содрали кожу, а тело изрубили и куски. Соседняя раса, видимо, питала самые ненавистные чувства к французам. Кроме того, сам французский принп хотел попытать военного счастья. Под знамена Людовика с разрешения короля собрались графы Бретонский и Сен Поль, архиепископ Оша, двадцать французских епископов, тридцать три барона, шестьдесят рыцарей и десять тысяч стрелков, кроме того, было, может быть, столько же копейщиков и разного сброда, шедшего будто бы с благочестивой целью. Летописец насчитывает в этой армии двадцать пять тысяч человек (47), но строевой силы было наполовину меньше. Людовик направился через Аквитанию Дорогой он отнял у англичан Ла-Рошель. В Аженуа под стенами замка Марманд, он соединился с Амори Монфором Здесь крепко засели альбигойские бароны, поджидая помощь от молодого Раймонда.
Один Амори со своим ничтожным отрядом долго бы возился с этой крепостью, но огромная королевская армия быстро решила дело: наружные укрепления были взяты в первый же день. Ночью осажденные вошли в переговоры и просили сохранения жизни и имущества. Но прими отверг эти условия, требуя безусловной сдачи и грозя истреблением города. Осажденные принуждены были согласиться. С поникшими головами, под стражей явились провансальские пленники перед богатой ставкой королевского сына. Их положение было весьма неловкое. Надо заметить, что незадолго перед тем Амори узнал, что под Басьежем, после поражения французов, Раймонд Юный распорядился повесить одного из пленных, барона Сегюрэ, а других держит в Нарбоннском замке (48). Об этом событии папа извещал всю Европу особыми посланиями, взывая к мести. На такой же виселице могли оказаться и провансальцы: граф Сентул и его товарищи.
Интересно проследить по свидетельствам современников эту первую сцену встречи северян и южан после победы. Пленные увидели принца во всем блеске. Он сидел на шелковых подушках и играл своей золотой перчаткой. Вокруг него находились бароны и прелаты. Епископ Сента прервал молчание, обращаясь к принцу. Именем Церкви, которой его христианнейший отец считался покровителем, он просил его немедленно повесить еретиков без всякого суда.
— Марманд наполнен еретиками, их также следует истребить огнем и мечом, — взывал епископ. — Они вдвойне преступники — и против Церкви, и против своего государя Амори, и потому их следует всех предать позорной смерти.
Эта кровожадная речь вызвала резкий протест со стороны графа Сен-Поля:
— Вы говорите слишком резко, государь епископ. Если принц поступит согласно вашему совету, то Франция будет навсегда обесчещена.
Его поддержал граф Бретонский. Людовику, видимо, хотелось поступить, как следует верному крестоносцу, и оправдать на первых же порах ожидания папы.
— Я, господа, послан сюда Церковью, потому не могу забывать ее. Этот граф боролся с Церковью, как и сам Раймонд Тулузский; пусть же она поступит с ним, как и со всеми отступниками.
Но архиепископ Оша, старший из прелатов в свите принца, остановил юного воина.
—— Государь, — прервал он, — граф Тулузский не еретик и не преступник. Напротив, было время, когда он сражался в рядах воинов Христа. Точно так же мы не имеем доказательств в отступничестве пленников. Если отпустить их, то они будут верными христианами. Не надо забывать, что в руках тулузцев — Фуко и другие знаменитые бароны, если вы умертвите пленников, то Господь попустит великое зло. Тогда граф Тулузский велит перевешать всех своих пленников.
Принц согласился со словами архиепископа. Пленные были спасены. Но страшная досада овладела крестоносцами Амори. Заняв город, они тотчас же принялись за жителей. Без всякого разбору, они стали вешать мужчин и женщин. Людовик и его рыцари пришли в негодование и остановили кровопролитие. Вскоре же принц двинулся со всей своей армией на Тулузу.
Новая и на этот раз еще более серьезная опасность грозила столице: французское ополчение обложило Тулузу, заняв все предместья и обогнув город полукругом, концы которого опирались на Гаронну. Тут были французы из Фландрии, Нормандии, Анжу, Шампани — с тамплиерами, монахами и священниками.
В Тулузе, конечно, давно знали о цели похода Людовика и приготовились. С разных концов Лангедока шли на помощь столице— провансальцы прекрасно понимали, что речь идет о судьбе их национальности, о политическом подчинении Франции. Несколько тысяч добрых рыцарей стояли под знаменами графа Тулузского. Многочисленная пехота от коммун и баронов наполняла город. Раймонд мог не бояться войска Франции. Ему предлагали объясниться с Людовиком еще на походе, спросить, что за цель этого нашествия, почему король французский, родственный с тулузским государем, вместо того чтобы защищать старого графа, королевского друга, идет на него войной. Если он хочет взять вассальную присягу. как сюзерен Лангедока, то пусть придет в Тулузу с не большой свитой, и тогда граф не откажется получить оч него свои владения. Такой голос раздался на народном собрании тулузском.
Но гордость Раймонда Юного не могла мириться даже с изъявлением подчинения. Он не хотел стать вассалом Франции, пока был в силах.
— Наш город надежен и крепок, нас охраняют храбрые воины, чего нам бояться? — говорил он. — Я не стану просить у короля милости, он первый начал войну. Я не могу признать его сюзереном, когда он идет на меня с разбойниками. Посмотрим, что они станут делать. А вместо того, чтобы тратить время на переговоры, мы позаботимся лучше об укреплениях, чтобы искуснее отразить этих пп лигримов в случае, если они нападут на нас».
Эти слова пришли по сердцу всякому тулузцу. К молодому Раймонду явилась депутация от капитула.
— Все, что будет необходимо для баронов, мы дадим им добровольно, — пообещали они. — Для наемных сол дат мы приготовим спокойные помещения и хорошую пищу.
Глашатаи стали сзывать со всего города воинов к го; вым столам, обильно уставленным яствами и вином.
— Если королю захотелось драться, то мы не прочь, — говорили защитники Тулузы. — Мы можем защищаться хоть пять лет.
Для ободрения католиков были выставлены мощи одного святого; альбигойцев же ободрять не было необходимости — вопрос стоял о самом их существовании. Опять знатные и простые женщины пошли работать на укрепления и рыть землю. Дети не отставали от матерей. Город был вполне готов к встрече врага, когда тот приблизится к стенам. Рыцари, граждане, все, начиная с самого графа, были за делом; все разделяли опасности битв; каждого и день и ночь заставали за оружием. Тулуза вступила в борьбу «с гордыней Франции» (49).
Между многочисленными провансальскими баронами были разделены пункты защиты по всему протяжению крепостной ограды. Особенное внимание было обращено на бойницы и ворота. Нарбоннский замок теперь входил в оборонительную систему. В длинном списке военачальников читаем большинство имен, которые неоднократно встречались в истории альбигойства, такие, как владетели Монтегю, Карамана, Минервы, Пенни, Журдаина, Ламота, Вилльмура и многие другие. Предосторожность была принята и на реке, чтобы неприятель не спустил на нее каких-либо судов. Когда все отдельные начальники получили назначение, то они дали клятву, каждый по обычаю, что не оставят своих постов, пока живы, что даже раненые будут оставаться на местах до смены. В свою очередь, городское ополчение тулузской коммуны составило резервные отряды, которые должны были спешить на помощь по первому требованию.
При такой организации обороны и при горячем патриотизме жителей, готовых на самопожертвование, принцу Луи было трудно рассчитывать на успех. Ничтожны стали и угрозы кардинала-легата предать город истреблению, если он будет упорствовать. Это могло только придать большую энергию жителям. Легат грозил не пощадить никого, ни старого, ни малого, ни мужей, ни дев, ни женщин, обещая всех казнить на костре, как еретиков.
«Но неповинная кровь не может быть пролита, ибо святой Сатурнин предохраняет свой народ от гибели, а Бог, правота, сила, святые заступники и молодой граф спасут Тулузу», — этими пророческими словами обрывается, к крайнему сожалению историка, великолепная эпопея о подвигах Тулузы. Никакой источник не может заменить поэтического рассказа очевидца, этих прочувствованных строк, полных жизни и правды.
Летописи той и другой стороны вкратце сообщают о неудаче Людовика. Он осадил город 9 июня, но французы, встреченные выстрелами из разных метательных снарядом, не решились даже показываться в открытом поле. Понят но, что недостаток припасов в опустошенной стране под сказывал необходимость отступления. Еще с месяц Людо вик пытался удержаться, но когда, следуя обычаю, войско стало расходиться, то 1 августа и он снял свой лагерь, счи тая свою крестовую службу на этот раз оконченной. Он возвратился во Францию, не сделав ничего, но имея основания ссылаться на то, что встретил неожиданное и герой ское сопротивление (50).
Тогда Раймонд Тулузский довершил окончательное возвращение всех своих владений. Его отряды рассыпались но графству и дошли до Роны. Он разгонял и истреблял шайки разбойников, грабивших несчастную страну.
Два года не было слуха о французах. Амори ушел следом за королевской армией, оставив гарнизоны по замкам.
Раймонд брад один замок за другим. Восторженные она ции раздавались в его честь в Ниме и Безьере. В некоторых местах он встречал энергичное сопротивление, но везде имел успех. Он, видимо, не расположен был щадить крестоносцев. Гарнизон Лавора был умерщвлен; начальник Монреаля Ален де Руси пал от руки графа де Фуа во время штурма.
Раймонд щадил из чувства рыцарской любезности только воинственных дам. Вдова разбойника Фуко Эрменгарда, сидевшая в Пюи-Лоране, получила свободный пропуск с детьми и гарнизоном; вежливый граф снабдил ее даже конвоем до французских пределов. Это снисхождение заслужживает тем большего внимания, что муж ее возбудил против себя справедливое чувство ужаса и отвращения. Между всеми разбойниками он отличался особенной свирепостью. Он морил в своих подземных тюрьмах пленников, которые медлили с выкупом, голодом и жаждой, мертвых выки дывали на съедение зверям. Люди из его шайки публично насиловали женщин. Однажды, недовольный незначительным выкупом, он велел отцу собственными руками повесить сына (51). Раз великодушно отпущенный на свободу Раймондом, он был разбит и взят вторично. На этот раз ему отрубили голову, возили его труп по улицам Тулузы и куски тела выставили на воротах. Надо заметить, что Фуко принадлежал к числу рьяных крестоносцев и сподвижников Монфора.
Летом 1221 года Лангедок почти везде был очищен ш подобных разбойников и мародеров-крестоносцев, а дела приняли такой вид, какой имели в 1206 году до убийства легата Петра де Кастельно. Но развалины в городах и селах, воинственный вид жителей, запустение, деморализация, какая-то бездеятельность всех сословий, особенно духовенства, свидетельствовали, что страна не может успокоиться и только что пережила ужасы неприятельского нашествия.
Альбигойцы не составляли уже столь могущественного элемента; и понятно, их число сильно уменьшилось вследствие поголовного истребления населения в некоторых местах кострами и виселицами.
Но Рим не мог оставить дело в таком виде. Неутомимая курия хотела достигнуть цели, поставленной Иннокентием III. Ее одушевляла безусловная вера в несомненный успех крестового дела. Римская канцелярия не уставала писать. Она писала королю французскому и его сыну, Амори Монфору и епископу Фулькону, французским и немецким епископам, наконец Раймонду и общинам Лангедока.
Новый легат, кардинал Конрад, епископ де Порто, бывай аббатом Сито, был послан сменить Бертрана, которому не везло. Его заботам «были вверены жители стран провансальских». Папа наивно убеждал провансальцев помогать легату в делах веры. Легату было, между прочим, дано специальное назначение оказывать содействие графу Оранскому через посредство архиепископа руанского в его борьбе с городом Авиньоном, который признал власть Раймонда Тулузского. Он получил власть сменять по своему желанию всех провансальских епископов, которые окажутся неблагонадежными, так как они держат сторону Раймонда. Он имел поручение взять со всего духовенства и мирян лепту на дело церкви. Гонорий III извещает, кроме того, консулов и граждан тулузских, нимских и авиньонских, что если они, по истечении известного срока, не изъявят перед легатом покорность Церкви и не получат права избавиться от тяготеющего над ними отлучения, то их епископства будут уничтожены, а имущества жителей, по взятии городов, будут навсегда конфискованы, в силу соборных постановлений (52).
Но папа не ограничился этим — он тогда же разослал окружные циркуляры по французским епархиям, приказывая поднимать поход против еретиков. Наконец, он пытается усовестить возмутившихся графов, вернуть заблудших к единой Церкви. Он приказывает Раймонду оказать беспрекословное повиновение распоряжениям легата Конрада, «иначе, да будет тебе известно, что мы лишим тебя твоих заронских владений, которые остались за тобой. Не радуйся твоим счастливым успехам, не кичись, что можешь бороться с Господом, ибо ты владеешь землей, буду чи лишен наследства, а никогда отлученный не может долю владеть землей. И тебя тем легче свергнуть с твоего престола, что ты не по праву владеешь им». Папа намекал на его рождение от отлученного отца, проклятого Церковью с потомством. Такую же угрозу лишить всех владений Гонорий послал графу де Фуа.
Какой смысл могли иметь все эти препирательства, отлучения, угрозы и тому подобные меры, когда они стано вились обычаем и прихотью римского двора; когда они сделались просто дисциплинарными, а не действительными мерами, размер которых зависел от прихоти сановников курии!
Что касается расчетов короля французского, то он прямо смотрел на крестовые замыслы папы как на выгодную финансовую операцию. Папа назначил новый сбор полудесятины, Филипп обещал Риму идти на Юг, но, получив желаемое, он спокойно обратил свои силы на английскою короля, французские владения которого всегда привлекали его взоры.
Конечно, Филипп понимал, что не он, так его наследники овладеют Югом рано или поздно, так как вопрос о собирании земель французской национальности вокруг Парижа был поставлен им прочно. Свободный Лангедок, имевший особую национальность с особыми правами, обычаями, культурой, не мог, по незначительности своей территории и по своим многообразным политическим формам, продолжать самостоятельное историческое существование без ассимиляции с другими племенами. Сильный сосед давил на него с севера. Поскольку этот сосед был сильнее провансальцев и поскольку последние были разделены, нация, так расцветшая, должна была погибнуть. Ей не присущ был тот дух завоевания, который на некоторое время дает могущество молодым государствам и способствует их созиданию. Слабые должны погибать в борьбе за преобладание, особенно и век господства грубой силы. Лангедок, по самому географическому положению, не отделенный ни высокими горными хребтами, ни широкими реками от остальной Галлии, был нужен для округления границ французского государства.
Теперь, казалось, час для этого наступил. Все крестовые походы, начатые Церковью, были для французской политики рекогносцировками местности. В июле 1222 года с армией Амори Монфора на юг двинулись архиепископ буржский, епископы клермонский и лиможский. Они шли прямо на Альбижуа и осадили Клермон на Гаронне.
Раймонд Тулузский действовал в Аженуа; в этом году ему почти не приходилось снимать походную одежду. Он взял Ажен и торжественно вступил в него. Жители просили у него муниципальную хартию, он беспрекословно исполнил их волю. Подобная хартия университету, то есть общине, в то время могла быть написана рукой только провансальского государя. В ней есть многое, что разъясняет ту горячую преданность тулузской династии, ту готовность умереть за своих графов, которую обнаруживали в эти времена города Юга.
«Пусть знает всякий, что мы, Раймонд, сын государя Раймонда, — божиею милостью герцога Нарбонны, графа Тулузы, маркиза Прованса, и королевы Иоанны, обещали общине Аженской, всем жителям вместе и каждому порознь, быть справедливым синьором, что никакая обида городу не будет сделана ни нами, ни людьми нашими, ни советом нашим, и если кто другой это сделает, то мы будем защищать общину всем телом и имуществом нашим со всеми друзьями нашими. Пусть жители Ажена и его пригородов считаются нашими верными друзьями. Мы обещаем им, что если какой-либо враг, Монфор или кто другой, станет осаждать их, то мы войдем в город и будем защищать его и всех жителей города, не щадя своей жизни, имущества, друзей и издержек. И, кроме того, мы извещаем их, что если городу потребовался бы гарнизон, то мы обязуемся дать ему за наш счет двадцать вооруженных всадников, тридцать конных воинов и десять конных стрелков, а если обстоятельства потребуют больших сил, то мы со своей стороны сделаем, что можем, введем еще больше воинов и будем содержать их за свой счет, выговаривая в свою пользу только налог на соль. Мы желаем также, чтобы никто из жителей Ажена не был обложен податями в наших владениях, какое бы ни было ремесло его и род занятий» (53).
Эта хартия, помеченная 22 августа 1221 года, была скреплена печатью графа и тулузского капитула, который этим как бы гарантировал ее силу и прочность.
Надо заметить, что Амори очень рассчитывал на покорность Ажена. Незадолго до того он сам дал хартию жителям, оговорив подданство себе и наследникам и получив обещание не впускать в ворота никого из своих врагов и вообще из провансальцев, «людей этого языка». Поэтому внезапная капитуляция сильного города смутила его.
Он окончательно растерялся, когда Раймонд двинулся на него со всеми силами, так как прелаты, бывшие в его лагере, видимо, потеряли всякую энергию, встречая общую ненависть жителей к пришельцам. Священники, отправившиеся с Монфором, думали, что поход обой дется им дешево, что они займутся только ловлей ерети ков, что города, напротив, радостно откроют им ворота. Один за другим они стали оставлять Амори, не желая подвергать свое войско случайностям серьезной битвы. Сам по себе Амори был слаб; Раймонд наносил ему удар за ударом, гнал его из места в место и наконец запер и Каркассоне.
Больше пятидесяти городов и замков один за другим беспрекословно сдались Раймонду; их отряды увеличили собой войско освободителя. Раймонд VI, уже как независимый государь, отдает теперь от своего имени повеления и законы, устанавливает пошлины и налоги. Для того что бы хоть чем-нибудь залечить язвы страны, разоренной французами, он строит новые города у стен замков, содейству ет исправлению и заселению старых (54).
Освобождение страны принесло с собой веротерпимость. Альбигойцы смело открывали свои соборы; в архивах инквизиции под 1222 годом записано об одном из них. Он про исходил в Разесе, в городе Пьессане, на него собралось около сотни человек альбигойского духовенства, тулузс кий епископ Гильберт председательствовал на нем. Разесцы просили себе особого епископа — их желание было исполнено. Простым возложением рук был посвящен в эту должность Бенедикт из Тереса; он сам избрал себе по обычаю двух «сынов» — старшего и младшего. Публичному совершению альбигойского и вальденского богослужения теперь никто не препятствовал. Местное католическое духо венство настолько привыкло к веротерпимости, что не высказывало даже протеста.
Ввиду этого Рим, конечно, напрягал всевозможные усилия к достижению цели. Оба Раймонда подверглись новому проклятию. В начале 1222 года была получена такая папская булла:
«Наш возлюбленный сын, кардинал Бернар, легат Апостольской Церкви, принимая во внимание, что Раймонд, сын Раймонда, бывшего графа тулузского, не только подражает злодеяниям своего отца, но даже превзошел его в них, лишил его права на владение всеми доменами, которые принадлежали его отцу и которыми в бытность вышеназванного кардинала он владел. Мы же нашей апостолы кой властью вполне подтверждаем его решение как справедливое, произнесенное в том виде, как оно изложено в его повелениях» (55).
Если это, в сущности, не особенно пугало Раймонда то иначе отразилось на нем новое предложение папы, сделанное Филиппу Августу в феврале 1222 года — возродить дело Церкви, погибшей в стране альбигойской (56). Веротерпимость Раймонда делала его предметом ужаса и отвращения для Рима. Там решили, как видно из хроники Рейнальди, что католическая Церковь в Лангедоке не господствующая, а гонимая, что правоверных всячески преследуют, мучают, что оскорбляют поношениями святые иконы: пачкают, оскверняют, топчут ногами. Напуганной курии представлялись страшные сцены языческих гонений и мученичества, в головах римских священников находили место самые нелепые слухи. Из Раймонда делали вождя еретеков, слугу сатаны, и все это благодаря одному невмешательству графа в дела церковные, которое он унаследовал от своих гуманных предков.
Посреди такого переполоха Гонорий III сообщил Амори, что теперь не время думать об его утверждении в наследстве отца, что он, прогнанный и побежденный Раймондом, не может ничем помочь ни себе, ни Церкви, что крестоносцы напуганы неудачами и что только один могучий король французский может спасти святую веру в Лангедоке. Фанатичное рыцарство, как всегда, готово было посвятить свои силы на служение Церкви, готово было жертвовать своими личными интересами более великому делу. Король, сюзерен, верный своему слову, иначе не пойдет на завоевание Лангедока, как после приобретения права на эту страну от Монфора. Амори предстояло отказаться от отцовского наследия в пользу французской короны. Счастье повернулось лицом к врагу, и он, повинуясь обстоятельствам, оставленный в эту минуту даже Римом, которому так ревностно служил его отец, отдал свой меч и владения в распоряжение короля Франции и сошел с исторической сцены, на которой был так несчастлив. Его утешало одно — чувство мести. Он был уверен, что его ненавистный соперник не дольше его будет торжествовать в Лангедоке, что оружие французов жестоко отмстит ему, и он ждал скорого поражения противника.
Политика Филиппа II и пап по отношению к Лангедоку и альбигойцам
14 мая 1222 года Гонорий III послал Филиппу Августу грамоту, существенно важную для истории Франции. Папство в средние века присвоило себе право раздачи народов, скипетров, ссылаясь на волю Господа. И на этот раз, руководимый ложным опасением гибели веры, первосвященник санкционировал полное и нераздельное обладание французским королем прелестной страной, которая своими идеями, поэтическим духом, роскошной почвой, богатством и промышленностью жителей стала драгоценным украшением. Феодальные обязательства, чувство государственной чести были забыты; королю показали славную добычу и пригласили овладеть ею по новому праву, по праву сильного.
«Ты знаешь, возлюбленный сын наш, — писал папа, — как сильно потрясена по грехам нашим в настоящее время Церковь Христова, особенно в стране альбигойской, на границах твоего королевства. Еретики одолевают ее, публично учат в школах неверию и рядом с нашими епископами ставят своих. Кто не знает тех усилий, которые употребляла Римская Церковь для уничтожения этой язвы н государстве твоем, и ее мероприятий не только духовных, но и гражданских! Тебе известно, возлюбленный сын, что светская власть имеет право употреблять меч вещественный, когда духовный не в силах остановить нечестие, что государи должны изгонять дурных людей из своих владений и что Церковь, в случае их нерадения, имеет право отнимать их достояния. Если мы обращаемся к другим владетелям с просьбой очистить их земли от еретиков и эта язва между тем вновь преуспевает в твоем государстве, так что враги веры видимо гордятся силой и торжествуют нал верными, то тем более подобает твоей светлости, если ты неравнодушен к твоей чести и к спасению души твоей, сражаться всеми силами и со всей скоростью против ере тиков твоего государства и их соумышленников, дабы о: медлительности не погибла вера вместе с остальной стра ной, которая пока во власти католиков, чтобы заблуждение не проникло в соседние страны, чего следует особенно опасаться. Без сомнения, твоему благоразумию небезызве стно, какая опасность грозит Церкви Господней и Твоему государству.
Потому, дабы впредь не было повода приписывать па дение веры ни твоим ошибкам, ни нам, которые обязаны взывать к тебе об извержении еретиков, в недостатке чего нас уже неоднократно упрекали, мы просим твою свет лость и увещеваем именем Господа, со всем благорасполо жением нашим, обещая тебе за то прощение грехов, с общего обсуждения и согласия наших братьев, присоединить к твоим владениям все земли, по которым граф Монфор состоял твоим вассалом, ибо граф этот не в силах более их защищать. Он обещал их тебе еще через епископов нимского и безьерского, а также в своих недавних письмах ко мне, из которых я усмотрел, что ты получаешь их в твое потомственное вечное владение и можешь владеть ими ненарушимо. Итак, трудись неустанно и дружно вместе с нами, как и подобает королевскому великолепию, для ускорения этого дела, дабы кто другой не отнял эту землю от тебя или от детей твоих».
Приводя постановление латеранского собора, по которому Раймонд был лишен своих владений, законно переданных Симону Монфору, папа успокаивает совесть короля:
«Будь уверен, что мы уже давно отлучили Раймонда, бывшего графа тулузского, его сына и друзей их, что мы увещевали их с кротостью, но они не хотели обратиться и упорствовали в своем коварстве. Мы обещаем всякое содействие и помощь с нашей стороны на все время, пока ты доброхотно будешь служить этому делу, которое есть дело Христово, как относительно полудесятины, сбираемой для этой цели, индульгенций, предназначаемых тем, кто ополчится на альбигойцев, так и относительно покровительства и защиты земли твоей, если бы кто-либо захотел напасть на тебя в твое отсутствие» (57).
Но Филипп Август, всегда сдержанный, не обнаружил своей радости. Он давно ожидал такого предложения. Он смотрел на завоевание Юга как на дело весьма серьезное. Более осторожный, чем когда-либо, он, видимо, это тяжелое альбигойское дело хотел предоставить времени и своим преемникам. Занятый английскими делами, он придерживался своей постоянной политики, не мешая никому из своих сильных вассалов вступить в борьбу с графом Тулузы. Он понимал, что это — великолепное средство к ослаблению и Лангедока и феодализма в одно и то же время. Он не прочь был, чтобы долины и горы Прованса сделались могилой для буйных и непокорных владетелей, недавно еще считавших своего короля не кем иным, как первым между баронами. Когда Тибо, граф Шампани, побуждаемый легатом, вызвался попытать счастья в Лангедоке, король отвечал, что он не препятствует, если это ничем не повредит прочим обязательствам графа перед короной.
.«Мы, — пишет Филипп, — пока не хотим себя связывать никакими обещаниями в этом деле, потому что у нас на руках война с королем Англии[10], а перемирие, с ним заключенное, продлится не более как на год до будущей Пасхи. Не след нам заниматься какими-либо предприятиями, которые могли бы отвратить нас от защиты самих себя и нашего государства, ради чего мы должны оставить все прочие дела» (58).
Со своей стороны, и Раймонд Юный думал подействовать на великодушие Филиппа Августа. При одинаковых обстоятельствах он хотел повторить маневр своего отца. Он простодушно рассчитывал тронуть короля и склонить его и свою пользу:
«Я прибегаю к вам, государь, как к моему единственному покровителю, как к старшему господину и, если смею так высказаться, к моему единокровному родственнику. Я униженно вас прошу и умоляю сжалиться надо мною и помочь мне, пред очами Божиими, возвратиться к единству Святой Церкви, дабы тем, освободившись от позора быть лишенным своего наследства, я бы мог получить мое достояние от вас.
Государь, я призываю Бога и Святых во свидетели, чти употреблю все старания исполнять вашу волю и волю ва ших доверенных. Я весьма охотно поспешил бы предстать пред Вами, но при всем моем горячем желании я не могу этого сделать именно в настоящее время. Я бы просил Ваше Величество благосклонно верить тому, что скажут Вам ел меня податели этого письма, Гвидон Кавальоне и Иснард Альдигарий» (59).
В этих строках слышалась неподдельная мольба вас сала, который не хотел бы навлекать на дорогой для него народ бедствий неприятельского нашествия. Он писал это письмо на глазах хилевшего отца — Раймонд VI в последнее время не принимал никакого участия в политических делах. Он был стар и дряхл, ему шел шестьдесят седьмой год. Переживший столько, сперва счастливый, потом публично опозоренный и униженный, влачивший дни в изгнании среди чужих, насильственно принужденный стоять в рядах врагов своего народа и бороться с теми, которых так любил, он наконец испытал редкое счастье — видеть хоть кратковременное торжество своего правого дела и в конце дней своих вкусить высокую для изгнанника отраду — возможность умереть на родной земле, в своей наследственной столице, среди дорогих для него друзей. Ненавидевшая его Церковь хотела сделать из него еретика, но этот еретик набожно пишет завещание, где отдает доходы со своих тулузских имений госпитальерам и тамплиерам для раздачи между бедными под наблюдением его душеприказчика и кузена графа Комминга и молодого графа де Фуа. Все свои владения и имущество он завещал сыну Раймонду, на попечение которою оставлял второго сына Бертрана. В другом документе он изъявил желание принять посвящение в духовный орлей госпитальеров.
Чувствуя приближение смерти, Раймонд VI просил тулузского командора этого ордена Кабанеса не отказать ему в последнем месте успокоенья среди братьев. Столько послуживших Христу, если бы он умер, не успев принять посвящение. Командор тогда же принял его в братство именем приора Сен-Жилльского.
Смерть постигла его почти внезапно, он никогда не испытывал тяжелых болезней. В один из июльских дней, возращаясь из церкви от обедни, он зашел в дом знакомого гражданина Гюи Дежана, в приходе святого Сатурнина. Почувствовав предсмертные страдания, он поспешил послать за кафедральным аббатом, человеком глубоко религиозным и пользовавшимся его полным расположением и доверием. Умирающий уже десять лет находился под церковным отлучением. Он давно в душе примирился с Церковью. В такой торжественный час он надеялся получить прощение у своих врагов и думал, что на пороге могилы его не осмелятся лишить Святого Причастия и общения с верными.
Аббат долго не появлялся; между тем с больным началась агония. Среди страданий он спрашивал, отчего нет священника. Графа томила тяжелая неизвестность, он страшился умереть отлученным. Раймонд шевелил губами молитвы, со слезами на глазах. Когда прибыл аббат, он уже не владел языком, хотя был еще в памяти и сознании. Знаками умирающий просил аббата подойти ближе, протянул ему руку и крепко пожал ее в знак примирения с Церковью. Над ним была совершена глухая исповедь, но аббат не имел разрешения приобщить отлученного.
Даже в эту всепримиряющую минуту Церковь не отказалась от своей вражды. Потухавшими глазами, полными слез, Раймонд как бы молил о чем-то аббата. Руки графа лежали в его руках. Умирающего окружали госпитальеры; они были свидетелями раскаяния и этой предсмертной борьбы. Один из них снял с себя мантию с красным крестом и прикрыл ею Раймонда. Аббат хотел сорвать ее, но, прежде чем испустить последний вздох, Раймонд конвульсивным движением ухватился за нее, притянул к себе и благоговейно поцеловал ее крест. В ту же минуту его не стало.
Слух о смерти графа быстро разнесся по городу. Густая толпа окружила дом, где лежал труп человека, столь дорогого для нее. Аббат вышел к народу, известил о смерти графа, сказал, что он умер как приличествует христианину и что теперь надо молиться об успокоении его души. Он убеждал народ не давать тело графа госпитальерам, как просили те в силу завещания, а похоронить его у святого Сатурнина, в приходе которого он скончался. Но госпитальеры уже завладели телом покойного, отнесли его в свой дом, хотя не решились похоронить без разрешения, так как Раймонд умер отлученным (60).
Ожидаемого разрешения не последовало. Ни Гонорий III, ни его суровые преемники не хотели простить человеку, имевшему некогда смелость восстать против их всемогущего предшественника во имя веротерпимости и решившегося протестовать против гнета совести. Папы не могли не знать, что человек, провозглашенный ими еретиком, никогда не принадлежал к альбигойской общине, что он всегда и везде оставался католиком, старательно соблюдавшим все обязанности истинного христианина, что, по крайней мере в последнее время, на глазах всех своих подданных он был и в домашнем быту ревнителем католичес кого культа.
По настоянию Раймонда VII через двадцать пять лет после смерти его отца, когда страна, взволнованная великими событиями, несколько умиротворилась, папа Ин нокентий IV назначил инквизиционную комиссию, имев шую целью исследовать жизнь отлученного и определить, заслуживает ли он христианского погребения. Комиссия, состоявшая из лионского епископа и двух инквизиторов, доминиканца и францисканца, начала свои заседания к здании тулузских храмовников в марте 1247 года. Она, приняв к сведению жалобу и доводы Раймонда VII и защиту его покойного отца, сочла нужным допросить сто десять свидетелей, духовных и светских, монахов и мона хинь. Это были лица, лично знавшие покойного и бывшие с ним в более или менее близких отношениях. Из этих допросов оказалось, что мнимый еретик, боровшийся с жадными крестоносцами Монфора, принадлежал к числу самых ревностных и религиозных католиков. Он, воюя с Монфором, строил великолепный собор святого Стефана, который сохранился по настоящее время, и во время торжества альбигойцев благодаря покровительству, оказываемому им монахам и священникам, ни одна церковь, ни один монастырь, никто из духовенства не под верглись нападению или оскорблению. Никто во всех пре делах тулузских владений не делал таких пожертвован и и монастырям и монахам, как он. Под его защитой в Тулузе утвердились первые минориты. Священники бедных цер квей могли всегда обратиться к нему за пособием. За его столом ежедневно кормилось тринадцать бедных. В страс тную пятницу он питался только хлебом и водой. Капелла не оставляла его даже в походах, и он ежедневно слушал мессу. Казалось бы, невозможно винить в отступничестве католика, если такие поступки были засвидетельствова ны сотней надежных свидетелей и искренним сознанием самих инквизиторов. Но Рим и на этот раз не дал разрешения.
Труп Раймонда истлел без погребения, обезображенный, ограбленный, наполовину изъеденный крысами (61). Еще в начале XVI века показывали около кладбища тулузских госпитальеров деревянный ящик, в котором дотлевали кости героя альбигойской эпохи. Череп сохранился неповрежденным, и современники видели на затылке его небольшую, но очень отчетливую лилию красноватого цвета, походившую очертаниями на лилию французского герба. Этот френологический признак в глазах наблюдателей служил предзнаменованием присоединения Лангедока к королевской короне Франции (62).
Национальность провансальская должна была прекратить свое существование: невидимая рука как бы начертала иероглифические письмена о ее судьбе на челе последнего представителя независимости Лангедока.
Почти в одно время с Раймондом VI Юг лишился другого, столь же славного борца своей независимости. Раймонд Роже, граф де Фуа, был старше своего друга несколькими годами, но ему суждено было увлечь с собой в могилу своего сюзерена, с которым он провел всю жизнь под одними знаменами, защищая одно и то же равно святое для них дело. Последние могикане свободы Лангедока, они умерли почти в один день. Старый граф де Фуа также считался отлученным, также подозревался в ереси и, подобно Раймонду VI, в своем завещании оставил значительные сокровища аббатству Памьер и монастырю больбонскому, куда предназначил ренту в полторы тысячи солидов на содержание бедных в помин своей души. Он умер, считаясь одним из братьев больбонского монастыря. Его прощание с жизнью было трогательно. Один сын был при нем, другой в плену у Монфора— граф запретил платить за выкуп сына более пятисот марок. Граф мало в чем мог упрекнуть себя, оглядываясь на прожитое. Умирая, обремененный летами, окруженный народным уважением, он призвал к себе Роже Бернарда, своего старшего сына и наследника.
—Живи доблестно, дорогой сын мой,— сказал он ему. — Управляй твоим народом, как отец, и будь первым вассалом наших законов; подавай пример справедливости, милости и великодушия. Будь благоразумным государем, храбрым воителем, добрым мужем, терпеливым отцом, бережливым хозяином и беспристрастным судьей (63).
Роже Бернард II старался вполне следовать совету отца. Обладая честным и отважным характером, он стал для Юга же национальным героем, каким был его товарищ Раймонд VII. Он приобрел от почитателей даже титул «Великого». И сюзерену и вассалу в начале их самостоятельного поприща одинаково улыбалась судьба. От отцов они получили уже освобожденные от иноплеменников владения. Война с Филиппом Августом, которую они наследовали, затягивалась, и некоторое время они утешали себя мыслью, что гроза вовсе минует их.
Французский король оказывал видимое равнодушие к крестовой войне и к выгодам, которыми думали соблазнить его папские легаты.
— Я знаю, — говорил он епископу Фулькону, — что духовенство употребит все усилия, чтобы вмешать моего сына Людовика в альбигойские дела. Но Луи слаб здоровьем и хилого сложения, он не вынесет этой войны и скоро умрет. Я предвижу, что королевство попадет в руки женщины и детей и подвергнется большим опасностям.
Что касается до Амори Монфора, то он нимало не беспокоил альбигойцев. Его собственное положение сделалось оборонительным. Он опустошил было альбийский диоцез, но оба графа оттеснили его на берега Гаронны и заставили принять мирные условия. Он видел себя покинутым и принужден был унизиться пред счастливым соперником. Положение крестоносцев, окруженных провансальцами, было таково, что, по выражению легата Конрада в послании к Филиппу Августу, они готовились «с каждым днем к смерти перед врагами веры».
Пока было заключено перемирие; одна из сестер Амори была предназначена в супруги Раймонду VII, чтобы тем приличнее мог Монфор возвратить свои завоевания. Несколькими годами раньше подобный союз был бы немыслим. Но и теперь он был неосуществим; оба враждебных дома разделяли потоки крови. Для определения подробных и окончательных условий была назначена конференция в овернском замке Сен-Флор. Жена и дети Монфора остались заложниками. Войска обеих сторон стали расходиться.
Амори сохранил за собой на некоторое время Каркассон. Здесь его навестил Раймонд; перед глазами толпы оба врага показывались вместе; одну ночь Раймонд даже провел во дворце Монфора. Это последнее обстоятельство было поводом к фальшивой тревоге и волнению жителей, кото рые, опасаясь за жизнь графа, стали вооружаться и кинулись к замку выручать мнимого пленника (64).
Папа должен был признать реальность происходящего Со свойственной курии гибкостью и со всегдашним умением пользоваться обстоятельствами Гонорий III приказывает своему легату позаботиться о выгодах епископов при заключении мира. Он теперь называет Раймонда «благородным мужем» и не имеет ничего против собрания собора в Сансе, куда были перенесены и заседания из Сен-Флора. В Сане съехались шесть архиепископов и двадцать епископов; от Тулузы был только один Фулькон. Король Филипп Август изъявил желание присутствовать на соборе.
Король прибыл в город, но чувствовал себя весьма дурно. Он уже десять месяцев боролся с лихорадкой, и его крепкое здоровье стало слабеть. Он просил, чтобы его скорее увезли в Париж. Но ему не суждено было еще раз увидеть свою луврскую башню. Дорогой, в городе Манте, королевский поезд должен был остановиться. Здесь 14 июля 1223 года Август скончался. Перед смертью он хотел сделать уступку духовенству. По завещанию он оставлял двадцать тысяч ливров Амори Монфору на пользу альбигойского дела, «чтобы вырвать из рук врагов его жену и детей».
Впрочем, такой пункт завещания не может иметь исторического значения. Король был не в силах выйти из-под влияния духовенства; и по обстоятельствам и по своему мировоззрению в последнее время он был орудием корысти духовенства и рабом суеверия. В том же завещании он отдает в распоряжение своих душеприказчиков пятьдесят тысяч ливров и отписывает громадную сумму в триста четырнадцать тысяч ливров в пользу тамплиеров, госпитальеров и короля иерусалимского[11], с тем чтобы снарядили триста рыцарей на борьбу за морем с сарацинами; двадцать одну тысячу ливров он завещал бедным, сиротам и вдовам и только десять тысяч своей жене, забытой Ингеборге (65).
Из этих данных можно заключить, как смотрел король на свое пожертвование. Роль «великого покровителя Церкви», как называет его официальный хроникер, применима к нему весьма условно; Филипп Август прежде всего имел политическую задачу — укрепить французское королевство, собирая соседние земли и рассчитывая возвести его со временем на высоту монархии Карла Великого. Его тридцатишестилетний сын вступил на престол уже по праву наследства, а не избрания[12]. Таким образом, он был первый из Капетингов, кто решился презреть старый обычай, ставший одним воспоминанием.
Походы Людовика VIII
Могущество нового короля побудило духовенство возобновить дело об альбигойцах. Из Рима опять посылались буллы.
Едва успели опустить в склепы Сен-Дени тело Филиппа, как легат Конрад уже побуждает Людовика VIII оказать содействие прелатам французским в войне с еретиками. Он сознавался, что без личного вмешательства короля теперь нельзя вести наступательной войны. Дела в таком положении, что надо стараться спасти как-нибудь остатки крестоносцев, стоявших в некоторых замках. На этот предмет король велел отпустить половину суммы, назначенной в завещании отца, но отказал в личном участии, так как хотел заняться покорением Шаранты и Пенни[13]. Даже просьба папы — «посвятить Господу начало своего царствования и очистить государство от язвы, которая пятнает французское королевство»66— не была уважена Людовиком VIII. Однако пособие, выделенное королем, было так значительно, что Амори поехал в Каркассон со светлыми надеждами. Он вел за собой множество наемников: срок перемирия истек и провансальцы возобновили войну.
Первый удар Раймонда VII был направлен на Каркас-сон. Он явился под стенами этого города вместе с графом де Фуа, который, как опекун шестнадцатилетнего Трен-кавеля, виконта Безьерского, считал себя обязанным возвратить Каркассон своему вассалу. Амори нашел Каркас-сон осажденным. Французские наемники превосходили численностью провансальцев, и Раймонд снял на время осаду, рассчитывая, что весь этот сброд скоро разбредется и Монфор снова будет слаб. Этот расчет оказался верным. Когда у Амори не хватило денег, наемники большими отрядами стали оставлять его и возвращаться на родину, по дороге опустошая несчастную страну. Напрасно Амори и последовавшие за ним рыцари предлагали в залог уплаты свои земли во Франции — ответом был холодный отказ. Напрасно даже самого себя он объявлял заложником, напрасно некоторые прелаты из друзей его поступали так же. Дошло до того, что у Амори в Каркас соне осталось не больше двадцати рыцарей. Французы покидали Монфора не из трусости, а из корысти и рав нодушия к его делу.
Один из таких отрядов в шестьдесят человек, возвращаясь домой, геройски сражался с войсками Раймонда VII Французы сумели победить противника и прорваться; но в этой борьбе они считали себя не служителями крестовой идеи, а простыми наемниками.
Между тем народ поднял знамя восстания в тех немногих городах, в которых еще сидели французы. Страна была против крестоносцев. Надежды не оставалось никакой. Пришлось войти в переговоры с графом тулузским и просить его условий.
Раймонд и граф де Фуа въехали в Каркассон. 14 января 1224 года при посредничестве архиепископа нарбоннского, они заключили с Монфором трактат, который сохранился в подлиннике в документах города Фуа (67). Амори обязался содействовать заключению общего мира между Францией и графом тулузским и не позже Троицы дать окончательный ответ по этому вопросу. В течение этого времени все провансальские церкви останутся status quo; священники и прелаты сохранят свои владения; Нарбонна, Агд, Пеннь (в Альбижуа), Ларок (в Руэрге) и замок Терм (в Аженуа) признаются нейтральными на два месяца со дня подписи трактата; графы тулузский и де Фуа обязуются не занимать эти города, если даже будут побуждены к тому желанием самих жителей. Впрочем, в случае если это понадобится, они могут войти в Нарбонну и Агд, но только под условием не стеснять права церквей и жителей этих городов, не причинять им никаких насилий и не заявлять своих феодальных прав. Каркассон, Минерва и Пеннь (в Аженуа) теперь же передаются в руки Раймонда и графа де Фуа. Последние соглашаются объявить амнистию и возвратить конфискованные имущества тем жителям Безьера, Нарбонны и Каркассона, которые держались стороны Монфора и оставались ему верными. Наконец, они обязываются уплатить Монфору десять тысяч серебряных марок, если он выхлопочет им мир с Церковью.
На другой день после подписания этого трактата Амори с ничтожным числом верных друзей и сторонников оставил Каркассон. Он уносил с собой общую ненависть провансальцев, над которыми в продолжение четырнадцати лет тяготело суровое владычество Монфоров.
Но провансальцы не могли предаваться радости по случаю освобождения. Новые тучи собирались над ними. К непримиримой ненависти римской курии присоединяются теперь политические расчеты французского двора.
Судьбы католической Церкви в Лангедоке складывались так, что давали новую пищу этой ненависти Рима. Католический мир был поражен известием, что в Болгарии, этом источнике альбигойства, появился новый папа. Теперь никто не хотел верить, что альбигойцы просят для себя одной терпимости.
Антипапа грозил поколебать все основы католической Церкви. Теперь появился повод всякому верному католику опасаться за свою веру. Альбигойство складывалось, таким образом, в стройную и сильную Церковь. Носились слухи, что сторону папы и его еретического учения принимает множество католиков, между ними даже указывали на нескольких епископов.
Можно судить, как напугался легат Конрад, когда до него дошли эти зловещие слухи. Прежде всего он простодушно принял нового папу за антихриста.
«Мы не можем удержать наших слез и рыданий, — пишет он архиепископу руанскому. — Мы говорим лишь то, что видели, и утверждаем лишь то, что знаем. Человек погибели, который должен восстать против всего святого и того, кто именуется Господом, послал уже своего предтечу ересиарха, которого альбигойские еретики именуют своим папой и который обитает в Болгарии, Кроации и Далмации, по соседству с народом венгерским. Еретики альбигойские стекаются к нему, спрашивают его советов и толкуют ответы. Один из них, Варфоломей, родом из Каркассона, епископ еретический и викарий этого антипапы, в ознаменование своего нечестивого почтения к последнему, уступил ему в качестве резиденции Порлос, а сам переселился в тулузские пределы. Этот Варфоломей пишет письма, которые распространяет повсюду, и титулуется в начале их так: "Варфоломей, слуга слуг святой веры". Между прочими бесчинствами он назначает епископов и, нечестивый, осмеливается совершать духовные посвящения» (68).
По поводу этого антипапы шли прения на упомянутом соборе в Сансе, куда съехались все французские прелаты для поиска средств к подавлению альбигойской ереси. Хотя страшный антипапа вскоре умер, Гонорий III постоянно находился под впечатлением его тени. Папа решительным образом действует теперь на французского короля.
Людовик VIII, как мы замечали, по своей пылкой и вместе с тем набожной натуре, всегда был способен подчиниться влиянию крестовой идеи. Однажды он уже пробовал свои силы в Лангедоке. Его советники видели и завоевании Юга цель французской политики. Королев екая власть сильно возросла при нем: с первых же днем своего правления он нанес тяжелый удар пэрам и феода лизму. Простым указом, изданным королем, было возве щено, что королевские чиновники наравне с великими вельможами Франции имеют право по воле короля заседать в суде пэров. Рядом с герцогом бургундским и графом Шампани теперь сидели в совете канцлер, кравчий мергер короля; они судили тех самых пэров, которые прежде относились к ним не иначе как с презрением. Это было началом падения феодализма и знамением роста королевской власти.
Пока Людовик VIII воевал в Пенне, папа, прелаты и легат готовили его к предприятию, в их глазах славнейшему. Возбуждая религиозное рвение, они не забывали действовать и на корысть короля. В феврале 1228 года Амори Монфор по прибытии ко двору в Париже составил формальную передачу своих владений уже от своего лица в такой форме:
«Ведайте все, что мы, Амори, синьор Монфора, оставляем нашему дражайшему господину Людовику, славному королю Франции, и его наследникам на вечные времена все привилегии и даяния, которые Римская Церковь принесла Симону, нашему отцу, блаженной памяти, в полное его распоряжение, — касательно графства тулузского и других альбигойских стран, но под условием, что папа исполнит все предложения короля, сделанные ему через архиепископа буржского и епископов лангрского и шартрского. Иначе, да будет ведомо, что ничего и никому не уступаем из владений наших» (69).
Последнее условие было пустой оговоркой. Кто больше самого папы мог стремиться к скорейшему осуществлению предприятия? Когда прелаты прибыли к королю, обещая от имени папы и кардиналов предоставить в его распоряжение все сокровища Церкви на дело, которое они имели претензию считать святым, то король, собрав свой совет, великодушно просил папу о самых легких для Рима услугах. Он желал прежде всего получить индульгенцию на крестоносцев, для себя и для тех, которые пойдут с ним в Альбижуа. Архиепископы буржский, реймский и санский должны были получить власть отлучать от Церкви и налагать интердикт на земли тех, кто осмелится напасть на владения или на лиц, ополчившихся во имя креста. Сам же король получит благословение поступать так со всяким бароном Франции и королевским вассалом, который лично не пойдет в поход на альбигойцев или который, не будучи в состоянии идти, не заплатит достаточной суммы на истребление врагов веры; ибо бароны обязаны верностью и присягой служить королю против всех, кто нападет на королевство, а государство не имеет более опасных врагов, чем еретики.
Все эти отлучения и интердикты предполагалось снимать лишь после полного удовлетворения. Король требовал от папы издания буллы, по которой Раймонд VII и вассал его, виконт безьерский, лишались графства тулузского и других своих владений, а также лишаются владений все те, кто будет противиться этому предприятию или станет противодействовать силой. Все эти земли даются на вечные времена королю Франции, его наследникам или кому он прикажет, за сохранением своих сюзеренных прав.
Король желал иметь при себе в качестве легата архиепископа буржского, с правами и властью кардинала Конрада, чтобы он проповедовал по всему королевству о помощи земле альбигойской.
Папа обязался также ходатайствовать перед императором Фридрихом II, чтобы король не встретил какого-либо препятствия из земель, смежных со страною альбигойской, то есть с Лангедоком[14]. Известно, что граница империи была на Роне, но король выговорил себе право перейти эту реку и внести оружие в Прованс, для окончательного искоренения ереси. Папа взялся хлопотать о продлении на десять лет перемирия, заключенного с английским королем, так как война с альбигойцами грозила продлиться много лет и требовала большой затраты людьми и деньгами.
Наконец, король требовал у папы существенной услуги: платежа в течение десяти лет ежегодно по шестьдесят парижских ливров на военные издержки. Сбор полудесятины в его пользу производился по распоряжению папы уже давно.
— Если мне пообещают исполнение этих условий, — добавлял король, — то я лично пойду в Альбижуа и верно буду служить этому делу. Римская курия предоставит мне и моим наследникам право утвердиться в этой стра не, пойти туда и возвратиться, когда нам будет угодно Если же наши предложения не будут приняты, я не обя зуюсь идти в Альбижуа или пойду, когда найду это возможным (70).
Но в действительности эта решительная борьба Франции и Лангедока состоялась лишь через два года.
Раймонд, перед угрозой нашествия, пустил в ход все свое дипломатическое искусство. У него явились ходатаи перед папским престолом. Король английский Генрих III был его близким родственником по матери. Он приказам своему послу в Риме, епископу лигфельдскому, приложим, все усилия в пользу графа тулузского. Со своей стороны, Раймонд униженно склонялся перед первосвященником. Папа смягчился и обязал Раймонда немедленно изгнать еретиков и войти в переговоры с Амори. К тому же другие обстоятельства влияли на Гонория. Фридрих II затевал поход в святую Землю. Индульгенции и расходы, предназначенные для альбигойцев, понадобились теперь для Палестины. Папа, видя, что Раймонд готов смириться из одного страха перед французским оружием, счел его добрым католиком.
Но когда известие об этом пришло в Париж, то Людовик VIII возмутился, задетый за живое, и торжественно протестовал пред лицом всех баронов и прелатов Франции. Он объявил, что папа заодно с Раймондом.
— Мы убедились, что Римская Церковь, которой принадлежит суд в делах веры, соглашается с Раймондом и судит его уже иначе. — Король негодовал на римский двор. — Мы объявили легату, чтобы он впредь никогда не говорил нам об этом деле, от которого мы совершенно отказываемся (71).
Отказ был притворный. Жажда добычи слишком сильна была в короле.
Раймонд явился на собор прелатов в Монпелье. Здесь председательствовал Арнольд, архиепископ нарбоннский, этот ветеран альбигойской войны, на глазах которого выросла ересь. Раймонд хотел купить независимость своей страны покорностью. Он принял все условия. Графы Фуа и безьерский присоединились к нему. Они обязались оберегать католическую веру на всем пространстве своих владений, очистить свои государства от еретиков и конфисковать их имущества, восстановить Церковь и духовенство во всех их правах и заплатить двадцать тысяч серебряных марок вознаграждения в разные сроки. Раймонд выговорил только одно: чтобы папа заставил Амори Монфора отказаться от всех прав на владения его и его союзников; что ему будут возвращены все документы по этому предмету, выданные папой, королем французским и его отцом, графом тулузским (72).
В присутствии своих вассалов и всего высшего провансальского духовенства Раймонд 25 августа 1224 года принес присягу перед Арнольдом в соблюдении всех упомянутых условий и даже дал от себя письменный акт, на котором вместе с ним подписались оба его союзника и друга. В знак сближения было послано в Рим торжественное посольство с местными архиепископами и епископами.
Если бы от Раймонда зависело подавить ересь, то все эти соборы имели бы значение. Но при самом искреннем расположении его к католикам совершить такое дело было невозможно. «Совершенные» отказались бы от своей веры лишь вместе с жизнью. Раймонд обманывал и папу, и своих провансальцев. Послы Раймонда застали в Риме Гюи Монфора, присланного от Людовика VIII. На них смотрели с недоверием, а Монфору оказывали всевозможные почести. Их государь являлся в положении отступника, и они должны были скоро вернуться, не успей внушить к нему доверия. Жадные прелаты, обиженные при дележе владений, с успехом клеветали на Раймонда. Он готов был принести всякие жертвы, как бы они ни были тяжелы для него, а его обвиняли в лукавстве и новом предательстве. Папе оставалось решить дело так или иначе. Для разъяснения недоразумений и для оконча ния дела был послан во Францию новый легат— кардинал Святого Ангела Роман. Он вез лестные письма к Амори Монфору и имел поручение снова сговориться е французским королем (73). От личности легата, от его воз зрений зависела судьба Раймонда и Лангедока. Кардинал считался за человека решительного. К тому же он имел обширные полномочия. По одному его слову полки Фран ции могли двинуться на Юг.
Легат нашел короля в Туре среди своего парламента. Решено было созвать в день Святого Андрея собор в Бурже, куда пригласить Амори Монфора и Раймонда. Буржский съезд был национальным собором всей Франции. Шесть архиепископов, сто епископов, депутаты капитулов и про чие духовные лица собрались судить Раймонда. Граф тулузский униженно просил принять его в лоно Церкви, обе щал исправиться, если был в чем виновен, и впредь строго поступать с еретиками. Он ручался, что скоро все ею подданные изъявят покорность Римской Церкви, что мир будет восстановлен и что церквям будет возвращено все отнятое от них. Когда он замолчал, то Монфор предъяви: свои права на тулузские владения, так как папа Иннокентий III и король Филипп Август лишили Раймонда большей части владений в пользу покойного Симона Монфори вследствие ереси альбигойской. Раймонд возразил на это, что он готов исполнить перед королем и Римской Церковью все свои обязанности в качестве наследника этих земель. Тогда Монфор потребовал суда двенадцати пэров Франции:
— Пусть король примет мою вассальную присягу; я готов подчиниться его суду, потому что иначе он не согласится считать меня пэром.
Ссылаться на эти права надо было раньше. Ни Иннокентий III, ни латеранский собор не могли лишить графа тулузского его владений без суда пэров. Как герцог нарбоннский, он слыл первым между светскими пэрами, а они вряд ли поддержали бы Рим. Случилось так, что это оружие указал враг Раймонда. Легат прервал спор подсудимых и сказал, что одних обещаний графа весьма недостаточно, но что во уважение послушания, оказанного Раймондом, он передает его дело суду архиепископов, которые порознь, тайно друг от друга, передадут легату свое мнение, следует ли отлучать графа тулузского. Большинство голосов оказалось за Раймонда. Но это не помешало легату через два месяца торжественно провозгласить отлучение Раймонда и его провансальцев. Граф тулузский был объявлен «осужденным еретиком» (74).
Поведение легата ничем не оправдывалось. Но и Раймонд должен был предвидеть подобный исход дела. Между соперниками лежала целая пропасть, плод двадцатилетней войны. Легат хорошо понимал, что все соборы, уверения, клятвы останутся фразами даже при искреннем желании Раймонда. Он определил французскому королю церковную десятину на пять лет и уверил Людовика, что папа запретит Генриху III Английскому под угрозой проклятья нападать на французские замки в его отсутствие.
28 января 1226 года в Париже проходил съезд духовных и светских нотаблей[15]. Король спрашивал их мнение об альбигойском деле. Его предприятие одобрили и дали в том письменные уверения. Вассалы обещали помогать ему как государю в течение всей войны. На третий день король принял из рук легата крест. Проповедники пошли по всем концам страны поднимать народ и вербовать дружины крестоносцев, чтобы вконец опустошить многострадальный Лангедок.
Положение Раймонда и его друзей было ужасным. Они привыкли разгонять толпы крестоносцев, но им нельзя было рассчитывать выдержать борьбу с регулярным войском Франции, закалившимся на полях Нормандии, Пуату и Гиенни.
В Европе Раймонд видел двух преданных друзей; оба они были могущественными государями. С королем Англии у него был заключен тайный трактат об оборонительном союзе (75), но из страха римского проклятия или по нерешительности Генрих III не оказал содействия в решительную минуту. Папское послание застигло его во главе армии. Говорят, что он хотел идти на помощь Раймонду, но астролог, бывший при войске, предсказал неудачу похода.
Другой друг Раймонда, тогда позволявший себе изредка посмеиваться над верой и курией, молодой император Фридрих II, не мог не питать к Раймонду живой симпатии по радушию и впечатлительности своего характера. Но эта симпатия тоже не обратилась в дело. Император хворал и лечился в Италии, собираясь совершить паломничество в Палестину, и подтрунивал над усердными приготовлениями папы. Но симпатии современников перешли к потомству, и сент-олбанский монах (Матвей Парижский) занес эти чувства в свою великолепную летопись.
«Многим поистине казалось великим злоупотреблением объявить войну верному христианину, тем более что всем было известно, как граф настоятельно просил легата на буржском соборе лично посетить его город и осведомиться, исповедует ли он католическую веру. Что касалось лично его, то он обещал в случае, если в чем прегрешил (хотя он не чувствовал себя ни в чем виновным), оказать полное удовлетворение Богу и Церкви; как следует верно му христианину, ответить на все вопросы о вере, о которой легат найдет нужным его спросить. Но легат пренебре! всеми этими обещаниями, и графу, католику, нельзя было найти пощады у него иначе, чем навсегда отказавшись о: всех своих владений» (76).
Раймонд, как во всякое тяжелое время, надеялся ни преданность своих подданных, хотя понимал, что им ж устоять против соединенных сил Франции. Он поспешно объезжает страну, подтверждает и раздает привилегии го родам, слушает везде уверения и клятвы в верности. Его сопровождает общая симпатия горожан; католики на его глазах клялись над Евангелием умереть вместе с ним.
— Если король французский, крестоносцы или другие люди ворвутся в земли нашего господина графа, — клялаа, вся община города Ажена со всеми консулами,— то мы без него, без его совета, без его воли, не заключим мира и соглашения и никогда не откажемся от его синьории и ш соблюдения верности к нему; все время мы останемся вер ны и покорны его власти. Если бы даже Церковь или кто либо из прелатов захотели разрешить нас от клятвы п обязанностей к господину графу, то мы сами не будем счп тать себя разрешенными и избавленными от заключенных с ним условий (77).
Увлечение было искреннее, всеобщее, но в нем было немало легкомыслия. Перед наступлением огромной армии была бессильна эта благородная преданность общин своему государю, представлявшему такой редкий в истории пример умеренности, гуманности обхождения и уважения свободы. Раймонд тем менее мог надеяться на обещания южан, так как знал по опыту их невоинственность.
Французская армия способна была произвести трепет в городах Лангедока одним своим появлением. Людовик УШ вел пятьдесят тысяч одних рыцарей и оруженосцев; пехоты было столько же, если не больше. Короля сопровождали опытные полководцы. Амори, удостоенный сана коннетабля Франции, и его дядя Гюи Монфор были в королевской свите. Французы пошли на этот раз иным путем — они собирались двинуться с восточной границы герцогства нарбоннского, а не с северной. Для этого следовало овладеть богатыми городами по Роне.
В Лионе было приготовлено множество транспортных судов. Обоз, машины и припасы спустили вниз по Роне, а армия пошла берегом. Лишь только французы подошли к владениям тулузского графа, ближайшие коммуны стали высылать депутации в их лагерь. Ним первым подал пример. Он принес присягу на верность короне через посредство своего епископа, обязуясь удовлетворить все королевские требования. Диоцез нимский был тогда же присоединен к коронным владениям. То же было с Пюи-Лораном и Кастром в Альбижуа. Королевские бальи сменяли городские власти, хотя армия была довольно далеко. Один за другим сдавались отряды провансальских рыцарей.
Авиньонцы, которые, как подданные императора, должны были бы чувствовать себя в безопасности, со своей стороны отправили депутацию к Людовику и легату с просьбой о снятии отлучения и с изъявлением покорности. Они не желали, чтобы в город вступила вся французская армия; они хотели принять одного короля с его свитой. По требованию короля в лагерь было представлено пятьдесят заложников. Легат требовал безусловной сдачи, а община боялась мести за преданность тулузскому графу.
Город мог хорошо защищаться благодаря своему расположению. Несмотря на это, французы подошли к берегу Роны в огромных массах и стали переправляться через мост. Граждане заперли ворота; с какой-либо другой стороны они были недоступны. Французов, которые были в городе, убивали. Когда же авиньонцам удалось сломать мост на Роне, сообщения армии прервались. Легат проклял город и обрек его мести крестоносцев, как зараженный ересью. Король решился приступить к правильной осаде, но его нападения во всех местах были отбиты. Осада должна была затянуться. Прелаты, опасаясь, что император вмешается в войну, если узнает о нападении на Авиньон, советовали предупредить Фридриха об этом обстоятельстве. Императора извещали, что французы осаждают Авиньон как простые пилигримы во имя любви Божией, для спасения католической веры, так как в этом городе живут еретики, их укрыватели и соумышленники, что права императорские не будут ни в чем нарушены. Особое посольство должно было отвезти это письмо к императору (78). В ожидании императорского ответа король не терял время даром. Удерживая Авиньон страхом оружия, он действовал на Лангедок страхом своего имени. Надо ли удивляться той панике, какая охватила эти всегда пылкие южные общины при приближении французской армии.
Лангедок точно прочел свою судьбу, он видел бесполезность сопротивления. Одного объезда и увещевания архиепископа нарбоннского было достаточно, чтобы замки и «добрые города» на всем широком пространстве от Гаронны до Роны склонились под ярмо Церкви и Франции. Сеньоры, консулы шли в стан короля с повинной головой. Даже сильный Каркассон прислал свои ключи Людовику. Граф Комминга Бернар VI, один из союзников Раймонда, прибыл лично в авиньонский лагерь и присягнул королю, обещая помогать против врагов, особенно против графа тулузского. Роже Бернар, граф де Фуа, положил оружие, не поднимая его, если верить летописцам, и просил мира; но его просьбы не приняли.
Можно было бы заподозрить в пристрастности и лжи хронику, написанную офранцузившимся провансальцем из Пюи-Лорана, если бы мы не видели в Национальной библиотеке Франции документов о сдаче самых больших городов — Безьера (3 мая), Альби, замка Арена, города Нима (3 июня) и Каркассона (14 июля).
Только Тулуза стояла, по-прежнему гордая, непреклонная, отвергая всякую мысль о сделке с врагом. Какова бы ни была несоразмерность сил, но Лангедок первый раз так позорно склонил голову перед ярмом. Отдавать без боя крепкие замки и города, не видя даже в лицо вооруженного неприятеля, падать ниц пред католическим епископом — это со стороны полуеретических общин, из которых каждая имела свою историю, было низкой слабостью. Трудно было бы подыскать хоть одно смягчающее обстоятельство для объяснения этого груст ного и во всяком случае странного явления. Впечатай тельность провансальцев, их способность быстро перехо дить от радости к отчаянию, присущая им в большей степени, чем французам, была бы недостаточным мотп вом.
Должно заметить, что в альбигойский стан проникла измена. Прованс, то есть заронский край, в такой же степени был приютом новой веры, как и самый Лангедок. Борьба могла быть ведена только при общем единодушии городов обоих берегов Роны. Людовик своим движением по Роне удачно разделил союзников, и, прежде чем Лангедок мог взяться за оружие, граф Прованса Раймонд Беренгарий заключил союз с Людовиком. Он обязался помогать королю против Раймонда Тулузского и защищать те приронские земли, которые король завоюет (79). Следом за своим графом слабые провансальские вассалы в числе пятнадцати «отдали себя, всех баронов и людей своих и всю землю свою в полную волю возлюбленного господина своего Людовика, преславного короля французов» и принесли ему свою вассальную присягу по французскому обычаю (80).
Альбигойство наказывало само себя. Оно не давало твердых нравственных принципов; оно допускало даже по догматике отступничество от убеждений и тем самым уничтожало себя. Какое бы ни было это учение, но оно могло храниться лишь в отдельных личностях твердого характера, не будучи способным одушевлять собою массы. Французское завоевание подавило ересь в народе; инквизиция приступила к своему делу с целью искоренения ереси из религиозных убеждений отдельных личностей. Оттого тот и другой факт, завоевание и инквизиция, имеют между собою неразрывную связь.
Одна Тулуза действительно решилась сопротивляться. Раймонд озаботился опустошить окрестности так, чтобы неприятелю не было ни хлеба, ни фуража. Из города удалили стариков, женщин, детей, лишний скот и укрыли в дальних и безопасных местах. С небольшими верными дружинами выступил Раймонд к Авиньону.
Он мог вести только партизанскую войну со своими сравнительно ничтожными силами. Маневрируя около французского лагеря под Авиньоном, он отхватывал неприятельские обозы, что было для французов гораздо хуже поражения в открытом поле, потому что стотысячная королевская армия существовала реквизициями. Припасы, привезенные из Франции, давно были уничтожены. В лагере короля начался голод, а машины и камни с авиньонских стен производили свое действие. Стояло жаркое время. Мертвые люди и лошади лежали кучами, не зарытые, от чего началась эпидемия. Большие черные мухи, питаясь трупами, потом попадая в напитки и пищу, распространяли яд. Истребить этих насекомых не было никакой возможности; их укус приводил к мгновенной смерти, как говорит летописец (81).
На французов напало уныние. Король, чтобы поднять дух армии, велел произвести приступ. Авиньон был укреплен рвами, башнями и обнесен толстой стеной; ему впервые приходилось выдерживать штурм. С сухопутной стороны город был недоступен; тысячи французов двинулись с противоположного берега по вновь устроенному мосту. Мост не выдержал и рухнул; с ним вместе три тысячи французских кавалеристов упали в Рону.
Но Людовик не терялся от неудач. В то время как легат и прелаты занимались бесплодным проклинанием Раймонда и авиньонцев, он готовился к долговременной осаде. Между лагерем и городом он велел выкопать ши рокий и глубокий ров, дабы прервать всякое сообщение с Авиньоном. Трупы уже не хоронили; их кидали в Рону. В самом французском лагере обнаружился разлад. Сила крупных феодалов еще не была сломлена; они могли по мериться с королем своим могуществом. Тибо, граф Шампани и другие пэры не хотели угождать прихотям короля и, отслужив свои феодальные сорок дней, думали о возвращении. Король отказал, но Тибо уехал со своими баронами, не обращая внимания на запрещение Людовика.
Если король и достиг своей цели, то лишь благодаря упорству и энергии. Он потерял двести баронов и двад цать тысяч воинов во время этой осады, но наконец овладел городом. Три месяца храбро защищались авиш. онцы, показав благородный пример, но из опасения го лода 12 сентября 1226 года вынуждены были сдаться. Триста лучших людей были взяты в заложники. Город обязался повиноваться приказаниям Церкви. В наказание за сопротивление городские стены и укрепления были разрушены. На жителей были наложены и другие наказания (82).
Когда город сдался, император прислал гневное письмо папе с жалобой на дерзость Людовика VIII, покусившегося на пределы империи. Легату было приказано снять отлучение и смягчить участь города. Но тот был сильнее Гонория III: он снял отлучение, обложив город новым побором в семь тысяч марок в пользу Церкви и короля. Вдобавок в городе было срыто триста домов, а ходатайство Фридриха попрано.
Так пал Авиньон, занимавший одно из первых мест и ряду провансальских городов. Он на восемьдесят лет станет резиденцией папы[16], по никогда уже не окажется на таком высоте промышленного и духовного развития, как до нашествия Людовика VIII. Некогда он был прекрасным и всесторонним представителем провансальской национальности, теперь же низошел до степени остальных мелких французских городов, слава которых заключается в климате и обаятельных исторических воспоминаниях.
Авиньон не имел возможности продержаться еще шестнадцать дней, а между тем именно через этот срок река Дюранс вышла из берегов и затопила то место, где стоял французский лагерь. Сомнительно, чтобы король, принужденный отступить с армией, упавшей духом, решился продолжать вторжение внутрь страны. Теперь же, напротив, ему оставалось только торжествовать.
Почти без отдыха, запасшись припасами, он пошел через Лангедок по прямой дороге на Тулузу. Как победитель, он давал волю своим капризам в стране, обессиленной и лежавшей у его ног. Город Лимукс он велел перенести с холма в долину и наложил на жителей значительный штраф. В Безьере, Каркассоне, где останавливался король, к нему являлись с поклонами и присягой разные владетели со своими вассалами. Один из таких, барон Кабарета, попался на обратной дороге в руки графа тулузского и был посажен им в темницу, где и умер через два года.
В Каркассоне король поставил своего сенешаля, власть которого простиралась на окрестные земли, известные своим еретичеством; оттого его преемники долго назывались «сенешалями королевскими в землях Альбигойских».
Перейдя Гаронну в Каркассоне, король прибыл в Памьер. Здесь происходило торжественное совещание епископов и баронов. Между прочим, легату пришла мысль обложить отлученных штрафами, так как отлучение церковное стало в это время для Лангедока пустой формальностью. Каждый оставшийся отлученным после трех увещеваний должен был платить девять ливров, а если через год он не будет принят Церковью, то лишится своего имущества. Провансальские епископы воспользовались на этом соборе случаем присягнуть своему государю.
Король был уже рядом с Тулузой. Столица ждала новой осады. Но судьба ненадолго отсрочила ее падение.
Людовик уже давно чувствовал себя больным, однако превозмогал себя. Теперь, когда он достигал исполнения своих желаний, силы изменили ему. В его лагере после авиньонской осады свирепствовала зараза. Несколько важных лиц двора уже стали ее жертвой. Король боялся заразиться и решился немедленно оставить армию, надеясь вернуться к будущей кампании. Но, покидая Лангедок, он уносил с собой зародыш смерти.
Через Кастельнодарри, Лавор и Альби король со всем двором спешил в Овернь. Из Альби, этого центра ереси, где жителями ему была принесена торжественная присяга, он назначил своим наместником в завоеванной стране Гум-берта Боже, который был, таким образом, первым французским наместником в Лангедоке, а после сделался великим коннетаблем Франции. Амори Монфор остался в качестве его помощника. В распоряжение Боже была предоставлена большая армия, раскинутая по городам.
Но Людовику VIII не суждено было больше вернуться в покоренную им страну. В последних числах октября он переехал старую границу Лангедока, но, миновав Клер-мон, не мог продолжать путешествие. В замке Монпансье силы окончательно оставили его, и он слег в постель. Придворные не знали причины страданий короля, но тем не менее пытались предложить оригинальные средства излечения. Аршамбо де Бурбон, его приближенный и любимый вельможа, нашел для короля молодую и красивую девушку, которая научена была пожертвовать своей честью для мнимого исцеления короля. Увидев рано утром в своей спальне эту девушку, король, как новый Иосиф, отказался от соблазна и сказал, что лучше умереть, нежели совершить смертный грех. Он тогда же заставил жениться на ней услужливого Бурбона (83).
За пять дней до смерти, 3 ноября, он призвал к себе прелатов и главных вассалов, заклинал их присягой, которую они дали, верно служить своему старшему сыну Людовику, повиноваться ему как королю и господину и короновать его как можно скорее, чтобы не произошло беспорядков в государстве.
Так замечательно точно исполнилось предсказание Филиппа Августа. Людовик VIII стал жертвой происков духовенства и поднял французов на Лангедок. Он расстро ил свое здоровье в этом походе, не столько прославившем его оружие, сколько унизившем провансальцев, и погиб от последствий своего предприятия, оставив госу дарство в руках двенадцатилетнего сына и своей молодом жены.
Но дело, им начатое и почти завершенное, не могло погибнуть. Судьбы Лангедока были решены. Со смертью короля Людовика VIII провансальцам мудрено было стряхнуть с себя французское владычество. В Альби и Каркассоне были не только французские войска, но была прочная французская гражданская власть власть наместников и сенешалей, которая пускала свои ветви по всей стране и крепкими узами собиралась притянуть к Парижу и воле королевской каждый городской лен и каждого провансальского рыцаря. Гумберт Боже распоряжался самовластно. Он велел сжечь живым известного альбигойского епископа Петра Изарна, осужденного архиепископом нарбоннским, и тем самым открыл казни инквизиции.
В дальнейшем мы подробно рассмотрим характер французской власти и механизм нового управления, что гораздо важнее и гораздо интереснее самого завоевания, а теперь поспешим досказать о последних годах независимости Лангедока.
Покорение Лангедока французами; изъявление покорности графом тулузским
Раймонд Тулузский, узнав о смерти своего врага, стал льстить себя надеждой, что счастье снова улыбнется ему. Он рассчитывал на малолетство Людовика IX, на естественное расстройство в управлении государством, на слабость регентства ввиду коалиции некоторых вассалов. Он собирал вокруг себя рассеянных провансальцев, но голос его уже не достигал площадей городов, которые были .под гнетом французской власти. Он подтвердил прежний союз с графом де Фуа. Он дал ему в феод большую часть земель, которыми фактически не мог уже располагать, а также владения виконта безьерского в случае смерти последнего. Раймонд VII полагал, что отнять завоевания у французов при помощи Роже Бернара будет легко. Оба графа обязались не заключать мира с Церковью и с королем французским иначе как по обоюдному соглашению. Все подобные трактаты имели теперь одно фиктивное значение.
Гораздо более надежды внушили Раймонду вести из Парижа о восстании, которое подняли графы Бретани, Шампани и Ла-Марша против регентши Бланки Кастильской[17].
Вдове Людовика VIII предстояло действовать в самых затруднительных обстоятельствах, но она не потерялась рядом с троном. Обладая замечательными политическими талантами, она была способна защищать наследие Филиппа Августа. У нее было много осторожности, предусмотрительности и энергии — тех качеств, которые составляли славу Филиппа. Натура гордая, призванная к власти, она предалась своему делу всецело, страстно. До смешных выходок ревности любя своего сына, она выдержала его в суровой домашней школе. Она вселила в него то стремление к аскетическому идеалу, которое впоследствии стало основной чертой его характера[18].
— Я соглашусь лучше видеть своего сына мертвым, хотя люблю его больше всего на свете, — говорила она, — но не позволю ему иметь связь с посторонней женщиной и тем совершить смертный грех.
Тогдашние школьные приемы, несмотря на проповеди святого Ансельма, не отличались мягкостью. Суровые воспитатели позорным образом били и терзали королевских детей ради внушения им дисциплины и страха Божия. Так воспитывался и Людовик IX под зорким наблюдением матери, предоставив дела государства в ее полную волю.
Не усмиренные, все еще могущественные феодалы должны были оскорбиться, видя себя в руках иностранки, энергия которой доходила иногда до упорства, а твердость до деспотизма. Они не привыкли и в королях встречать такую старинную франкскую силу характера. Бланка доказала ее в день коронования Людовика IX. По старому французскому обычаю, такой день был знаменуем делами милости — в применении к заточенным преступникам. Уже двенадцать лет томились в королевских тюрьмах графы фландрский и булонский и другие бароны, посаженные туда Филиппом[19] вопреки привилегиям феодалов, которых должны были судить свои пэры. Земли их были конфискованы Филиппом. Друзья требовали теперь их освобождения и возвращения земель.
Бланка, поддерживаемая папским легатом кардиналом Романом, с которым она находилась в самых дружеских отношениях, решительно отказала в этой просьбе и совершила обряд коронации в присутствии всех значительных пэров Франции. Королеве-матери была принесена такая же присяга, как и ее сыну. Уже после коронации она освободила графа фландрского, но в то же время подтвердила сильному графу Шампани Тибо запрещение строить новые крепости. Это возмутило и Тибо, и его друзей.
Скоро на западе Франции, начиная с Бретани, воз никло волнение против короны. Недавнее владычество английского короля, свергнутое Филиппом Августом, ка залось баронам гораздо легче господства и тирании женщины. Герцог Гиеннский, брат Генриха III Английского и граф де Ла-Марш находили выгодным поддерживать восстание в этих провинциях. Английские агенты появи лись в Нормандии, Бретани, Анжу и Пуату и давали обещания вольности баронам, надеясь снова склонить их на сторону Англии.
Королева лично повела королевские войска и подавила восстание в самом начале. Граф Тибо не устоял против давнишней страсти и под влиянием своего чувства сам явился в лагерь королевы.
— Мое сердце и вся моя земля в вашей власти; нет ничего, чего бы я не сделал согласно вашему желанию, — говорил он ей с рыцарской любезностью.
Его поступок склонил успех на сторону Бланки. Проклиная его, графы Бретани и де Ла-Марша сдались. Один за другим являлись в ее лагерь за прощением гордые графы и бароны. Казалось, лига распалась, но она возро-пась снова. Граф Филипп Булонский составил заговор, чтобы захватить короля и его мать в Орлеане, и только верность Тибо и живая преданность парижского населения, которое выступило вооруженной массой по орлеанской дороге при первом слухе об опасности, спасли монархию во Франции.
Бланка торжественно вступила в Лувр, окруженная торговцами, студентами и ремесленниками (84). Но угроза из Бретани не прекращалась. Бланка, прибывшая туда без войска для переговоров, едва было не попала в руки графа Пьера Маклерка, регента Бретани, и снова Тибо спас ее своим внезапным появлением, как рыцарь волшебных сказок. Он же помог королеве смирить гордого графа Бретани, заставив его сдаться и просить милости. Такая преданность к ненавистной «чужестранке» вызвала в высшем дворянстве недоверие, а потом явную вражду к Тибо. Пустили слухи о его связи с королевой, о насильственной смерти покойного короля, сведенного-де отравой в могилу руками изменницы и любовника.
Интрига создала целую лигу. Пэры и бароны изъявили желание мстить за Людовика VIII. Они оставили королеву и самовольно, но единодушно кинулись на Шампань, с севера, кто с юга. Шампань была страной по преимуществу демократической благодаря своей промышленности и торговле вином. Там графы «больше делали для буржуа и крестьян, чем для рыцарей», говорит местный хроникер, и понятно, что они были там популярны. Графу стоило только стать во главе своих городов, и они принесли ему все требуемые жертвы. Чтобы не доставаться неприятелю, три города погибли в пламени. Жители великодушно их покинули ради спасения своего графа, который после геройской защиты своей страны дождался наконец прибытия верных королевских войск.
Феодальная сила, таким образом, была сломлена; мятежные вассалы принуждены были оставить Шампань, рассчитывая осуществить свои замыслы при других обстоятельствах и в другом месте. Все французские города оказывали в этой борьбе с лигой искреннее содействие королевской власти. В конце 1228 года магистраты всех коммун Франции торжественно клялись защищать короля, его мать и братьев против всех и всякого (85). Это показывало, насколько созрело национальное чувство во Франции. Городское сословие далеко опередило в нем феодальное. Это чувство было тем выше, что обнаружилось в одну из минут испытания; оно свидетельствовало об историческом назначении Франции, так как вокруг королевского знамени неожиданно возникла новая сила, составившая по своему духу прогресс в сравнении со средневековыми идеями, — сила национально-патриотическая.
Через два-три года король благодаря искусству своей матери и поддержке добрых городов, плативших, со своей стороны, услугой за услугу, мог спокойно властвовать не только во Франции, но и в Лангедоке.
Раймонд видел, как пали его надежды на лигу. В неудаче своих собратьев он видел гибель собственного дела. Оглядываясь на Рим, он еще более падал духом.
Там после смерти кроткого Гонория III на престоле первосвященников воцарился человек необыкновенной энергии, твердой воли и замечательно предприимчивого ума. Это был родной племянник Иннокентия III, остийский епископ Уголино, сын графа Тристана Конти. Как бы желая напомнить католическому миру былью времена, он провозгласил своим образцом Гильдебранда и принял имя Григория IX. Он пользовался общим уважением даже у врагов, по своим дарованиям и высоконравственной жизни. Император Фридрих II отзывался о нем как о человеке безукоризненной славы, чистой жизни, высокого благочестия, замечательных знаний и красноречия. Он не запятнал себя ничем в продолжение своей пятидесятилетней деятельности в разных церковных должностях. Он всегда счи тался «образцом святости». В то время деморализации вые шего духовенства такой отзыв мог казаться исключительным. Он был уже стар, когда, 18 марта 1227 года надел папскую тиару. Но в крови его была энергия его знамени того дяди, который когда-то облек его в кардинальский пурпур.
Понятно, что, всегда вдохновляясь политикой Иннокентия III относительно Юга, Григорий IX старался быть его подражателем. Но в своей ревности он далеко перешел те пределы, которые оправдываются историей и духом времени. В душе этого гордого и неуступчивого старика никогда не находили места мягкие человеческие чувства. Он посвятил себя беспощадной борьбе с духом новизны, которая стала проявляться в католическом мире, и так закалил в этой борьбе, что сделал своей страстью истребление. По своей натуре он неспособен был к сделке, к примирению. Он был рожден для борьбы и кровавых предприятий. На первосвященнический престол такие люди приносили мирские страсти. Он не хотел умереть, не вернув папство и Церковь в то положение, какое они занимали при Гильдебранде. Он стал бороться во имя прошлого, пренебрегая всякими средствами, но обнаруживая в себе замечательные силы.
По характеру политики он был полной противоположностью своему предшественнику, Гонорию III. Даже в делах ереси последний, в силу учения христианского, хотел действовать «более убеждением, чем строгостью». Гонорий, правда, иногда произносил отлучения, но с готовностью снимал их; они никогда не были в его руках орудием угнетения и насилия.
Григорий IX был не таков: он не остановился бы ни перед какими насильственными мерами для торжества воинствующей Церкви. Потому-то после Гонория III сочувствие покидает римских первосвященников и ту Церковь, во имя которой они совершили столько преступлений.
Григорий IX, вступая на престол, видел перед собой две цели; та и другая были одинаково дороги для него, и за обе он ревностно принялся в первые же дни папствования. Императора Фридриха II он поднимал против сарацин за Святую Землю, а короля французского — против еретиков альбигойских за святую Церковь. Он мог указать на некоторые успехи Раймонда VII после смерти Людовика VIII как на следствия нерадения нового правительства.
Но успехи эти не были опасны для французской власти. Раймонду удалось зимой 1227 года овладеть замком Готрив, в четырех лье от Тулузы, занять Кастельнодарри, Лабецед и Сен-Поль. Обладание первым имело довольно важное значение по его положению. Желание освободиться от французов проявлялось и в других городах, но французские коме нданты подавляли его в самом начале (86). В то время как Гумберт Боже готовил свою армию, чтобы возобновить военные действия, овладеть Тулузой, этим последним центром агитации, и уничтожить Раймонда, духовная власть принимала свои меры против ереси, Лангедока и графа Тулузы.
На нарбоннском соборе, состоявшемся весной 1227 года, Раймонд был предан церковному проклятию. Этот обряд прелаты собора постарались совершить со всею торжественностью. Заседание собора происходило в церкви. В урочный час раздался погребальный колокольный звон, прелаты встали со своих мест и, опрокинув свечи, потушили их в ознаменование мрака, постигающего отныне душу отверженного. Собор приглашал верных провозглашать это отлучение во все воскресные и праздничные дни при звоне колоколов и при погашенных свечах (87). Участь Раймонда разделили граф де Фуа и виконт безьерский. Вместе с тем объявлялись отлученными еретики-тулузцы, подданные бывшего графа, их защитника, укрывателя и единомышленника, особенно жители Лимукса и других мест, которые, поклявшись в верности королю, отпали от Церкви — со всеми теми, которые им помогают чем бы то ни было. Отлученные не признавались больше членами человеческого общества. Их личности и имущества передавались в руки всякого, кто пожелает тем воспользоваться.
Собор издал на этот раз двадцать канонов, обязательных для Лангедока. Это были те меры, которые имели целью сгладить прежние нравы, веротерпимость, свободу совести и обратить веселый Лангедок в мрачный, скучный и покорный воле прелатов монастырь.
Собор начал с евреев. Им было запрещено брать большие проценты, иметь христианскую прислугу и совершать открыто свое богослужение. Они должны были вместе с католиками воздерживаться от мяса в известное время и оказывать уважение к христианским праздникам. В отличие от христиан, они должны были носить красный знак на спине и платить перед Пасхой ежегодно шесть денариев с семейства в пользу приходских церквей (каноны 2—4). Далее было постановлено, чтобы при со ставлении завещаний непременно присутствовали священ ник и свидетель, иначе завещатель будет лишен христи анского погребения, как еретик (канон 5). Той же участи подвергаются те, которые, будучи старше четырнадцати лет, не являлись ежегодно к причастию, и потому свя щенник должен вести список своих исповедуемых (канон 7). Все клирики избавлялись от налога лично и имуще ственно, а гражданским властям за подобные взимания грозили наказанием (канон 12). Консулы и другие город скме власти должны были дать ручательство в своем к;: толицизме; они обязывались преследовать еретиков и ш допускать ненадежных лиц на какую-либо общественную должность (каноны 15—16). Наконец (канон 14), велено было назначить в каждом приходе особых синодальных надсмотрщиков по назначению епископов. Они должны были наблюдать за появлением ереси и за другими церковными преступлениями и нарушениями.
Известно, что в этом постановлении многие историки видят начало инквизиции. Мы убедимся, что ее организация появилась несколько позднее, когда французы сделались полными властителями в стране, а доминиканцы захватили в свои руки всю духовную полицию.
Теперь же, после собора, прелаты сочли своим долгом принять личное участие в окончании дела, предпринятого для торжества Церкви. Архиепископ нарбоннский и Фулькон, епископ тулузский, прозванный провансальцами «епископом дьяволов», явились в распоряжение Гумберта Боже, осаждавшего замки, отнятые Раймондом в то время, когда граф лично проник в Альбижуа. В одном из взятых замков попался в плен альбигойский диакон Жерар де ла Мот и с ним пятнадцать еретиков. Все они были сожжены живыми (88).
С переменным счастьем боролся Раймонд с французами в продолжение года. Он никогда не решался вступать в открытое сражение с Боже. Его тактика заключалась в истомлении противника. Он держал его в постоянном напряжении своими внезапными появлениями; отвлекая его от Тулузы, он исчезал при первом же серьезном преследовании. Проигрывая одно, он приобретал другое.
Между тем французы раздробляли и теряли свои силы и даже вождей. Так, при осаде замка Варейль был убит Гюи Монфор, брат Симона. Он не дождался скорого торжества своего дела в стране, где его имя имело такую печальную известность. Иногда Раймонду удавалось овладевать сильными городами; так, зимой 1228 года он захватил Кастельсарран. Тогда Гумберт Боже, получив подкрепление из Франции крестоносцами и церковной десятиной, данной, впрочем, весьма неохотно, решил в середине мая нанести решительный удар Раймонду, и именно в этом пункте. Он пошел к городу, решившись после взятия его идти на Тулузу.
Раймонд, следуя своему всегдашнему обыкновению, вертелся вокруг неприятельской армии. В одном месте, в горах, проход был тесен и затруднителен. Местность благоприятствовала засаде. Раймонд не преминул этим воспользоваться, дав последний раз разгуляться своим рыцарям. Французы понесли тяжелые потери. Множество было убито, и немало попало в плен к озлобленному неприятелю. Провансальцы знали, что их самих в случае несчастья не пощадят. Пленных разделили по их значению. Простые пехотинцы были отданы в распоряжение победителей. С разрешения Раймонда их подвергли истязаниям: одним отрезали носы, другим уши, третьим выкололи глаза. В таком виде, полунагие, они были отправлены на родину, чтобы служить внушительным примером (89). Что касается пленных рыцарей, то их Раймонд взял под свое покровительство, не помешав, впрочем, ограбить их.
Такая бесполезная жестокость была роковой для Раймонда. Он дал новую пищу фанатизму. Архиепископы Бордо и Оша привели новые когорты крестоносцев, нанятых во Франции. Гумберт Боже после своего поражения бросил прежний план и вместо того, чтобы тратить силы на мелкие замки, хотел нанести более существенный удар. Добившись голодом сдачи Кастельсаррана и оставив в руках провансальцев другие замки, Боже решился захватить центр национального движения. Тогда Раймонду пришлось бы сдаться или покинуть страну. Боже понял, что только обладание Тулузой может упрочить французское владычество в Лангедоке.
Обойдя замок Сен-Поль, французский главнокомандующий неожиданно появился пред столицей неприятеля и занял позицию на расстоянии одного лье к востоку. Здесь к нему подошли крестоносцы, прелаты, бароны Гаскони и подневольные ополчения некоторых южных коммун. Тулузцы готовились к обороне. Гумберт Боже увидел, что укрепления столицы неприступны. Высоты, на которых стояли французы, были покрыты виноград никами, служившими источником богатства Тулузы. Эти виноградники были потоптаны и уничтожены. Один отряд был отправлен на опустошение окрестностей, другом на фуражировку. Но французы этим не удовольствовались Сатанинский гении Фулькона, недаром носившего прозвище «епископа дьяволов», придумал новый способ войны с тулузцами.
Все широкое пространство между городскими стенами и французской позицией было усеяно красивыми за городными домиками, расположенными в густой зелени садов. Эти домики для вида были укреплены башенками и окопаны рвами. Они несколько затрудняли доступ к городу. Жители их оставили, но французы также не решались их занять, чтобы оставаться вне выстрелов с тулузских ма шин. Зато каждое утро, отслушав мессу, с рассветом осаж давшие отправлялись отдельными отрядами, вооружась ло мами и топорами, под прикрытие этих укреплений, с регулярными солдатами впереди, и на глазах тулузцев стирали с лица земли все, что хотели. Подходя к самым стенам и встревожив осажденных, они возвращались назад другим путем, продолжая уничтожать сады, деревья, ломать виноградники и разрушать дома.
Скоро вся эта живописная местность, возделанная трудом и искусством долгих лет, представляла собой голую степь. Потом подобные же операции переносились на другие окрестные пункты. Таким занятиям предавались эти благородные воины в продолжение трех месяцев, «пока дело было вполне сделано», как выражается один из друзей крестоносцев (90). Благочестивый епископ с иронией говорил об удобствах своего плана.
— Мы торжествуем над нашими врагами чудом; мы побеждаем их, бегая от них.
Когда опустошать более было нечего и только обнаженные развалины представлялись взорам на протяжении нескольких лье, французская армия снялась, рассчитывая, что истощенному и голодному городу придется покориться. Гасконские отряды воротились, а Гумберт Боже отошел к Памьеру, сберегая своих солдат и беспощадно опустошая земли графа де Фуа.
Действительно, дело было сделано. Судьба Тулузы решилась.
Раймонд видел себя оставленным всеми. Жажда мести была подавлена несчастьями. Пыл его энергии охладел, и он сам не узнавал себя. Будущее было темно; оно ничего не обещало ему. Тулузцы приходили в ужас, увидав страшные для них последствия войны. Их благосостояние рушилось. Плоды долгих трудов исчезли; в случае дальнейшего сопротивления для большей части населения были неминуемы нищета и голод. Для них все восемнадцать лет войны не принесли такого вреда, как эти три месяца осады. И государю и столице приходилось покориться, и на этот раз навсегда.
Вместе с ними рушилась судьба альбигойцев. О них теперь думали меньше всего. Нельзя бороться за идею веротерпимости, когда отнимают последний кусок хлеба.
Бланка Кастильская и кардинал Роман поняли теперь, их час настал. Раймонд склонил голову, но еще не просил пощады.
Тогда легат послал к нему для переговоров Грандсельва, аббата цистерцианского монастыря. Он нашел Раймонда в Басьеже. Здесь им были беспрекословно приняты обще условия мира, определившие подчинение его родины Франции. Раймонд привез аббата в Тулузу. Он чувствовал потребность разделить горе со своими верными гражданами. Он мог утешить их одним тем, что, делаясь рабом, он по условию договора, пока жив, предоставляет себе право не расставаться со своей столицей, для которой сделает все, что еще сможет. Он просил аббата похлопотать о том, чтобы переговоры велись на нейтральной земле, в городе Мо, во владениях его друга графа Шампани, которого он приглашал быть посредником. Прежде всего Раймонд должен был отказаться от своих имений, отдаться милосердию короля и уже от него получить то, что ему заблагорассудят дать, на особых условиях. Эта была исходная точка переговоров.
10 декабря 1228 года Раймонд написал в Тулузе и вручил аббату послание к королю о мире, где говорил, между прочим, что «желая от всего сердца вернуться в единую Церковь и жить в своих доменах, храня верность и исполняя службу своему господину-королю Франции и госпоже-королеве матери, своей кузине, он, Раймонд, посылает им, так же как и кардиналу легату святой Церкви, аббата Грандсельва, чтобы обсудить с ними условия мира, ради которого этот аббат долго и много потрудился. Он объявляет его своим уполномоченным и обещает, с согласия баронов и особенно консулов Тулузы, ратифицировать все, что будет постановлено с совета и согласия его возлюбленного кузена Тибо, графа-палатина Бри и Шампани» (91).
Той же зимой в Мо происходил многочисленный съезл прелатов и светских лиц. Папский легат играл на нем пер вую роль, присутствовали архиепископ нарбоннский и вес лангедокские епископы. Раймонд VII явился в сопровождс нии скромных депутатов от города Тулузы. Они также долж ны были принять участие в переговорах, так как представляли собою враждующую сторону, но случилось так, что Раймонд должен был даже за себя самого предоставить ве дение переговоров цистерцианскому монаху, агенту легата. Ему и общине тулузской предоставляли только скрепить сво им согласием условия, весьма невеликодушно данные по бедителем.
Папа еще до сдачи Раймонда предлагал в послании к легату сделку о браке между одним из королевских братье и и дочерью Раймонда, чтобы через это Нарбонна и Тулу и перешли к короне. Это основное условие было включено и тот же трактат и принято обеими сторонами как скорей шее средство к сближению двух наций, долго находившихся во враждебных отношениях. Действительно, если бы л о условие было выражено не так настоятельно, а несколько иначе, оно могло бы смягчить горечь Раймонда VII и сю нравственное принижение.
Так как все существенное было условлено раньше, то договор мог быть подготовлен быстро, в январе 1229 года. Но в следующем месяце пришлось перенести заседания в Париж, так как король должен был просмотреть трактат и утвердить его своей подписью.
Последняя редакция в Париже была сделана несколько иначе, но с сохранением прежних оснований. Мирный договор, закончивший долгую и опустошительную войну, был наконец переписан окончательно в двух экземплярах, из которых один был за подписью Людовика IX, другой — Раймонда VII.
Парижский договор 1229 года
12 апреля 1229 года, в четверг на страстной неделе, Париж с утра пришел в необычное движение. Народ густыми толпами стекался в Сите, стараясь пробиться к тесной площади перед собором Богоматери. Процессии крестным ходом из разных церквей направлялись туда
Королевский кортеж прошел небольшое расстояние, отделяющее от кафедрального собора нынешний дворец юстиции, где тогда помещался двор. Молодой король со своей свитой, имея около себя Раймонда Тулузского, занял место у великолепного портала, недавно построенного его дедом.
Три кардинала, из которых двое были легатами апостольского престола, два архиепископа, нарбоннский и санский, епископы парижский, тулузский, отенский, нимский, магеллонский и множество монахов и каноников сидели на скамьях возле собора. Посреди площади возвышался помост, на котором стоял аналой, а на нем лежал готический манускрипт Евангелия. Толпы народа теснились около площади, окруженной копейщиками, и густо унизывали крыши соседних зданий.
Когда король прибыл, было уже двенадцать часов. Все затихло, и королевский клерк, поднявшись на ступени помоста, развернул длинный пергамент, на котором красовались печати Франции и Тулузы, и стал читать его громким голосом.
Это был мирный договор, подписанный Раймондом VII, в котором он клялся в следующем:
«Быть верным и послушным слугой короля и Церкви до самой своей смерти, сражаться с еретиками, их единомышленниками и укрывателями в землях, которыми мы владели и будем владеть, не щадя наших близких, вассалов, родственников и друзей; очистить вполне нашу землю от ереси, а также помочь очистить от еретиков земли, которыми владеет король.
Обещаем произвести без замедления должный суд над еретиками и приказать нашим бальи тщательно разыскать как их, так и их единомышленников и укрывателей, согласно распоряжениям, какие сделает господин легат. Для облегчения же такого розыска обязуемся платить в продолжение двух лет по две серебряные марки, а потом по одной всякому, кто представит еретика, осужденного епископом диоцеза или теми, кто имеет право суда. Что же касается тех, кто не окажется явным еретиком, а будет признан лишь подозрительным, то относительно их обязуемся исполнять то, что укажут легат и Римская Церковь.
Также обязуемся хранить мир во всех наших владениях, изгонять и наказывать рутьеров, покровительствовать церквям и духовенству, сохранять за ними их права, иммунитеты и привилегии и побуждать поступать так же наших подданных, уважать приговоры над отлученными и таковых избегать, как предписывается канонами; побуждать тех, кто пробыли отлученными в продолжение года, обращаться к Церкви под страхом конфискации их имуществ; обязать, в свою очередь, наших бальи исполнять все вышесказанное; наказывать тех, кто небрежен в исполнении этой обязанности, и назначать на эти должности католиков. Если же еврей или заподозренный в ереси ошибочно попадет в эту должность, то немедленно удалить его и наказать. Бальи должны также наблюдать, чтобы никто из евреев и подозреваемых не покупал земель и не приобретал ренту с городов и вилл.
Обещаем восстановить теперь же недвижимые имущества и права церквей и духовенства вполне на всем пространстве земель, какими мы владеем, а именно те, которыми церкви и духовные лица владели до прихода крестоносцев; о прочих же будет решено по праву легатом, его посланными или делегатами апостольского престола.
Обязуемся заплатить десятину и уплачивать ее впоследствии; не позволять, чтобы ее захватывали рыцари и другие светские лица, а предоставлять ее церквям. За ущерб же, причиненный мной и моими людьми церквям и духовенству, за разрушение домов, вилл, не принимая и расчет недвижимого (что должно быть, как сказано выше, восстановлено), мы обязуемся уплатить десять тысяч серебряных марок, предназначая их в распоряжение легата, который справедливо и сообразно разделит эту сумму между заслуживающими.
Также обязуемся заплатить аббатству Сито две тысячи марок, аббатству Грандсельв тысячу марок, аббатствам Клерво, Бельперш и Кандейль по триста, как на украшение последних обителей, пострадавших от нас, так и ради спасения души нашей. Также мы должны будем уплатить шесть тысяч серебряных марок на укрепление Нарбоннского замка и других замков, которыми государь-король будет владеть в продолжение десяти лет для личной и церковной безопасности. Перечисленные двадцать тысяч марок должны быть уплачены в пять сроков, по четыре тысячи ежегодно.
Обязуемся еще уплатить четыре тысячи марок на содержание в продолжение десяти лет в Тулузе четырех магистров богословия (по пятьдесят марок ежегодно), двоих магистров канонического права (по тридцать марок) и двух преподавателей грамматики (по десять марок), которые будут читать лекции в Тулузском университете.
После получения нами отпущения обязуемся принять из рук легата крест и пять лет служить за морем против сарацин, для искупления наших грехов, и отправиться в этот поход после августа, в срок не позже одного года.
Тех из наших подданных, кто во время войны держались стороны Церкви, отца государя-короля, графов Монфоров и их приверженцев, мы не будем утеснять, а, напротив, будем обходиться с ними благосклонно, как с друзьями, будто они никогда не были враждебны нам, — если только между ними не будет еретиков. В свою очередь, церковь и король так же будут относиться к тем, кто были на нашей стороне, против Церкви и короля, за исключением тех, которые не согласились с нами на заключение этого мира.
Король, снисходя к нашему унижению и надеясь, что мы пребудем верны Церкви и ему, и соизволяя оказать нам милость, отдаст нашу дочь, которую мы предаем на его волю, в супружество одному из братьев своих, по назначению Церкви, и предоставляет нам все епископство тулузское, исключая земли маршала Левиса, которыми маршал сам будет владеть от короля. После же нашей смерти Тулуза и епископство отойдут к брату господина-короля, женатому на чей дочери, и их детям. Если же брат королевский умрет бездетным, то Тулуза с епископством отходят к королю и наследникам; дочь же наша или другие дети никакого права на эти владения заявлять не могут. Если же дочь наша умрет без потомства от брата королевского, то Тулуза и епископство отходят к королю и его наследникам. Так что во всяком случае Тулуза и епископство отойдут к господину королю и его наследникам после нашей смерти, и никто не может заявлять на них никакого права, кроме сыновей и дочерей, рожденных от брака брата королевского и нашей дочери, как сказано выше.
Государь-король предоставляет нам также епископства: Аженуа, Руэрг и часть Альбийского, лежащую по сю сторону Тарна; город же Альби и все то, что за рекой к Каркассону, король удержит за собою; одна половина реки принадлежит королю, другая нам; права и наследия тех, кто будет оказывать должное королю в части королевской и нам в части нашей, сохраняются. Епископство Кагорское король предоставляет нам, кроме города Кагора, феодов и других доменов, которыми владел перед своей смертью король Филипп, дед господина-короля. Если мы умрем без детей от законного брака, то вся упомянутая земля переходит к нашей дочери, которая будет за братом королевским, и к ее наследникам. Мы сохраняем за собой пожизненно полное право и власть в сказанной земле, которая предоставляется нам на упомянутых условиях, как над городом и епископством тулузским, так и над другими землями, и можем, по обычаю всех баронов французского государства, перед смертью уделить из нее на дела благочестия. Король все это предоставляет нам, сохраняя права церквей и духовенства.
Город Верфейль и деревню Ла-Бордэ с приписанным к ним мы предоставляем епископу тулузскому и сыну Одона Лильерса, согласно с даром, какой сделали король Людовик, отец короля, и граф Монфор, под тем условием, что епископ тулузский будет оказывать нам за Верфейль то же, что делал Монфору и его сыну, а Одон то, что должен был делать покойному королю Людовику. Все же прочие жалования, сделанные королем, его отцом или графами Монфорами, не считаются нами за действительные и не будут иметь никакого значения в стране, в которой мы остаемся. За все же предоставленное нам мы принесем королю присягу на лен и на верность, согласно обыкновению баронов французского государства.
Всю остальную землю, которая лежит во Франции по сию сторону Роны, и всякое право, которое мы имеем или могли бы иметь на нее, точно и положительно предоставляем государю королю и его наследникам на вечные времена. Ту же землю, которая лежит в империи за Роной, со всеми правами, которые мы имеем или могли бы иметь на нее, решительно и положительно предоставляем на вечные времена Римской Церкви через посредство легата. Все жители, которые были изгнаны из этих земель Церковью, королем, его отцом и графами Монфорами и были вызваны или по доброй воле вернулись, не будучи ни обличены в ереси и ни отлучены от Церкви, вполне восстанавливаются в прежних владениях и наследиях.
Если кто-либо из тех, кто поселится в нашей земле, не захочет подчиниться приказаниям Церкви и короля, особенно, например, граф де Фуа или другие, то мы будем вести с ними упорную войну и не заключим мира и перемирия без согласия Церкви и господина-короля. Домены, которые мы отнимем у них, по разрушении укреплений и стен, останутся за нами, если король не захочет сам удержать их ради своей и церковной безопасности в продолжение десяти лет с сохранением взимаемых с них доходов.
Мы распорядимся разрушить стены Тулузы и засыпать рвы, следуя приказаниям, воле и указаниям легата. Также мы разрушим до основания стены и засыплем рвы тридцати замков и городов, а именно: Фанжо, Кастельнева, Лабецеда, Авиньонета, Пюи-Лорана, Сен-Поля, Лавора, Рабастена, Гальяка, Монтегю, Пюисельза, Вердена, Кастельсаррана, Муассака, Монтобана, Монкука, Ажена, Кондома, Савердена, Готрива, Кассенеля, Пюжоля, Овильяра, Пейрюсса, Лорака и еще пяти других по выбору самого легата. Стены и укрепления этих городов не могут быть восстановлены без разрешения короля. Мы не будем также впредь строить новых крепостей, но предоставляем себе право строить по нашему желанию новые города без укреплений в доменах, которые остаются за нами. Если тот город и замок, в котором надлежит сломать стены, принадлежит нашим вассалам и если они откажутся от исполнения этого условия, то мы объявим им войну и не заключим с ними ни мира, ни перемирия без согласия Церкви и короля до тех пор, пока стены не будут разрушены и овраги засыпаны.
Мы клянемся и обещаем легату и господину-королю верно и честно соблюдать все эти условия и побудить к тому же наших людей и вассалов; мы заставим в том поклясться всех тулузских граждан и других людей нашей земли, а к присяге их будет прибавлено, что они, со своей стороны, будут настоятельно стараться побудить нас исполнять эти условия, так что если мы не исполним всех или одного из этих условий, то они тотчас же этим самым освобождаются от присяги в верности, которую принесли нам. С тех самых пор мы их избавляем от верности вассальному долгу и всех других обязанностей, и они могут присоединиться к Церкви и господину королю против нас, если мы не исправимся в продолжение сорока дней. Когда же мы откажемся признать суд Церкви в делах, которые ее касаются, и суд королевский, то все земли, которые теперь предоставлены нам, переходят в распоряжение короля и мы остаемся в том самом положении, в котором находимся теперь вследствие отлучения, подвергаясь всему, что было постановлено против нас и нашего родителя, на общем латеранском соборе и после него.
Наши подданные к своей присяге нам присоединят еще, что будут помогать Церкви против еретиков, их единомышленников и укрывателей и против всех, кто будет враждебен Церкви по причине ереси или пренебрежения отлучением в наших землях, а также королю против его врагов, и что они не положат оружия до тех пор, пока восставшие не подчинятся Церкви и королю. Такая присяга, по приказанию королевскому, будет возобновляться каждые пять лет.
Для гарантии всех наших обязательств мы предоставляем, ради полной и лучшей безопасности Церкви и короля, в руки господина-короля замок Нарбоннский, который он удержит на десять лет и укрепит, если признает то необходимым. Мы предоставляем ему также замки Кастельнодарри, Лавор, Монкук, Пеннь (в Аженуа), Кордес, Пейрюсс, Вердес и Вельмур. Он будет оберегать их десять лет, и первые пять лет каждый год на этот предмет мы будем платить полторы тысячи турских ливров, помимо тех шести тысяч марок, о которых уже упоминалось. Вторые пять лет король будет держать там войска, если признает то нужным, уже за собственный счет. Король может разрушить укрепления Кастельнодарри, Лавора, Вельмура и Вердена, если того пожелают он или Церковь без вычета из суммы, определенной на гарнизон. Доходы же и выгоды от владения этими замками принадлежат нам; король же будет оберегать лишь укрепления их, а также замок Кордес. Мы же озаботимся, со своей стороны, чтобы наши бальи и чиновники, творящие суд и собирающие доходы и пошлины, не были из людей, опасных для Церкви и короля. По прошествии десяти лет король возвратит нам укрепления этих замков с соблюдением вышесказанных условий, предполагая, что мы сдержим свои обязательства относительно Церкви и короля. Что касается до Пенни в Альбижуа, то мы обязуемся предоставить его королю в срок до первого августа нм десять лет, если же этого мы сделать не успеем, то оса дим город и не отойдем до тех пор, пока не возьмем его; если же этой осадой замедлится отъезд наш в святую Землю, то мы принесем этот город в дар тамплиерам или госпитальерам, или, наконец, другим монахам, а если никто из них не захочет принять его, то город будет разрушен.
Господин-король освободит граждан тулузских и других людей наших от всех обязанностей, которыми связаны они относительно его самого, его родителя, графов Монфоров и других, а также от наказаний, которым за то они должны были бы подвергнуться, и от присяги, с сохранением всех вышесказанных условий.
В засвидетельствование того, что все это имеет постояную силу, мы велели утвердить этот лист приложением ашей печати» (92).
Когда чтение трактата кончилось, Раймонд Тулузский показался на помосте. Он был очень взволнован. Одну руку положив на Евангелие, а другую на грудь, он сказал прервавшимся голосом, обращаясь к присутствующим:
— Перед вами, бароны, прелаты и представители города Парижа, клянусь над святым Евангелием исполнять во всех пунктах договор, который прочтен был сейчас.
Теперь началась позорнейшая часть церемонии. С Раймонда сняли оружие, доспехи, обувь, платье и оставили в одном белье. Тяжелые медные двери кафедрального собора растворились. Легат подошел к графу, взял его за руку и бил пучком розог, пока вел по длинному нефу собора. Здесь, у подножия главного алтаря, настал конец истязаниям, которые могли видеть зрители, так как освещенный храм оставался открыт. Перед большим распятием Раймонд пал ниц.
— Граф тулузский, — воскликнул легат, — в силу власти, дарованной мне святым Отцом, я снимаю с тебя и с твоих людей отлучение, которое в разное время было произносимо против тебя.
— Аминь, — отвечал Раймонд.
Он примирился с Церковью, но стал из сильного государя рабом монахов и короля. Тяжелый камень лежал на его совести. Против убеждений, скрепя сердце, он должен был любить теперь то, что ненавидел, и ненавидеть, что любил. Он являлся в собственных глазах предателем тех, кому обещал защиту, человеком, который отдал во власть чужеземцев свою родную землю и своих подданных, так любивших его, для того чтобы спасти себя.
Альбигойцев, которым он прежде покровительствовал, по своей терпимости и по своему индифферентизму в делах веры он предавал в полную власть озлобленной Церкви, которая не преминет теперь жестоко отомстить за всякое былое оскорбление католичества и с корнем, огнем и кровью вырвет страшную для нее ересь.
Условия мира были крайне тяжелы, форма их выражения жестока для самолюбия Раймонда. Но укоры совести были для него еще тяжелее.
Французская корона приобретала цветущую природой и промышленностью страну. Домены, теперь уступленные ей, давали по крайней мере шесть тысяч тогдашних ливров чистого дохода. Юг преуспевал в виноделии, обогащавшем его, в искусстве выделывания тканей и предметов роскоши, что было унаследовано им у мавров; теперь эти богатства и изделия сделались своими во Франции. Города, подпавшие под военное управление сенешалей, несли плоды трудов своих рук к ногам короля и вельмож Парижа. Центр тяжести Галлии окончательно перешел на север. Трактатом 1229 года Юг отыграл свою историческую роль. Проиграв свое дело, он должен был жестоко поплатиться за смелую ставку.
Его религиозный протест не удался. Церковь, воинствующая и победоносная, взяла себе львиную долю после победы. Она не ограничилась каким-нибудь графством Магеллон — в распоряжение Рима досталась область, которая немногим уступала самой Церковной области, а по экономической производительности и богатству жителей превосходила ее. В ее пользу Раймонд отказался от своих прав на маркизатство Прованс, прекрасную страну, лежавшую между Роной, Изерой и Дюрансом. Римский двор, понимая, что издалека трудно управлять новым завоеванием, оставил за собой только графство Венессен, а остальную часть, в которой было до семидесяти шести замков, отдал в лен графу Адемару Валентинуа, уроженцу Пуатье, с обязательством военной службы (93).
Через пять лет Григорий IX, видя католическую ревность и преданность Риму Раймонда, сжалился над ним и возвратил ему пожизненно маркизатство Прованское, рассчитывая, что ему недолго теперь придется влачить свое жалкое существование. Дня Церкви было важнее проникнуть под покровом его имени в семьи тулузцев и провансальцев и подчинить каждую из них строгому авторитету монахов, прелатов и легатов. Зачем нужен ей Прованс, когда она имела полное основание владеть всем Югом и беспрекословно властвовать мерами совести и страха над новым, теперь уже безмолвно покорным стадом!
Побежденный, униженный и публично опозоренный Раймонд все еще казался в глазах Церкви и слуги ее Людовика IX недостаточно наказанным. Его лишили всего, кое-что оставили из милости — и то так, что всегда могли отнять. Будто сжалившись, брали его дочь в жены королевскому брату. Но все эти выгоды, приобретенные так легко и блистательно, были столь важны, что потеря какой-либо из них была бы весьма прискорбна для победителей. Раймонд должен был послужять личной гарантией исполнения условий. Он поклялся перед Церковью, присягнул как простой барон королю, — а ему после того предложили идти в тюрь му и просидеть в ней до приобретения ручательства в ис полнении обещанного...
Граф тулузский с готовностью осужденного испивал до конца чашу оскорблений.
Он объявил, что пробудет в добровольном заключении в Лувре до тех пор, пока будет в состоянии дать достаточные гарантии Церкви и королю, а именно пока исполнит главные условия, то есть пока король не будет иметь в своих руках его дочери Иоанны и пять крепостей (Нарбоннского замка, Пенни, Пейрюсса, Кордеса и Вердена) и пока тулузские укрепления, столь неприятные для французов, не будут уничтожены. Такое обещание Раймонд дал на другой день после церемонии и тогда же просил отвести себя в Луврскую башню (94). Там он провел праздники Пасхи, один со своими тяжелыми думами, и получил свободу лишь через несколько недель, когда французы уже безопасно утвердились на его родине и когда он сам стал совершенно не опасен.
Его единственная дочь, девочка восьми лет, была привезена ко двору в июне того же года. Регентша предназначила ей в женихи своего второго сына Альфонса; он приходился сверстником невесте. Легат разрешил брак, хотя между обрученными существовало некоторое родство. Обручение происходило тогда же, в присутствии легата, но свадьба могла стоиться только через восемь лет, когда оба ребенка достигли совершеннолетия.
Эта юная чета, в которой как бы примирялись представители северной и южной национальности старой Галлии, должна была мирно сплотить то, что было решено раньше силой оружия.
Во имя этого сближения Римская Церковь, взяв под свое ведение Лангедок, на глазах бессильного Раймонда производила в нем то очищение веры, которое осталось и всегда останется в ее истории позорной и темной страницей. Король Франции оказывал ей живое содействие и прокладывал дорогу ее мерам. Он давал в пользование Раймонду небольшую часть его прежних владений, освобождал ее жителей от прежних присяг и пока от личного подданства себе, но подтверждал своему вассалу приказание изгнать еретиков, преследовать их, восстановить духовные имущества, отнятые от католических церквей и конгрегации, неуклонно платить в их пользу десятины своих доходов и внести условленные десять тысяч марок в распоряжение легата. Своим ордонансом, изданным на другой день после церемонии, он указал тот способ действий, которого должны держаться его наместники, сенешали, вассалы, бальи и добрые города прелатской (сенешальство Бокерское) и нарбоннской (сенешальство Каркассонское) провинций и диоцезов Родеца, Кагора, Ажена и Альби.
Всякий, чем-либо отступивший от правил и уставов святой католической Церкви, должен быть немедленно наказан светской властью, по осуждении его епископом диоцеза или другими духовными лицами, которые получали такое право. Всякий был обязан остерегаться таких людей и не доверять им, а тем более воспрещалось помогать им, укрывать или защищать их. Нарушивший такое запрещение лишался почестей, достоинства, права наследования; его имущество конфисковывалось навсегда. Бароны, бальи и все подданные обязаны были оказывать содействие к разысканию еретиков и предавать их в руки духовных судей; за каждого еретика бальи из отпущенной им на этот предмет суммы должны были платить по две серебряные марки первые два года, а после по одной.
Для приведения страны в порядок было велено произвести поиски отлученных; не успевшие получить отпущения лишались имуществ. Все правительственные чиновники, вассалы и городские власти должны были принести присягу в соблюдении этих правил.
«Мы хотим, — предписывал король, — чтобы эти постановления уважались и исполнялись; наш брат также принесет клятву соблюдать их и наблюдать за исполнением их, когда вступит в обладание страной» (95).
Когда почва была таким образом приготовлена и светская власть была предназначена на всем Юге служить орудием духовной, легат вместе со своим новым помощником Петром де Кольмье, сопутствуемый большим вооруженным отрядом крестоносцев, начал обращать ко Христу города Лангедока. Меч был всегда наготове. По прибытии в города кардинал снимал с них отлучение — если все условия были выполнены, то есть если крепости, где нужно, срыты, если принята присяга от народа и от вассалов. Несчастные ту-лузцы своими руками заносили над собой нож; они спешили умилостивить нового господина и сами помогали повсюду сносить укрепления и засыпать овраги.
Когда оба легата и крестоносцы въехали во владения графа де Фуа, то Роже Бернар, оставшись одиноким в трудной борьбе, тоже решил покориться. Раймонд уже давно писал Роже под диктовку легата о необходимости сдаться, причем прославлял милосердие Церкви и короля, давших ему такой «выгодный для него мир», о котором он и помышлять не мог, и рекомендовал ему Петра Кольмье как «справедливого, мудрого, благочестивого и доброго мужа». Перед этим мужем, за которым стояли тысячи воинов, приходилось невольно смириться и только покорно выслушать его условия. Роже Бернар обещал в присутствии баронов очистить страну свою от еретиков, восстановить все церковные имущества, отдать королю в залог замки Лордат и Монгреньер. Потом он поехал ко двору короля и в сентябре присягнул Людовику IX как простой вассал, получив тысячу марок за землю, уступленную в пользу Раймонда (96). Но последний, как старый друг, не хотел пользоваться несчастьем. Он отказался от своих прав на земли графа де Фуа и возвратил их Роже Бернару, которому осталось разрушить укрепления и стать гонителем людей, к которым всегда был привязан.
Ему вместе с Раймондом предстояла еще одна душевная пытка. В ноябре 1229 года легат назначил собор в Тулузе для принятия мер к истреблению альбигойцев. Оба графа должны были присутствовать на соборе. Тут блистали три архиепископа из Нарбонны, Бордо и Оша, множество епископов, вассалов и баронов, сенешали; рядом с ними помещались два скромных консула тулузской общины, которые тут же вместе со своим графом снова поклялись в соблюдении договора. Тогда собрание занялось делом.
Тулузский собор и опыт трибунала
На тулузском соборе впервые заговорили об инквизиции, правда, не о такой жестокой, какой она после перешла в историю.
«Хотя легаты святого престола неоднократно делали постановления против еретиков, — так начинается знаменитый статут тулузского собора, — но, принимая во внимание, что эти провинции после долгих волнений только теперь умиротворены, как бы чудом, мы признали нужным приказать, с согласия архиепископов, епископов, прелатов, баронов и рыцарей, принять необходимые меры, чтобы очистить эту новообращенную страну от яда ереси и поселить в ней мир».
Светская власть подала здесь руку духовной, и потому при дружном и точном исполнении «необходимые меры» должны были увенчаться успехом. Уже два с половиной года тому назад, на нарбоннском соборе, в силу семнадцатого канона, было постановлено иметь в приходах особых надсмотрщиков за благочестием паствы. Теперь же этот вопрос обстоятельно развит.
В каждом приходе была учреждена комиссия из приходского священника и двух или трех выборных прихожан; они присягали в том, что будут тщательно разыскивать еретиков и их единомышленников, осматривая для этого все дома от чердака до погреба и даже подземелья, и в случае поимки будут доносить владельцам тех мест и их управителям для строгого наказания еретиков. Всякий синьор обязан разыскивать еретиков в деревнях, домах и лесах, и если кто дозволит за деньги или даром проживать еретику на своей земле, тот лишается ее, а сам предается в руки властей (каноны 3—4). Дом, где жил еретик, должен быть срыт, а место конфисковано (канон 6). На епископа или уполномоченного им для этого духовного лица возлагается определение: подлежит суду еретик или нет (канон 8). Дозволение еретику проживать на чьей-либо земле после суда влечет за собой упомянутое строгое преследование.
Всякий католик может быть добровольным сыщиком еретиков, и местные бальи получили приказание под страхом лишения должности содействовать им в том всеми мерами (канон 7). Королевский бальи может свободно проникать с такой целью во владения графа тулузского и других вассалов (канон 9). Еретики, отказавшиеся от ереси перед судом, делятся на две группы: отказавшиеся по убеждению и отказавшиеся от страха. Первые выселяются в католические города из своего местопребывания и там носят в знак прежних заблуждений на груди два креста цвета, отличного от цвета платья; их называют «крестоносцами по ереси»; они не могут занимать ни общественных должностей, ни гражданских мест без особого разрешения папы или его легата (канон 10). Еретики второго рода содержатся в заключении за счет тех, кому досталось их имущество, а за неимением его — на иждивении епископа (канон 11).
Кроме таких мер были приняты предохранительные средства от заразы ересью. В каждом приходе будет произведена перепись. Всякий юноша, достигший четырнадцатилетнего возраста, и девушка двенадцатилетнего — должны были давать клятву: хранить католическую веру, доносить об еретиках и преследовать их; эту клятву следовало возобновлять каждые два года (канон 12). Всякий дол жен исповедоваться и приобщаться три раза в год: на Рождество, Пасху и Троицу, кто этого не соблюдает, подозрс вается в ереси (канон 13).
Мирянам запрещалось держать на дому книги Ветхого и Нового Завета (это первое запрещение иметь дома Евангелие), за исключением богослужебных книг и псалтыря, и то не иначе как на латинском языке (канон 14).
Тот, кто был уличен или заподозрен в ереси, не мо жет заниматься медициной и лечением. Если больной при общем из рук священника, то его следует тщательно оберегать от приближения посторонних, до самой кончины или до выздоровления, потому что в подобных случаях встречались совращения (канон 15). Завещания должны писаться в присутствии священника или, за неимением его, другого духовного лица — иначе они недействительны (канон 16).
I* Священникам вменено в обязанность присутствовать при погребении. По воскресеньям и праздникам главы семейств в приходах должны непременно быть в церкви, выстоять мессу и выслушать проповедь (канон 25). Несоблюдение этого правила влечет штраф в двенадцать денариев, одна половина которого идет в пользу синьора.
Давая такое значение духовенству, делая его правящим сословием в «новообращенной стране», собор не забыл обеспечить его экономическое положение. Для того были восстановлены все иммунитеты и привилегии церквей; с клириков вообще было запрещено брать налоги, если они не купцы и не женаты; духовные лица были обеспечены десятинным сбором. Ради подавления феодалов, которые опозорили себя в глазах Церкви союзом с ересью, собор распорядился внести в каноны воспрещение строить новые укрепления и поддерживать старые и, между прочим, положил пределы возвышению дорожных поборов. Лиги были воспрещены; суд должен производиться безвозмездно (97).
Теперь легат пожелал научить присутствовавшее духовенство производству церковного розыска в делах ереси. Это должно было произойти на примерах, которые в то время находились скоро. Вильгельм, синьор Пейрпертюз, овладевший одно время Пюи-Лораном, и барон Нэро де Ниорт были заподозрены в ереси. Улики были слишком шатки, но достаточны, как всегда, чтобы оставить их под подозрением. Оба барона присуждены были покаяться через пятнадцать дней, под страхом отлучения и конфискации.
Это пустое само по себе дело замечательно тем, что в нем впервые были применены формы инквизиционного процесса. Они попали даже в одну из современных им хроник (98), вероятно потому, что удивляли даже привыкших к насилию людей XIII века. Внешне приемы судопроизводства были, казалось, великолепно соблюдены. Допрашивали множество свидетелей. Самый главный из них был некто Вильгельм Солье, некогда альбигойский священник, потом сумевший вовремя отступиться, покаяться перед легатом и стать его доверенным лицом по «розыскам» других еретиков. Его католическая репутация стала безупречной, так как в нем легат приобретал смелого доносчика и искусного шпиона. На каждого епископа возложена была обязанность допросить отдельно одного или нескольких свидетелей; свои протоколы они представляли легату, который взял на себя лишь руководство делом. Сперва допра-шивали надежных свидетелей, в благоприятных показаниях которых были уверены; потом переходили к прочим. Очные ставки воспрещались. Предлагая вопросы новым свидетелям, легко запутывали их в показаниях и тем их самих ставили в положение заподозренных и подсудимых. Запуганные торжественностью допроса, некоторые из них спешили выпутаться из затруднительного положения принесением раскаяния во всем, в чем теперь стали уличать их, и получили прощение легата; другие, не успевшие попасть в требуемый тон, запутывались еще больше; третьи, весьма немногие, которые были посмелее, чувствуя, что оклеветаны доносчиками и из католиков сделаны еретиками, потребовали у легата обыкновенного, прямого суда и указания обвинителей, между которыми могли быть их личные враги. Они неотступно преследовали легата своими настояниями даже в Монпелье. Кардинал отказал им, но показал общий список свидетелей и обвинителей, из которого они, конечно, ничего не могли понять.
Так, в этой первой, робкой попытке инквизиционного процесса присутствует вся дальнейшая система инквизиции — систематическое уменье сделать человека из правого виноватым, опутать его каверзными вопросами, заставить перенести тяжелые душевные муки, видеть везде предателей, невольно предать даже близких себе — и все это только одним обманом и казуистикой судей. Такое умение было возведено в принцип.
Новоизобретенные юридические тонкости легата возмутили католиков в Тулузе. После отъезда кардинала в городе поселились общее недоверие и подозрение друг к другу. Всякий боялся доносчика. Люди умеренной партии должны были или видеть личных врагов в ярых католиках, в этих ловцах еретиков, или соединиться с ними. Заподозренные искали тех, кто их оклеветал.
«С возвращением епископа Фулькона точно злой дух поселился в столице», — говорили тулузцы. На улицах нача лись столкновения, а потом дело дошло до убийств. Убий ства стали повторяться. Однажды в пригородном лесу нашли истерзанный труп королевского сенешаля, рыцаря Андрея Калве. Убийство такого лица, как и прочие беспорядки, едва было не навлекли на Раймонда тяжелой ответственности перед королем. Но Людовик IX на этот раз не послушал наветов; он жалел и щадил графа.
Раймонд VII стал покорным рабом короля. Прежняя энергия более не одушевляла его. Он делает две-три патрп отические попытки, но безуспешно. Французская администрация успела сковать Юг крепкими цепями. Подданные графа тулузского находились в руках духовенства, а он сам едва смел возвысить свой слабый голос, чтобы стать миротворцем в своей стране. Одинокий, постепенно погружаясь в апатию, он доживал эти тяжелые для него годы. В единственной своей дочери он видел что-то чужое, ожидавшее его смерти, — она принадлежала не ему, а семейству и династии, исторически враждебной его дому.
Одновременно с этим перестало греметь на Юге ненавистное имя Монфоров. Этот зловещий для Лангедока род, с которым было связано столько ужасов и крови, сдал несчастную страну с рук на руки власти более твердой, которой под иной формой суждено было осуществить дело Симона. Амори Монфор в дальнейшем повел жизнь авантюриста. Он искал счастья в Палестине, но под стенами Газы попал в плен к мусульманам, просидел в Вавилоне, был выкуплен и, возвращаясь в Европу, умер в Отранто в 1240 году, оставив сына Жана, дочь которого породнилась позже с домом Дрё. Второй сын Симона, Гюи, граф Бигоррский, умер при осаде Кастельнодарри вскоре после смерти отца. И он, и третий сын, Роберт, не оставили мужского поколения. Четвертый, соименный отцу, приобрел громкую известность в английской и вообще европейской истории. Своим невольным служением свободе он осветил некоторым блеском герб Монфоров, опозоренный злодействами. По жестокой энергии он напоминал своего отца; по уму и государственным способностям значительно превосходил его. Он покинул Францию, озлобленный против регентши, которая расстроила его брак с графиней фландрской. Удалившись в Англию, он получил от Генриха III титул великого сенешаля и руку сестры короля Элеоноры. Когда он впал в немилость, то стал во главе недовольных и, призвав на помощь народ и города, победил и пленил короля. Он положил начало английскому парламенту, будучи вызван к тому ходом событий. Потом он попал в новые бури и погиб вместе со своим сыном в битве при Ившеме 4 августа 1265 года. Другой его сын, Гюи, скрывался у сицилийского короля от преследований врагов, но его потомство снова вернулось на службу Франции, где Монфоры играли не последнюю роль в рядах вымиравшего рыцарства до прекращения этого рода при Людовике XII.
Последний представитель династии графов тулузских, которую судьба обрекла на столь гибельное столкновение с Монфорами, то покорно склоняется под опеку духовенства, то решается неоднократно, но всегда неудачно свергнуть французское иго. С подданными его продолжают связывать общие несчастья.
В 1233 году Раймонд VII должен был подписать статут, которым приказывал хватать и наказывать еретиков, лишать их имущества, срывать их дома. Он настоятельно запрещал своим баронам и рыцарям делать оскорбления или даже оказывать неуважение аббатствам и монастырям, особенно цистерцианским.
На альбигойцев теперь охотились как на зверей; их искали в лесах и, измученных, вели к беспощадному суду. Они были изолированы. Серьезной оппозиции на Юге уже давно не существовало. Тем легче было проявляться мстительности духовенства и тем шире был простор для деспотизма нового правительства, которое иногда становилось тождественным с инквизицией. В доменах короля и в доменах Раймонда инквизиционный дом делался тогда центром власти, одновременно духовной и гражданской.
Интерес истории Франции этой эпохи сосредоточивается на той темной реакции, выражением которой была инквизиция.
Мы должны рассмотреть зарождение, первые проявления, развитие, устройство и деятельность этого учреждения. Мы начнем с того момента, когда зародилась сама идея инквизиции, выразившаяся в нетерпимости к иноверцам.
Протоколы инквизиции, документальные памятники того времени, послужат нам для изучения истории последних альбигойцев.
Глава вторая Нетерпимость и Инквизиция
Общий очерк истории нетерпимости Западной Церкви с первого ее проявления до упреждения инквизиционных трибуналов. Законы Фридриха И против еретиков и Римские законы против патаренов 1231 года. Начало доминиканской инквизиции и повсеместные восстания против трибуналов. Очерк инквизиционных распоряжений против еретиков Иннокентия IV и его преемников до Евгения IV. Учреждения первой инквизиции: права инквизиторов, подразделение подсудимых, допросы, пытки, наказания, обращения, епитимьи, обряды, тюрьмы; предупредительные меры. История собственно провансальской инквизиции. Попытки Тренкавеля и Раймонда VII к восстанию; убийства в Авинъонете; вмешательство Генриха III; Лориский договор; взятие Монсегюра и новые процессы. Протоколы инквизиции до 1248 года; смерть Раймонда VII.
Общий очерк истории нетерпимости Западной Церкви с первого ее проявления до учреждения инквизиционных трибуналов
Старые католические богословы, защитники инквизиции, считают ее святым учреждением, ниспосланным самим небом для поддержания чистой веры и для борьбы с ересью. Инквизиция, по их словам, носит в себе зачатки и признаки своего божественного происхождения, поскольку никакая человеческая мудрость не могла бы изобрести средства обороны, столь спасительного для Церкви. Внушенная божественной инициативой, она именуется святой, а ее трибунал — святым домом.
Не довольствуясь заявлением такого дикого утверждения, казуисты стараются привести доказательства глубокой древности инквизиции (1). Тогда как сам термин «инквизиция» (в его общепринятом смысле) впервые стал известен в XIII столетии, католические богословы смело уверяют, что инквизиция вовсе не новое учреждение, что она неразлучна чуть ли не с самим существованием мира.
С этой целью они с любовью останавливаются на книге Бытия и на тех местах Ветхого Завета, где закон Моисеев дает гневные повеления касательно израильтян, преступивших завет Иеговы и потому обреченных к смерти (2). Толкуя VII и XVII главы Второзакония, направленные против идолопоклонников, упомянутые богословы видят в них непоколебимый аргумент в пользу древности, достоинства и святости инквизиции, и даже самое название учреждения, то есть розыск, считают заимствованным из четвертого стиха главы XVII этой книги (3).
Исходя из условий древнеиудейской жизни, католические доктора богословия стремятся найти поддержку сио им нечистым идеям и в книгах Нового Завета. В Евангелии, этой скрижали милосердия, они на каждой странице прочли бы беспощадный приговор инквизиции, но если мм они не могли встретить никакого оправдания своей проповеди, то по поводу истории обращения апостола Павла казуисты имели дерзость приписать Христу свойства карающего, а уж потом утешающего и поучающего. Папские декреталии официально установили такое оскорбительное для христианства мнение.
Протестантские писатели в справедливом негодовании против инквизиции клеймили позором и кощунство ее апологетов, и низость тех римских первосвященников, которым так или иначе они приписывали ее изобретение, и саму организацию. Не касаясь достаточно глубоко этого вопроса, они считали пап виновниками появления того духа нетерпимости в Западной Церкви, который в сущности сам собой породил инквизицию в вопросах верующей совести.
Таким образом, и те и другие ошибались.
Инквизиция в широком смысле как система гонения на свободу совести действительно была современна христианству. Скажем более: христианство унаследовало ее от языческого мира. С каким-то болезненным предчувствием древний Рим боялся всякой новой веры.
«Всегда и везде почитай богов по обычаю отцовскому, — говорил Меценат императору Августу, — и других принуждай почитать их. Приверженцев новизны преследуй всяческими наказаниями, ибо отсюда происходят заговоры, тайные общества и политические секты. Все это вредно для государственного единства».
Такой консервативный дух в религиозном вопросе древний Рим преемственно передал средневековому.
И религиозная свобода, то есть право открыто исповедовать по собственному выбору ту или иную веру, и свобода совести, то есть право иметь те или другие религиозные убеждения, установлены как принципы человечества лишь в новейшее время. В ту далекую эпоху, когда учение Христа стало все более и более распространяться по областям римского мира, эта религиозная свобода уважалась настолько, насколько не вредила политическим интересам, спокойствию и безопасности империи. Но христиане должны были войти в столкновение с божествами империи и их могущественными покровителями, с императорами.
Как граждане первые христиане были образцом покорности. Они были бы вполне безопасны для империи, если бы не жили в своих особенных, частных общинах. Смиренно склоняя голову перед земной властью, воздавая Цезарю все то, что предписывалось его положением, христианин твердил слова Учителя: «Царство мое не от мира сего».
Христианин не мог исполнить только одного, из-за чего готов был перенести ужаснейшие истязания и погибнуть на костре. Он не мог поклониться идолу Пантеона[20] и принести ему жертву. Когда преемники великого Цезаря обоготворили себя и потребовали богопочитания, они увидели в этих доселе спокойных и тихих людях злейших и неукротимых врагов, стойко принимающих смерть за свою веру. Тут-то языческий мир и подал пример христианскому. Пример, которому следовали после весьма усердно. Известны страшные гонения, поднятые на христиан и иудеев в I столетии. При Тиберии их изгнали из городов, при Нероне-стали жечь, кидать зверям на съедение, распинать на крестах и «к мучениям присоединяли осмеяние», — как говорит Тацит[21].
Но что значили для этих людей все мучения и самая смерть, когда смерть представлялась для них счастливым освобождением от уз земных, а жизнь не чем иным, как переходом к лучшему, блаженному миру.
Сын Констанция Хлора[22] понял, какую выгоду для им перии и династии может принести религия, предписыван шая покорность власти, равнодушие к политическим пра вам и к земным благам, религия, уважавшая монархические формы в государстве и искавшая идеалов в загробном жизни. Когда христиане получили право беспрепятственно исповедовать свою веру и когда вскоре эта вера была объяи лена господствующей в государстве, светская власть взяла под свое особенное покровительство служителей христиан ского культа. Из гонимых последние сделались гонителями. Конфискация, смертная казнь грозила тем язычникам, ко торые осмелятся мешать собраниям христиан.
Между тем церкви умножались и богатели; духовен ство составляло особенную касту, мало-помалу отстранившуюся от гражданской жизни, касту, свободную от юрисдикции обыкновенных судов и подчиненную особым духовным судилищам, юрисдикция которых становилась все шире и шире. Зато епископы, всемогущие при дворе, верно и ревностно служили императорам, считай. их представителями божественной власти и стремясь к осуществлению высокой идеи создать единую Церковь в единой империи.
Нельзя сказать, чтобы епископы первое время были довольны светской властью. Они имели основание роптать против Константина, который, благоприятствуя христианству, в то же время торжественно даровал споим народам свободу совести и право веровать по желании) каждого. Он был равнодушен к непонятным ему препираниям внутри новой Церкви. Была минута, когда на несколько лет древний языческий мир восторжествовал над христианским[23], но это было последнее проявление угасавшей жизни.
Вновь укрепившись, благодаря сочувствию и покровительству императоров, христианское духовенство изменило свою тактику. Оно объявило язычеству войну не на жизнь, а на смерть. Законы Иеговы, взятые из книги Второзакония, были услышаны с высоты императорского престола, как наставления неба. Церковь, как бы отстраняя новые опасности, стала вдруг воинствующей и крайне нетерпимой. Она запрещала, буквально следуя словам Моисея, щадить идолопоклонников, вступать с ними в родство, повелевала разрушать их жертвенники, сжигать идолов и даже истреблять все народы, которые предадут Господа. Из Бога милосердного и всепрощающего она сделала Бога «сташного».
Почти все императоры IV века подчинялись этому голосу и объявляли гонения на иудеев и язычников, оставляя пока в покое тех из последних, которые вели тихую жизнь и не смущали своим примером христиан. Жрецы языческие были лишены всех привилегий; богатства языческих храмов были конфискованы. Язычники мало-помалу теряли политические преимущества и права, которые переходили к христианам.
Иудеям под страхом костра было воспрещено совращать в свою веру христиан и, также под страхом казни, вступать в брачные союзы с христианами (4). По закону Константина служить на военной и гражданской службе могли только христиане. Язычники не могли иметь рабами христиан, они были лишены прав усыновления.
Потом всякое снисхождение было отложено в сторону и законом 341 года христианство приняло принудительную систему. Язычество императором Константином было признано преступлением — жертвоприношения были воспрещены, все должны были отказаться от обрядов языческого культа: «всякий ослушник будет поражен мечом» (5).
Жрецы, лишенные средств к существованию, должны были под страхом казни стать последователями ненавистного им Христа, так как удалиться из всемирной империи было некуда. Их храмы были разрушены или обращены в церкви, очищенные крестом. Философские школы Александрии и Антиохии закрылись, всякое обучение в нехристианском духе было запрещено. Свободы совести более не существовало.
Так развилась идея нетерпимости на заре средневековой христианской истории. В IV столетии было посеяно семя инквизиции. В нем мы видим ее принцип, ее начала, ее приемы, сам дух ее. Светская власть обречена была служить ей. В ту эпоху раздельного существования Церквей, император, по признанию Евсевия Кесарийского, являлся как бы общим епископом, поставленным над всеми самим Богом. Церковь же владела лишь мечом духовным, не по ражающим, а оживляющим.
Уже первый христианский император должен был оказать ей такую услугу, когда смуты, посеянные Арием, начали раздирать Церковь. Арианство обрело популярность. оно стало религией целой массы христиан. Константин, всегда опиравшийся на епископов, принял их сторону и объявил исповедание антиарианское — католическим; он желал, чтобы одна эта религия была исповедуема всеми народами империи. В законе, изданном на следующий гол после никейского собора, проходившего в 326 году, им ператор лишил еретиков всех привилегий, которые стали доступны одним католикам.
Если не в духе Константина было принимать суровые меры — будь то против еретиков или против язычников, — то все же вместе с Никейским Собором он осудил еретиков на изгнание и издал эдикт, по которому все книги, написанные Арием, должны быть сожжены и под страхом смерти всякому подданному запрещалось иметь и скрывать их6. В этих мерах им, без сомнения, руководило духовенство. Оно перестало следовать и наставлениям евап гельским, и практике первых трех веков, допускавшей и свободное хождение еретических сочинений и свободу совести.
Иисус некогда повелел Петру обращать и увещевать каждого в заблуждении не семь, а седмижды семьдесят раз, явно тем воспрещая всякую насильственную меру, а апостол Павел советует только отвращаться от еретика, уклоняться от него, и то после первого и второго вразумления, продолжая смотреть на него как на брата и предоставляя ему казниться самоосуждением (7).
Этому кроткому совету, достойному святости и нравственности евангельского учения, следовали духовные власти первого времени. Святой Дионисий, епископ коринфский, говорил, что если еретик склонен обратиться к Церкви, то надо воспринять его с кротостью, избегая всякою повода, могущего раздражить его и сделать упорным в своем заблуждении. Ориген согласен допустить в личности некоторую самостоятельность в религиозных воззрениях, если она не касается существенных положений догматики. Было время, когда ересь умели побеждать убеждением, славным состязанием. Так Святой Юстин спорил с Трифоном, Родон с Маркионом, Кай с монтанистом Проклом, Ориген с арабским епископом Берилой, он же с арабами, отрицавшими бессмертие души, александрийский собор 235 года с Аммонием, наконец, Архелай с Мани, который даже спас последнего от рук раздраженной толпы. Эльвирский собор 303 года был весьма строг к доносителям, а касательно еретиков постановил принимать их в лоно Церкви, согласно их желанию, не подвергая иному наказанию, как только церковному десятилетнему покаянию (8). Никогда Церковь первых трех веков не преследовала еретиков, предоставляя им полную свободу. Она увещевала тех только, кто сам обращался к ней за словом объяснения, и если ее увещевания были безуспешны, то ограничивалась отлучением.
Годы ее торжества омрачили ее историю. Они сделали ее нетерпимой и к своим, и к чужим.
Императоры Диоклетиан и Максимиан, ради спокойствия империи, издали эдикт, осуждавший на костер агитаторов манихейства и тех последователей Мани, которые не отрекутся от своих убеждений.
Раскрывая так называемый «Кодекс Феодосия», принадлежавший императорам IV и V века, с удивлением встречаешь ряд драконовских законов против ереси, готовый материал для монахов XIII века. Император Феодосий (379— 95) написал пятнадцать из них, положив этим основание позорному зданию инквизиции. Он протянул дружескую руку римскому олигархическому духовенству и, боясь усиления последователей Ария, омрачил позором насилия и преследования христианскую Церковь, назначение которой было действовать словом убеждения. Всякий так называемый католический император считал своей государственной обязанностью следовать его примеру. Это стремление вначале проявилось смутно, слабыми попытками; Константин издал лишь два подобных закона; Валентиан I — один, Грациан — два. Но преемники Феодосия I на Западе усердно следуют его примеру. Аркадий издает двенадцать постановлений против ереси; Гонорий, соединивший обе империи, — восемнадцать; Феодосий II — десять; Валентиниан III — три (9).
В свою очередь, арианин Констант II мучил и преследовал католиков.
В продолжение этих ста лет, когда, по выражению Марцеллина, христиане свирепствовали друг против друга неистовее диких зверей (10), не только созрела идея нетерпимости, но и принесла кровавые плоды. Страшные законы против язычников теперь были применены против христиан-некатоликов. У них отняли право собрания. Префекты, преторы, начальники диоцезов получали приказание убивать еретиков, если они не восстановят католических церквей, разрушенных ими. Сперва, а именно в 381 году, грозили еретикам преследованием императорских судей, если они добровольно не отрекутся от своих заблуждений. Вскоре их объявили подлежащими преследованию и суду особых лиц, которые тогда уже назывались инквизиторами и судили по тайным показаниям доказчиков. Такой суд ввел Феодосиё I законом 383 года против манихеев (11).
Этот закон останется первым историческим фактом в истории инквизиции, если под ней понимать всякое гонение на ересь вообще.
До сих пор секретный донос принимался только в делах о высших государственных преступниках, где шел вопрос о безопасности империи. Феодосий применил его к тем, кто мыслил иначе, чем господствующая Церковь. Преступления против католической веры были объявлены государственными преступлениями. Это особенно от носилось к манихеям. Их имущества конфисковывались, у них были отняты все гражданские права. Им запрещено было наследовать, продавать, вступать в договоры. Даже по смерти их преследует инквизиция, так гласит закон 407 года. С другими еретиками поступали мягче: подозреваемого в заб луждении увещевали покаяться, и если достигали цели, то ограничивались церковным дисциплинарным наказанием Иначе угрожало изгнание с огромными штрафами, коп фискация, наказание плетью и ссылка на незаселенные острова. Иногда, как замечено, местная власть могла присудить и к смертной казни. Исполнение декрета лежало ни ответственности начальников провинций и диоцезов, судов, дуумвиров, декурионов; в случае, если они будут делать послабления, им самим грозили огромные штрафы и различные конфискации (12).
Исторические факты являются отражением идей, господствующих в той или другой сфере жизни. Если к таким печальным последствиям пришла практика древней Церкви, то какое было сознание внутри ее самой по вопросу веротерпимости? Шли ли эти грустные факты рука об руку или в разлад с теорией?
Исходя из евангельского учения, отцы и богословские писатели первых трех веков, преемники апостольских учеников, стояли на его высоте. Они предписывали невозмутимую терпимость не только к иноверцам в христианстве, но даже к язычникам. Одна молитва о заблудших бы к единственным орудием их пропаганды.
Святой Игнатий, патриарх антиохийский, который учился христианству у апостолов, предписывает эфесеянам молиться за язычников. «Они одержимы бременем идолопоклонничества, но надо надеяться, что раскаянием они снимут его и искренне обратятся ко Христу. Страдайте за них и заставьте поучаться примером ваших дел». Он велит остерегаться еретиков. «Вам остается только молиться за них, чтобы они покаялись. Хотя их обращение и покаяние весьма трудны, но Господь наш Иисус Христос, истинная жизнь наша, имеет власть совершить это». «Убеждай всех о спасении, — пишет он Поликарпу Смирнскому. — Выполняй служение твое, не щадя ни телесных, ни духовных трудов. Заботься об единстве, выше которого ничего. Переноси присутствие всех, как и тебя переносит Господь; терпи всех во имя любви; терпи тех и других с кротостью, если хочешь, чтобы Господь терпел тебя».
Тертуллиан, сам боровшийся с ересью в лице Марциала, на этот счет высказывался еще определеннее: «Свобода следовать той или другой вере основывается на праве естественном и человеческом, так как образ исповедания одного лица не может причинить ни зла, ни добра другому. Вера не имеет надобности противодействовать кому-либо, поэтому надо, чтобы она была свободна, а не внушена силою, ибо принесение жертвы должно быть по своей природе действием свободной воли. Если вы принудите нас священнослужительствовать, то не доставите тем ничего приятного вашим богам; они не только не могут возлюбить вынужденные жертвы, но делаются недовольны и сварливы, а сварливость не есть качество божественное».
«Надо обратить внимание на то, — писал святой Киприан Карфагенский, — что Господь не осуждал и не угрожал, а только обратился к своим Апостолам и сказал им: "Не хотите ли и вы идти". Так соблюдал Он закон, дающий человеку свободу идти по пути жизни или смерти».
«Мы никого не удерживаем против воли, — пишет Лактанций, умерший в 325 году, — ибо тот, кто не имеет ни веры, ни благочестия, бесполезен для Бога. Веру должно защищать не убивая, а умирая за нее, не жестокостью, а терпением. Словами, а не насильно возбуждают волю, а ничто не требует столько доброй воли, как религия. Она перестает существовать, как только исповедующий ее лишен воли» (13).
Ничего нельзя сказать более убедительного против насилия над совестью и против системы инквизиции.
Арианство, в лице императора Констанция (351—361 годы) и особенно вандальских королей Гейзериха и Гундериха, первое подало пример гонения на католиков. Не было жестокости, которой не пробовали и не испытывали бы духовенство и арианские государи над ненавистными им католиками. Должно заметить, что никогда в годы своего торжества, последние, по признанию самих ариан, до подобного изуверства и ожесточения не доходили. Церкви и католические монастыри жгли; людей истязали, кому отсекали руки и ноги, кого убивали; девиц, женщин жгли медленным огнем и потом клеймили; непокорных толпами отправляли в африканские степи, предварительно изувечив. Вандальские истязания вошли в пословицу; героями их были ариане[24].
Об этих гонениях епископ Виктор написал целую книгу, рассказывая, как король Гундерих кидал в ямы сотни живых людей. Епископы арианские, Георгий, Север, Люций, были главными начальниками и агитаторами.
Афанасий Великий высказал свой смелый протест против дикого насилия. «Где может быть свобода убеждения, — спрашивал он, — когда все управляется страхом перед императором? И какую силу может иметь голос убеждения, когда за противоречие ссылают или казнят?»
Святой Илларий, бывший епископом Пуатье, сам страдавший от ариан, подает высокий пример прощения и терпимости. Он пишет по поводу своей фригийской ссылки арианскому императору, что «мир не может быть водворен иначе, как ежели все, освободясь от всякого рабства, получат возможность жить по своему убеждению. Если и ради истинной веры будет применяться ваша власть, то неужели не воспротивятся вам епископы и не скажут: Бог — творец мира, Он не нуждается в вынужденном послушании и не ищет его» (14).
В это же время святой Мартин Турский уговаривал в Туре императора Максимиана пощадить жизнь Присцил лиана, предлагая осудить его только на низложение и изгнание; его ходатайство, как известно, не увенчалось успехом. Присциллиан был казнен в отсутствие епископа (15). Эту казнь духовенство встретило общим негодованием; она шла вразлад с духом терпимости. Было делом новым и неслыханным, чтобы светские судьи брались за церковные дела.
Святой Григорий Назианзин и Иоанн Златоуст также проповедовали в годы торжества Церкви с кафедр проще ние и кротость:
«Следует опровергать и отстранять от Церкви все нечг стивые догматы, распространяемые еретиками, но людям должно прощать их заблуждения и молить Бога об их обращении. Христианам не дозволяется уничтожать эти заблуждения принуждением и силой; они могут вести людей к спасению только убеждением, разумом и любовью»
Таких воззрений единодушно держались отцы и учители Церкви до IV века.
Но в начале V столетия в Западной Церкви повеял новый дух. От одного из христианских богословов послышалась проповедь гонения и насилия. Факты, уже существовавшие на практике, нашли себе незаконные оправдания в теории. Этот новый голос принадлежал Августину. Римская Церковь канонизировала этого богослова и сопричислила его к числу своих отцов.
В молодости Августин был манихеем. В тридцать два года он обратился в католичество и стал преследовать всякую ересь с ревностью неофита. Были годы, когда и он был сторонником терпимости. Но в своей гиппонской епархии он должен был вступить в борьбу с фанатичными еретиками, которые всюду окружали его. Между ними особенно выделялись сперва донатисты, а потом пелагиане. На тех и других он после мер увещевания поднял гонение, призвав на помощь светскую власть. Августин был фанатичен и самолюбив, успех слишком пленял его, чтобы епископ не стал на сторону тех решительных мер, которые легко ведут к его достижению. Он стыдился своей прежней умелости и терпимости.
«Я был неопытен и не понимал, какая от этого может произойти безнаказанность зла, и не догадывался, какое обращение к лучшему может произвести применение дисциплины» (17).
Вот первые звуки проповеди насилия. Августин в глубине души своей не потерял сознания позора таких мер и предпочитал слова убеждения, но тем не менее решился допустить в Церкви новый принцип, так успешно и блистательно усвоенный Римом (18). Он не советовал проконсулу казнить донатистов, но лишь потому, что вследствие больших казней поднимется ропот против духовенства, как против доносчиков и виновников истребления, что оно будет в сильной опасности и что, наконец, некого уже будет привлекать к суду проконсула (19).
Он стал казуистически оправдывать насилие: отцы наказывают своих детей, поучая их, Бог в своем милосердии так же поступает с людьми. Строгость — та же любовь. Любить надо и друга, и врага. Еретик — враг, но он погибает, тонет, христианское учение требует спасти его; конечно, лучше прибегнуть к силе и удержать его на краю пропасти, чем допустить до гибели. Гибель духовная еще ужаснее — она преследует и в загробной жизни. Зло не в насилии, а в допущении равнодушия и снисхождения к судьбе погибающего. Наказать, истязать еретика, — значит воздать ему любовью; оставить его в заблуждении, хотя бы после бес полезных усилий, предоставить самому себе, — значит на нести ему зло, вопреки евангельскому учению.
Так, гонение явилось заветом Евангелия; терпимость - преступлением против веры. Если не на всех действуют на казания, если иные до самой смерти остаются при своих убеждениях, то не следует же отказываться от излечения болезни, если есть несколько неизлечимых. Оружием такс го излечения служит светская власть, умеющая владеть свет ским мечом.
«Власть, вверенная Цезарям, должна служить прежде всего на защиту дела Божия, — вторил Августину его друг Амвросий Миланский, — и на прочищение людям пути к небу. Только единая истинная вера может быть исповедус ма во владениях христианских государей. О терпимости к язычникам, евреям, еретикам и врагам Церкви не можем быть и речи. Если люди, власть предержащие, не преследу ют преступников, то они их соучастники, а какое же прс ступление может быть важнее того, которое совершается против Высшего Существа? Эти меры преследования и наказания если не уничтожат зла, то воспрепятствуют ею дальнейшему проявлению и, во всяком случае, подавят соблазнительный пример».
Августин в знаменитом споре с пелагианами отнял у человека всякую свободу воли. Мир в его «Граде Божьем», где в жертву логике приносилось все остальное, представлялся разделенным на праведных и неправедных. Одних Бог предопределил к бесконечному блаженству, а других осудил на вечную смерть. Исключения не может быть: один наследники благодати, другие сыны осуждения. Не кат-лики, и тем более язычники, не могут быть добродетельны и никогда не попадут в первую категорию. Их добродетель греховная, лучшие из язычников — служители славе, следующие злому побуждению; они от мира, а «всяко еже но от веры, грех есть»; они навсегда лишены благодати, а без нее не может быть добра, даруемого только Господом.
Такое учение служило прекрасным подспорьем оправданию нетерпимости, делавшейся благодетельным сред ством спасения, целительным лекарством, которое приводит человека, хотя бы против его воли, к духовному здоровью, причисляет его к тем, на кого может снизойти благодать.
«Позволяет ли Евангелие такое понуждение личности против ее воли?» — спрашивал сам себя Августин. И отвечал… положительно. Он основывался на притче Спасителя о гостях званых и избранных, в которой господин приказывает рабу идти по дорогам и изгородям и, кого встретит, убедить прийти к нему, чтобы наполнился дом его, так как оставалось еще свободное место[25]. Выражение «убедить прийти» было с намерением неверно переведено: «compellere intrare» — заставить, понудить войти. На этих словах, как на священных, окончательно утвердился Августин в своих доводах. Видимо, переводчик руководился в своем переводе тем духом нетерпимости, который успел проявиться тогда в Римской Церкви, но это знаменитое выражение «compellere intrare» обречено было сыграть свою историческую, печальную роль. Оно стало как бы моральной опорой инквизиции, ее аргументом, исходным мотивом ее апологетов.
Замечательно, что эта теория созрела одновременно с фактом гонения еретиков. Августин считается у католиков величайшим богословом. Он, можно сказать, создал, изложил, если не завершил католическую догматику. Он считается в Западной Церкви высочайшим авторитетом. Его суждения и воззрения — изречения оракула; отступить, уклониться от них — значит быть близким к ереси. Он оказал такие великие услуги католицизму своей борьбой, жизнью и своими замечательными сочинениями, что связал неразлучно с ним свое имя. Понятно, какое обаяние оказывала на позднейшие поколения, потерявшие основы цивилизации, эта талантливая защита нетерпимости, достойная по своей энергии лучшего применения. Сотни лет она продолжала воспитывать их. Понятно, что святейшая инквизиция Лангедока и Испании всегда искала в сочинениях Августина главную основу своих доводов.
Светская власть, в свою очередь, следуя примеру Феодосия, прозванного Великим, этого императора половины вселенной, знаменитого законодателя и устроителя государства, спешила оказать требуемую поддержку духовенству. Папа Лев I провозгласил, что «власти нужны в среде Церкви для того, чтобы то, чего священник не может сделать проповедью учения, они выполняли страхом наказания» (20). Римская Церковь брала на себя обязанность судить, а властям предлагала быть палачами.
В этот-то решительный момент в Церкви проявляется внутреннее, еще малозаметное разделение на две половины. Восточная Церковь не стремится к созданию внешнего выражения единства, подобно Римской; она довольствуется единством внутренним, основанным на духе любви и веры. Она не знала классической традиции единообразия форм, традиции глубоко древней, и не намеревалась организовать политической корпорации из общества верующих духом; она не стремилась к государственным идеалам. Между тем как Римская Церковь усваивала воинствующий тип и, встречая на пути светскую власть, старалась подчинить ее себе как орудие для личных целей, ревниво наблюдая за ее силой. Восточная, занимавшаяся разработкой догматов, бросила из рук всякое оружие, еще задолго до фактического разделения, и добровольно предоставила императорской власти охранение своего внешнего единства. В то время, как римские первосвященники старательно и даже резко делили обе власти, в Византии они смешивались. Восточные императоры, смело издавая церковные законы, мало помалу подчинили себе патриархов, затмили их в блеске своего добра. И хотя власти не вмешивались в вопросы бо гословские, но ход событий вынуждал их быть покровите лями и защитниками веры — тем самым они уничтожали возможность образования на своих глазах особой воинству ющей церковной силы, которая могла бы выступить против кого-либо под знаменем креста.
Поэтому на Востоке не было ни почвы для инквизиции, ни данных для ее осуществления. В Восточной Церкви развился иной дух, нежели в Римской; ее императоры, правда, продолжали жечь мятежников даже в IX столетии, но сама она не была способна предпринимать крестовых походов в дальние страны во имя Христа, не решалась обращать чужеземцев в своих слуг силой меча. Зато, отказан шись от господства над событиями, она и не имеет блестящей истории католицизма. Различные по духу, обе Церкви, естественно, должны были разделиться, особенно ког да папы приняли наступательное положение и заговорили тоном властителей.
Отчего возможно было появление факта инквизиции в Римской Церкви? В чем сила и опора этого учрежде ния? Для уяснения этих причин надо бросить сжатый взгляд на рост папской власти. В продолжение трех столетий, современных самой печальной эпохе истории чело вечества, влияние римских первосвященников, а с ними и западного духовенства успело окрепнуть. Но это не значило, что у них была какая-либо власть. Папство крепло, когда народы волнами сметали друг друга, коиш Европа обливалась кровью во всех своих пределах, коиш пылали и разрушались ее города, когда гибла образован ность и исчезали с лица земли памятники античной ми вилизации, когда молитва и предсмертное покаяние стали единственным утешением, а монастыри единственным и безопасным приютом. Сам бич Божий с почтением неког|да остановился пред папой. Папы под маской духовного надзора захватили правительственное влияние в Италии и отстранили восточных императоров, владевших ею с VI века. Назвавшись первосвященниками, римские епископы получили от варварских королей множество привилегий вместе с независимой юрисдикцией, включавшей гражданские отношения. Общее невежество присвоило им столь могучее влияние на западное христианство, что в VIII столетии папа стал в глазах государей и народа действительным наместником Святого Петра и властвовал не только в церковных делах, но и в мирских.
Светская власть, с готовностью предлагавшая священникам свои услуги, между прочим, неосторожно занесла меч сама на себя. Это обстоятельство важно для истории инквизизиции.
Пипин Короткий просил папу Стефана II освободить французов от присяги последнему Меровингу[26]. Папа исполнил и другое желание франка, в 754 году короновав его в Сен-Дени. Пипин даже не предвидел, какую жалкую участь он готовит своим преемникам и европейским государям, отдавая их в руки и в опеку Риму. Отныне князья должны были стать усердными слугами папского престола, слугами его идей, исполнителями его повелений — все это из опасения повторить судьбу Хильдерика. Страх разрешения от присяги подданных не раз впоследствии уничтожал всякую энергию королей и делал их простыми орудиями западной Церкви, ратоборцами ее терпимости.
История альбигойцев переполнена такими примерами. Католики чуждались каждого отлученного, как зачумленного. Повиноваться ему казалось грехом. Анафема церковная прежде назначалась за одну ересь, и потому на вского отглученного государя подданные смотрели как на еретика.
Должно заметить, что немаловажное значение в этом слепом страхе галло-франков имело старое друидическое поверье. Еще кельтские жрецы воспитали галлов в этом чувстве отвращения к отлученному (21). На него смотрели как на нечестивца, покинутого богами, с ним нельзя было иметь никакого сношения или тем более общения из опасения навлечь гнев неба и лишиться сообщества людей. Покинутый на произвол судьбы, словно зараженный, отлученный являлся живым примером зла, происходящего от неповиновения духовной власти. Это поверье, перешедшее из языческого мира в христианский, было тщательно охраняемо духовенством как подспорье, поддерживавшее его влияние. Запасшись столь прочным и столь широким пра вом отлучения, папство редко имело повод применять его в религиозных делах. Оно всецело воспользовалось этим ору жием уже во времена альбигойства.
Первосвященники, современные Карлу Великому, держались самой кроткой политики относительно светской власти. Папы, заручившись обладанием территорий, казалось, не обещали узурпации в будущем. Всем обязанные личной дружбе императора, папы терпеливо сносили его прихоти, притеснения и величали его самыми льстивыми эпитетами. В свою очередь, император в 789 году на народ ном собрании в Ахене издает церковный капитулярий, где, обращаясь к священникам, предлагает им «усовещевать, убеждать и даже принуждать всякого, чтобы он следовал твердой вере и правилам отцов» (22).
Храбрый завоеватель, Карл Великий плохо понимал, что говорили эти отцы. Смутно предчувствуя появление иноучителей, он грозил им адом, а духовенству предписывал поучения. Принужденные льстить ему, папы знали, что не все время на престоле будет этот страшный, ими жг венчанный император. Время оправдало их предположения, и папство тотчас переменило тон после его смерти. Наследник могучего Карла — раб Церкви, и вот Григорий IV в 838 году смело и громко провозглашает независимость духовной власти от светской. Друзья франкского вождя освободились от всякого надзора; им сопутствует успех, а от успеха растет их авторитет. Их могущество, как часто бывает в жизни, скоро становится крепким одной традицией; к могуществу пап начинают привыкать.
А Николай I, не разбиравший средств, пускает в ход так называемые лжеисидоровские декреталии, где говорится, что папа — единый наместник Христа на земле, общий вла дыка всех Церквей, что лишь от него возможно законное назначение и отречение епископов, что лишь ему подсудны все духовные чины, что лишь он может созывать соборы, самая власть которых исходит от него же.
Стройными и резкими формулами начинает создаваться каноническое право Римской Церкви; упрочивается положение и неподсудность духовенства мирянам.
При Иоанне VIII Рим смело вмешивается в политические события. Обещанием короны Карлу Лысому от светской власти, которая так высоко была поставлена Карлом Великим, добиваются торжественного заявления, что императорская корона переходит не по праву наследства, а по воле святейшего отца— папы. Эта важная грамота, подкрепившая идею римской нетерпимости, подписана днем Рождества 875 года. Тот же Карл Лысый после своего коронования, признает за римским епископом именование «papa universalis» (отец вселенский), подчиняя ему этим все другие Церкви и номинально даже восточные патриархии.
Но одного такого заявления было недостаточно, чтобы идея, торжественно высказанная, привилась к жизни. Для этого требовалось время и великие люди, способные поднять ее и осуществить. Чем более папство поднималось на такую политическую высоту, тем нетерпимые делалось оно к проявлению всякой самостоятельной мысли, несогласной с догмой, переданной Августином и другими ее отцами. Когда бенедиктинский священник Готшалк осмелился высказать иное воззрение на предопределение, то архиепископ реймский сперва старался обратить его, а после собрал собор в Керси на Уазе в 849 году из восемнадцати духовных лиц, и на нем отлучил виновного, как упорного еретика. Готшалк лишился священства, на основании правил его ордена, и постановлением агдского собора был наказан сотней ударов плетьми и заключен в темнице аббатства Отвилльер. Карл Лысый, бывший тогда еще франкским королем, лично присутствовал при экзекуции и приказал сжечь сочинения осужденного (23). Это было в то время, когда политический мир, погруженный в ужасный хаос, представлял собой военный лагерь и когда на свете, по искреннему выражению Нитгарда, «не было ничего, кроме бедствий и несчастий» (24).
Понятно, что впоследствии, когда войны, возмутившие страдавшую Европу, несколько улеглись, когда уровень образования невежественного высшего духовенства несколько поднялся, а авторитет папства упрочился в умах, Римская Церковь получила гораздо большую возможность управлять движением мысли среди своих паств и карать за уклонения в области религиозной.
Памятники не оставили нам фактов касательно развития инквизиционной идеи в X столетии. Риму было тогда не до вопросов и не до интересов веры. Могучая власть людей, назвавших себя наместниками Христа, стала ничтожна и долгое время даже не проявлялась. С 891 года наступает самое тяжелое время Римской Церкви, — какое только она переживала в христианский период. Графы тускуланские и князья Крешенци, укрепившись в своих домах, дерутся за обладание замком Святого Ангела и произвольно распоряжаются народным собранием, а через него и папским престолом; пап то сажали, то сталкивали. Ужасное состояние курии, а через нее и всего духовенства, обусловливалось в это время самим положением пап, как номинальных государей своей области. Целый ряд нравственно развращенных личностей в продолжение полутора столетия сидит на первосвященническом престоле.
Тиароносцы как бы готовились подорвать тогда всякое доверие к папскому авторитету, только что утвердившемуся в умах варваров-победителей. Мрачные картины азиатских деспотий развертываются в христианском Риме. Короткие заметки летописцев превращаются в ужасающие сцены под пером протестантских историков. Редкий папа не погибал тогда от интриг, над редким первосвященником политические враги не совершали самых диких истя заний, даже трупы не избегали посрамления. Владычество наглых женщин, коварство, оргии мести, убийства, яд, святотатство, кощунство были обыкновенными явления ми в эту эпоху.
«Латеранский дворец, — говорит современник, — был местом публичного разврата и вместилищем порока» (25). Понятно, что распущенность нравов и чувств всего ла тинского духовенства была полнейшая. Духовенство ока залось тесно связанным своими землями с бытом других сословий; в руках его, по духу времени, был посох и меч. «Добрый воин в походе и лучший пастор в народе», было даже идеалом, но в действительности прелаты не думали о своих духовных обязанностях. «Это не епископы, а тираны, окруженные войском; с руками, запятнанными неприятельской кровью, они приступают к совершению таинств».
Епископские должности на всем Западе продавались с публичного торга. Император германский назначал торги и своем дворце, даже во второй половине XI столетия; жела ющие набавляли цену один перед другим.
«Продавец иногда и не мечтал о том, что предавалось ему покупателем; реки богатства, сокровища Креза были в руках монахов». До церковных ли догматических вопросов было тем людям, которые заняты были лишь тяжбами да прибытком, драли проценты, продавали церковную утварь, продавали самое отпущение грехов. Не все они знали даже «Верую», не все понимали то, что читали, многие ограничивались только чтением по складам. Епископ бамбергский, например, не мог даже перевести латинского псалма, а не то чтобы разъяснить по смысл (26).
В разнузданности и грубейших удовольствиях протекала жизнь духовенства и в холодной Англии, и в теплой Италии. Их жилища, по их собственному сознанию, считались домами разврата и вместилищем всяких нечистот; сами церковные алтари не были избавлены от того. Бенедикт VIII на соборе публично говорил, что служители Божий «безумствуют в изнеженности»
Но это повальное зло, которое возмущало честную душу клюнийского монаха Гильдебранда, исходило из соблазнительного примера Рима. Когда продавались аббатства и епископства, продавался папский престол, а с ним и вся Римская Церковь (28). Мы привели факты, от которых не отпираются и католические историки. Последние смущаются, говоря об этой эпохе.
Пользуясь этим временем, альбигойская ересь из юго-восточных пределов Европы, пройдя Италию через посредство патаренов, показалась в южной Галлии. Она шла под знаменами манихейства, за которое прежде жгли и на Востоке, и на Западе. Это было в последние годы Х столетия. После изложенного понятно, что дуализм встретил на Западе самые благоприятные условия. Учителей в господствующей Церкви почти не существовало. Ее великие богословы давно вымерли. Почти некому было вступить в серьезные дискуссии с сектантами, которые, будучи фанатически убеждены в своей правоте, проповедовали с пылкостью, увлечением и талантом. Сердце на фоне общего разврата искало веры в лучшее и надежды. Католические священники не могли поучать первой и не были способны внушить вторую. Из-за этого многие из французского духовенства, введенные в сомнение, смутно понимавшие догму, сбитые с толку, сами стали адептами дуализма. Потому, например, в реймской епархии при посвящениях было постановлено давать клятву, что посвященный не разделяет убеждения еретиков. Это была единственная административная мера против ереси. Целых тридцать лет католическое духовенство было в каком-то онемении. Фактически в это короткое время существовала терпимость, но причинами ее были не осознание, не принцип, а внутреннее и внешнее бессилие, результат условий, изложенных выше.
Но вот в первой половине XI столетия черная картина состояния духовенства проясняется. Клир просыпается, будто чувствуя близкую опасность. Его болезненный, летаргический припадок начинает проходить. Наступил кризис. Тогда первым движением этого больного было взять в руки меч и грубой силой внушить страх дерзким, потревожившим этот вековой сон. Лиможский епископ Геральд первый принимает карательные меры против еретиков. Но он не имеет успеха. Он кидается на евреев и троих из них обращает силой и убеждением в христианство; множество остальных ссылает. В 1020 году или около того, в первый раз на площадях Тулузы разводили огонь для еретиков. Современный хроникер, лемузенский монах, довольно спокойно занес этот факт в свою летопись (29). Он не предвидел, что с того дня началась вековая история инквизиции с ее ужасами и с ее роковым влиянием на авторитет Римской Церкви.
Эти первые альбигойские еретики погибли геройски; они не отреклись от своих убеждений. Но история не сохранила их имен; известно только, что их было много. Через два года те же сцены происходят в Орлеане. Мы имели случай описать их подробно. Тут пострадали лучшие люди Орлеана, но что всего замечательные, все тринадцать сожженных раньше были католическими священниками. Один из них был даже духовником королевы. В ту эпоху энергичные натуры делались или мистиками или развратниками. Талантливейшие из духовных лиц, не встречая удовлетворе ния сердечной потребности в условиях и обстановке своей религии, смело и с большим самоотвержением предава лись тому учению, которое в своих основаниях требовало подвига аскетизма и взирало на земную жизнь как на со здание дьявола.
Потому-то с таким достоинством Лизой, Гериберт и их товарищи держались пред судьями и с таким геройством умирали, внутренне наслаждаясь своими мучениями. Про чие последователи катарства в Орлеане, тогда же привле ченные к следствию и отрекшиеся, подверглись менее же стоким наказаниям. Произвели суд и над мертвыми; труп одного, оказавшегося еретиком, был выкопан и выкину: с территории христианского кладбища.
Костры и наказания не могут уничтожить заблуждения Огонь только гонит его по другому направлению. Раз встаи на эту дорогу, Римская Церковь должна была надолго, если не навсегда, обречь себя на служение мечу и нуждаться и услугах палачей. Ересь, подавленная в Орлеане, прояви лась одновременно по всей Галлии, особенно в Шампани и Лангедоке. Епископы чуть ли не ежегодно должны были собирать соборы и произносить свои обычные формулы отлучения.
Во всей Римской Церкви нашелся только один голос, требовавший снисхождения к заблудшим, по учению Евангельскому. Это был люттихский епископ Вазон. «Бог ищет не смерти еретика, — писал он шалонскому епископу, — а его жизни и покаяния, он не спешит судить, а выжидает терпеливо. Епископы должны подражать примеру Спасителя, который был кроток и смирен сердцем и который, не отмщая, вынес козни врагов своих. Вместо того чтобы казнить еретиков, надо ограничиваться их исключением из общества верных и изыскивать в то же время возможность и средства вернуть их к познанию истины» (30). Вазон следовал двум замечательным примерам: своего предшественника Регинальда и Герара, епископа Камбрэ, которые в 1015 году мерами кротости сумели подавить ересь в своих епархиях.
Дуализм частью был принесен во Фландрию итальянскими миссионерами, частью проник сам собою через ткачей, которые приходили партиями во Фландрию и обратно. Последние, трудясь изо всех сил, всегда испытывали горькую нищету; они были удобной жертвой всякого сильного, предметом отвращения для феодалов и их дружин. Их обирал и бил всякий, кто хотел. Они и сами, вследствие безысходной бедности, могли дойти до мысли, что этот несчастный, так гнетущий их мир, создан диаволом. В Аррасе их появилось довольно много.
Как бы то ни было, но власти напали на след альбигойских миссионеров. Главного из них звали Гундульф. Они хотели скрыться из Арраса, но их схватили, посадили в тюрьму, пытали и ничего не узнали. Только признания малодушных последователей несколько приподняли покров с этого темного доселе альбигойского учения. В ближайшее воскресенье епископ Герар решил сделать публичный суд; сопровождаемый всем городским духовенством, он пришел с крестным ходом на площадь пред церковью и велел привести еретиков. Сказав проповедь народу, он стал вслух расспрашивать еретиков об их учении. Он понял из их исповеди, что новая религия враждует с католической и богослужебным культом, с почитанием святых и икон, но объяснить свою догматику виновные были не в состоянии. Они проявляли наклонность к аскетизму, что было в глазах епископа непредосудительно. Должно заметить, что люди из низкого сословия только недавно сами познакомились с катарством. Их наставники были тут же, но умели скрыть свои истинные убеждения. Епископ стал доказывать подсудимым их заблуждения; они, видимо, убедились и просили прощения. Они отреклись от ереси и без всякого наказания тут же были отпущены и объявлены прощенными (31). Это вряд ли заставило Гундульфа сделаться католиком.
Необходимо отметить, что эти два примера терпимости известны как исключения.
Папский престол, который только что был пробужден реформаторскими мерами Гильдебранда, отнесся также довольно мягко к ереси Беренгария Турского. Престарелый архидиакон анжерский, этот праотец протестантизма, своим учением о пресуществлении сильно смутил Рим. Он писал, что хлеб и вино есть лишь изображение тела и крови Христова; он восставал против брака и крещения детей. Во французских монастырях он имел множество приверженцев. Знали также и то, что за ним готово идти много священников. В другое время Рим при бегнул бы к крутым мерам, теперь же Лев IX ограничился одним осуждением Беренгария на соборах в Риме и Верчелли в 1050 году. Виктор II, через пять лет, в Туре, заставил Беренгария дать письменное отречение. Когда же он продолжал проповедовать, то в 1059 году в Риме принудили его дать новое отречение, произнесенное им с большою торжественностью. Отказавшись от убеждс ний, он сохранил свою жизнь.
Возвеличение папского престола при Григории VII не могло не остаться без решительного влияния на идею нетерпимости. До сих пор она в своем применении не обнаруживала никакой системы. Судьбы еретиков и их учений зависят, как видели, от личного характера прела тов, которые приходят с ними в столкновение. Сами папы казались новичками в деле борьбы. Они отвыкли от со знания своей силы. К концу XI столетия картина порази тельно меняется.
Григорий VII застал духовное и светское общество н полном нравственном падении, а оставил преобразован ное духовенство и с ним примеры нравственной крепости и живительной веры в добро для тех, кто стал бы искать новой жизни. Папский престол, бывший доселе игрушкой нобилей, он возвел на небывалую высоту; он сумел стаи. жестоким судьей над царями. Можно сказать, что он пост роил теократическое государство, насколько оно вообще было возможно в Европе. Самым могучим и гениальным его преемникам оставалось только следовать живому при меру.
Каковы бы ни были цели Григория VII, он заботился не о личных интересах. В то время только один теократически-религиозный принцип мог властвовать над порядком вещей. Он был уже не на месте, уже ненормален, например, в конце XIII века, когда развились другие институты, когда благотворные силы, силы порядка и мира заключались в коммунах, в королевской власти, в началах классического права, в преобладании экономических мотивов, наконец, в той образованности, которая уже стала заявлять себя в литературных памятниках. Папская диктатура исторически подходила под условия IX—XII столетий; только начало авторитета, опиравшегося на заветы евангельские, могло ладить с развращенными людьми того времени. Нельзя сказать, чтобы Григорий VII ратовал за нетерпимость Церкви, но что она была присуща его духу, доказывает его мысль о крестовом походе, который был тем же насилием.
Преемники Гильдебранда не могли удержать духовенства на высоте его воззрений и тем допустили новое развитие и обновление ереси, которую думали подавить насилием. Напрасно раздавались голоса святого Бернара и святой Хильдегарды, требование убеждать, а не принуждать еретиков — светские князья в Лангедоке и в других местах принимают сторону еретиков, не позволяют сажать их в тюрьму и предоставляют прелатам довольствоваться анафемой на еретиков с покровителями и укрывателями вместе. Церковь сама позорит себя в глазах светской власти. Она прихотливо стала налагать отлучения уже вовсе не за церковные преступления, не за ересь, а за чисто светские проступки, так что голоса против такой узурпации раздавались внутри самой Церкви (32).
Стремясь исключительно к господству над государствами, ведя светскую жизнь, папы и прелаты снова лишились всякого уважения в глазах народа. Они давали индульгенции не только крестоносцам, которые часто позорили самое имя христианства своими «подвигами» в Азии, но и тем людям, которые могли оказать им личные услуги.
Самый факт крестовых походов поселял в неразвитых умах идею о необходимости меча в делах веры. Между тем свою догму Церковь ревниво оберегала, вмешиваясь в философскую борьбу номинализма. Так, она осудила в 1121 году трактат Абеляра о Троице и определила сжечь его по примеру арианских книг.
С падением католического авторитета в Лангедоке и Италии ересь усилилась до крайности. В Германии случаи ереси были одиночные, хотя костры с катарами пылали и в Кельне (1146 и 1163 годы) и в Бонне. В Альби папского легата еретики встретили шутовской процессией и оригинальной музыкой; они сидели на ослах и звонили в колокольчики. Только тридцать человек присутствовало на его мессе. Святой Бернар в 1147 году нашел церкви на Юге в запустении, а священников в презрении и ссылке.
Реймский собор 1157 года издал суровые постановления против еретиков; альбигойские духовные лица осуждались на вечное заточение, а их последователей было ведено клеймитъ раскаленным железом. Те подсудимые, которые хотели бы доказать свою невинность, должны были подвергнуться огненному испытанию (33). В позднейших столетиях это стало бычной инквизиционной практикой.
В Италии лучше знали мирские стремления и слабости римской курии, чем где-либо в Европе. Потому протест против светской власти священников начал зарождаться в самом Риме. Папа Адриан IV был изгнан. Десять лет владычествовал в Риме Арнольд Брешианский, ученик Абеляра. Но он был еретик. Император явился на помощь папе, и Арнольд погиб в пламени[27].
В Милане еретиков оказалось больше, чем католиков; городские власти, будучи патаренами, не позволяли принимать против них карательных мер. Сам архиепископ погиб в соборе во время проповеди, как думают, от руки еретиков (34). В Витербо все население приняло ересь, а в контраст тому благочестивые жители Сполето кричали во время битвы: «Смерть патаренам и гибеллинам!».[28] В Орвието одно время еретики даже овладели управлением, но в городских междоусобицах были побеждены католиками. Позже, там же, две женщины явились проповедницами ереси и снова увлекли многих. Они спаслись, но в 1163 году схватили их последователей и присудили кого к виселице, кого к изгнанию (35). Однако явился новый пророк и снова посеял ересь.
Во Флоренции ересь также сделалась знаменем политической партии с 1173 года; обыкновенно именно туда эмигрировали гонимые катары. Короче, в итальянских городах успех ереси и меры к ее подавлению определяют ход борьбы городских партий. Духовенство часто бывало просто бессильно. Все, что оно делало, делало урывками, приспосабливаясь к духу правительства, народа, курии, папы. Его действия были лишены системы.
Но в эти самые годы начинают появляться первые попытки к утверждению такой системы. Они начались с проповеди поголовного истребления. В 1179 году на третьем латеранском соборе, созванном папой Александром III (тем самым, который таки победил непобедимого Барбароссу) по поводу провансальских дел, между прочим было сказа но, что хотя Церковь, по мысли папы Льва Святого, отвергает употребление кровавых мер против еретиков, но все же она не должна отказываться от того содействия, которое стали бы оказывать ей светские государи для нака зания еретиков, ибо страх наказания может служить спа сительным лекарством для души, как думал святой Августин. Потому папа и собор, как бы упреждая последствия своего решения, постановили отлучить теперь же всех еретиков и их защитников. У католиков прерываются с ними всякие сношения; свободные от своих обязательств и клятв, они могут поднять оружие против них; им обещано было полное прощение грехов. Синьоры могли обращать в рабство своих вассалов и овладевать их имуществом, если последние были еретики.
Папа давал индульгенции на два года тем верующим, которые поднимут оружие против еретиков, предоставляя им грешить это время; епископы могли увеличивать этот срок по своему разумению. Погибшие в той войне заранее получили привилегию быть разрешенными от своих грехов на Страшном Суде. Воители и каратели ереси нашивали на свои одежды тот же крест, как те воины, которые шли на мусульман. Защитники Церкви, те и другие, были под одинаковым ее покровительством (36).
Крестовая война с еретиками была в сущности политическим завершением развития идеи нетерпимости. С того момента, как нетерпимость чужого мнения была признана необходимостью для существования Римской Церкви, когда жгли даже книги Абеляра, ей оставалось увенчать эту идею войной. Запад делился по религиозным убеждениям на две стороны; жребию оружия было предоставлено решить правоту той и другой. К тому же в умах людей и правителей тогда созрело понятие о необходимости вмешательства светской власти в дела совести. Приводили обыкновенно четыре довода, странные теперь для нас, но весьма убедительные для людей того времени. Они опирались на историю и на пропаганду католицизма. Во-первых, всякое правительство обязано предупредить раздоры, междоусобия и беспорядки, которые почти всегда порождают в государствах религиозные несогласия. Во-вторых, христианский государь должен блюсти за чистотой веры, следовательно, не относиться к ней с позорным равнодушием, а устранять еретическую заразу и даже неправильные толкования религии и ее обрядов, наконец, неуважение ее, с той же энергией и теми же мерами, как если бы все это было нарушением государственных законов. В-третьих, если закон преследует поношение величества и оскорбление государства, то не следует ли с гораздо большей карой относиться к тем, кто поносит и оскорбляет Бога и святую веру, ибо Божие величество бесконечно выше императорского и королевского. В-четвертых, благотворная строгость законов против еретиков и разнообразные наказания против них служат побудительной мерой для того, чтобы они обратились к Церкви и познали истину; без того, может ть, они никогда не оставят своих убеждений.
Известно, что первые походы, предпринятые на Лангедок кардиналом Генрихом, епископом Альби, во главе значительной армии, не достигли цели. Еретики между тем владели целыми городами в Италии, на глазах папы. Когла Луций III, прогнанный римлянами в 1184 году, думал наши прибежище в Вероне, то увидел этот город переполненным патаренами. С ним прибыли все кардиналы курии, сюда же съехалось множество прелатов. Это нисколько не обеспокоило еретиков. Папа воспользовался случаем открыл, собор. Здесь-то и была сделана попытка возложить на дух о венство чисто полицейские обязанности. Епископы дол ж ны были два раза в год объезжать свои епархии, высматри вать еретиков, в городах и деревнях, брать присягу с зажиточных лиц в том, что они будут доносить на тех, которые будут чем-либо заподозрены в исполнении требований. Все эти обязанности епископы могут возлагать на архидиаконов и на надежных священников. Уличенных в ереси веле ли предавать светскому суду для казни; вместе с тем светской власти предписывалось точное и неуклонное содействие к разысканию еретиков, князьям под страхом отлучения и лишения земель, городам — под страхом лишения их привилегий.
Если в широком смысле инквизиция давно уже существовала как фактическое выражение религиозной нетерпимости, то как систематическое учреждение она в 1184 голу еще не получила общих очертаний своей организации. Луций III предоставил полицейские обязанности епископам, тогда как в основании инквизиции лежит фактическое отстранение епископов. Формы судопроизводства тогда так же нисколько не определились.
В Италии светская власть пришла на помощь папству. Гибеллины заключили союз с гвельфами. Император Генрих VI велел издать грозный эдикт против еретиков; он обрекал их поголовно на заточение и лишение имущества, а жилища их, как оскверненные, на уничтожение. Итальянским изгнанникам оставалось спасаться в свободной флорентийской земле. Но в Лангедоке до походов Симона Монфора ересь процветала.
Иннокентий III первый понял, что епископы, получавшие перстень от Раймонда Тулузского, — плохие помощники в деле подавления ереси, покровительствуемой их государем. Поставленные в некоторую зависимость от светской аристократии Лангедока, родом провансальцы, они не могли в точности исполнять постановлений веронского собора. Поэтому Иннокентий отправил в Лангедок двух легатов и двенадцать проповедников. Странно было бы видеть в этой «частной компании» начало инквизиции. Не только отсутствием организации, но и способом своих действий она не походила на то, что разумеют под именем инквизиционного трибунала. История не имеет никакого права предвосхищать затаенные мысли исторического лица и уверять, например, что Иннокентий III разделял в душе то, что создали его преемники. Мы не знаем, что он думал, а знаем только то, что он делал и чего не делал.
Иннокентий III не участвовал в создании инквизиционного трибунала. Соборные каноны, им предложенные и утвержденные, так обильно расточавшие анафемы и отвергавшие еретика из общества людского, согласно правилам и практике католицизма, представляли собой лишь совокупность всего, что дала история Римской Церкви, воспитанной со дня своего рождения в духе нетерпимости.
В тесной связи с этим ложным взглядом находится другой, по которому Доминику приписывалась и теперь часто приписывается роль первого инквизитора. Доминик начал действовать при Иннокентии III; если последний изобрел инквизицию, то, конечно, Доминик был первым из инквизиторов. Самые противоположные между собой историки сходятся в последней мысли, рано занесенной из поля полемики в учебники и справочные книги. Но лишь в буллах Сикста V по поводу канонизации инквизитора и мученика Петра Доминик был назван курией основателем инквизиции. Дело в том, что этот документ, опоздавший на столетие, не может иметь серьезного значения. Под влиянием историко-оптического обмана дела посредственных католиков перенесены на знаменитых предков.
В действительности мы имеем два документа о деятельности Доминика. Оба они в позднейших копиях. В первом от 1209 году Доминик предписывает меры покаяния обращенному еретику Понсу Роже, объявляя себя простым исполнителем воли легата Арнольда. В другом, от 1214 или 1215 года, он позволяет бывшему еретику носить одежду кающегося, до прибытия кардинала Петра Беневентского (37).
Из одного этого уже видно, что Доминик не имел ровно никакого самостоятельного положения в Лангедоке, что он всегда оставался частным проповедником и подвижником. Он был уполномочен легатами налагать церковные епитимьи и исполнял это дело с замечательной пунктуальностью, доходившей до комизма, в чем, вроятно, не уступали ему и остальные одиннадцать проповедников, между которыми он титуловал себя «малейшим». Вся разница в том, что от последних не дошло никаких документов. Оттого они и не удостоились занять почетного места во главе списка великих инквизиторов, всецело предоставленного одному Доминику, тогда как все его инквизиторство заключалось в том, что он гонял под розгами голых обращенных, что делали всегда и папы, и легаты, и прелаты.
Чтобы фактически и документально разъяснить этот вопрос, важный для начала инквизиции, мы приведем обе упомянутые грамоты Доминика.
«В силу власти, данной аббату Сито, — говорит он в первой из них, — легату апостольского престола, которого мы служим представителем, мы возвратили в лоно Церкви предъявителя сей грамоты, Понса Роже, оставившего по милости Божией секту еретиков. Так как он дал нам клятву исполнять наши приказания, то мы велели ему три следующие воскресенья являться в церковь, причем священник, обнажив его, будет бить розгами на всем расстоянии оч городских ворот до церкви. Для покаяния мы налагаем на него на всю жизнь пост и запрещаем ему есть мясо, яйца, сыр и всякую животную пищу, исключая дней Пасхи, Тро ицы и Рождества, в которые он может есть все; в знак отвращения от своей прежней ереси, три поста в году он должен воздерживаться даже от рыбы; три раза в неделю, пока жив, воздерживаться от рыбы и вина, допуская облегчение только в случае болезни и изнурительных работ. Он должен будет носить церковное платье и по покрою и по цвету, с двумя маленькими крестами, нашитыми на груди. Всякий день он будет слушать мессу, если то окажется возможным, а по праздникам и воскресеньям— вечерню. Он в точности должен исполнять утренние и вечерние правила, читать "Отче наш" семь раз утром, десять раз ве чером и двадцать в полночь, жить целомудренно и на стоящую грамоту вручить своему приходскому священнику (в местечке Церера), которому приказываем наблюдать за поведением Роже. Понс Роже должен исполнять в точности все, что ему предписано, до тех пор, пока господин легат не изъявит своей воли. Если же означенный Понс того исполнять не будет, то мы приказываем смотреть на него как на клятвопреступника, еретика, отлученного и удалить его от общества верных».
Документ этот важен тем, что послужил кодексом сип тимий за ересь, которого рабски держались в трибуналах инквизиции, считая его писанным едва ли не перстом Божиим. Что такие грамоты раздавались всем обращенным и всеми «апостолами», это не подлежит сомнению, так как они писались по одному рецепту, освященному практикой Церкви.
В другой грамоте Доминика, где он называет себя «смиренным деятелем проповеди», дается, напротив, облегчение епитимьи.
«Сим извещаем всех, что мы дозволили Раймонду Вильгельму Альтарипе носить дома такое же платье, как и все христиане, так же как и Вильгельму Угунье, который, как нам известно, продолжает носить одежды обращенных еретиков. Эта мера продолжится до тех пор, пока господин кардинал прикажет иначе, нам или Раймонду. Прибавляем, что это распоряжение не должно причинять Вильгельму никакого бесчестия или ущерба».
Тогда Доминик уже имел многих последователей и жил в Тулузе в монастыре Петра Челлани. Он собирался идти в Рим просить разрешения основать новый орден проповедников. Громадный авторитет, который он тогда приобрел между католиками Лангедока своими трудами в обращении еретиков, связи со всеми прелатами, покровительство архиепископа Арнольда, благоговейная дружба к нему Симона Монфора и епископа Фулькона дали ему некоторое фактическое право наблюдать за еретиками и обращенными. Но что никто не уполномочил его на то, видно из слов грамот. Самое обращение и епитимья названных лиц могли принадлежать ему, и тогда он мог произвольно изменять ее силу и качество.
Известно, что двадцать второго декабря 1218 года Доминик получил от Григория III разрешение основать два обшества — мужское и женское. Последнее фактически существовало еще с 1206 года в Пруллианском монастыре. Доминиканкам должно было вести иноческую жизнь и молить Бога за торжество католической веры и за искоренение ереси. В следующем году приор Доминик и его последователи получают благодарственное послание от папы за свою деятельность. Гонорий просил их при этом неустанно проповедовать слово Божие, так как не борьба, а результат венчает дело. Здесь нет ничего обрекающего новое братство на инквизиторскую обязанность, напротив, ему предписывалось «страдание за веру и готовность умереть за дело проповеди».
Доминик посылал своих монахов в Испанию, Италию, но не для кары, а для убеждения. Известно, что ему же приписывается основание частного общества, назвавшегося «милицией Христовой» и посвятившего себя уже не духовной, а физической борьбе с ересью. Оно состояло из мужчин и женщин, благочестивых и горячих к вере католиков, разных сословий и состояний; их не могло не волновать то, что еретики в последнее время сильно оскорбляли и поносили Церковь и католическое духовенство; они видели это оскорбительное для них унижение священников, но, не понимая причины, полагали, что могут отстраним, ее физической силой. Мужчины предложили свой меч дли услуг духовенству, а женщины свои владения и деньги. Та кая наклонность к решительной борьбе с ересью прояви лась в Лангедоке еще раньше организаторских действии Доминика. Доминик только стал центром этого движении; его имя придавало силу обществу «воинов» и увеличивало его численность.
В «милиции Христовой» долго не было никакого устава. Но оно быстро распространилось под покровительством Доминика в Лангедоке и Италии. В этой организации не требовалось от ее членов соблюдения тех тяжелых условий, которые были необходимы для доминиканцев. Она держалось преданиями и обычаями. Одним словом, это была частная ассоциация. Членами были семейные люди, но овдовевшие; они отказывались от вступления в новый брак. Доминик дозволял им носить на их светских платьях крест; допускалось только два цвета одежды: белый и черный; они обязаны были дома ежедневно читать часослов. Они стали как бы хранителями веры в городах и в военное, и в мирное время. Мужчины носили оружие. Большая часть их сражалась под знаменами Монфоров и королей французских. Но это оружие дало необоснованный повод думать позднейшим историкам, будто они исполняли должность инквизиторов. Дело в том, что история этого общества весьма смутная и темная; свет на нее пролился только исследованием Раймонда Капуанского, двадцать второго магистра доминиканского ордена. Он доказал, что, когда инквизиция открыла свой трибунал, уже не существовало «Милиции Христовой». Братство видело, что цели их общества достигнуты друши путем— вмешательством королевской власти. Ересь быи подавлена, теперь с еретиками не сражались, а их ловили и судили. Тогда воинственное братство спрятало свои мечи; оно стало сражаться уже не с еретиками, а с самим собой, своими греховными страстями, стремясь «очиститься покаянием».
Потому общество изменило свое название: с 1234 года оно назвалось «третьим орденом покаяния», и в 1285 году Заморра написал устав ордена (38) для братьев и сестер, существующий и по сие время. Его члены могли жить в монастыре и в частных домах; по характеру своей жизни они немногим отличались от мирян. Это общество даже умнейшие из старых церковных историков часто смешивали с третьим орденом покаяния святого Франциска, который просто назывался в бумагах «fratres de Poenitentia», так как оба братства пользовались сходным уставом, одинаковыми привилегиями, одинаково, по папскому разрешению, избавлялись от платежей, налогов и десятин.
Итак, ввиду имеющихся документов история не имеет основания считать инквизитором основателя проповеднического ордена. Ей пришлось бы, задавшись подобными целями, вращаться в области фантазий, предположений и вымыслов. Радикальное изменение во внутреннем характере доминиканского братства, которое стало позже главным агитатором инквизиции, представителем принципа насилия, которое взяло на себя несвойственную обязанность судей, цензоров, даже доносчиков, шпионов и палачей, не уполномочивает возлагать на знаменитого подвижника ответственность за извращение указанной им системы. Доминик был полным выражением внутреннего перерождения Западной Церкви. Пора отказаться от пристрастий и ненависти, усвоенных давностью. Доминик думал об убеждении словом, а его фанатичные ученики, скудные духовными дарами и насквозь пропитанные традиционной римской нетерпимостью, мечтали о каре огнем и мечом.
Миродержавный Рим из глубины веков как бы заражал своим стремлением к единообразию в области религиозной и государственной те элементы, которые были призваны впоследствии участвовать в исторической жизни. Люди самых свободных воззрений на дело совести приобретали новую, противоположную закалку, когда им приходилось познакомиться с тем взглядом на вопросы, которые выходили из Латерана.
Законы Фридриха II против еретиков и Римские законы против патаренов 1231 года
Молодой германский император, внук Фридриха Барбароссы, был питомцем Иннокентия III. В бытность свою сицилийским королем, с годов детства и юности, он привык видеть себя под надзором духовенства. Кардинал Ченчио Савелли, он же впоследствии Гонорий III, пребывая легатом в Сицилии, издавна находился в близких отношениях к Фридриху. Под его руководством будущий император получил разностороннее для того времени образование. Он далеко не отличался клерикальным характером, хотя был верен духовенству; Фридрих с признательностью называет своих учителей «наши кормильцы». Должно заметить, что Иннокентий III и легат не стесняли развитие его духа, даже позволяли проводить время в обществе арабских ученых, которые познакомили его со своим языком, философией и религией. Фридрих II, став королем, приступил к делу правления с горячей энергией, с запасом новых идей. Эти-то идеи и дают трагическое значение его исторической личности; они осветили его особенным симпатичным блеском, но ему самому принесли одни несчастья, гонения и горькое сознание напрасно растраченных сил.
Природа щедро наделила Фридриха богатыми дарованиями; как государственный человек, он далеко опередил свою эпоху и занимает в XIII столетии в этом отношении одинокое место. Современники во многом не понимали его и не могли ему сочувствовать, но что касается его взглядов на религиозный вопрос, то здесь он ничем не выделялся от окружающих. Были ли то впечатления детства, воспомина ния ли прежней дружбы, политический ли расчет, крутой ли от природы характер, способный с одинаковой силон проявлять себя и в добре, и в зле, только во всяком случае не искренние побуждения поставили Фридриха II Гогенштауфена в ряд гонителей свободы совести. Памятники не дают обстоятельных сведений о таком неуловимом вопро се, как личное религиозное настроение Фридриха в те годы, когда Гонорий III решился короновать его в Риме римским императором, после того как он был уже провозглашен и коронован в Германии. Его индифферентизм в делах веры, симпатия к магометанскому культу, тогда еще не были известны. Но подозрения в ереси, кощунстве и даже атеизме, которые десять лет спустя Церковь бросала ему и глаза, его явное пренебрежение к исполнению католических обязанностей — все то, что после приписывали Фридриху с более или менее достаточным основанием его вра ги, не могло проявиться внезапно в короткий промежуток времени.
Напротив, упомянутые явления коренились в условиях его воспитания, среды, в которой он получал первые вне чатления, его положении в качестве государя страны, значительная доля населения которой состояла из потомком арабов и греков, где мусульмане и евреи открыто совершали свои обряды и где катары и всякие еретики были весьма многочисленны в начале XIII столетия. Казалось бы. несомненно, что Фридрих, не будучи воспитан в католн ческой исключительности и впечатлительный по натуре, должен был с молодых лет относиться спокойно к различию религиозных культов и привыкнуть к терпимости. Тем хуже для него, если из порывов самовластия и непонп\ы ния своих истинных политических выгод он явился в обширных пределах империи гонителем того принципа, представителем которого был сам.
Как бы то ни было, но законы, принятые Фридрихом II, по своей суровости не уступают эдиктам Феодосиева кодекса. Император не только развязал руки католическому духовенству накануне открытия инквизиционных трибуналов, но дал ему сильную нравственную и физическую поддержку. Доказательством того, что на Фридрихе лежит тяжелая ответственность за пособничество введению инквизиции, служит то, что впоследствии, в 1243 году, Иннокентий IV не нашел ничего лучшего, как предписать пастве исполнение этих готовых законов. Папа прикрылся щитом императора и мог с притворной гуманностью сложить позор за изобретение бесчеловечных мер трибуналов на «атеиста и мусульманина». Политика римского императора послужила для Церкви удобным средством достигнуть одновременно двух важных целей: побудить светскую власть вступить в борьбу с магометанами и приступить к истреблению еретиков. При этом имелось в виду оградить личные интересы духовенства.
Тотчас после обряда, совершенного двадцать второго ноября 1220 года, Фридрих II принял крест из рук кардинала Уголино, будущего папы Иннокентия IV, обещая через полгода лично выступить в поход, и тут же, не выходя из храма, подписал эдикт, составленный по указанию папы и имевший целью обезопасить духовенство и Церковь от всех врагов в Империи. Тогда же папа, с высоты престола, произнес анафему против еретиков обоего пола, их укрывателей и защитников. Еретикам полагались следующие наказания: за издание статутов против так называемой свободы Церкви, то есть в сущности ограничивавших свободу злоупотреблений этой Церкви, — бесчестие и уничтожение таких распоряжений, а через год императорское преследование и передача владений в другие руки. Ущерб, нанесенный духовному лицу, должен быть вознагражден втрое. Привлечение духовного лица к светскому суду, по гражданскому или уголовному делу, угрожает обвинителю потерей всех прав, а судье лишением места. Далее идут законы против еретиков. Катары, сперонисты, леонисты, арнольдисты и другие еретики объявлялись бесчестными, бесправными перед законом и изгнанными; их имущества конфисковывались; их дети лишались права наследства.
Вместе с тем этим императорским законом подтверждались в шести пунктах все постановления латеранского собора против еретиков (39). В конце грамоты Гонорий III писал, между прочим, от себя: «Если кто в дерзости своей, по внушению врага рода человеческого, осмелится преступить сие в чем-либо, то пусть знает, что тем навлечет на себя негодование Всемогущего Бога, а также блаженных апостолов Петра и Павла».
Фридрих при всей личной гуманности, какую обнаруживал позже относительно сарацин, этим эдиктом задержал дальнейшее развитие ереси в обширных пределах, подчиненных его влиянию. Он ограничил ее одной Францией, точнее Лангедоком, где кипела тогда горячая борьба. Напрасно думать, что его личные убеждения служили гарантией свободы совести. Вместе с честолюбием он наследовал от Гогенштауфенов родовую черту их характера — стремление к насилию, неразлучное с крутостью нрава, которой славился его отец. Своей жестокостью он не раз напоминал Генриха VI. Свободу самостоятельных отношений к религии и право смеяться над догматом он предоставлял лишь себе и строго возбранял своим под данным всякое свободное проявление религиозных убеж дений. Он был другим, когда обстоятельства поставили его во враждебные отношения с папами. Он пытал и мучил тех духовных лиц, благоговение к которым пред писывал несколько раньше.
Руководимый этими побуждениями, четыре года спустя, поскольку все еще многочисленные патарены суще ствовали в Италии, Фридрих уже по собственной и ни циативе издает против этих людей законы, достойные Нерона. Ирония истории заставила полуатеиста соста вить кодекс жестоких наказаний за преступления протии веры. Непосредственным побуждением к их изданию служило желание Фридриха чем-нибудь вознаградим. Церковь за неисполнение обещанного им похода в Палестину, к идее которого относился не без внутреннего отвращения. Он справедливо рассчитывал более выгадать для Европы дипломатическим путем и с большим тактом выжидал разгара и исхода междоусобий, которые тогда охватили мусульманский мир от Гибралтара до Вавилона. Между тем в каждом послании папа напоминал ему об обещании.
В начале 1224 года магистр Тевтонского ордена Герман прибыл из Палестины в Палермо, любимую резиденцию Фридриха, и, в ярких красках представив унижение христианских владений в Палестине, вновь возбудил в нем мысль о походе. Печальные вести, приходившие из Палестины, волновали души всех ревностных католиков; император должен был удовлетворить общественное мнение. Он назначил отъезд в Германию, а оттуда в Палестину, но дела с сицилийскими сарацинами опять удержали его. Тогда он, поручив Герману ехать в Рим, и желая в то же время успокоить Церковь относительно ереси, написал свои конституции против еретиков. Несомненно, что он приблизил инквизицию, дав ей средства к существованию и узаконив ее идею. Других его побуждений мы не знаем.
Император давал знать всем духовным и светским судьям и должностным лицам, что еретики, как «змеиные сыны вероломства, дерзающие оскорблять Бога и Церковь, как бы изгрызая тем утробу матери своей», должны быть предаваемы судам и юстиции. Он высказывает общее убеждение, что таких людей не должно оставлять живыми. Всякие еретики, где бы они ни были осуждены Церковью, должны быть этими судьями преданы наказанию, сообразно их преступлению. Те, которые лишь из страха смерти присоединятся к Церкви, будут присуждены к покаянию по каноническим постановлениям и к пожизненному заключению, в котором они удобно могут совершить это покаяние. Если в каком-либо месте империи будут выявлены еретики, то инквизиторы, назначенные апостольским престолом, и другие православные ревнители (40) могут заставить судей схватить их и держать в крепком заточении до тех пор, пока, отлученные Церковью, они не будут осуждены и казнены. Все лица, имеющие какую-либо власть в округе, со своей стороны должны указывать упомянутым инквизиторам на подозрительных; те, кто оказывает покровительство и поддержку еретикам, также подвергаются смертной казни, а равно и те, которые к тому лукаво подстрекают других, подготавливая таким образом защитников ереси. Такой же смертной казни подлежат и те, кто раньше отреклись от ереси, но после, сохранив жизнь, опять впали в нее.
Император велел строго следить за теми, которые, будучи возвращены в лоно Церкви, выселяются в другие места, дабы там они не разлили яд заразы, и дозволять им это переселение после получения свидетельства в их надежности. Он изъявил свою волю, чтобы во всех пределах империи существовала только одна истинная вера и чтобы ересь всеми мерами была искоренена. Если виновные в оскорблении величества наказываются в лице их самих и в лице их потомства, то тем справедливее поступать так против поносителей имени Божьего и разрушителей католической веры, с той разницей, что здесь наказание должно быть сильнее.
«Бог вымещает преступления отцов на детях» — так решил этот богослов в императорской порфире. Потому еретики отныне даже до второго колена лишаются своих владений и объявляются неспособными к занятию каких- либо общественных должностей. И они, и дети их немо гут пользоваться никакими почестями, хотя бы послед ние были сами по себе верными католиками; исключение делается только для тех детей, которые станут доносчиками на своих отцов. Далее Фридрих извещал, что он принимает под свое покровительство братьев-проповедников, которые отправлены в империю по делам веры против еретиков, а также всех, кто станет судить еретиков, будут ли они пребывать в одном городе или будут переходить т одного в другой. Он предписывал, чтобы все власти оказывали им всякое содействие и благосклонно принимали каждого из таких лиц, когда бы и кто бы из них ни обратился. Власти так же должны были защищать их личности от оскорблений еретиков и возможных покушений, давать им советы, указания и деньги ради соверше» ния дела, столь важного пред Господом. Арестовывая еретиков по их указанию, содержа их в тюрьмах, совершая над ними определения церковного суда, светская власть должна знать, что служит Богу, приносит пользу госу« дарству и заботится совокупно с этими братьями на, искоренением ереси.
«Если же кто окажется недеятельным и слабым в исполнении этой обязанности, следовательно, бесполезны относительно Господа, тот в глазах наших может оказаться виновным» (41).
Так заканчивался этот первый статут. Остальные, подписанные тем же 22 февраля 1224 года, содержат несущественные дополнения и пояснения к первому. Второй весь почти состоит из подбора бранных выражений на еретиков. Они были, впрочем, в духе времени; впоследствии теми же словами Фридрих щедро обменивался с папами, для которых так усердно работал сейчас. Но эта брань особенно странна в его устах.
Он объявлял, между прочим, что всякая ересь есть сударственное преступление. Он обязывал своих подданных быть шпионами и доносчиками; преступников также следовало испытывать в вере и после допроса в случае сомнения предавать в распоряжение духовных лиц. «Еретиков следует сжигать живыми в присутствии зрителей». За них запрещается ходатайствовать кому-либо пред императором под страхом опалы. Третий статут был не что иное, как IV канон латеранского собора. Четвертая конституции предназначалась преимущественно для Италии, потому могла быть издана несколько позднее: она вошла в знаменитую Конституцию королей Сицилии, этот замечательнейший юридический памятник XIII века. Здесь синьорам, подестам и консулам предписывается старательно следить за ересью, искать подозреваемых лиц. Если какой феодал окажется в этом деле неисполнительным, то через год лишается своей земли, которая отдается надежным католикам. Дома, где жили еретики и лица, сопричастные им, где они поучали и совершали свои обряды, повелевалось уничтожать и впредь не восстанавливать. Фридрих добавлял, что все отлученные по подозрению в ереси лишаются по прошествии года всех гражданских прав и покровительства законов; они оказывались в положение рабов, которые сами были бессильными и бесправными, а ими мог повелевать всякий.
Замечательно, что через пять лет Фридрих сам был обьявлен отлученным и проклят папой, и тоже по подозрению в ереси. То была расплата за его религиозное лицемерие, за желание служить в одно и то же время двум божествам. Мы старались обнаружить его побуждения. Для Фридриха II нельзя найти обыкновенных оправданий исторических лиц. Он не платил дань своему времени. Как человек близкий к гениальности, он сам руководил эпохой и указывал ей новые идеалы.
Издав грозные законы против врагов Церкви и фактически преследуя их, он в то же время своим поведением относительно Церкви сам становился в ряды ее врагов. Он страшил Церковь своим светским могуществом, велитчиной своих владений — от Балтийского моря до Средиземного, от Вислы до Роны. Его светский меч мог поспорить с духовным. Таким образом, столкнулись две страшные силы: одна— всерасполагающая Церковь, другая — материальное могущество императоров. Последнее грозило еще более усилиться вследствие честолюбия молодого государя.
Унитарные и завоевательные стремления Фридриха были громадны. Они развивались последовательно. Восстановить старое римское имя во всем его величии, овладеть всеми землями прежних Цезарей и сбросить с себя иго пап с их претензиями на светское господство — были мечты его лучших лет, мечты понятные, но не осуществимые для того века и его средств. Он со странным для его гения тщеславием иногда называл себя наместником Христа, а своего канцлера Петра делла Винье — апостолом, сына Конрада — божественным отпрыском крови Цезарей, а жену Констанцию — божественной матерью.
Рим понимал, что крестовый поход — только предлог к началу папско-императорской борьбы. Смертельная борьба должна была произойти потому, что она была завещана преданиями Григория VII и что наконец два лагеря получили к тому необходимые условия. Гонорий III, опираясь на обман Фридриха II, уже решился отлучить его от Церкви, но внезапная смерть остановила исполнение его намерения. Он передавал это заветное папское право своему энергичному преемнику, старшему Уголино, ко торый прежде был столь же другом Фридриха, как Доми ника и Франциска, а, надев тиару, стал заклятым врагом императора. Он не замедлил разразиться отлучением по чти в то самое время, когда император после первом неудачи вторично садился на корабль для отправления и Палестину (двадцать девятого сентября 1227 года).
Папа привел весьма основательные доводы против Фридриха: его видимое равнодушие к походу, нарушение решений верельского, флорентийского и сан-джерманс кого съездов, его бегство и притворную болезнь[29]. Император вознегодовал. Тот самый человек, который грозил костром еретикам за то, что они поносят Церковь и духовенство, теперь в окружном послании к христианскмм государям резко нападает на римские пороки и предсказывает Церкви «скорое разрушение». Через четыре года после своих церковных статутов он сам выдал прежних друзей.
«Уже не говорим, — замечает император, — о симонии и о множестве различных немыслимых в наше время поборов, которыми римский двор обременяет своих же духовных лиц. Не скажем ничего, как эти духовные явно и тайно занимаются ремеслом ростовщиков, которое до них было неизвестно миру и которое так портит мир. Речи их слаще меда и нежнее масла... ненасытные кровопийцы» (42). Тут он указал Европе на Раймонда Тулузского, тогда боровшеюся в последней агонии с чужеземным завоеванием, «с которого курия не снимет отлучения, пока не обратит в рабское подчинение».
Каково бы ни было озлобление императора, оно нисколько не оправдывает желания папы всячески вредить предводительствуемым им крестоносцам, погубить и даже изменнически убить Фридриха II на Иордане, во время его пилигримства, как записано в одной летописи, — факт, весьма характерный для духовенства того времени (43).
Десятилетнее перемирие, заключенное Фридрихом с египетским султаном, довольно выгодное для христианства[30], подверглось злобному порицанию первосвященника, «свирепевшего более и более». Но для борьбы за идею необходима поддержка, если не в средствах, то в общественном мнении. А существенная историческая заслуга Фридриха II в том и состояла, что он своим обращением к Европе создал эту силу и на первый раз склонил ее к себе. Личное озлобление Григория IX было слишком заметно, так как нельзя было затмить услуг императора крестовому делу. Симпатия преобладала на стороне Гогенштауфена. Папа принужден был уступить; он изъявил келание войти в переговоры. Фридрих тоже искал прощения и снятия отлучения для осуществления своих новаторских планов.
Противники увиделись первого сентября 1230 года, три дня беседовали и вновь заключили в Сан-Джермано письменный договор. Здесь Фридрих не имел желания указать на возможность иной политики относительно ереси. Инквизиция уже была решена в уме папы. Фридрих же объявил себя его сыном, составляющим с ним чуть ли не единое существо. Тяжелой иронией отзывались слова императора, что «тучи миновали и солнце снова занялось над христианским миром».
Лучи этого солнца прорезались для многих тысяч провансальцев того времени смертельными ударами молнии. Духовенство усаживало их по тюрьмам и тянуло к допросу, а после него благословляло и вело к костру. С 1229 года, под шум борьбы папы и императора, инквизиция уже фактически существовала; ее система была оформлена на тулузском соборе. Мы указали на этот важный момент в первой главе этого тома. Но ей недоставало папской санкции. Начало истории инквизиции скрывается, таким образом, не столько в документах, сколько в обычае. Документы только узаконивали ее, но и они не замедлили появиться.
Около 1231 года ересь имела неосторожность проявиться в Риме. Курия всполошилась. Папа вышел из себя. Буллой 1231 года Григорий IX подтвердил все прежние папские и императорские постановления против еретиков и предписал усилить карательные и предупредительные меры. Он велел выкидывать из могил трупы еретиков. На мирян легло запрещение вступать в богословские рассуждения друг с другом под страхом отлучения (44). Эта булла была подтверждена Иннокентием IV, Александром IV, Николаем III и внесена в канон «О еретиках», но и в ней пока ничего не говорилось об учреждении инквизиционных судов. Однако за них уже хлопочет тогда перед папою его приближенный, ученый юрист Раймонд де Пеньяфорте, принадлежавший к доминиканскому ордену. Римский сенат, слабый отпрыск своих державных предков, поспешил тотчас же, со своей стороны, распорядиться об уничтожении ереси.
Плебисцит 1231 года издан от имени сената и народа. Всякий сенатор должен был делать распоряжение об аресте еретиков, по указанию «назначенных Церковью инквизиторов и других мужей католиков», предавать их церковному суду и через восемь дней исполнять приговор (45). Имущество осужденных в тот же срок описывалось. Оно дели лось на три части: одна доставалась донесшему на еретика, другая — сенатору, третья шла на постройку и поправку городских стен. Всякий из горожан, кто знал про еретика и не представил его, подлежал штрафу в двадцать ливров, и в случай неуплаты объявлялся бесчестным, пока чем-либо не заслужит прощения. Кто укроет еретика или окажет ему какое-либо покровительство, а тем более защиту, тот ли шалея третьей части имущества. Каждый сенатор перед вступлением своим в должность обязан давать присягу и исполнении законов против ереси; отказываясь от того, он лишил бы все свои акты законной силы, и никто не дол жен ему повиноваться. Если бы впоследствии он и согла сился на требуемое, то все-таки считается клятвопреступником и лишается права занимать какую-либо должное п., хотя должен внести штраф в двести марок (46).
Григорий IX удовольствовался этими законами. Сравни вая их с постановлениями Фридриха II, нельзя не заметить их относительной мягкости, сразу видно, что их пн сало перо людей, понимавших смысл свободы, — для еретиков была возможность свободно оставить Рим на плачах христианского первосвященника. Тем не менее папа реки мендовал их для исполнения архиепископу миланскому и прелатам Лангедока.
Это некоторым образом задело самолюбие Фридриха II. Он желал превзойти римских сенаторов; это ему было нетрудно, стоило только возобновить свои прежние указы. Но тем он не ограничился. В 1231 году император издал новый закон, который грозил новой карою еретикам и по некоторым причинам не был принят даже самой инкип зицией.
«Так как мы, — писал он своему наместнику в Ломбардии, архиепископу магдебургскому, — самим Богом поставлены в хранители и защитники церковного спокойствия во вверенной нашему правлению Империи, то неужели мы можем терпеть в справедливом и искреннем удивлении, как растет вражеская ересь и позор в самом Ломбардии, в которой многие безнаказанно хулят Церковь и веру католическую? Или мы должны притвориться, или будем небрежно слушать, как нечестивые хулят Христа и веру, и не выйдем из своего спокойствия? Конечно, Бог уличит нас в неблагодарности и небрежении. Он, который дал против врагов его веры меч материальный и всю полноту власти... и потому, ревнуя быть достойным того, настоящим эдиктом нашим ненарушимо постановляем во всей Ломбардии, что если кто городским начальством или диоцезным, на месте своего проживания, после основательного испытания, будет открыто уличен в ереси и осужден как еретик, то подестой ли, собранием ли, или просто католическими мужами города диоцеза должен быть немедленно поставлен перед начальником и нашим именем присужден к огненной казни и сожжен в пламени, или если признают возможным оставить ему жалкую жизнь в пример прочим, то вырвать ему язык, дабы он не мог впредь кощунствовать на католическую веру и имя Господне».
Император повелевал наместнику распорядиться обнародованием этого закона по всей Ломбардии, а всем властям исполнять его под страхом изгнания (47). Таким образом, всякий мог врываться в чужой дом, отыскивать что ему нужно и в случае удачи подвергать жилище и имущество конфискации. Все это стало для Милана печальной действительностью.
На этот раз Фридрих II делает попытку захватить суд над еретиками в свои собственные руки, вручив его своим наместникам. Тогда он смотрел на еретиков с точки зрения римских императоров — как на мятежников против власти, как на нарушителей спокойствия. При этом он далеко не был чужд идеи подчинения Церкви государству, которая была существенной причиной его борьбы с папами, грозившей возобновиться в этот самый год. Григорий IX благодарил императора за его ревность, за меры подавления ереси в Неаполе, но отрезание языков не вошло в практику его духовных судов.
Начало доминиканской инквизиции и повсеместные восстания против трибуналов
Мы дошли, таким образом, до того момента, когда инквизиционное преследование, по идее присущее Римской Церкви с самого ее начала, но проявлявшееся лишь случайными порывами, одобряемое то конунгами, то императорами, то папами, то соборами, получившее в 1229 году особый юридический тип в его производстве, до тех пор исполняемое епископами, готовилось стать обязанностью особых полицейских лиц, набранных из духовенства. Эта мысль всецело принадлежит Григорию IX и его любимцу, доминиканцу Раймонду де Пеньяфорте. Оба они были фанатиками своей веры, и оба были друзьями Доминика; они воспитались в духе той реакции, которая чудесно охватила весь католический мир и осо бенно духовное его сословие в первую четверть XIII века, благодаря примеру и замечательно самоотверженной деятельности Доминика и Франциска. Оба они носили в себе иные идеалы Церкви. Для достижения их хороши были все средства, и между прочим то судопроизводство, которое было введено легатом Романом на тулузском соборе.
Но они видели из своего латеранского дворца, что на разных краях Запада ересь еще живет, несмотря на кос тры, строгие законы, изгнания, конфискации, отлучения князей. Они не без основания видели причину зла и епископах, которым множество разнообразных занятий и известная зависимость от государей не дозволяли сосредоточить особенное внимание на преследовании и суде еретиков. Иннокентий III также понимал это и с этой целью поручил дело ереси легатам. Но легаты были скорее духовными государями в обширных странах, чем чиновинками и сыщиками. Пеньяфорте искал последних и остановился на братьях своего ордена. Они принадлежали к числу образованнейшего духовенства; они имели большое влияние на высшее и городское общество; в их ряды вербовались замечательные таланты. Они в своей любви к делу Церкви напоминали фанатизм основателя их общества.
Молодой орден тогда уже имел до ста монастырей, щедро поддерживаемых дарами благотворительности. Доселе доминиканцы занимались проповедью и обращение еретиков. Пеньяфорте сделал из них судей, предписав им практику судопроизводства тулузского собора.
Григорий IX разделял эту мысль своего друга. Ему оставалось документом узаконить то, что и тут и там существовало на практике. Подлинник этой грамоты не сохранился; она не вошла в римские булларии и вообще малоизвестна. Поэтому точная дата начала инквизиции не может быть определена. Для одних она — явление слишком раннее, для других — слишком позднее. Привыкшие к факту преследования, и католические и протестантские историки мило интересовались этой датой и грамотой, упрочившей за доминиканцами инквизицию. Они склонны переносить эту дату на двадцать лет назад. Даже Рейнальди, официальный историк Римской Церкви, проглядел истинное начало инквизиции.
Действительно, важное в специальном историческом исследовании, оно теряет особенное значение при другой программе изложения. Но вообще вопрос о точном начале инквизиции самый темный и запутанный. Тем не менее мы старались и постараемся разрешить его на основе исторических фактов.
Инквизиция, повторяем, развилась незаметным путем. В силу того, что фактически она существовала всегда, и притом отражалась на многих весьма чувствительно, все позднейшие документы касательно ее организации и устройства имели лишь теоретическое значение. Она шла не из бумаг в жизнь, а обратно. Потому мы относительно долго рассказывали о ее первоначальном периоде. Мы хотели показать, каковы были корни этого учреждения, почему оно было так живуче, почему все деятели Римской Церкви, после отцов ее, сходились в сочувствии к нему, почему самые передовые люди эпохи только способствовали его торжеству. Мы не отличаем жертв первой инквизиции, эпохи собственно альбигойской (XIII столетия), от жертв нетерпимости вообще, где бы они ни были, потому что на исторический взгляд оба эти понятия сходны, потому что нисколько не легче было страдать прямо от грубой силы или от той же силы, лицемерно прикрытой законом.
Но что подразумевается под первой инквизицией? Этот термин выражает совокупность двух понятий: особого судопроизводства и участия в нем так называемых нищенствующих монахов. Самый принцип наказания, участие светской власти — все это вырабатывалось ранее той историей, течение которой мы пытались представить читателям. Первое понятие сделалось фактом в 1229 году; второе, особенно спорное, в 1233 году.
В рукописях королевского испанского архива, в сборнике документов католических соборов, имеется окружная булла Григория IX от 8 ноября 1235 года. В ней предлагается соблюдать относительно еретиков известные законы 1231 года, направленные против римских патаренов, и ввиду того, что доминиканцы особенно успешно ведут борьбу с еретиками, им предписывается исполнение буллы. При этом делается ссылка на бреве 20 мая 1233 года, обращенное к доминиканскому приору Ломбардской провинции, в которой действовали способнейшие из проповедников.
Надо было ожидать, что доминиканцы постараются сохранить это драгоценное для них бреве, в котором только они одни пред глазами всей Церкви призваны быть искоренителями ереси, не уничтоженной оружием крестоносцев Монфора и рыцарством Франции. Действительно, после тщетных поисков в фолиантах папских булл и церковных грамот, встречаем у доминиканского историка тулузского монастыря текст этого документа, правда, не совсем полный. Он начинается негодованием папы на дьявола, который заразил тулузские пределы.
«Не будучи достаточно сильны, — продолжает Григорий IX, — остановить такое поношение Создателя, но желая прекратить эту опасность гибели для душ заблудших, мы просим тебя, убеждаем и приказываем сим апостольским посланием, под страхом божественного суда, дабы ты тех из братьев, вверенных тебе, которые научены закону Господню и которых ты признаешь склонными к этому делу, разослал по разным сопредельным местам твоего надзора, дабы они поучали клир и народ общей проповедью, где сочтут ее удобной. Для основательного неполно ния этого дела они изберут себе разные местности и за и мутся с особенным старанием еретиками и отлученными Если виновные и отлученные, будучи допрошены, не за хотят вполне подчиниться приказаниям Церкви, то братья станут исполнять относительно их наши справедливые статуты против еретиков, направленные на укрывателей, защитников и покровителей еретиков, действуя, однако, и пределах этих статутов».
Те, кто, отрекшись от ереси, захотят обратиться к Церкви, могут получить общение и отпущение по церковным обрядам и воссоединиться с нею, если того заслуживают, смотря по степени их заблуждения и по статутам. Папа да вал двадцатидневную индульгенцию тем, кто будет при сутствовать при проповеди доминиканцев; самим же братьям-проповедникам, которые возьмутся за это дело, давал полную индульгенцию во всех грехах, в которых они принесут покаяние (48).
В то же время, и даже несколько раньше, французские прелаты получили от папы извещение о предпринимаемой им мере. Григорий IX понял, что делает решительный шаг, отнимая от епископов право, которым они весьма дорожили. Папа обошел этот щекотливый вопрос довольно искусно. Он постарался накинуть покров на сущность дела, представить его мягче и при этом задабривал, льстил прелатам, не желая из понятных расчетов поселить раздор в администрации Церкви накануне предстоявших ей усилий, требовавших непременного единодушия.
Но Пеньяфорте, начавший тогда составлять собрание церковных канонов и декретов, достаточно хорошо изучил их, чтобы допустить возможность мысли о каком-либо протесте или противодействии епископов, уже четыре столетия закабаленных наместником Христа. Но тем не менее булла написана ловко. Так как доминиканцы давно и успешно посвятили себя проповеди Слова Божия, особенно зротив еретиков, а епископы, погруженные в разнообразную деятельность, едва могут вздохнуть под тяжестью обременяющих их занятий, то папа, находя нужным, чтобы бремя их было разделено с другими, и указывая на пример Спасителя, который избрал не только двенадцать апостолов, но и семьдесят два ученика, послав их проповедовать по двое, — назначает доминиканцев действовать против ереси во Франции и прилежащих к ней провинциях. Епископам предлагалось благосклонно принять их, оказывать им помощь, давать советы и вообще относиться со всем вниманием, дабы они могли исполнить свое назначение, а папа мог достаточно и по заслугам оценить искреннюю ревность епископов (49).
Через месяц в Латеране были написаны подобные же сообщения баронам Франции и Аквитании, графу де Фуа, графу Раймонду VII и капитулу Тулузы. Но, совершив действие, Рим не придавал ему широкого значения. Он смотрел на него как на временное дело. Решительные буллы, обобщавшие инквизицию и заносившие ее навсегда в историю, последовали лишь в 1254 и 1261 годах.
Во всяком случае, с 1233 года могли открыться действительные специальные суды по делам ереси. Доминиканцы разъехались по всей Италии и Лангедоку. Их инквизиторы с папскими полномочиями в руках даже опередили лангедокских собратьев в Кастилии, Наварре, Арагоне, Португалии, Франции и Германии. Средоточием и опорой их действий были монастыри, к тому времени достаточно многочисленные.
Насколько можно достичь точности при отсутствии актов и по поздним данным, первый трибунал был устроен в испанском городке Лерида по распоряжению тамошнего епископа дона Бертрана и архиепископа арагонского дона Эспарраго (50). Есть известие, что новый архиепископ Вильгельм Монгриу испытывал сомнения относительно новых судов, спрашивал объяснения и что ему 30 апреля 1235 года Григорий IX послал инструкцию для инквизиторов, редактированную тем же Пеньяфорте. Она носила частный характер.
Но первые действия испанских доминиканцев оказались неудачны. В Каталонии, в городе Ургеле, в том же году, жители возмутились против инквизитора, монаха Петра, и убили его. Он скоро был причислен к святым, как мученик, а труп его по сие время покоится в кафедральном соборе города. Новый инквизитор Понс д'Эспира был отравлен еретиками в 1242 году.
В Лангедоке доминиканцы действовали осторожнее. Но и там трое человек также пострадали в эти годы от тайных убийц из Кордеса. Хотя Раймонд VII против воли оказывал инквизиторам всякое содействие, они не сразу открыли свои трибуналы, и первый раз протокол тулузского инк визиционного суда подписан 26 мая 1237 года. До сих пор постоянного трибунала не существовало, а если он и был, то о деятельности его мы можем судить только по трем случайным постановлениям.
Трудно было бы объяснить причину такой медленности, не зная истории провансальских альбигойцев. После каждого погрома тамошние катары вдруг исчезали. Часто и Тулузе, вчера едва не поголовно еретической, на другой день католическое духовенство не встречало сопротивления при исполнении своих треб. Погром 1229 года был самый ужасный: он одновременно уничтожил в стране национальность политическую и религиозную. Альбигойцы, в массе равнодушные к своей вере, не высказывались до тех пор, пока Лангедок не успокоился от военной бури и не поправил несколько своего материального благосостояния. Только тогда, в конце тридцатых годов XIII века, ересь стала выходить наружу, но она не была уже теперь знаменем оппозиции. Это было гонимое, но сердечное верование, которое во многих крепких натурах не могло изгладиться совершенно.
Теперь же преследование приобрело систематический, безжалостный характер. Доминиканская организация уничтожала всякую надежду на какое-либо снисхождение, сделку и отступление; она была направляема самыми энергичными людьми, основательно знавшими альбигойскую догматику, одинаково ненавидевшими и ересь и еретиков. Альбигойство, в ком оно не скользило, а действительно существовало, должно было скрываться; высказавшись, оно не только не могло победить таких искусных судей, но не могло и существовать. Ему оставалось только умереть.
И вот начинаются длинные ряды сентенций инквизиции, которые только в извлечении занимают десятки фолиантов Национальной библиотеки Франции и которыми мы займемся, когда завершим фактическое изложение истории инквизиции и когда проникнем в ее заседания.
Очерк инквизиционных распоряжений против еретиков Иннокентия IV и его преемников до Евгения IV
Начало существования инквизиции, как мы заметили ознаменовалось гибелью ее служителей. Это был не одиночный факт. Причина скрывалась в производстве процесса. Народ на всем Западе слишком привык к старым римским формам судопроизводства. Сама Церковь это понимала. В силу канонического права, при Иннокентии III и Гонории III, обвинительные процессы производились на основании римского кодекса, чем бы процесс ни возбуждался: донесением, следствием или розыском.
Еретики, как и прочие подсудимые, могли знать имена своих обвинителей и свидетелей, имели защитников и судились гласным судом. О тайном судопроизводстве не имели понятия вплоть до тулузского собора 1229 года.
Теперь же, в то время как душегубы, закоренелые преступники и отъявленные негодяи имели право защиты, заподозренные в ереси, без различия происхождения, лишались ее, отдаваясь полностью в руки судей, относившихся к ним заранее с затаенной ненавистью или, при самых пагоприятных условиях, с нерасположением. Отсюда уже оставался всего лишь шаг до пытки, как средства принудить обвиняемого согласиться с неизвестными и заочными свидетелями, часто подставными. Наказания, налагаемые доминиканскими инквизиторами, не были вначале особенно тяжелы, но одно изменение форм уголовного судопроизводства, сделанное ими так внезапно, было достаточным, чтобы вооружить против них население. Оно задевало самые дорогие права, и народ думал отстоять их, если убьет того или другого инквизитора. Прежде чем тулузские доминиканцы задумали открыть свой трибунал, они получили известие о гибели знаменитого немецкого инквизитора Конрада Марбургского. Эта весть, естественно, задержала открытие суда в Тулузе.
Конрад принадлежал к числу первых последователей Доминика. С 1214 года он своими проповедями в Германии пытается созвать дружины крестоносцев в поход на альбигойцев. Его ревность к делу была страстной; талант церковного красноречия замечательный. Его оригинальную речь слушали тысячи, и так как в городах не оказывалось достаточно обширных площадей и церквей, то Конрад уходил с народом в поля и там под открытым небом поучал и зажигал своими идеями сотни людей. Он обладал сильным влиянием на впечатлительные натуры. Ландграфиня тюрингская Елизавета именно ему обязана своим мистицизмом. Суровый аскет в душе и на деле, он не знал пощады к слабостям и увлечениям. Когда Елизавета умерла, он посвятил себя истреблению ереси. В 1222 году он сжег одного нераскаявшегося катара, приора Генриха Гослара.
В то время штедингеры во Фрисландии стали проявлять геройский дух оппозиции против Римской Церкви и феодализма; они отказывались платить десятину, воевали с князьями и прелатами, — и этого было довольно для Григория IX, чтобы уничтожить их[31]. Конрад был один из тех кому было поручено исполнить это решение. Он пришел в страну, когда князья и рыцари дрались с этими отважными поселянами. После войны он бывал во многих больших немецких городах. Богатые способности этого человека направлялись на преследование себе подобных. Всюду он приносил с собой проклятие и безжалостный суд. Попасться в его руки значило или проститься с жизнью, или навсегда опозорить себя.
Его примеру подражали прочие инквизиторы. Он прощал еретиков не за признание вины, а за донос на друзей; отказ грозил костром, приговор исполнялся в тот же день. Суд вершился быстро и беспощадно, не требуя признания и не разбирая звания подсудимых. В глазах его палачей все были равны. Он начал поселянами, а окон чил баронами.
Второпях, в этой «ревности не по разуму», он действительно сжег много знатных людей, и даже многих совер шенно напрасно. Апелляции не допускалось, так как не было защиты, а личные протесты не принимались. Архиепископы кельнский, трирский и майнцский пытались остановить его свирепость, но Конрад не только не слушал их, но, оскорбленный их вмешательством, объявил крестовый поход.
Неизвестно, чем бы окончилось это столкновение, если бы Конрад не пал от руки неизвестных убийц. Его убили 30 июня 1233 года люди, к которым он сам никогда не имел никакой жалости и терпение которых превзошло всякую меру (51). Марбург, а затем вся Германия радовались; освобожденные от тирана торжествовали. Поместный собор немецкого духовенства под впечатлением радости постановил прекратить инквизиционные следствия в Германии и закрыть трибуналы.
Но это не продолжалось и года. В 1235 году в бреве от 31 июля Григорий IX велел возобновить их и снова завести духовные суды по всей империи.
Для того чтобы поощрить доминиканцев, папа подтвердил канонизацию знаменитого основателя их ордена. Перед лицом всего католического мира, 3 июля 1234 года он снова и более торжественно заявил о великих заслугах Доминика, назвал его пастырем и вождем народа Божъего, свидетельствовал об его даре чудотворства, которое осталось присущим и его телу, и предписал включить усопшего в число святых, праздновать его память 4 августа, объявив при этом, что за посещение его гробницы дается индульгенция, прощение грехов всем верующим на один год (52). Все это должно было возвысить доминиканцев в глазах прочего духовенства, которое относилось к ним с понятной ревностью. Их опора и авторитет скрывались в обаянии все еще живых воспоминаний о Доминике, ходивших в народе, но для остального духовенства они оставались новыми, еще начинающими и неопытными деятелями.
Особенно были недовольны новой инквизицией епископы. Они оказывали ей глухую оппозицию. В этой оппозиции замечалась одна из причин трудности и медлительности введения инквизиции. К столкновению были поводы ке потому, что о новых правах, предоставленных доми-иканцам, не было оповещено официальным порядком, ак то бы следовало. Факт существовал, опираясь лишь на |астные документы, данные ломбардским, лангедокским испанским доминиканцам, но еще не прошел обыкно-внным порядком. Епископы, не имея формальной окруж-зй буллы, которую Рим все еще опасался издавать, мог-законно отстранять инквизиторов от исполнения их (ювых обязанностей. По канонам и преданиям духовный уд всецело принадлежал епископам. В новом распоряжении, в котором им предлагали молодых монахов, они вини деспотическое нарушение их прав и привилегий. Если пико было почтение к папскому престолу, то паствы не внее уважали и епископский сан, который влиял на них впосредственнее. С понятием о соборе как высшей власти ерковной и народной связывалось представление о высо-эм смысле этого сана, в действительности потерявшего Цвое прежнее значение.
Другое препятствие учреждению инквизиции заключаюсь в государственной власти. Нельзя было лишить свете-их судей их права участвовать в процессах еретиков, пра-I, утвержденного за ними последними законами Фрид-ха II и практикой всех государей. Светской власти при-цилось бы делиться с молодым орденом верховным пра-рм жизни и смерти, подобно тому как епископы дели-ясь с ним своим значением и привилегиями.
Встретив такую двойственную оппозицию, всякий дру-. папа, менее энергичный, отказался бы от риска сме-эго предприятия. Но не таков был Григорий IX и его друг Пеньяфорте, люди, никогда не отступавшие от раз поставленной задачи.
Пеньяфорте употребил все свое искусство, чтобы осуществить задуманную мысль, ловко провел новый корабль через все подводные скалы и крепко поставил его на якорь. Епископам внушили, что они ничего не теряют, что они имеют право судить совместно с инквизиторами, когда того пожелают. Их утешили игрушкой права, так как хорошо знали, что при многочисленности их занятий и их склонности к почестям, а не к действительным привилегиям они сами никогда не придут в суды. Они стали поэтому тенью судей, а вся сила, знание и право остались за инквизиторами, которые со временем могли совершенно их вытеснить и действовать не только вполне самовластно, но даже, как безапелляционное учреждение, независимо от римского престола. Что касается светской власти, то одной анафемы, которая безгранично расточалась папами в то время, было бы достаточно, чтобы заставить непокорных государей привести в исполнение всякую меру римского двора. Но, не пользуясь своим историческим могуществом, папство хотело с обоюдного согласия провести новую меру.
Светским судьям предоставили также мнимое участие в трибунале. Правительство и город назначали своих заседателей и других членов в трибунал, которые постепенно лишались всякого голоса в канонических делах, им малознакомых, и которые, опасаясь невольного, но легко возможного, перемещения на скамью подсудимых, должны были подтверждать приговоры инквизиторов. Третья часть конфискованных имуществ шла в вознаграждение за такую сделку правительству.
Преодолев эти препятствия, инквизиция встретила новые. Они заключались в отсутствии средств к существова нию трибуналов. Надо было платить светским судьям, содержать инквизиторов, тюрьмы, кормить пленников, с достаточной церемонией исполнять постановления инквизиции. Для этого придумывали разные источники, но, не желая нагружать народ новыми десятинами, сошлись на том, чтобы город содержал трибуналы на свой счет, а г. вознаграждение пользовался долей конфискаций и штрафов. Заручившись правом на существование, скоро став вполне самостоятельной, инквизиция через четыре столетия стала не только грозой тех же епископов, но и импера торов, и даже самого римского престола, который подчинила своему контролю. Она совершала безнаказанно всякие злодейства, потому что убеждение в ее силе и даже святости укоренилось в умах.
Она назвалась «Служба святого следствия». Уже первые восстания против нее окружили ее ореолом какого-то страдальчества за правду. Протест, который сопровождал ее первые, робкие шаги, происходил даже от самых ревностных католиков. Он вырывался как вопль негодования средневековой общины, которая видела, что теряет свои существенные привилегии, первой из которых было право всякой личности судиться гласным, более или менее гуманным и независимым судом. Впервые после введения христианства религия явилась для людей откровенным гнетом. Уничтожение ереси не могло искупить всего зла, какое приносил с собой этот чуждый, азиатский юридический принцип. Либеральные римские и германские формы суда успели пустить глубокие корни на Западе; вырвать их могли лишь после сопротивления и только авторитетом религии. Взрывы негодования проявились во всех странах и нельзя не подметить в них борьбы за старое право против нового. В пример можно привести историю Роберта Бугра.
Во Франции, Людовик IX принял под свое покровительство страшного доминиканца, инквизитора Роберта, прозванного позорным именем «Bougre»[32]. Его происхождение неизвестно, может быть, он действительно был из Болгарии. В 1215 году (по словам хроникера Альберика) он прибыл в Милан и был ревностным катаром и проповедником ереси. Двадцать лет жизни в Милане изменили его. Сквозь деятельность Доминика он не мог не подметить внутреннего обновления католической Церкви. Он сделал Доминика своим идеалом. Мы не знаем, по искреннему ли убеждению или ради выгод он отступил от ереси - первое вероятнее. Он вступил в общество доминиканцев. С всегдашней ревностью отступников он гнал своих прежних собратьев. Его знание ереси и красноречие приобрели ему большой авторитет между доминиканцами и сделали из него опаснейшего врага альбигойства. Ему поручили миссию во Фландрии и северной Франции около 1236 года. Там его неистовства не знали пределов. Отличаясь от природы жестоким характером, он теперь полностью оправдал возлагаемые на него ожидания. По выражению Матвея Парижского, он был и «обвинителем и палачом». Раз он присудил к костру сто восемьдесят три еретика в одном местечке в Шампани. Когда он в жестокости своей перешел всякую меру и все чаще и чаще стал жечь невинных ни в чем католиков, то из Рима решились напомнить ему об осторожности. Но он не унимался. Те полномочия, которые он имел сами собой увлекали сурового доминиканца. Его суд сделался судом сатрапа, руководимого какой-то бессмысленной ненавистью. Наконец папским распоряжением было велено посадить обезумевшего монаха в тюрьму, где он и закончил свою жизнь (53).
Подобные же факты случались в Италии. Во Флоренции ересь долго существовала безнаказанно. Там, по обычаю, первые два воскресенья рождественского поста архиепископ торжественно вразумлял приоров в церкви Санта-Мария-Новелла, чтобы они преследовали ересь и изгоняли еретиков, но безуспешно. Законы существовали им присягали, но ересь, по видимости задавленная в Лангедоке, только усиливалась во всей Тоскане и Ломбардии вплоть до тридцатых годов XIII столетия Альбигойский архиерей Филипп Патернон был задержан доминиканцами, но отрекшись для вида, получил свободу Вместе со своим помощником он стал действовать вновь Некоторые из его учеников страдали безумием. Так один проповедовал с закрытыми глазами, будто во сне он толковал, что часто бывает на небе около божественного престола вместе со своими товарищами. Новый архиепископ флорентийский, Ферабоски, принял более решительные меры. Он устроил инквизиционный трибунал в монастыре Санта-Мария-Новелла. Фра Руджеро де Калка-ньи, из купеческого семейства, был первым инквизитором. Город дал ему нотариуса и советников. В его руках дело пошло быстро — началось штрафами, кончилось казнями. Еретические проповедники бежали в Милан Там пока не было инквизиции. Один из допросов навел флорентийскую инквизицию на целую политико-религиозную ассоциацию. Ее приверженцы были кавалеры и дамы с аристократическими именами Барони, Пульче, Каваль канте, Убальдини... По политическим убеждениям они были гибеллины, считали себя не подлежащими судам флорентийским, имели свои собрания и за городом даже выстроили свою крепость, чтобы иметь возможность укрыться в случае преследований инквизиции.
Руджеро имел смелость схватить некоторых из них в том числе нескольких женщин из семейства Пульче и Поппи. На допросе Пульче смело говорила, что Христос не воплощался, что Дева Мария была не женщина, а один из ангелов, что в евхаристии нет тела и крови Христовой. Между тем Барони произвел нападение на тюрьму и освободил пленников. Флоренция разделилась на две партии, за инквизицию и против нее, вооруженные дружины той и другой стороны дрались между собой на улицах. Папа просил синьоров внушить горожанам уважение к закону. На помощь Руджеро был прислан из Милана тамошний инквизитор Петр Веронский. В молодые годы он был альбигоец, а в зрелых летах отрекся от ереси и стал, подобно Роберту, фанатичным доминиканцем. В Риме возлагали на него большие надежды и поручили ему инквизицию в Милане.
Прибыв в 1244 году во Флоренцию, он произвел фурор своими проповедями. На площади кафедрального собора не хватало места для желающих слушать его. Синьория, по его желанию, расширила площадь. Антиинквизиционная партия была побеждена народным оратором. Теперь он проявил также талант организации. Он создал во Флоренции несколько обществ, которые должны были охранять инквизицию. Много дворян вызвалось по очереди держать стражу около монастыря доминиканцев; другие должны были исполнять их распоряжения.
Это общество называлось «Священная милиция капитула Санта-Марии». Оно получило от Петра белое знамя с красным крестом, которое цело еще по сие время и хранится в Santa Maria Novella. В этом новом обществе Петр хотел воскресить доминиканскую «милицию». Тогда же появился во Флоренции орден слуг, который отдался инквицзиции и члены которого исполняли разные поручения и службы при инквизиторах. Вместе с тем усилились аресты и начались казни. Из процессов, большая часть которых еще не напечатана, не видно, чтобы инквизиторы прибегали к пыткам. Не желавших клясться они просто передавали в руки синьории.
Несколько дам из фамилии Поппи были казнены. Петр Руджеро привлекли к трибуналу и самих Барони, но те протестовали против суда, объявили его решения незаконными и бесчеловечными, апеллируя к императору. В те годы борьба между Фридрихом II и папою стала смертельною. Иннокентий IV, преемник Григория IX, этот злой гений Фридриха II, должен был бежать из Рима со всей курией. Император принял участие во флорентийских делах — так к смутам религиозным присоединились политические.
Императорский подеста во Флоренции, бергамец Пезаньола, приняв Барони под свое покровительство, в свою очередь, протестовал против постановлений инквизиции и велел выпустить заключенных на свободу. Здесь Фридрих II впервые встал на ту высоту, которая была достойна его гения. Он единственным из государей явился в этот момент благородным сторонником терпимости и защитником гонимых, хотя действовал таким образом не по искреннему влечению, а по политической необходимости.
Дело далеко не кончилось смелым поступком подесты. Оно от этого только разгорелось. Инквизиторы торжествен но отлучили Пезаньолу. Это вызвало еще больший раздор. Враги новых порядков встали на ноги; они опирались на императорские силы.
Раз, во время воскресной проповеди Петра, в кафедральный собор ворвались еретики, и началась свалка. Петр послал за своей милицией, а сам скрылся. Побоище перешло на площади Санта-Феличита и Треббио. Инквизиторская партия одержала в нем верх.
Когда же пришло известие из Лиона об анафеме императора и о том, что он лишен престола, то соперники инквизиторов должны были уступить, чтобы навсегда покориться силе, хотя и с болью в сердце. С 1245 года инквизиция восторжествовала и упрочилась во Флоренции. Петр возвратился в Милан.
Здесь его суровая энергия искала новой борьбы; он рассчитывал на новую победу. В его отсутствие в Милане появилась та же враждебная оппозиция против инквизиции и даже против религии, как и во Флоренции, хоти в городе было несколько доминиканцев. Еретики, соединившись с гибеллинами, наносили оскорбления Церкви, мешали богослужению, переворачивали кресты. Петр вновь открыл трибунал и для примера передал нескольких человек консулам для казни. Это подействовало, хот и не уничтожило жестокой вражды миланцев к их гонителю.
Пять лет продолжался этот террор. Что Петр в своем фанатизме переходил известные пределы, предоставленные инквизиторам, видно из следующего факта. В 1251 году, после кончины Фридриха II, начались политические волнения в ломбардских городах с видимым участием альбигойцев. Папа Иннокентий IV нашел необходимым послать Петра в Кремону, а в другие города и места Ломбардии — прочих доминиканцев, «для уничтожения еретической заразы». При этом папа делает некоторое поставление Петру. Он предоставляет действовать ему само стоятельно, но опираться и на епископский совет. Когда найдутся виновные и они после допроса не захотят повиноваться приказам Церкви, то против них, их соучастников и покровителей Петр, указав предварительно последствия их упорства и прибегнув к угрозам, должен поступать сообразно каноническим постановлениям, призвав против них, если то потребуется, содействие светской власти. Тех же, кто вполне и искренне отречется от ереси, он может принимать в лоно Церкви, согласно канонам, но посоветовавшись с епископом, наблюдая при том, чтобы не прокрались волки под наружностью агнцев.
Это ограничение епископской волей является поворотом назад; оно могло быть вызвано только крайней жестокостью и самовластием Петра, так как не применялось к другим инквизиторам. Города, общины, начальства, вельможи за сопротивление должны быть отлучены, и против них поручается начинать крестовый поход, как бы дело шло о завоевании святой Земли. В заключение папа предоставлял Петру раздать по его желанию и выбору двадцати-и сорокадневные индульгенции тем, кто придут на его проповедь и принесут покаяние (54).
Петр поехал в Кремону и навел там такой же страх как и в Милане. Он объехал еще несколько мест, был в Комо, и, возвращаясь на другой год в Милан, получил назначение инквизитора по всей Ломбардии. Но там сами католики не желали переносить его жестокости и самовластия. Уже давно там составился против него заговор и подкупили убийц; Петр, вероятно, об этом знал. По крайней мере он всегда ожидал насильственной смерти и предсказывал ее. Раз он в Милане, на площади Sant Eustorgio, в присутствии громадной толпы прямо сказал:
— Я знаю, что еретики оценили мою голову и что уже приготовлена плата моему убийце, но пусть будет им известно, что на том свете я буду страшнее, чем здесь.
На этот раз убийца нашелся. Двое миланских вельмож, Альлате и Онтроне, заплатили ему сорок ливров. Он пошел навстречу Петру и встретил его на полдороги. Он подошел под его благословение, долго шел с ним рядом, потом нанес ему смертельный удар в голову и скрылся. Петр, видимо, долго боролся со смертью. Он один лежал на пустой дороге. Истекая кровью, он твердил последнюю молитву, потом прижал к груди своей крест и, мертвевшею рукой написав на земле «сredо», как бы свидетельствуя тем свою искренность, испустил дух. Прохожие узнали его, подняли и принесли в монастырь.
Доминиканцы похоронили его с торжеством. Римская Церковь признала его святым и наименовала мучеником. На том месте, где он погиб, соорудили храм, а на площади Eustorgio, в память о его кровавых подвигах, красуется арка, один из древнейших памятников средневековой скульптуры. На ней доминиканцы написали латинскую эпитафию, поучая потомство, как надо «мечом истреблять катаров» (55).
Ходил слух, что убийца бежал в Форли и, мучимый совестью, стал вести подвижническую жизнь. Он принял схиму и был известен под именем блаженного Маркелино. Горожане при жизни почитали его святым.
Иннокентий IV пришел в страшное негодование получив весть о мученической смерги Петра. Он поклялся с этой минуты не давать никакой пощады ереси. Инквизиционные преследования, которые он сам прежде сдерживал и которые были причиной убийства, он решил отныне не смягчить, а усилить. Это было тем легче для него что он освободился теперь от другого, более страшного еретика. Курия уже не боялась Фридриха II.
Нам следует несколько оглянуться назад, чтобы оценить то положение, в котором находилась Римская Церковь в 1251 году, и описать последние фазы папско-императорскои борьбы. После кончины Григория IX на папском престоле воцарился человек со столь же несокрушимым упорством, с той же силой воли. Стоит только кинуть беглый взгляд на характер Иннокентия IV и его борьбу с Фридрихом II, чтобы понять, как он смотрел на Ломбардию и Лангедок.
Иннокентий IV принял тиару в минуту крайней опасности Император был отлучен, но торжествовал над папой. Мы упоминали, что Григорий IX проклял Фридриха но ничем не мог подкрепить своей анафемы. Бестактностью буллы 1239 года он отвратил от себя общественное мнение в Европе. Папские крестоносцы оказались бессильны. Запылали села Церковной области, сдавались папские города и замки. Богатые монастыри не спаслись от грабежа. Григорий не уступал. Ежедневно с религиозными процессиями он обходил свою столицу с колокольчиком в руках и звал епископов со всех концов католического мира на римский собор. Но сообщения были прерваны. Проезжих духовных лиц задерживали и наказывали.
Фридрих II смотрел теперь на всех монахов, священ ников и епископов как на своих личных врагов, уничтожал их привилегии и не стеснялся поступать с ними как с мятежниками. Если бы он вопреки своему веку выиграл борьбу, то Церковь лишилась бы светской власти Дряхло му и бессильному папе, все еще сохранившему непре клонный дух, грозил позор плена.
Григорий IX не дожил до такого унижения. Этот сто летний старик умер двадцать второго августа 1241 года и самую страшную для него минуту и свою ненависть унес с собою в могилу.
Фридрих II нарочно поддерживал внутренний беспо рядок в самом Риме, думая воспользоваться следующим избранием в своих интересах. Дряхлый Целестин IV правил только один месяц. Полтора года папский престол был вакантен. Иннокентий IV был избран лишь в июне 1243 года. Казалось, он мог потушить борьбу. Он считался личным другом Фридриха II и товарищем его детства. По родовым убеждениям он принадлежал к партии гибеллинов. Генуэзский дом Фиеско, из которого он происходил, в течение трех столетий верно служил императорам. Синнибальд Фиеско был сыном императорского фискового начальника в Италии. Он с самых молодых лет избрал духовную карьеру. В Болонье он читал каноническое право. Первые шаги его духовной карьеры были успешны. Григорий IX сделал его кардиналом. Тогда-то Фридрих II понял, что потерял в нем лучшего друга, так как никогда папа не станет гибеллином. Тиара ревниво требовала служения только одной себе. Так случилось и теперь. Иннокентий IV тем же гордым тоном повторил отлучение Фридриха и потребовал, чтобы император или оправдался в взводимых на него обвинениях, или оказал покорность Святой Церкви. Иного примирения и быть не могло.
Фридрих ответил новым вторжением в папские владения. Иннокентий IV из города Сутри, где чуть было не попал в плен сарацинам и еретическим наемникам императора, бежал в Геную, а оттуда в Лион. Здесь был созван собор, на который пригласили и Фридриха II. Но он отказался признать его авторитет и послал своего легата Фадея Суезского. Красноречие последнего было бесполезно. В присутствии сто сорока духовных лиц, императора Константинопольского[33], и Раймонда VII Тулузского, папа 11 июля 1245 года торжественно объявил Фридриха еретиком. Вместе с теми, кто оказывает ему содействие, он лишил его престола, разрешив подданных от присяги, и шовелел избрать нового императора (56).
Так порознь поражала Церковь светских государей, ловко разделяя их силы и могущество. Раймонд Тулузский был теперь отомщен самой судьбой. Фридрих II, который некогда предал его, казнился тем же оружием.
Этот решительный удар был не только слишком чувствительным, но и роковым для императора. «Этот день гнева», как воскликнул Фадей Суезский, печально осветил все будущее несчастного Фридриха II. Сперва император хранил притворное спокойствие.
— Кто дерзнет тронуть корону на моей голове? — говорил он. — Какой это папа смеет отлучить меня? Нет, не потеряется моя корона, только пролив реки крови, папа и собор отнимут ее от меня.
Но он с отчаянием погибающего в тот же год увидел, как все, кто некогда был преданным ему, стали покидать его, точно зачумленного. В Германии императором избрали ландграфа Тюрингии, Генриха Распе. Этот поповский король действовал, правда, недолго, но вся империя была охвачена волнением. В Германии настала анархия кулачного права. В Италии города Ломбардии приняли сторону папы, который награждал их за это инквизиторами. Фридрих II должен был поспевать везде, но он не мог быть всегда в местах опасности, а там, где его не было, сейчас же начиналось отложение.
Глава христианского мира проповедовал тогда крестовый поход, но не против мусульман, а против императора. Он обещает сотни индульгенций тем, кто поднимем оружие на Фридриха; им простится всякое преступление, и не только им, но даже их отцам и матерям. Напротив, страшные наказания ожидают ослушников, всех тех, кто сохранит хоть малейшую привязанность к императору. Вес ужасы ада обрушатся на дерзновенных, и все такие города теряют свои привилегии, свои права; такие бароны лишаются своих ленов, духовные лица своих мест и степеней (57).
Подобные документы показывают лучше всего, как нравственно вырождалось папство с того года, когда вступило в борьбу с Фридрихом II. Оно ничем не могло скорее подорвать своего авторитета, как сделав эту злобу дня делом всей Церкви. Отсюда понятно, на что в чаду борьбы способна была Церковь против еретиков. Их оставили в покое, пока не уничтожили Фридриха, но логика событии связывала судьбу императора с судьбами еретиков.
Император в унижении просил мира, ему отказали. Папа требовал войны. Ходатайство Людовика IX за им ператора было отвергнуто Иннокентием. Церкви был нужен труп Фридриха II. Ходило темное подозрение, что враги не остановились перед ядом и что орудием Рима, хоть и неудачно, стал любимец императора, его канцлер Петр Винейский (58). Известно только, что канцлер был казнен около того времени и, вероятнее всего, пострадал невинно, пав жертвой придворной зависти. Несчастья обильно сыпались на голову Фридриха II. Томительно грустно прошли для него эти последние годы. Умирая 13 декабря 1250 года в апулийском замке Фиорентино на руках своего любимого сына Манфреда — такого же поэтического энтузиаста, каким некогда он был сам, - Фридрих, в одежде цистерцианского монаха, исповедался и приобщился из рук архиепископа палермского. Пыл молодости охладел; страсти успокоились. Смерть его была мучительна. К страданиям недуга присоединилась тяжкая душевная боль. На одре смерти он скорбел за проигранное дело светской власти, за попранные Церковью его законные права. Он умер с безнадежным взором в будущее.
«Этот еретик и богохульник» завещал своим детям и будущему императору Конраду «неизменную покорность Святой Римской Церкви». Но чем отплатила эта всепрощающая Церковь своему побежденному, униженному и уже мертвому сопернику? Ее безграничное озлобление дошло этот раз до цинизма.
«Как небеса не возрадуются, — со всей свойственной ему оригинальностью восклицает Иннокентий IV, извещая Европу о смерти Фридриха II, — как земля не возвеселится! Молнии и бури, так долго гудевшие над нами, наконец утихли, благодаря неизреченному милосердию Господа; теперь свежая роса и сладкие зефиры. Исчез тот, который терзал нас гнетом мучений» (59).
Самая смерть ненавистного императора не успокоила курию; она оставила ее в каком-то мрачном сомнении. Монахи не верили его смерти, они боялись воскресения Фридриха. Этот страх, напущенный на Рим загробной тенью врага, скоро найдя осуществление в появлении самозванцев, питался еще тем положением дел в Германии, которое не могло не быть благоприятно и еретическому движению. Ужасные междоусобицы, полная анархия, затеянная папой, долго продолжались в ней после смерти Фридриха II. Швабия и Рейнские земли были особенно потрясены. В одной их хроник читаем по этому поводу:
«В Церкви Божией стали появляться странные и бездельные еретики, которые созывают колоколами баронов и владельцев в швабском Галле и публично проповедуют, что папа — еретик, епископы и прелаты — симонисты и еретики, низшее духовенство и священники, подверженные человеческим порокам и грехам, не имеют власти вязать и разрешать, что все они лишь морочили и морочат людей... Богохульствуя, эти грешники приказывают молиться за императора Фридриха и его сына Конрада, так как они-де оба добры и справедливы» (60).
Обе стороны пострадали в этой тяжкой борьбе, и обе достаточно опозорили свой нравственный авторитет, обе вышли с тяжелым уроном, одна с победой, но с потерей нравственного обаяния, другая побежденной, но посеяв в мире великий принцип обновления и освобождения от клерикального гнета. К сожалению, Фридрих не хранил должного спокойствия для совершения своего великого дела. Он не всегда держал свое знамя на должной высоте и только смутно, и то впоследствии, осознал свое назначение.
Вместо того чтобы опереться на враждебные Церкви элементы в форме ересей, к которым он лично не питал вражды, и тем усилить их и создать действительную оппозицию, которая всегда стала бы за него, он действовал бессознательно, порывисто. В нем то бурно проявлялись дикие, старые начала нетерпимости, то оказывалось слишком мало любви, мало пощады к современности. Это зависело от его личности. Итальянский гуманный дух слился в нем с варварской жестокостью и восточными нравами. Являясь по идеям представителем нового времени, он по характеру оставался средневековым человеком. Неудача постигла его потому, что он не встретил в современниках достаточного сочувствия ни к себе, ни к тем идеям, которыми он хотел загладить свои прежние ошибки.
Победив его, Церковь осталась вполне независимой, самостоятельной в своих действиях. Только Фридрих мог бы остановить ее инквизиционные стремления, если бы решительно оперся на гонимых за религиозные убеждения и объявил себя их покровителем. Теперь папство могло сосредоточиться на окончательном подавлении всякого сопротивления. Год убийства Петра Веронского как раз совпадал с этим моментом. Мы заметили, что это убийство только более ожесточило Иннокентия IV. Как нарочно, приходили вести о новых мятежах против инквизиции.
Республиканский дух ломбардских городов, которые некогда так радушно приветствовали папу, как своего освободителя от императорского деспотизма, не мог выносить наглого нарушения вечевого права со стороны папы и его агентов. Скоро пострадал в Кремоне за свою свирепость Фра Роландо. В Вальтелине положительно нельзя было учредить трибунала. Явившиеся туда инквизиторы Фра Пагано да Лекко и его товарищи были тотчас убиты. В Милане убийство повторилось. Два влиятельных и богатых патарена удушили минорита Петра д'Арканьяго. Но все это отчаянное сопротивление способствовало лишь окончательному упрочению инквизиции. Пролитая кровь была бесполезна.
В мае 1252 года Иннокентий IV подтвердил всем ломбардским властям, что причастные к делам ереси должны быть немедленно изгнаны и имущества их конфискованы. Приговоры, постановленные над еретиками, предписывалось неуклонно приводить в исполнение (61). Через четыре дня последовали более подробные указания тем же лицам. В них впервые читаем устав инквизиции, намеченный рукой папы. В нем содержатся тридцать восемь постановлений; они, собственно, предназначены служить руководством для баронов и городских властей, регулируя их ношение к инквизиторам. Все законы, изданные относительно ереси, были для них обязательны, за малейшее уклонение взыскивался штраф в двести марок в пользу коммуны, и виновный, само собой, объявлялся клятвопреступником и бесчестным. Как друг ереси, заподозренный в чистоте своей веры, он лишался своей должности и всех почестей; навсегда возбранялось его допущение к исполнению общественных обязанностей. Все еретики обоего пола и их дети подвергались поголовному изгнанию, о чем в городе предписывалось объявлять на народном собрании.
Папа понимал, что эта мера исполнена быть не может, так. как гонение имело свою одинаковую силу во всей католической Европе, он знал, что его врагам деться некуда, — только мусульманские страны могли бы дать приют еретикам.
На третий день по вступлении в должность всякий подеста или правитель города должен был избрать двенадцать католиков незапятнанного поведения, двух нотариусов, которые вместе с двумя доминиканцами и двумя францисканцами составят инквизиционный трибунал; при нем имеется несколько служителей. Епископ может присутствовать в нем, если пожелает. Подеста назначает от своего имени в трибунал асессора, угодного епископу или инквизитору. Власть трибунала простирается на весь дистрикт диоцеза. Каждый из его членов может распоряжаться над еретиками порознь. Светские члены трибунала, называемые официалами, могут смениться через шесть месяцев, но власть их может быть продолжена. Они избавляются от исполнения всяких других обязанностей. Трибунал содержится третьей частью конфискации и штрафов. В случае отлучки из города по делам веры члены его официально получают от правительства восемь или десять императорских ливров. Все должны помогать инквизиторам и содействовать им всеми способами под страхом пени с дома десять ливров, с города — сто, с селения — пятьдесят. За личное сопротивление со стороны арестовываемых, за искушение освободить еретика и еретичку из рук служителей, за недопущение агентов инквизиции в какой-либо дом или башню на основании законов Фридриха II назначены конфискация, вечная ссылка и срытие дома; если же там найдутся еретики, то двойные штрафы против показанных. Городское начальство обязано наблюдать за тюрьмами, где заключены еретики, иметь для последних особое помещение, где бы они были отделены от разбойников, и содержать их за свой счет. Через пятнадцать дней арестованные приводятся к допросу епископа, викария или инквизитора Осужденные за ересь передаются для наказания в руки светской власти, которая поступает с ними согласно существующим постановлениям не позже как через пять дней. Подеста или правитель города должен на своем суде пыткой или ужасом смерти заставить еретиков («как разбойников и убийц душ человеческих») выдать имена их единомыш ленников, покровителей и защитников, подобно тому как заставляют прочих преступников выдавать имена участии ков злодеяния. Но здесь была та разница, что еретики на пытке должны были указать и имущество своих собратьев Три особых свидетеля из надежных горожан по особому назначению асессора под клятвою обязывались тайно следить за еретиками дистрикта, указывать на их имущества и тайные собрания.
Относительно пособников ереси было списано паду анское постановление Фридриха И. Имена осужденных велено хранить в особой книге, которой иметь четыре экземпляра: для города, епископа, доминиканцев и фран цисканцев, и читать их торжественно три раза в год ни народных собраниях. Штрафы должны взиматься не позже трех месяцев; тех, кто не может заплатить в срок, держать в тюрьме до уплаты. Эти пени и конфискации имуществ делятся на три части: одна в пользу городском общины, другая идет официалам, а третья на образование фонда для искоренения ереси и прославления веры хранящаяся по указанию епископов и инквизиторов н безопасном месте. Если кто-либо осмелится делать измс нения и облегчения в этих постановлениях без согласия апостольского престола, то светская власть обязана счесп, такого за защитника и друга ереси, подвергнув его позору и штрафу в пятьдесят ливров, а за неуплату — изгна нию, которое может быть заменено лишь двойной пеней На народных собраниях необходимо иметь этот документ чтобы не могло последовать каких-либо несогласных с ним постановлений, а также сделать его известным и между сельским населением. Новые постановления вместе со всеми прежними законами и статутами, когда-либо утвержденными святым Престолом, иметь в четырех экземплярах, подобно списку еретиков.
Из приведенного изложения буллы 1252 года можно вывести, что она вводила только два новых пункта и инквизицию. Она разрешала пытку, а в трибунале уравнивала францисканца с доминиканцем. Иннокентий IV не был расположен усиливать преимущества доминиканцев; оба ордена были в его глазах одинаковы по своему назначению.
Скоро опыт показал, что монахи-инквизиторы, ревнуя о славе и чистоте святой веры, не чужды земной корысти и выгод, хотя Доминик на смертном одре произнес анафему против тех своих последователей, которые внесут в орден соблазн собственности. Папа разрешил итальянским доминиканцам и инквизиторам вообще пользоваться вознаграждениями из штрафных денег, предполагая тот же размер, каким довольствовались светские члены трибунала.
Так, учреждение, искавшее прежде одних духовных задатков, постепенно изменяя свою организацию, получило чисто фискальные атрибуты. Папа затронул самые чувствительные струны и скоро достиг цели. Он возбуждал алчность, корысть, соблазн, пороки, устроил систематический грабеж, облек его священной целью, чтобы только уничтожать всякую оппозицию. Народный голос и на легенда называли не без основания Римскую Церковь эпохи Иннокентия IV и его преемников меняльной лавкой.
Через несколько лет, 9 марта 1254 года, Иннокентий IV счел нужным дополнить свой устав и сделать его общеобязательным не только для одной Италии. Он смело вводил в закон то, что утвердила практика еще с 1229 года и что стеснялся предписать Григорий IX. Полагая, что обнародование имен доносчиков и свидетелей было бы скандально и опасно, он строго запретил его. Тем не менее, оговаривался папа, эти лица должны пользоваться полным доверием (62). Но постановление соборов уже давно предписывало такое правило. Так, в Нарбонне еще в 1235 году двенадцатым каноном было запрещено открзывать имена свидетелей, а двадцать четвертым каноном лангедокское духовенство предупредило желания самой курии; оно постановило принимать в свидетели и обвинители даже преступников и обесчещенных, даже, наконец, сопричастных преступлению, которым, естественно, ничего не было терять (63). Все это было подтверждено последующими соборами.
Императорский престол утверждался ценой гонения еретиков. Конрад был последним императором из дома штауфеновских герцогов. Конрадин[34] был еще ребенком, и его преследовала Церковь. Авантюрист Ричард Корнуэльский получил от папы Александра IV[35] приглашение занять вакантный немецкий престол. Конечно, среди анархии, объявшей Германию, Ричард мог быть только номинальным государем. Никто из немецких князей его не знал и не признавал. Он не успел даже короноваться Но тем не менее он спешил отблагодарить папу ив 1257 году подтвердил смертную казнь за ересь, а имущество еретиков сделал достоянием императорского фиска. За каждое богохульное слово, сорвавшееся с языка, следовало отдельное наказание, как и за суетную божбу. Судья дистрикта должен неуклонно следить за такими людьми и не только облагать их штрафом, но не щадить их тела и даже жизни. За злобное кощунство, как за ересь, полагалась смертная казнь. Не донесшие виновны перед законом. Можно представить, что произошло бы в Германии в руках этого человека, если бы он утвердился на престоле. Подобного же государя искал Александр IV и для Сицилийского королевства. После падения Гогенштауфенов заветной целью Рима было не допустить соединения южной Италии и Германии в одних руках. Урок был слишком тяжел для папства. Фридрих II мог теснить Рим с двух сторон. Его сына Манфреда Церковь не признавала, и он был под отлучением.
Внук Иннокентия III, Александр IV, решил поправить ошибку своего великого деда. Судьба дала ему роль раздавателя престолов. Но в бессильных руках эта роль стала призрачной. Тот самый Манфред, побочный сын Фридриха, которого папа так презирал, возбудил против него интриги в Риме и заставил его бежать в Витербо. Оттуда папа посылал свои буллы. Раздаватель тронов умер в изгнании.
Сын французского плотника из Труа, даровитый Урбан IV, призвал против Манфреда сурового Карла Анжу брата Людовика IX, женатого на Беатриче, дочери последнего графа Прованса. Французскому принцу суждено было на полях Беневенто и Тальякоццо погубить последнего представителя Гогенштауфенов[36], кровью и казнями устранить всякое сопротивление и воцарить в Италии ту же страшную нетерпимость, которая систематично водворялась тогда его братьями во Франции и в Лангедоке. Французский папа торжествовал, не думая о будущем.
Климент IV, преемник Урбана IV, уроженец Лангедока, один из легистов Людовика IX, только недавно принявший духовное пострижение и прославившийся своим инквизиторством в качестве архиепископа нарбоннского, был свидетелем осуществления всех пылких мечтаний ку-рии. Германия была бессильна и, казалось, погибала в крови своих детей; король Франции был его другом; призрак Гогенштауфенов уже не мог пугать; Церковь попрала всех своих врагов; ее инквизиторы истребляли с корнем последних ертиков.
Такими, можно сказать, ужасными успехами Рим был обязан наследственной энергии и талантливости целого ряда первосвященников, занимавших престол с самого начала ХIII столетия. Рим был вторично в зените своего могущества. До такого величия папство не доходило ни раньше, ци позже. Но, по непреложным законам истории, тогда же началось его падение. Видимые успехи заключали в себе Иачало разложения; последнее коренится в первых. Инквизиционные трибуналы, гибель Фридриха II, водворение французов в Италии — все эти признаки торжества были вместе причиной постепенного падения папской силы. Тот же самый Карл Анжуйский, получивши престол на вассальных условиях от пап, скоро снял маску ложной покорности, противопоставил физическую силу угрозам духовенства, прогнал папу из Рима и сделал прежних властителей Запада своими орудиями.
Жалкое состояние застало вождей католического мира на другой день их полного счастья и торжества. Обводя торжествующим взором Европу, они не могли даже догадываться, что их страшная сила грозит сделаться лишь славным преданием минувшего. Но созданную ими инквизицию уже нельзя было поколебать. Ее необходимость чувствовалась тогдашним обществом сознательно. Она могла развиваться помимо пап, потому что причины ее скрывались вне их воли.
В Лангедоке, во вместилище ереси, всякое равнодушие к исполнению желаний святой инквизиции принималось за сочувствие к ереси и за защиту ее. В этом смысле отозвались соборы в Альби в 1254 году и в Безьере в 1255 году. Они предписывали относиться к решениям инквизиторов со всем рвением. Инквизиторы представляли свое дело даже на суд народа, уверенные, что он выскажется в их пользу.
Александр IV в последние годы своей жизни из места своего изгнания не уставал снабжать инквизиторов предписаниями. Он сделал инквизиторов совершенно самостоятельными и предоставил им право обвинений и наказаний без совета с епископами и их викариями. Еще 1 декабря 1255 года он предписал провинциалу доминиканцев в Париже и начальнику французских миноритов преследовать истреблять еретиков по всей Франции, кроме Лангедока, которым специально заведовала тулузская инквизиция. В январе 1257 года такое же неограниченное право было вручено ломбардским инквизиторам, а в декабре того же года — тулузским (64).
Последние получили даже уверение, «что никакой папский легат и субделегат, никакой из папских уполномоченных никогда не может произнести над ними и над их четырьмя нотариусами отлучения или исполнить какое-либо церковное наказание, пока они занимаются карой ереси».
Только одному папе стали подчинены теперь инквизиторы, только его подпись могла решить их участь. Епископы были умалены в своей силе.
Не разделяя ложной мысли об исключительных способностях к инквизиции доминиканцев, Александр IV те же полномочия предоставил францисканцам. На практике это существовало уже давно, например в Тулузе, где состав инквизиции был смешанный. В противоположность Григорию IX, Александр IV питал особенное расположение к ордену святого Франциска. Почти все его буллы обращены к миноритам. Но францисканцы, получив теперь возможность открывать отдельные трибуналы по собственной инициативе, оказались не столь опытными в своем деле. Они обратились за указаниями к папе по многим ему щавшим их вопросам. Разрешая их, Александр IV, между прочим, отстранил от подсудности инквизиторам все дела о волшебстве и ложных пророчествах, предоставив их светским судам. Отпавших духовных лиц он предписывал подвергать пожизненному заключению после предварительного расстрижения. Тех же духовных лиц, которые входили в какую-либо сделку с еретиками, инквизиторы могли сами, помимо духовного начальства, хватать, судить и присуждать к наказанию, имея в виду, что наказания над духовными лицами должны быть строже (65). Касса, принадлежащая инквизиции, должна храниться под печатью епископа и трех надежных лиц, но расходоваться трибуналом, который дает епископу отчеты. Рекомендуя всем светским властям францисканцев, папа даровал духовным членам трибунала полную индульгенцию, а светским — на три года. Наконец, он предложил, чтобы в городах и общинах ере тики получали наказания в народных собраниях.
20 марта 1262 года Урбан IV снова обратился кдомини канцам. Он подтвердил ломбардским инквизиторам постановления своих предшественников относительно ереси, но робко прибавил к тому несколько пунктов. Он пытался воскресить значение епископов, предлагая никого не присуждать к наказанию без совещания с ними. В случае спора он предлагал избирать посредниками двух духовных лип для нового допроса свидетелей, показания которых записывает нотариус. Тайна показаний должна быть сохраняема всеми, если того пожелает трибунал, но имена свидетелем; могут быть преданы гласности, если не предвидится дурных последствий. Во всяком случае, Урбан вполне одобрил строгие законы Фридриха II и предоставил в распоряжение инквизиторов индульгенции.
Инквизиторы по-прежнему были подчинены только папе. В Испании, в силу его буллы, инквизиторство было тредоставлено только доминиканцам. Им были переданы все инквизиционные дела, начатые другими. Конкретных исполнителей назначали и сменяли по своей воле провинциалы доминиканского ордена, в руках которых в конце ХIII века оказались, таким образом, громадная власть и влияние.
Впоследствии почти каждый первосвященник свидетельствовал о мудрости Григория IX и Иннокентия IV, оставляя нерушимыми их постановления, и признавал законы Фридриха II образцовыми. Климент IV, и особенно Григорий X, некогда славно подвизавшийся в броне рыцаря под стенами Птолемаиды[37], вполне одобряли воинственную деятельность нищенствующих братьев, но уже не могли вносить в нее никаких изменений. Да и сама по себе инквизиция уже упрочилась и не нуждалась в папских указаниях, развиваясь вполне самостоятельно. Она опиралась на общественное сознание. Мы видели, что самое существование ее было невозможно, пока проповедь мира и любви еще находила слушателей. Если инквизиция упрочилась, то лишь потому, что эти голоса более не раздавались и что самые замечательные люди эпохи, ее мыслители, были на стороне нетерпимости. Даже голос святого Бернара был для них непонятен. Со спокойной совестью, попирая всякую истину, новые богословы весьма развязно уверяют, что и Ветхий, и Новый завет, и все Отцы Церкви повелевают истребление заблудших.
«Потому не должно щадить ни отца, ни сына, ни жену, ни друга, если в них присутствует яд еретический... Тот, кто убивает нечестивых, не совершает человекоубийства» (66).
В середине XIII века появилась даже особенная философия убийства. Епископ парижский Вильгельм взялся по-своему объяснить притчу Спасителя о плевелах и пшенице (67).
«Иисус Христос не велит сберегать плевелы, но только пшеницу; когда нельзя сберечь первых, не вредя последней, то лучше и не щадить их. Отсюда следует, что там, где нечестивые распространяются в ущерб народу Божьему, не следует давать им размножаться, а надо их истреблять с корнем, и, конечно, телесной смертью, когда нельзя искоренить иначе... Потому убивают здесь по необходимости. Тот, кто уверяет, что сегодняшние плевелы могут после стать пшеницею, потому что могут обратиться к стезе истинной, совершенно прав, но такое обращение не есть факт. А то, что пшеница становится плевелом от общения с ним, это ясно и несомненно...» (68)
Величайший из схоластиков и замечательнейший ум средних веков, Фома Аквинский, отказавшийся от всяких почестей и гордившийся одним именем «доктора», высказался так же чистосердечно и решительно за необходимость гонений, хотя и не сочувствовал многому в образе действий инквизиции.
И это было высказано не в силу симпатии к делу братьев его ордена, а лишь по комбинации тех отвлеченных соображений, среди напряжения которых провел всю жизнь этот человек. Его смущает противоречие факта с евангельским учением, и он прибегает к приемам схоластики, отречься от традиций которой ему было невозможно, оставаясь деятелем тогдашнего католицизма.
«Еретики, — говорил он в своем Богословии, — прежде чем презрели Церковь, дали известные обеты относительно ее, и потому их следует принуждать физически сдержать обеты. Принятие веры есть, конечно, акт доброй воли, но поддерживать ее— дело необходимости. Можно ли терпеть еретиков? Вопрос этот представляется с двух сторон: по отношению к самим еретикам и по отношению к Церкви. Еретики, взятые сами по себе, грешат, и потому они заслуживают не только быть отдаленными от Церкви отлучением, но и изъятыми из мира смертью. Разрушать веру, которой живут души, преступление гораздо более тяжелое, нежели подделывать монс ту, которая способствует только жизни телесной. Если же фальшивомонетчики, так же как и прочие злодеи, по справедливости присуждаются к казни светскими государями, то тем с большею строгостью следует относиться к еретикам, которых после отречения от ереси можно не только отлучать, но не несправедливо убивать. Что касается до Церкви, то она, исполненная милосердия к заблудшим, желает их обращения; потому она осуждает не иначе, как после первого или второго увещевания, согласно учению апостола. Если и после этого еретик упор ствует, то Церковь, не надеясь более на его обращение и в заботе своей о спасении остальных, отлучает его от Церкви своим приговором, предает его впоследствии светской власти для исполнения смертной казни... И ест будет так, то это не противно воле Господней» (69).
Даже в XV столетии, когда истребляли последние остатки катарства в Боснии[38], в дни начинавшейся зари Возрождения, папа Евгений IV в доктринальном тоне уверял своего легата в Боснии, что преступление ереси искупается только смертью (70).
Светская власть, веруя в ту же идею, со своей стороны, продолжала оказывать всевозможное содействие инквизиции. Реакция именно теперь дала папству таких коронованных слуг, которые фанатично были преданы ему, католицизму и Церкви. Это был контраст первой половине XIII столетия. Людовик IX и Фердинанд III Кастильский, эти иноки на престоле, были признаны святыми за свою католическую ревность. Последний даже сам приносил дрова на эшафоты, приготовленные для еретиков. Людовик IX всегда был готов жертвовать Церкви всеми земными интересами и даже самой своей жизнью. Он был счастлив, умирая за ее дело в песках Туниса, у стен древнего Карфагена[39]. Он выражает собою только идеалы средних веков; в его облике не отразилось ни одной черты нового времени. Он не внес ничего нового в историю человечества вообще, ни в государственную жизнь Франции в частности. Причиной его известности, обаяния его имени в потомстве было то, что он в замечательной гармонии воплотил в себе много лучших сторон минувшего. Он не обладал организаторскими способностями и ради небесного воздаяния жертвовал земными выгодами Франции. Он не скрывал этого от народа.
— Ты не король, а священник и монах, — сказала ему одна женщина.
— Да ниспошлет Бог лучшего государя Франции, — ответил ей король и приказал наградить ее.
Последний могиканин средневековой идеи, Людовик IX бился, как рыцарь, во славу веры и Мадонны, пытаясь на своих слабых плечах поддержать феодализм. Он был последним государем, который питал сочувствие к нему вопреки династическим интересам; он никогда не хотел да и не способен был служить самому себе. Его доблесть отличалась также вполне средневековым характером. Самопожертвование, аскетизм, страх греха были стимулами его существования. Его талантливый жизнеописатель передает свой разговор с королем на пути в Египет.
— Сенешаль, что бы ты предпочел, — спросил его Людовик, — быть прокаженным или совершить смертный грех?
«Я, — вспоминает Жуанвиль, — никогда не обманывал его и не мог. Я сказал ему, что предпочел бы скорее тридцать смертных грехов, нежели быть прокаженным».
Король обиделся и сделал строгое внушение Жуанвилю:
— Такой нет проказы, которая стоила бы одного смерт ного греха.
Но если Людовик IX презирал эгоизм и хотел жить для ближних, то нельзя согласиться, что он евангельски понимал это учение. Воспитанный в эпоху торжества узких римских идей, он в своей кроткой и любящей натуре затаил одну ненависть, которая терзала его всю жизнь, постепенно развиваясь. Прощая личные поношения, он не мог простить поношений веры. Сперва он надеялся, что вынужденного содействия Раймонда VII будет достаточно для подавления ереси. Он принял под свое покровительство нищенствующих монахов и определил, как мы знаем, в 1229 году плату за приводимых еретиков. Для; него ересь стала более, чем государственное преступление, уже за недонесение полагался штраф. Эта политика, естественно, должна была смениться истреблением непокорных. Знаменитые Постановления Святого Луи, изданные в 1270 году, являются самым крупным памятником нетерпимости и исключительности в вопросах совести. Они во многом опирались на местные парижские кутюмы, которые также обрекали смертной казни еретиков (71).
Такова была мораль средних веков: даже самые чистые ее представители, кроткие духом, как Фома Аквинский и Людовик IX, заражались злобой и местью, не присущими их натурам, когда шел вопрос о религии, ни душу не могла утолить одна внутренняя борьба. Людовик IХ считал себя и своих подданных призванными метин, Бога. Ни он, ни они не должны сами спорить с врагами и еретиками.
«Но обязанностью всякого мирянина, — читаем у Жуанвиля, — в случае оскорбления христианской веры, прибегать к своему мечу и вонзать его в тела хулителей и неверующих так глубоко, как он войти может».
Странно было бы объяснять эту свирепость Людовика IX влиянием на короля его друга святого Фомы Аквинского, который долго жил в Париже в якобинском монастыре на улице Сен-Жак. Строжайший принцип мести и насилия в делах веры проводился и парижскими кутюмами и ассизами иерусалимскими. В Людовике IX принцип насилия совести должен был воплотиться более, чем в ком-либо из современников, по искренности его натуры и по его способности фанатично отдаваться идее. Он три раза в неделю по постам жестоко бичевал себя плетью и три раза каждую ночь поднимался на молитву, как рассказывает его доминиканский духовник. Он хотел быть королем по писанию, судьей и царем ветхозаветным. Он считал себя обязанным давать отчет Богу в своем правлении. Он не лицемерил, подобно Фридриху И; не считал ересь государственным преступлением, и не мог владеть собой от злобы, услышав, гуляя по улицам Парижа, как кто-то вслух оскорблял величие Божие.
Однажды он велел схватить дерзкого богохульника и заклеймить раскаленным железом его губы. Когда за это против короля пошел ропот, то он сказал:
— Я лучше бы сам позволил заклеймить себя, чем допустить, чтобы подобные кощунства произносились в моем королевстве (72).
Папа Климент IV часто должен был удерживать короля от излишней жестокости и строгих мер, предпринимаемых во имя Бога. Вместе с евреями и еретиками король изгонял католических ростовщиков и банкиров. Проценты были для него выражением личного интереса, а по его высоконравственной философии эгоисты были неугодны Богу. В 1268 году он изгнал таким образом сто пятьдесят банкиров и конфисковал у них имущества на восемьсот тысяч ливров. Он сам ни во что не ставил личное оскорбление королевского достоинства, и, когда в 1243 году в Лангедоке вспыхнуло возмущение, он ничем не мстил Раймонду VII, обязав его только оказать содействие в изгнании еретиков. Он простодушно думал, что и духовенство руководится тем же бескорыстием. Он полагал допускать католиков до владения землями и замками еретиков, издал даже об этом в 1250 году особый ордонанс, но инквизиторы тотчас стали противодействовать ему. Король уступил.
По «Уложению» 1270 года определено только движимость отдавать католическим наследникам, а недвижимость конфисковывать. С целью разъяснить права той и другой стороны короли назначали своих прокуроров во французские трибуналы. Они не имели влияния на самое производство дел. Лучшие статьи уложения Людовика IX касательно судопроизводства — например, сообщение всех документов подсудимому, арест обвинителя в уголовных делах наравне с обвиненным, необходимость показаний крайней мере двух свидетелей для допущения пытки — не применялись к духовным судилищам. Ложное обвинение в уголовном преступлении вело на виселицу; для инквизиции оно часто бывало необходимо. Костер, на который обрекало еретиков «Уложение», приравнивал их в юридическом смысле к развратникам и содомитянам. Все прочие преступления беспощадно наказывались виселицей, либо увечьем, но не огнем.
В согласии со своими идеалами французский король хотел переформировать современное ему общество. С самоотречением и энергией, но с удивительным заблуждением он стремился осуществить на земле Царство Христа, чистых подвижнических нравов и хотел заставить развратников, убийц и обманщиков петь хором вечную молитву благодарения Творцу. Он преследовал эту цель до самой смерти. Для достижения ее он имел одно орудие — устрашение, средство, которое могло только развить зло, а не уничтожить его. Думая служить благу общества, Людовик IX служил своим личным чувствам и ненависти, сам не замечая того.
Его преемники унаследовали его систему. Филипп III подтвердил в 1271 году уставы своего отца касательно инквизиции. Филипп IV Красивый вступил в борьбу с Римом, но тем не менее предписывал ордонансом своим бальи, сенешалям и вассалам оказывать содействие инквизиции, обещал это под присягой инквизиторам и неуклонно исполнял постановления трибуналов. Лукавый и жестокий дипломат, далеко не благочестивый и вовсе не ханжа, ценивший людей настолько, насколько пользы они приносили своим достоянием, он пугается грозного призрака свободной мысли. Играя презрительно папским престолом и нанося непоправимый удар доселе непобс димому Риму, уничтоживший самого Бонифация VIII. Филипп Красивый остается слугой инквизиции. Он по могает ей разыскивать и казнить не только врагов католи ческой Церкви, но даже врагов позорно униженной им папской власти.
Новая французская династия Валуа в лице Филиппа VI также объявила себя на стороне инквизиции. В 1329 году были возобновлены все прежние постановления отно сительно еретиков и инквизиции. По-прежнему под ста рыми сводами святого Стефана в Тулузе великий инкви зитор принимал присягу членов наместнического упраи ления и тулузского капитула в том, что они будут защи щать святую Римскую Церковь, доставлять и обвинять еретиков, повиноваться Богу, Римской Церкви и инкви зиторам.
Когда в 1340 году Людовик де Пуату, новый королевский наместник, прибыл в Тулузу, то, не въезжая в городские ворота, сошел с коня, преклонил колена и над Евангелием поклялся соблюдать права и привилегии инквизиции и, уже после того, хранить вольности города (73).
Папство наконец обессилело. Первосвященники находились в руках французских королей. Но авиньонское пленение пап ничем не отразилось на инквизиции. Ее сила на столетия пережила силу ее творцов.
В XIV столетии все прежние статуты инквизиции свято соблюдались французскими королями. Только в 1378 году королевские чиновники отказались исполнять распоряжения инквизиторов о срытии домов еретиков, что было весьма несущественно для дела. Папа Урбан VI согласился с ними, но инквизиторы удержали за собой самое право.
.Тулузская инквизиция, эта предшественница испанской, раньше и дольше последней влияла на гражданскую власть. В XV и XVI столетиях она держала в своих руках членов капитула; она вычеркивала из списка тех, кто для нее был подозрителен. Напрасны были протесты; парламент склонялся перед ней.
С удивлением читаем в протоколах инквизиции, как еще в 1549 году консулы французских городов обязаны были присягать в том, что будут преследовать, доносить об еретиках господину инквизитору, содействовать и уважать власть, права и привилегии святой инквизиции (74).
Сам Людовик XI, железной рукой подавлявший всякое сопротивление, должен был пойти на сделку с инквизиторами. В 1463 году он выговорил себе у альбийского епископа половину пеней и конфискаций с имуществ жертв инквизиционных трибуналов.
Такая живучесть заключалась в прочной организации инквизиции. В XVII веке она была так же сильна, горделива, спокойна среди бурь протестантизма, как прежде, и смотрела на кальвинистов, словно это были прежние альбигойцы и вальденсы.
Впоследствии, когда новая инквизиция обагрила кровью Испанию, дело старой инквизиции было уже завершено. Она сделала все, что могла, и своей историей служит живым примером и поучением. Она более не встречала жертв; она стала одной мумией. Но титул ее служителей был уничтожен лишь перед Великой французской революцией. Завершая этим историческую часть, мы должны обратиться к изложению обрядов производства и к практике инквизиции. Потом мы остановимся на ее жертвах в Лангедоке и их грустной истории, что составляет нашу непосредственную задачу. Войдем сперва внутрь инквизиционых трибуналов.
Учреждения первой инквизиции: права инквизиторов, подразделение подсудимых, допросы, пытки, наказания, обращения, епитимьи, обряды, тюрьмы; предупредительные меры
Учреждения первой инквизиции, в сравнении с учреждениями позднейшей, известной под именем испанской, отличались умеренным характером. Самые заклятые враги католицизма, энциклопедисты XVIII века, сознавали это и находили, что испанцы далеко превзошли итальянцев в этом деле и что они радикально изменили мысль и цель системы. Если ломбардская и тулузская инквизиция домогались обращения тех, кого называли еретиками, то испанская, руководимая исключительно национальной историей, безусловно требовала их истребления.
В любом случае итальянское духовенство было изобре тателем целой системы, хотя не развило ее до диких крайностей и не отрешило от почвы некоторой легальности. Если принуждать мечом к исповедованию истинной веры есть дело благочестия и великой заслуги пред Богом, если это дает венец мученичества, то насколько благочестивее, полезнее и даже труднее действовать путем постоянного надзора, искоренять в душах грешников их заблуждения, принуждать их к тому наказаниями, предупреждать стро гим примером распространение страшного греха и соблаз на. Если грешнику и не познавшему Бога предстоит вечное осуждение в той жизни, то не лучше ли заставить его, хотя бы строгостью и силой, покаяться или познать истинную веру. Так как общество нечестивых может увлечь других, то духовная полиция после суда отделяла осужденного оч Церкви, изгоняла из стада на время или навсегда. Она ду мала оказать тем спасительную услугу ближним и угодить Богу.
Гражданское воинство, всегда готовое на борьбу за Рим скую Церковь, то есть доминиканский орден, оказалось самым удобным орудием для целей инквизиции. Сам До миник не предчувствовал, что его братство вступит на такую дорогу, и никак не полагал, что потомство легкомыс ленно сочтет римские курганы могильными насыпями, воздвигнутыми им над пеплом еретиков (75).
Инквизиторы были совершенно независимы от епископов и легатов, для них не существовало ничего запрещенного; они проникали всюду. Они были тогда тем, чем после стали иезуиты; на них они походили богословской ученостью, искусной казуистикой, житейской ловкостью, ораторским талантом, влиянием на государей и вельмож. Подобно иезуитам, они, после смерти основателя ордена, ревностно заботились о земных благах. Францисканцы, собратья доминиканцев по должности, действовали на простой народ своим подвижничеством и жизнью.
Инквизитор мог взять подозреваемое им лицо даже в церкви, нарушая право убежищ. Всякий католик, светский и духовный, под страхом отлучения был обязан содействовать им. Феодалы должны давать им конвой, городские магистраты — полномочия. По установленным понятиям инквизиторы приравнивались своей властью к епископам, но в сущности они были могущественнее их. Все живущие в пределах его дистрикта, начиная с государя страны, подсудны инквизитору, в случае преступления против веры. Только папа, легаты, нунции, кардиналы, епископы, лица, близкие к папе, были несколько независимее. О них инквизитор сообщал священнику секретно. Если бы инквизитор сам подал повод к подозрению в чистоте его веры, то епископ мог принять на него донос, но судить мог только другой инквизитор.
Инквизиторы имели особую свиту, которая исполняла их приказания и в то же время составляла постоянную стражу; в Лангедоке и Франции она называлась «близкие»; в Италии — «гонители катаров». Впрочем, в истреблении еретиков им с удовольствием помогал каждый фанатичный католик, так как убийство еретика было возведено католическим учением в богоугодное дело.
Чтобы спастись от внезапного нападения на улице, людям, малоизвестным в городе, следовало нашивать на своем платье крест. Оттого еще Доминик советовал обращенным ради безопасности иметь на одежде два креста, в отличие от католиков, которые большею частью носили один крест. Это было подтверждено на безьерском соборе 1233 года, когда для всего Лангедока стал обязательным особый костюм для обращенных. По такому костюму можно было признать в человеке бывшего еретика. На широком и длинном платье плебея и на узкой одежде дворянина нашивались два больших, широких желтых креста, один на груди, другой на плече. Более преступных еретиков можно было узнать по капюшону, который закрывал голову, на этом капюшоне виднелся третий крест; женщины носили густую черную вуаль с желтым крестом. Отступники нашивали на кресты поперечную желтую полосу. Сосланные на острова в продолжение изгнания и на обратном плавании могли ходить без этих знаков. Иначе, где бы ни жил обращенный, его неотступно преследовали желтые кресты.
Насколько можно видеть из ненапечатанных документов инквизиции, подсудимые пред судом трибунала разделялись на шесть довольно отчетливых групп, сообразно коим следовали различные наказания.
1) Еретики в прямом смысле, как преимущественно называли катаров, то есть собственно альбигойцев — в отличие от вальденсов. Трибунал старался определить характер заблуждений подсудимого: была ли в нем ересь сознательным убеждением или проистекала от неполного знакомства с католической догматикой. К последним подходили так называемые богохульники, легкомысленно поносившие Господа, не признававшие всемогущества или других свойств Божиих.
2) Подозрительные, которые давали повод сомневаться в искренности своей веры или тем, что необдуманно говорили о предметах религии, или тем, что присутствовали при обрядах еретиков. Трибуналы называли последних сильно подозрительными, и притом в следующей градации: присутствовавшие при проповеди, склонявшие в собрании колена для молитвы или для благословения, наконец, называвшие себя добрыми христиа нами. Под этими словами, как под лозунгом, скрывалось обыкновенно полное сочувствие к патаренству или к аль бигойству.
3) Соумышленники, к которым причислялись укры ватели и защитники ереси. Они обыкновенно не раздели ли еретических убеждений вполне, но оказывали явное и тайное содействие распространению ереси, исполняя приказания и просьбы еретиков. Они часто делали прс пятствия деятельности трибуналов и всегда отказывали инквизиторам в содействии; они, конечно, не доносили об еретиках и покрывали их; они оказывали содействие их бегству и тайно посещали их в тюрьмах; они говорили, что осужденные наказаны несправедливо, или высказывали сожаление об их заточении и смерти и благоговейно собирали их пепел после казни. Если, буду чи обвинены во всех таких преступлениях, подсудимые не могли доказать, что руководились лишь чувством хри стианского сострадания к ближнему, то переводились но вторую категорию подозрительных, где наказание было несравненно строже.
К соумышленникам же относились феодалы, которые, вопреки обещанию, не изгоняли еретиков. Те независимые, коронные или выборные светские власти, которые не заявляли решительного содействия инквизиции, опасаясь народных восстаний, и не защищали инквизиторов, причислялись ко второй категории подозрительных. Феодалы и муниципалитеты, не отменявшие по приказанию трибуналов тех своих распоряжений, которые были вредны для успеха инквизиции, тоже часто считались подозрительными. Если адвокаты, нотариусы и служащие лица скрывали документы, процессы, даже адреса еретиков, то они подлежали преследованию, как соумышленники.
Сюда же относились те, кто во время производства дела отказывался приносить присягу, или допускал церковное погребение на кладбище лиц, осужденных трибуналами, или заведомо известных еретиков.
14) Раскольники, хотя и признававшие вполне католическую догму, но отрицавшие главенство папы и не считавшие его видимой главой христианской Церкви и викарием Иисуса Христа на земле. Схизматики, в смысле последователей восточного православия, на практике не подлежали суду инквизиции, но принцип требовал и их осуждения, поэтому в документах находим форму отречения от греческой Церкви, сходную с формою отречения от альбигойства.
5) Отлученные, действительно пробывшие под отлучением более года и не успевшие получить отпущения за это время. Церковь полагала, что никакой искренний католик не может жить вне ее так долго и что если он не чувствует всей тяжести своего положения, то, следовательно, не представляет собою в будущем ручательства за твердость своей веры, оставаясь равнодушным к церковному наказанию; между тем, не испрашивая прощения, он легко может быть совращен еретиками, и потому его дело должно подвергнуться рассмотрению трибунала.
6) Неверные, то есть евреи и мавры, когда они подстрекают католиков к совращению в свою веру словами или письмами. Хотя они не подлежат законам церковным и никогда не принадлежали к обществу христиан, но самое свойство их преступления подчиняло их суду трибуналов; государи не могли противиться этому, потому что только согласие и одобрение папы давало им известные права над такими отверженными.
Даже мертвые не избавлялись от преследования инквизиции. Если следствие обнаруживало что-либо касательно ереси покойных, то их трупы, по определению суда, тогда же вырывали и жгли рукой палача; их имущество отбирали у наследников и конфисковали, а их имя торжественно предавали бесчестию. Так, ратуя за идею нетерпимости, которая могла бы поколебать в своем развитии римскую систему, папство и инквизиция преследовали не только факт, но и самую идею протеста, проявлялся ли он в живом человеке, в трупе или хотя бы только на бумаге.
Мы должны остановиться на последнем, только что упомянутом проявлении протеста. Когда состав деятелей инквизиции увеличился, то при главных трибуналах, вроде римского, миланского, тулузского, на некоторых членов была возложена обязанность просматривать еврейские и латинские сочинения, появившиеся в публике, особенно богословские. Если при прочтении открывалось что-либо еретическое, темное или подозрительное, а в еврейских книгах кощунство над Христом, Богоматерью и католиче ской Церковью, то цензор передавал книгу в трибунам Там ее просматривали снова, и почти всегда этот про смотр заканчивался цензурным постановлением. Оно было трех родов: книга воспрещалась безусловно, допускалась с некоторыми исключениями и тогда следовало подроб ное перечисление не пропущенных мест, или допуски лась к обращению после исправления.
Каждый год в Риме составляли список книг, осужден ных где бы то ни было. Во всех городах, на публичных местах, вывешивали этот список, и если кто осмеливался после того иметь одно из поименованных сочинений, то ему нельзя было миновать знакомства с инквизиционным трибуналом. Конечно, автору прежде всех грозила эта участь, с самыми тяжелыми последствиями, но до этого доходило редко. Книги чаще всего были анонимные. В противном случае автор скрывался куда-нибудь от зорких взоров местной инквизиции и менял имя.
Трогательная забота инквизиции о чистоте веры простиралась даже на Отцов Церкви; и из них, определением трибуналов, часто вырывали целые страницы, особенно если они не были благоприятны святому учреждению или порядкам, господствовавшим в известной стране. Первая инквизиция преследовала по сохранившимся сведениям только в пределах одной Ломбардии: Талмуд, сочинения францисканца Раймонда Луллия, доминиканца Раймонда Тарраги, обратившегося из иудейства и толковавшего о вызывании духов, каталонского врача Вилланова, визпч неров Гонзальви де Куэнца и Николая Калабрийскою, лично видевших дьявола не один раз, и Бартоломея Женовеса, предсказывавшего пришествие Антихриста. Некоторые из авторов пострадали лично. Трудно было лишить инквизицию книжной цензуры. Понятно, как она дорожила этим правом. Государственная власть долго боролась за цензуру с инквизицией и получила ее себе в наследие. Но еще в 1605 году кардинал Бароний писал королю Фридриху III, что папа и инквизиторы единственные законные судьи книг...
Все приведенные категории преступлений судились трибуналом тем способом, который в своих основаниях и последствиях губил всякую идею права и лишь внушал целым поколениям страх к так называемому инквизиционному процессу, особенно тогда, когда он, не ограничиваясь церковной средой, стал применяться ко всем уголовным преступлениям.
Трибунал был двух видов— постоянный и подвижный. Скажем сперва несколько слов по поводу последнего. Вот ересь проникла в небольшие города и селения. К священнику прихода, где появились еретики, являлся с предписанием орденского провинциала монах. Он чаще всего был доминиканцем, иногда францисканцем; обыкновенно — человек средних лет, с замечательным даром слова. Его сопровождают секретарь, два мирянина в черном платье и иногда несколько вооруженных людей, тоже с крестами на груди. Он велит священнику собирать прихожан. В своей проповеди он говорит о высоком значении Римской Церкви, об обязанностях истинных католиков перед самим собой, Святейшим отцом и Богом. Он объявляет себя инквизитором и читает текст присяги, которую должны повторять за ним все присутствующие. Они обязываются защищать Римскую Церковь и доносить об еретиках. Увещание монаха действует на трусов и фанатиков, которые в тот же день делаются доносителями на подозреваемых лиц. Инквизитор сперва расспрашивает доносчиков порознь, а потом велит привести обвиненных. Каждого без свидетелей спрашивают об его религиозных убеждениях. Допрашиваемый или путается, или откровенно заявляет свою ересь. Его показания записывает нотариус. Если обвиненный отказывается говорить, то после угроз прибегают к пытке, к которой искусно приступают те самые люди, которые с ним прибыли....
Гораздо торжественнее появление инквизиторов в столице или большом городе, где они учреждали свою постоянную резиденцию и откуда распускали свои сети на прочие местности. Их обыкновенно двое: один доминиканец, другой минорит. Доминиканец пользуется некоторым преимуществом. Оба имеют папские полномочия. Они начинают свою деятельность тем, что отправляют письмо к самому государю или местному феодалу и представляются архиепископу или епископу. Последний обыкновенно закрывал свой судебный трибунал с прибытием особых судей и становился номинальным председателем инквизиционного трибунала. Он, конечно, обещает утверждать своей скрепой их приговоры (76). Вступать в борьбу с такими гостями было бы и бесполезно и небезопасно. Король обыкновенно велит написать циркуляр всем своим наместникам, чиновникам, магистратам с приказанием содействовать инквизиторам, арестовывать всякого, на кого они укажут, наказывать, как они определят, и ссылать всякого туда, куда они назначат. Магистраты городов обязаны готовить им помещения и снабжать всеми удобствами в случае переездов их самих или их помощников. Наместник королевский или начальник города лично являлся к прибывшим, приносили Евангелие, и, склоняясь в прах пред могуществом Церкви, он клялся над ним, что будет исполнять приказания инквизиции, — иначе ему грозило отлучение и отрешение от должности. Инквизитор предлагал ему пригласить нескольких выборных и благонадежных горожан для присутствия в трибунале и дать стражу, если в городе нет ассоциации или «Воинов Христа». В ближайший праздник в кафедральном соборе происходило торжественное богослужение.
Скромный доминиканец всходит на кафедру и со страстным убеждением, с каким-то фанатизмом взывает покаяться всех неверующих и заблуждающихся, пока есть время. Потом читают присягу доноса. Инквизитор объявляет, что если еретики или уклонившиеся в чем-либо от истинной веры явятся добровольно в трибунал и искренно покаются, то будут подвергнуты лишь простому церковному покаянию, но что если в продолжение месяца на них последуют доносы, то с ними поступят по всей строгости инквизиционных законов.
Целый месяц таким образом принимались доносы от всякого, кто желал погубить или оклеветать своего врага. Подсудность преступлений была широкая. Нельзя было ручаться, что самые благочестивые католики свободны, например, от обвинения по третьей статье. Для ненависти существовало непочатое поле. Наставало время сикофантов, и никогда в городе не развивалась в такой степени деморализация, как в эти дни. Даже лучшим людям приходилось лицемерить и лгать. Какая-то свинцовая тяжесть чувствовалась в воздухе. Все показания записывались в книгу с обозначением доносчиков. Если кто-либо из обвиненных являлся раньше истечения месяца и сознавался в ереси или в сочувствии к ней, то донос не имел значения. Но вот прошел установленный срок. Всех доносчиков приглашали в трибунал, каждому из них объяв ляли, что процесс по доносам может производиться двояким образом: обыкновенным обвинительным порядком и инквизиционным, и предлагали выбрать один из них. В первом случае, в случае неосновательности обвинений, грозило наказание, по законам римским и обычным при суждаемое клеветникам. Надо было иметь несомненную уверенность в правоте своего обвинения и в силе наличных фактов, рассчитывая погубить врага без собственного риска. Потому немногие соглашались на такой процесс. Большинство всегда предпочитало инквизиционный путь. Обыкновенно обвинители отвечали, что они не могут ручаться за достоверность всех имевшихся у них обвинений, что обвиняемый, может быть, и не еретик и слухи, которые ходят про него, может быть, и несправедливы, что главным побуждением к их доносу было не что иное, как боязнь не исполнить повелений святого престола, что лишь потому они передали такие слухи, что они не желают рисковать своею участью, и потому просят скрыть свои имена. В подтверждение же своих обвинений они могут представить свидетелей.
Заседания происходили в определенные дни и часы. В Тулузе, например, по средам и субботам, с двух до четырех часов. Но большие дела нарушали такой порядок. В каждом крупном городе Европы непременно был доминиканский монастырь. Одну из зал его очищали для заседаний трибунала. В Тулузе орден имел даже особый дом, бывший некогда прародителем всех доминиканских монастырей. Такой же дом был в Каркассоне, чей богатый архив служит источником для истории инквизиции. При таких монастырях, в подвальных этажах, окнами обращенных во двор, часто устраивали тюрьмы с железными дверями и решетками. Если в каком монастыре тюрьмы не было, то город обязан был или приготовить особое помещение для церковных преступников в своей темнице, или выстроить особую тюрьму.
При входе в монастырь и в зал трибунала стояла инквизиционная стража. В низенькой, но большой комнате, в которую едва прорывался слабый свет из маленьких окон, невзрачной, как все помещения того времени, с узорчатым деревянным потолком, за длинным столом, на широкой лавке сидели инквизиторы в белых и коричневых сутанах, с шапочками на головах, подпоясанные веревками. Около них помещался архиепископ, епископ или архидиакон в парадном костюме, за ними несколько священников и человек десять или двадцать черных заседателей трибунала. На стене висели булла и крест, эмблема инквизиции. На особом месте помещался нотариус, секретарь, чаще всего тоже из духовных лиц, а иногда один из консультантов, к которым судьи обыкновенно обращались. Сперва приглашали свидетелей и записывали их показания. Таким образом составлялся целый акт, который снова прочитывался вслух свидетелям, причем спрашивали их подтверждения. По этому акту постановляли приговор об аресте обвиняемого. В тот же день его сажали в тюрьму. На следующее заседание стража вводила подсудимого. Ему прочитывали обвинения неизвестного лица, где рядом с истинными подробностями, естественно, примешивались ложь и клевета. Немногие имели смелость сразу и прямо назвать себя еретиками. С ними дело кончалось скоро или обращением, соединенным с наказанием, или казнью в случае упорства.
Обыкновенно главный инквизитор начинал допрос подсудимого, искусно испытывая его в вере. Для этого у инквизитора имелась особая инструкция. Допросы по пунктам варьировались лишь по качеству обвинения. Но количество вопросов оставалось почти всегда одинаковое. Записав показания, инквизитор сравнивал их со словами доносчиков и допрошенных свидетелей. В случае, если подсудимый начинал сбиваться, противоречить самому себе, обвинять в клевете неизвестного доносчика, то снисходительный инквизитор мог показать ему копию доноса, но с пропуском имен. Он мог спросить его, нет ли у него личных врагов, давно ли и почему они питают злобу к нему и кто именно. Он также будто случайно напоминает ему имена лиц, причастных обвинению, интересуется, в каком отношении он находится с ними, а если оказывалось, что подсудимый не имеет против них ниче го, то уже не могло быть места оправданию. Продолжая упорствовать, он одинаково навлекал на себя или осуждение, если попадал в руки снисходительных, или мучения пытки, если имел несчастье стать жертвой какого нибудь сурового фанатика.
По двадцать шестому канону нарбоннского собора 1233 года для осуждения не требовалось даже допроса. До статочно было одного показания свидетелей, чтобы об винить; всякое отпирательство было напрасно и не имело никакого значения. А в свидетелях никогда не было недо статка. По двадцать четвертому канону того же собора даже преступники, обесчещенные люди и лишенные вся ких прав, могли быть свидетелями. Даже сами еретики могли пригодиться для такого дела с пользой. По буллам они никогда не могли свидетельствовать ни против като лика, ни за еретика, но всегда могли показывать протпн своих собратьев (77). Жена, дети, домашние и прислуга подсудимого не могли говорить за него, но всегда имели право показать против него. Потому в большинстве случаев не было иного исхода, кроме осуждения и наказание Личному произволу открывался полный простор. Подсудимый везде видел обвинителей и нигде не встречал защитников.
Наконец, извратилось самое положение суда. Однажды архиепископ нарбоннский, председатель суда, явился одновременно обвинителем еретика Бернарда Ото, его братьев и матери. Это было большое дело с тридцатью пятью подсудимыми. Один из последних сказал в глаза архиепископу, что лучше знает и понимает веру, чем он сам и все прелаты на целом свете (78). Нередко подсудимый мог в самом трибунале в лице инквизиторов столкнуться с палачами.
Еще до введения инквизиции на всем Западе прибегали к испытанию огнем и водой, как к средству дознания истины. Такой обычай господствовал и в варварские, и в темные века. По древним германским преданиям еще языческой эпохи, всякий, выдержавший такое испытание, считался оправданным. Суд огнем и водой был коротким и правым в глазах людей, не вышедших еще из дикого кочевого состояния. Этим людям могло казаться, что само божество вмешивается в дело человека правосудно и посылает слабому смертному могучие силы выдержать страшное испытание.
Введение пытки в процессах религиозных было одним из наследий, переданных германским язычеством христианскому миру и Церкви. Испытание, в сущности, было пыткой; зато вынесший то и другое одинаково являлся оправданным. Но служители христианского Бога оказывали несравненно меньшее сострадание к вынесшему пытку, чем язычники; они не признавали его правым, если бы он продолжал отрекаться от ереси и если бы на их глазах оказал чудеса геройства, потому что эти люди не могли примириться ни с какою уступкой, не нарушив своих основных принципов. Понятно, что ордалии первобытных людей, грубые сами по себе, являлись чем-то благородным в сравнении с пыткой, введенною в трибуналах инквизиции. Развившись из языческих ордалий, пытка сперва и носила такой характер.
Известия о первых пытках в религиозных делах тщательно занесены в летописи. В 1144 году в Суассоне в первый раз подвергли испытанию водой найденных там катаров, потом в Арассе в 1182 году (79). На реймском соборе 1157 года было решено пытать еретиков раскаленным железом. В Безансоне в 1209 году и в Страсбурге в 1212 году эта пытка была применена к вальденсам (80). Это привело в негодование папу Иннокентия III, который сделал строгий выговор епископам и на латеранском соборе 1215 года в восемнадцатом каноне запретил это варварство. Но после его смерти злоупотребления епископов возобновились. В 1217 году пытали еретиков в Камбре. Но тогда выдержавший пытку мог еще надеяться получить оправдание. Когда инквизиция упрочилась с 1233 года, то она эксплуатировала эту наивную веру германских племен в ордалии. В ее руках испытание сделалось лишь принудительным средством к сознанию.
Так как инквизиция юридически не нуждалась в признании подсудимого, то пытка являлась не чем иным, как орудием жестокости. Впрочем, необходимо заметить, что она была заимствована из светских судов. Один из инквизиторов наедине руководил истязаниями, ему нужны были только служители и иногда секретарь; последний был тоже из духовных лиц.
Конрад Марбургский отличался особенной изобретательностью в пытках, добиваясь для оправдания своей совести признания. Но личности вроде Конрада Марбургского или Петра Веронского были исключениями даже между инквизиторами. В сравнении с испанской эпохой инквизиция Лангедока и Италии употребляла пытки весьма редко. Тогда как в Испании инквизиторы почти все дело производили в пыточной камере, доминиканцы первого времени, за ничтожными исключениями, относились в ней с внутренним отвращением. Они старались действовать не на тело, а на дух подсудимого. Они никогда, правда, не стеснялись обмана и лукавства, хотя действовали вообще кротко. Большинство инквизиторов рассчитывало на свою итальянскую ловкость и на красноречие (81). Они пугали подсудимого страхом смерти, рисовали ему ужасы ада. В темнице грозили ему дать очную ставку со свидетелями, что само собой исключало всякое сил схождение. Наконец в каземат являлись бывшие знакомые и друзья несчастного, подосланные инквизицией. Они уговаривали его во всем сознаться, чтобы избегнуть смерти. Тот уверял их, что обвинение вымышлено, что он честный католик, наконец клялся в том. Тогда инквизитор приказывал привести жертву в пыточную камеру. Страшные орудия, хотя не доведенные еще до позднейшего усовершенствования и позднейшей утонченности, непри ветливо выглядывали с разных концов. Жертва была не преклонна. Инквизитор говорил подсудимому, что его клят ва ложная, что он напрасно клевещет на себя и навлека ет тем на инквизицию тяжелую обязанность (82). Пытки, одна за другой, следовали по их тяжести: дыбой, водой и огнем. Немногие могли дотянуть до третьей.
Это разнообразие и методичность истязаний могли появиться только после буллы Иннокентия IV, изданной и 1152 году, где пытка скрывалась под словами «умаление членов». Инквизиция взяла от светских судов готовые формы пытки и ее орудия. Постоянное вздергивание по блоку, от которого растягивались мускулы и хрустели кости в обыкновенной пытке испанских инквизиторов, несколько подходило к смыслу этого выражения, но это ничем не напоминало германские ордалии. Палачи были одеты в длинную черную одежду кающихся; их голова была закрыта капюшоном, в котором прорезаны были только отверстия для глаз, носа и рта. Они связывали назад руки подсудимого, поднимали его по блоку на воздух за веревку, некоторое время держали в таком положении на воздухе и потом резко кидали на землю. Ужасные крики, которые издавала жертва, никто не слышал, так как пытки производились обыкновенно ночью, зачастую под землей, откуда не проникал ни один звук. Дав пытаемому прийти в себя, приступали к нему тотчас же или немного спустя с новыми допросами, за которыми могла последовать пытка водой. Подсудимого опаивали, вливали воду в нос, в уши до онемения. Это сопровождалось еще наружными истязаниями, страшной болью от гвоздей, которыми была истыкана скамья и которые впивались в тело. Еретик истекал кровью, но его могли подвергнуть новой ужаснейшей пытке: разводили огонь, клали ногами к пламени и палили подсудимого медленным огнем (83).
Каждая пытка продолжалась около часа. Но, повторяем, разукрашенные подробности пыток, которые связаны с памятью об инквизиции, относятся преимущественно к испанской эпохе, к временам истребления мавров, евреев, колдунов, ведьм, к XV—XVI столетиям. В XIII и XIV веке в Ломбардии, Лангедоке, Франции и Италии пытка применялась редко, орудия ее были грубее и проще, системы и изощренных приемов почти не существовало. Личная жестокость какого-нибудь инквизитора значила здесь столь же, как всякий факт свирепого насилия, деспотизма, и имела смысл частного явления. В 1311 году Климент V если не мог возбранить пытку, то по крайней мере ограничил ее приложение. Для нее требовалось непременное согласие епископа.
Так или иначе, но признание от подсудимого добывали. Защитить его никто не мог. Трибунал был учреждением закрытым; проникнуть в него постороннему без приглашения было почти невозможно. Всякая дружба, преданность, энергия замирали на его пороге. Но в свободных городах Италии и Лангедока, издавна привыкших к суду гласному, с присяжными и защитниками, не могло не появиться попытки внести защиту и в духовный трибунал.
Вероятно, вследствие этого Григорий IX издал буллу, в которой запрещал светским судьям, адвокатам, нотариусам оказывать какую-либо защиту подсудимым под опасением лишения должностей. Это было, между прочим, подтверждено собором в Альби 1254 года, который подобную попытку считал преступлением, предусмотренным и статье о соумышленниках. Единственное, что допускалось, и то, вероятно, для лиц высокопоставленных в духовной и светской иерархии, — это апелляция к папе. Тогда все документы, протокол и приговор, посылали в Рим. Там, согласно каноническому праву, папа утверждал или изменял приговор. Инквизиторы лично ездили в Рим оправдываться и давать объяснения. Только папа мог взять под свое покровительство обвиняемого (84). Кардиналы изредка являлись разбирать жалобы на инквизиторов.
Так продолжалось до середины XIV столетия. Но потом и эта слабая узда была снята. Пользуясь тогдашним авинь онским пленением пап, инквизиторы избавились от всякого надзора, и в таком ореоле непогрешимости застает их эпоха королевы Изабеллы, время их господства над мини страми и народами.
История собственно провансальской инквизиции
Провансальская инквизиция не всегда была беспощадна — она знала оправдательные приговоры. Тогда трибунал выдавал подсудимому копию со своего постановления, в котором имя обвинителя, конечно, не упоминалось. Тень подозрения все-таки оставалась, подсуди мый был близок к преступлению по убеждению инкви зиторов, и легкое каноническое наказание, как то: уси ленная молитва, земные поклоны, считалось необходимым. В то же время оправданный получал от инквизитора отпущение от всякого дальнейшего преследования за свои мнимый проступок.
Разбирая громадную массу протоколов, чаще всего встречаешь приговор, объявлявший подсудимых в положс нии подозреваемых. При многочисленности подсудимых, при том характере процесса, когда малейшего желания всякого лица было достаточно для привлечения кого угод но к ответственности, это было весьма естественно. Улики были ничтожные, свидетель твердил одни стереотипные фразы: «Я слышал, как говорили...» и тому подобное. Подсудимый оказывался истинным католиком, но раз закравшееся подозрение нельзя было уничтожить никакими доводами. Подозрение формулировалось трояко: слабое, тяжкое и сильное.
Но должно заметить, что даже для права быть в подозрении требовалось все-таки оправдание от обвинения, а следовательно, казалось бы, и от всякого подозрения. За сим следовало полное клятвенное отречение от всяких видов ереси, которой прежде, может быть, вовсе и не знал подозреваемый. Тогда с него снимали отлучение и принимали в лоно Церкви как обращенного, но присуждая все же к церковному наказанию на три года. Это значило оставить в самом легком подозрении.
Тот, кто после всех вопросов, даже пытки, отказывался дать отречение от ереси, может быть не чувствуя за собой никакой вины и не желая клеветать на себя, а может быть и по упрямству, наказывался собственно по категории подозреваемых. Такие считались находящимися под тяжким и сильным подозрением. Они оставались под анафемой и если в продолжение года не приобретали права освободиться от нее, то считались еретиками упорными, хотя бы против них в этот год не было представлено никаких обвинений. Тогда их снова приводили в трибунал и бесповоротно решали их участь, передавая в руки светской власти. Весь срочный год они были лишены общества; всякий, кто случайно садился за один стол с ними, лишался права ходить в церковь в продолжение месяца. Конечно, они не могли занимать никаких должностей; даже умирая, они не могли пригласить врача, и позднейшие соборы в Безьере (1246) и в Альби (1254) осуждали такого врача, как соучастника.
Явившись в трибунал раньше года, такой человек свободно получал разрешение и присуждался к церковному наказанию на пять лет и в случае тяжелого подозрения на есять лет. Вполне отрекшийся и получивший прощение, но после снова впавший в ересь или заподозренный, уже не получал никакого снисхождения, а признавался отпавшим. Ему был один исход — смерть на костре, судьба еретика нераскаявшегося и необращенного. Обратившийся к трибуналам, с раскаянием раньше года, получал прощение, снятие отлучения, но с условием особых, весьма тяжелых дисциплинарных предписаний. Он должен был носить покаянную одежду темного цвета, сшитую на манер сутаны с большим крестом на груди и на спине, — мешок, в который просовывалась одна голова. Он должен был публично бичевать себя и примириться с путешествиями к святым местам, бдением, постом, истязаниями и постоянной молитвой в продолжение определенного времени.
Сам обряд отпущения по истечении срока епитимьи торжественно совершался в главной церкви города, в присутствии экс-еретика. Какой-нибудь доминиканец говорил с кафедры перед народом о тяжести обвинений, которые лежат на каявшемся. Теперь святая инквизиция соизволила совершенно простить его. Склоняя колена, клялся каявшийся, за ним клялись двенадцать человек поручителей, которые знали его жизнь в продолжение трех, пяти или десяти лет, смотря по степени подозрения. Только получив такие гарантии, Церковь отпускала на свободу того, кто хоть раз попал в ее трибуналы.
Первая инквизиция несравненно более дорожила жизнью человека, чем испанская. Казней было мало. Это происходило не столько от духа ее законодательства, хотя после оно стало значительно суровее, сколько от личного характера альбигойцев. Большая часть последних предпочитала обращение и покаяние, хотя и притворное; не только подозреваемые соумышленники, даже прямые еретики в большинстве случаев сознавались при начале допроса, многие являлись добровольно, рассчитывая на снисхождение.
Мы знаем, что альбигойство, по самому принципу своей веры, не любило и не ценило мученичеств. И потому к нескольких фолиантах протоколов передача в руки свете кой власти, то есть смертный приговор, встречается весь ма редко, как исключение. Зато в больших городах редкое воскресенье в доминиканских монастырях и в кафедральных соборах не было обращения какого-нибудь еретика и подозреваемого, а по улицам провансальских и ломбарде ких городов постоянно сновали взад и вперед люди с двумя крестами на груди, а нередко с опущенными на лицо капюшонами, а также женщины с желтыми крестами ни черных вуалях.
Так как казни были редки, то акт веры (аутодафе), как единственный публичный обряд инквизиции, привлекал к себе все внимание публики и потому совершался с некоторой торжественностью. По воскресеньям обыкновенно в церквях читали, кого, где и когда будут при нимать в лоно католичества, и приглашали народ слушать проповедь такого-то отца-инквизитора. Если обращенный был из числа сильно подозрительных, то во всех церквях в назначенный день не допускали проповеди, чтобы сосредоточить все внимание на одном месте. Как на праздник, народ устремлялся в собор смотреть на еретика. По большей части это был человек, ничем не при частный к альбигойству, а такой же католик, как и дру гие, имевшие счастье быть оставленными в слабом подо зрении. Он стоял на особом помосте, босой, в простой черной одежде. Начиналась обедня. После Апостола отец инквизитор велеречиво громил еретиков. Потом он переходил к предмету торжества. Он рассказывал, как было дело, скрывая имена, и заключал, что подсудимому дозволено отречься в присутствии всех предстоящих. Тот клялся над крестом и Евангелием, подписывал акт отречения, если умел писать, инквизитор разрешал его и внятно прочитывал то каноническое наказание, которому он подвергался.
Аутодафе разнообразилось по степени подозрения кающегося и по прихотливой изобретательности различных соборов. Приведенные нами постановления Доминика служили основой всякой епитимьи. Но костюм и другие условия покаяния разнились. Простые еретики и подозреваемые носили два желтых креста, но бывшие «совершенными» и альбигойскими духовными лицами носили третий крест: мужчины на капюшонах, а женщины на вуалях. Капюшон спускался на лицо, в нем были прорезаны отверстия для глаз и губ. В таком наряде обращенный беретик походил на фигуру восточного схимника. Носить кресты было обязательно, под страхом конфискации имущества. Сам Раймонд Тулузский позаботился об этом (85). Всякое украшение на платье из золота, серебра, а также шелковые уборы воспрещались. По воскресеньям и праздникам, кроме Богоявления и Вознесения, каявшийся обязан был являться в церковь и приносить с собой пучок розог. Во время чтения Апостола он снимал с себя обувь и платье, брал в руки крест и предлагал себя бить священнику. Этот обычай шел с X века, когда священники секли присужденных к покаянию, как господа своих рабов. Он имел целью унижение со стороны грешника, которое способствует спасению.
Все каявшиеся должны были присутствовать при каждой церковной процессии. Вместо свечей они несли розги. По окончании крестного хода они подходили к священникам для получения следуемых ударов. Раз в месяц они должны были являться с такой же странной просьбой в те дома, где прежде они виделись с еретиками. Они три раза в году приобщались; дома и в церкви клали учащенные поклоны. Они не могли пропускать ни одной службы соблюдали посты. В этом отношении каявшимся предлагаюсь целая диета, тщательно определявшая, в какой день какая им следовала пища. Во время поста они стояли за церковной дверью до Великого Четверга. Им предписано было обойти замечательные храмы и монастыри Франции, Италии и Испании, славные или своими мощами, или воспоминаниями. Эти богомолья бывали большие и малые; к первым причислялись храмы святого Петра в Риме, Иакова Компостельского, Фомы Кентерберийского, Кельнский трех царей; к малым — святой Эгидий в Сен-Жилле, святой Дионисий, святой Марциал, святой Леонард в Лиможе (86).
Лангедокские инквизиторы посылали и в Сен-Дени, в Сито, в Клюни и к Иакову Компостельскому, и, конечно, прежде всего следовало посетить знаменитые церкви ту-лузские, такие как кафедральный собор святых Стефана и Сатурнина. Каявшийся обязывался также сражаться по назначению Церкви против мусульман и против еретиков. Из опасения, что ересь может путем пилигримства осквернить святую почву Палестины, собор нарбоннский в 1235 году запретил каявшимся странствия за море (87).
Местный священник обязывался наблюдать за каявшимися своего прихода и подавать о них трибуналу точные и подробные донесения.
Церковное покаяние было не единственным для тех, преступление которых было чем-либо важно или которые долго упорствовали в признании. Такие лишались всех прав состояния. Они изгонялись со всех должностей. Часто им даже запрещалось жить в местах их прежнего пребывания; их переводили в католические города, где они ни для кого не могли быть опасны. В Безьере в 1246 году их подвели на основании восьмого канона под категорию отлученных, не принимали к засвидетельствованию их завещаний и не допускали к ним врача, даже во время смертельной болезни.
Но гораздо беспощаднее относилась инквизиция к тем, кто перед ее лицом сохранял упорство в ереси и, горделиво не отрекаясь от нее, провозглашал свою веру святой или кто только на пытке сознавался в ереси.
Первое влекло к костру, второе — к пожизненному зак лючению в государственной тюрьме.
То и другое сопровождалось проклятием. Каждое вос¬кресенье повторялась эта анафема на страх всем верным. Во время чтения похоронного списка молящиеся тушили свои свечи, а колокола погребально звонили.
Государственная власть, со своей стороны, бралась был. орудием исполнения приговора ив вознаграждение брала большую долю из имущества осужденного. Обыкновенно ком муна, инквизиция, епископ одинаково были наследниками всего достояния казненного. Коммуну сменил впоследствии королевский фиск, когда Лангедок стал принадлежать коро левской короне, а в Италии — местные принчипи, когда пала независимость городов. Описанная движимость шла на тюрьмы и на содержание служителей трибуналов. Дома, в которых жили еретики, не доставались никому. Они, как осквернен ные, должны быть разрушены; на то место, где они стояли свозили нечистоты. Всякий, кто стал бы строиться тут или предполагал очистить и культивировать такое место, подвергался отлучению (88).
Инквизиция в точности опиралась на законы Фридриха II. Раймонд VII Тулузский до того простер свою ревность к истреблению альбигойских жилищ, что даже озаботился сносить отдаленные хижины в лесах и горах. Интересно наблюдать в документах эту сделку. За сколько продавали себя инквизиторам католические государи?
Во Франции могущественная королевская власть целые столетия служила инквизиторам своими прокурорами и нотариусами для производства дела. С течением времени, в XIV столетии, когда последние встали под наблюдение прокурора, тот предписывал им наблюдать, чтобы не было злоупотреблений и грабежа монахов в трибуналах. Нотариусы, чиновники прежде весьма незначительные, стали теперь более чем секретари; они назначались из легистов с учеными степенями докторов и бакалавров. Они сами и их помощники должны были непременно присутствовать при каждом процессе. Они скрепляли, подписывали приговор и прикладывали к нему печать. Все легаты заботились лишь о выгоде королевского фиска, и им было выгодно подобное учреждение, которое легко могло найти источники доходов.
Мы знаем, что позже короли довели свою законную треть до половины. При канцеляриях инквизиции откры-глась особая канцелярия нотариуса. Королевский прокурор просматривал все процессы, которые нотариус обязан был препровождать к нему под опасением штрафа в сто солидов. Прокурора интересовал собственно доход, а вовсе не юстиция, потому что он на каждой странице видел ее посмеяние. Нотариус должен был, кроме того, иметь у себя две белые книги: одну для ведения протокола, другую для регистрации конфискаций, штрафов, уплат в пользу фиска. Об этих последних следовало извещать прокурора на другой день под страхом штрафа в сто солидов. Нотариус хранил дела инквизиции в специальных шкапах, вместе с инквизитором он имел ключ от них, но королевский или наместничий казначей имел также свой ключ, чтобы при случае свободно проверить свои приходы. За свои труды нотариус брал двадцать солидов за протокол, пять солидов за сентенцию и несколько меньше за отлучительную копию. За произвольный побор он платил двойной штраф. Администрация за розыск свидетелей брала два солида и шесть денариев с человека (89).
Обе стороны жили в тесной дружбе. Одна из другой извлекала всевозможные выгоды. Нотариус и никто из светских лиц не могли касаться духовных дел без полномочия инквизиторов. Никто не мог быть арестован по какому бы то ни было церковному делу без приказания инквизиторов, а это была обширная подсудность, так как сверх всего трибунал наблюдает еще за благочинием и жизнью священников, церковным благочинием и порядком богослужения. Что могло избавить и обезопасить от знакомства с застенками инквизиции, особенно при таких отношениях к ней светской власти? Последняя за все свои услуги требовала одного: чтобы ей сообщали об арестах и осуждениях. Таким удовлетворением личного самолюбия довольствовалась монархическая власть.
Все правила были вывешены публично на досках в трибунале инквизиции и у нотариуса, чтобы никто не отговаривался их незнанием. Трибунал, готовясь изречь свой страшный приговор заточения или смерти, в исключительных случаях мог созывать легистов и проверял дела их судом, но с соблюдением тайны; понятно, что к этому средству почти никогда не обращались, хотя буллы на этот счет существовали. Никакая гражданская власть не могла освободить из тюрьмы человека, заключенного инквизиторами. Такая попытка судилась бы наравне с еретичеством. Бонн фаций VIII подтвердил это своими декреталиями (90). Заточенный был собственностью инквизиции или, лучше сказать, одного папы.
На вечное заточение обрекались те подсудимые, которые отреклись от ереси только после крайних угроз и пытки. Таковой вынужден был дать клятву отречения, обязывался защищать католическую веру; с него снимали отлучение и, после всей церемонии, из церкви отправляли в тюрьму на пожизненное заключение для того, чтобы он мог достойно искупить свой грех. Инквизиция плохо верила клятвам, при сягам и отречениям. Она знала, что вынужденное согласие не может внушить доверия. Если отрекшийся был искре нен, то его заточение будет удовлетворением правосудию; если нет, то это будет наказание.
Осужденный сидел в отдельном каземате; он не знал и не видел своих соседей. Только муж и жена могли быть посажены вместе. В Италии тюремщики были снисходительнее французских и провансальских. Там посетители имели доступ к заключенным. Сперва осужденных помещали и государственные тюрьмы, потом стали строить особые, в центре города, по указанию епископа. Опасных преступ никое держали в темных подземных казематах, куда не про ни кал свежий воздух.
В 1311 году Климент V первым позволил надевать на заключенных кандалы на руки и на ноги. Об этом всегда с точностью и с указанием причины обозначалось в определении суда. Пища состояла из хлеба и воды. Хлеб, по соборным толкованиям, обозначал печаль, вода — несчастье. Содержание малоимущих арестантов шло из остатков их конфискованного имущества, прочих — за счет сумм инквизиции. В некоторых испанских трибуналах осужденных перед заточением клеймили.
Заточение могло быть временным, если преступник обнаруживал признаки искреннего раскаяния. Но это было исключением и нуждалось в особом утверждении епископа. По освобождении обращенный сам был обязан преследовать еретиков. Просидевший в заточении определенное время всегда мог быть снова привлечен к наказанию, если того требовала польза веры, а поводов к тому всегда бывало достаточно.
Еретики, от которых суд не мог вынудить отречения, так называемые упорные и вторично отпавшие присуждались к смертной казни сожжением. Но рука духовной особы не могла подписывать смертный приговор. Трибунал в таких случаях постанавливал: передать виновного в руки светской власти. Последняя знала, что скрывается под этими лаконичными словами. Так повелось с веронского собора 1183 году. В свою очередь, светским властям нельзя было не совершить казни над осужденным, ибо это равнялось ослушанию воли и распоряжения трибунала.
Должно заметить, что инквизиторы вообще избегали этой формулы. Они употребляли все искренние усилия, чтобы одолеть нераскаянного и не допустить его до костра. Они понимали, что казнь за убеждения не есть уже ни исправление, ни наказание, что она осеняет преступника венцом мученика и делает его пример привлекательным для многих. Они высоко ценили жизнь человека. Они использовали все, что внушало им благоразумие, диалектика, искусство их убеждений; они всеми мерами строгости и кротости старались подействовать на нераскаявшегося, чтобы вернуть его к Церкви. Ему давали время одуматься. Родные, друзья, ловкие проповедники навещали его в тюрьме и беседовали с ним. Наконец, приходил сам епископ. Еретик уже требовал казни; он, видимо, горел нетерпением погибнуть на костре. Но инквизиторы тоже не уступали, и удваивали свои просьбы и свою мягкость. Ему обещали по возможности облегчить заключение. Когда ничто не помогало — назначали день казни и снова отдаляли его. Иногда приговор сменялся заключением накануне траурной церемонии.
Так как казни случались довольно редко и были событием, то они обыкновенно волновали всю округу. Народ к дню казни стекался в город. О ней сообщали во всех церквях епархии. На площади готовили подмостки со связками дров. Осужденного проводили в одной рубашке, окруженного служителями инквизиции. В его руке был факел; перед ним несли распятие. Духовенство с хоругвями открывало процессию, потом шел главный инквизитор, окруженный клиром, певшим духовные гимны, и знаменосец инквизиции.
За ним по два в ряд шествовали члены трибунала. Толпы, без различия званий, падали ниц пред страшным знаменем. Когда процессия останавливалась на месте казни, то секретарь читал краткое извлечение из дела и приговора инквизиции. Тогда инквизитор всходил на трибуну. Он говорил об ужасах и нечестии ереси, передавал осужденного, как нераскаянного, в руки светского правосудия и произ носил над ним проклятие. Тогда к нему подходили королевские солдаты; один из королевских чиновников читал, что в силу закона еретики предаются сожжению. Палачи связы вали осужденного и костер поджигали.
Тот, кто раз обманул доверие инквизиции и снопа был приведен пред трибунал, как уже вторично отпан ший, не мог надеяться ни на какую пощаду. Отречение, как бы он охотно ни давал его, более не помогало; его предавали анафеме и светскому правосудию. Единственное снисхождение, которое могли сделать ему, — это повесить и задушить на эшафоте и уже потом кинуть на пылавший костер.
Бегство из тюрьмы равнялось сознанию в ереси. Оно не избавляло от заочной казни, хотя бы бежавший по своему преступлению заслуживал простого канонического наказания. С такой же церемонией приходили к костру; вместо самого осужденного присутствовала его деревянная статуи в колпаке и одежде осужденных. Ее держали на высоком древке и обходились с ней как с живым человеком. После заочного прочтения приговора статую кидали в огонь. Правосудие было удовлетворено.
Так как фанатичные еретики, не ожидая пощады, сами умерщвляли себя, то инквизиционная бюрократия выра ботала акт об особом осуждении тех еретиков, которые наложат на себя руки (91).
Если агенты инквизиции нигде не находили еретика и он не являлся по вызову, то, как ослушный, он тем самым объявлял себя нераскаявшимся еретиком. Поэтому заоч ный приговор составлялся обыкновенно в таком же смысле, с той только разницей, что вместо отсутствующего ю рело его изображение, деревянное или бумажное. Дети м внуки погибшего на костре еретика были лишены всех граж данских прав; они не могли получить никакого граждане кого и духовного места, даже если оставались католиками Над ними тяготело проклятие отцов.
Если во время следствия трибунал открывал, что обвиненный в ереси уже скончался, то ничто не останавливало судей потревожить могильный сон покойного. Еще Иннокентий III в 1207 году разрешил эту месть мертвым, предписывая удалять из христианского кладбища трупы еретиков (92). Но позднейшие соборы требовали сожжения этих трупов, чтобы еретик знал, что самая смерть не избавит его от воздаяния. Трибунал решал в таких случаях вырыть кости из гробницы и сжечь их, дабы опозоренная память еретиков потерялась в потомстве.
Трибунал с приором доминиканцев, королевским наместником или его чиновником, окруженный толпой народа, отправлялся на кладбище, где вырывали трупы. Процессия тем же порядком возвращалась назад в город, в открытом ящике волокли потревоженные кости, а герольд, : ехавший впереди, громким голосом кричал:
— Кто так поступит, так и погибнет (93).
Потом на площади публично жгли останки. Иногда без всякого постановления трибунала предпринимали очистку кладбищ, где лежали кости еретиков. В этих могилах, как оскверненных, нельзя было более хоронить умерших. Трупы еретиков сносили на особое место вдали от города, туда же, куда выкидывали падаль и всякие нечистоты.
На христианских кладбищах могли покоиться только истинные католики, потому при смерти свидетельство священника было необходимо. Кто похоронил еретика или заподозренного, тот должен был вырыть его собственными руками. Сверх того он подвергался отлучению от Церкви.
Во всех приведенных случаях трибунал еще строже преследовал преступления лиц духовных. Мера наказания была для них несравнимо выше. Так как инквизиция наблюдала за порядком церковного культа, то нарушение его преследовалось как ересь. Так, например, священник, который вторично окрестит неправильно окрещенного, присуждался к низложению и заключению. Могли наказывать за любое посрамление богослужения. Понятно, что таких преступников было много. Когда в XIV столетии появился протест против узурпации пап и духовенства в самой среде нищенствующих монахов, то поводы к обличению священников монахов являлись еще чаще.
Между альбигойцами, как мы уже знаем, встречались и бывшие католические духовные лица. Прежде чем предать виновного в руки светского правосудия, его следовало лишить духовного сана и, испросив разрешение местного епископа, низложить.
Обряд низложения совершали публично у того же эшафота, но с большим торжеством, в присутствии легата, кардинала и высшего духовенства. Осужденный стоял в полном священническом облачении; вокруг него теснились инквизиторы. После прочтения приговора старший инквизитор, сказав небольшую речь, произносил формулу отлучения. Он обращался к осужденному:
— Именем Бога Всемогущего, Отца, и Сына, и Святого Духа, властью апостольскою и нашей, мы, посланные в эти страны, снимаем с тебя твой духовный сан и отрешаем тебя от священнической и других обязанностей. Мы низлагаем, лишаем и исключаем тебя от всех церковных бенефиций, духовных прав и привилегий. В силу всего этого мы просим присутствующего здесь благородного сенешаля взять тебя в свое распоряжение и настоятельно предлагаем ему при исполнении наказания поступить с тобою согласно приговору.
Тогда к осужденному подходил старший по сану из присутствующих прелатов и приказывал разоблачить его до исподней одежды. При этом он лишал его последовательно всех знаков и достоинств священнического или ди-аконского звания, чаши и блюда, священнических одежд, далматики, Евангелия. Каждая вещь отрешалась от него торжественно, что сопровождалось всякий раз произнесением особой латинской формулы, в которой разъяснялось символическое значение каждого предмета. Даже чтец и церковный сторож осуждались с большей церемонией, чем всякие бароны и герцоги. От чтеца отбирали его книги, оч сторожа церковные ключи. Уже после окончания обряда военная стража брала виновного и поступала с ним со гласно приговору, то есть или отводила его в темницу, или возводила тут же на костер. Инквизиция не имела пристра стия к своему сословию. Она старалась мерами строгости поднять духовенство и отвратить соблазн.
«Что ужасно и возмутительно в каждом христианине, то, несомненно, относительно человека духовного или пресвитера читать и слушать еще ужаснее и потому должно быть подвергаемо наказанию более тяжкому» (94).
Но такой цели, то есть очищения и возвышения нравов духовенства, инквизиторы никак не могли достигнуть, руководствуясь своей системой. Средства, избранные ими, помогали не истине, а страстям. Меньше всего можно было ожидать справедливости там, где побуждением было слу жение не любви, а ненависти. Страшные жертвы, принесенные инквизицией во имя религии, послужили не на пользу, а во вред ей. Церковь в них не нуждалась, потому что они опозорили ее.
Скоро и сами инквизиторы, хранившие долго бесстрастность и руководствовавшиеся одной фанатической ревностью к своему делу, испытали соблазн и стали злоупотреблять своей безотчетной и громадной властью. Уже в XIII столетии раздался обвинительный голос против злоупотреблений.
«Почему отказывают обвиненным в законном их праве защищать себя? — спрашивал один из католических богословов. — Зачем обвиняют в ереси честных женщин единственно за то, что они отказываются удовлетворить беспутным предложениям некоторых священников, тогда как в то же время отпускают без покаяния богатых еретиков, которые могут заплатить судьям и откупиться?» (95)
Эти слова открывают такие тайны трибунала, которые никак не могли попасть в ее официальные протоколы. Значит, позднейшие инквизиторы, которые насиловали еретичек и мнимых ведьм после осуждения или покупали их расположение ложными обещаниями спасения их жизни, имели пример в делах трибуналов прежнего времени. Пылкая ненависть, которую всегда внушало к себе католическое духовенство в Лангедоке, бывшее гасителем культуры и цивилизации, ненависть, художественным памятником которой служат вечно свежие стансы провансальских трубадуров, обязана своей силой более всего деятельности инквизиторов, системе насилия, которую они приносили с собой, их методичной жестокости, особенно лицемерию, корыстолюбию и низости врага и без того ужасного и могущественного.
Эту власть можно было смело назвать всесильной, и оттого она легко могла стать позорной. Особенно обнаруживались корыстные цели инквизиции относительно так называемых соумышленников. Трибунал привлекал к своему суду всякого, кого кто-либо из его членов желал осудить, опозорить, обобрать, изгнать, заключить или казнить. От него зависело обличить любого католика в соумыш-лении и подвергнуть наказанию. Если мы видели, как трудно было определить границы так называемому подозрению, то в вопросе о соумышлении инквизиция не встречала никаких пределов в подсудности. В самом деле, что не подлежало сжатому, но в сущности столь широкому определению? Кто не знал про ересь, кто мог избегнуть знакомства с еретиками, когда последние одно время даже превосходили численностью самих католиков, и кто в душе, отстраняясь от всякой солидарности с ними, по букве закона, формально не подходил под категорию соумышления? Между тем соумышленники были поставлены рядом с защитниками. Они преследовались как настоящие еретики.
Относительно их надо отличать две эпохи: до и после 1250 года. В первый период их сперва отлучали заочно, но через сорок дней (а позже через год или два) они должны были являться снова и в случае откровенного сознания, если притом трибунал ничего не имел особенного против их личности, присуждались к церковному покаянию. В противном случае они становились предметом позора и источником дохода. Каждый месяц, в продолжение которого виновный не получал разрешения, он должен был платить пятьдесят солидов, которые шли в пользу епископа или правительства. Он не мог иметь голоса на выборах, не мог быть адвокатом, нотариусом, лишался права свидетельства, права завещания, права наследования. Четвертую часть своего имущества он вносил в виде пени, Лишенный покровительства законов, он не мог жаловаться ни на кого, а его мог преследовать всякий; его защита на суде не имела силы, так как он считался обесчещенным. На раскаявшихся лежала тяжесть общественного позора и презрения. Покаяние за соумышление продолжалось от пяти до десяти лет. Осужденный оказывался в положении обращенного еретика. Подобно ему он должен был усиленно молиться, поститься, в известное время выходить из храма и стоять за дверьми, носить покаянную одежду с крестом, не пропускать религиозных церемоний, крестных ходов, быть публично битым каждое воскресенье пред порталом церкви.
В 1253 году последовал указ Иннокентия IV заменять покаяние обеспеченных соумышленников деньгами. Это было нечто вроде индульгенций, которые старательно раздавал этот папа. Потому в легенде Матвея Парижского о сновидениях, бывших одному кардиналу, Церковь в образе плачущей женщины говорит Господу, что Иннокентий IV обратил ее в меняльную лавку, поколебал нравы и веру и уничтожил справедливость. Папа предназначал этот новый ис точник, странно переводивший веру на деньги, для содержания трибуналов. Преемник его поддерживал такое распоряжение. Так как исполнение приговоров лежало на правительстве, то светская власть во Франции распорядилась поднять эту плату, чтобы получить долю и за свои труды. Впоследствии французский король почти совсем присвоил этот источник дохода и отдавал инквизиции лишь ничтожную долю. Наконец, сбор этот стал торговлей и принял чисто коммерческий характер. Например, в 1310 году одному каявшемуся было дозволено избавиться от позорных крестов за тридцать ливров, которые пошли на постройку моста и его родном городе.
Ослушники римских приказаний и святой инквизиции в глазах трибуналов также были соумышленниками. На них ложилась иногда более тяжелая ответственность. Так, тот, кто позволил поселиться на своей земле еретику, лишался своих владений в пользу сюзерена. Всякий, кто откажется воевать с еретиками, в силу буллы того же Иннокентия IV от 1254 года, кто будет противиться крестовой проповеди и в продолжение года не окажет достаточных оснований для разрешения, — сам считается соумышленником; в этих случаях наказание сопряжено с лишением всяких прав на владение. Церковь благословляет его врагов, освобождает его вассалов от обязательств, каждый может отнять его достояние и владеть им под условием истребления еретиков и исполнения обещаний относительно Церкви.
Римский двор всегда хорошо сознавал, как мало помогают всякие внешние средства к уничтожению ереси. Гильдебранд целью своей клерикальной ревности поставил искоренение причины и поводов зла. С этого времени лучшие люди громко требовали реформы нравов клира, распространения поучений и расширения проповеди. В вопросе об еретиках многие из них если и стояли за инквизицию, то далеко не за такую, какая осуществилась на практике; сознательно они предпочитали слова убеждения и высокий нравственный пример. Когда облагородится духовенство и поймет свое истинное призвание, улучшатся его нравы, тем самым уничтожатся и предлоги к нападкам на католицизм. Такую мысль, между прочим, проводил Доминик.
Подобные меры требовали подвига и много идеального самопожертвования; исполнители в массе, а не в отдельных личностях должны были обладать самоотречением, редкой нравственной высотой характера, одним словом, теми духовными свойствами, которых никак не могли воспитать века бесправия и насилия. Лучшие и благороднейшие силы уходили на служение личному спасению, сосредотачивались в себе, отрешались от этого бренного мира; в тиши монастырей и в ученой келье они стремились к иному, лучшему, безуспешно занимаясь разрешением заман-яивыхтайн бытия. Они являли высокие примеры бескорыстия и нравственной чистоты, но всегда имели в виду узкую личную цель, а не дело общечеловеческого спасения. И потому втуне, неведомо никому и без пользы пропадали благородные примеры этих людей, живших не земными интересами, а идеальными помыслами.
Средневековый рыцарь, бившийся за сирых и убогих, во славу креста и Мадонны, был продуктом уже сложившихся исторических обстоятельств, слугой людей, руководивших обществом, естественно дававших ему тон и пример, потому что они обладали относительной образованностью и ученостью, а тем и другим всякое общество направляется и движется. Эти люди эксплуатировали его и поставили в такое противоречие с его прямым призванием и личными стремлениями, выпутаться из которого ему было невозможно. Тем менее было ему возможности возвыситься до идеальных стремлений. Потому в некотором смысле инквизиция была прямым и безысходным результатом условий тогдашнего нравственного состояния общества, законным, хотя и плачевным порождением времени. Она объясняется отсутствием образователь¬ных сил, закованной в богословскую ферулу[40] мыслью, преобладанием схоластического богословия, отсюда — односторонним предпочтением богословия и философии всякому другому знанию, решительной невозможностью при таких интеллектуальных данных подняться до нрав¬ственной высоты целым тысячам людей, корыстолюбием рыцарского сословия, понятным в людях, которые в большинстве жили для тела и дрались из-за обогащения, и, наконец, быстротой распространения ереси, подавить которую могла только война.
Из двух средств — убеждения и инквизиции — было выбрано легчайшее. Примириться с ересью, возвыситься до терпимости было невозможно для тех веков, когда само христианство было еще молодой религией и когда служс ние католицизму давало духовенству, то есть руководителям, источники и прелести существования. Доходы аббатстн, епископств, которые увеличивались конфискациями, пред ставляли неодолимые соблазны, были экономическими побуждениями инквизиции. Из-за куска хлеба люди созна тельно идут на преступление. Если спустя столетия, когда экономические соблазны устранились, инквизиция еще была прочна, то тем понятнее ее появление и дальнейшее развитие в XIII и XIV веках.
Нельзя сказать, чтобы служители религии, которые опозорили ее созданием инквизиции, не ведали, что творили. Это были вовсе не злодеи в душе и по натуре. Вне трибунала большинство доминиканцев были люди кроткие, готовые прийти на помощь ближнему, способные даже на подвиг; они боготворили знаменитого основателя своем о ордена и с прискорбием сознавали, что он не благословлял их дела. Нравственность имеет вечные принципы. Напрасно бы было объяснять помрачение ее существенных оснований религиозным фанатизмом. Убеждение в злом мотиве инквизиции не могло не мучить честных первосия щенников. Потому те же папы и соборы рядом с инквизицией приняли и такие меры, какие могли бы предохраним, общество от заразы. Они особенно сосредоточились на этих мерах, когда убедились в невозможности преобразовать самих себя и своих собратьев по служению.
Так, мы говорили, что в Лангедоке четырнадцатилетние мальчики и двенадцатилетние девочки должны были давать клятву в том, что они будут верны католической Церкви. Видимо, переполошенный Рим и прелаты не могли придумать ничего, на чем не лежал бы след воинственного переходного положения, но при этом забывали существенное. Юноши должны были ежегодно возобновлять эту клятву, но их не учили, как надо отличать истинную веру от ереси. Напротив, подобные разговоры, а тем более диспуты между мирянами были даже воспрещены под страхом отлучения, чтобы не подать повода критически отнестись к догмату. Дабы люди не имели повода заблуждаться в Писании, им с 1234 года вовсе запретили знать это Писание и дозволили читать Библию только по-латыни, на языке, недоступном ни для народа, ни для горожан, ни для рыцарей. Потом запретили и латинскую Библию в частных руках, а дозволяли читать только Псалмы и Часы. Мало того, им запретили даже иметь какие-либо богословские книги на понятных языках. Эти книги следовало принести к епископу через восемь дней и сжечь как преступные. На религию, желая поставить ее недосягаемо, стали смотреть так, как смотрели подданные Дариев и Ксерксов на своего монарха, не решаясь опозорить его своим рабским словом. Когда религия стала предметом слепого страха и ужаса, она могла легко стать предметом ненависти. Католиков силой загоняли в храмы каждое воскресенье. Они должны были три раза в год исповедоваться и приобщаться; несоблюдение этого условия давало повод заподозрить в ереси. Из служителя алтаря сделали полицейского сыщика. Это было решено тем же тулузским собором 1229 года, который установил инквизиционный процесс. Приходской священник должен был доносить епископу о прихожанах, а иначе его самого низлагали и лишали прихода и бенефиции. Тот, кто не бывал в храме в воскресенье, платил штраф двенадцать денариев: половину Церкви, половину своему сеньору (96). Было неудивительно, если из религиозного чувства казначейства сумели извлечь известный доход. Гораздо непостижимее и характернее для эпохи было подозрение в ереси на всякого католика, имеющего у себя Библию (97), и предание его за суду инквизиции.
До такого способна была дойти нетерпимость! В этом сложении идея инквизиции произнесла сама себе суровый приговор. Действительно, инквизиция должна была изгонять Библию. В ней она могла найти свое осуждение. Евангелие, во имя которого она хотела бороться, оказалось ей враждебным, и она поняла это.
Попытки Тренкавеля и Раймонда VII к восстанию; убийства в Авиньонете; вмешательство Генриха III; Лориский договор; взятие Монсегюра и новые процессы
Переходим к изложению истории гонений на последних альбигойцев, к фактам, в которых проявилось действие инквизиции.
В судьбах альбигойства можно отличить четыре периода.
Вначале ересь с удивительным успехом сокрушала господствующую веру, проникала в хижины и дворцы, гонимая, уходила в леса, переносилась с крайней быстротой на огромные расстояния, оставляла следы своего пути почти в каждом замке, увлекала за собой женщин и знать, находила в последней покровителей и поклонников и благодаря этому снова распространялась в массах; тогда еретики имели своих епископов, своего папу, свои соборы.
Во второй период Римская Церковь приступает к духовной борьбе с ней. Ее легаты при всех усилиях не могут достичь успеха— они вступают в словопрения с учеными альбигойцами, часто терпят поражения и прибегают к мщению, к мерам насилия, которые не помогают, а вызы вают более сильное негодование и закаляют ненависть еретиков. Доминик действует несколько счастливее своими про поведями, но находит мало подражателей, а он не можс! быть всегда и везде.
Когда один из легатов пал от руки альбигойцев, то пап ство ополчило крестоносцев и начало кровавую войну с еретиками, которая составляет третий период, сокрушим ший политическую силу альбигойства, уничтоживший вмс сте с тем национальность Лангедока, но не искоренивший сердечных верований в каждой отдельной личности. Громадная армия была разбита — она более не существовала как целое. Целые полки погибли в страшной битве, прочие скрывались от плена.
Но многие воины были еще живы, они могли собраться снова к своим частям; их вожди могли увеличить их численность новыми наборами и выставить новые силы. Надо было тщательно отстранить всякую возможность подобной случайности. Для этого надо было обезоружить всех разрознен ных, сделать их покорными, прибрать их к рукам, учредить военные суды во всех покоренных местностях, пленить и наказать вождей, действуя везде малыми отрядами с осо бым назначением. Инквизиция выполняет эти задачи, что составляет четвертый период альбигойства. Людей в шлемах и кирасах сменили судьи в белых и коричневых рясах.
Завоеватели, то есть французская королевская власть, получили немало от содействия инквизиторов. Инквизиция вела внутреннюю борьбу, не столь шумную, но упорную и постоянную, отчего и достигла более прочных и решительных результатов. Борьба велась целое столетие, поэтому четвертый период — самый продолжительный. Как предприятие медленное, но систематическое, имевшее в виду прочные цели, а не временное торжество, инквизиция опиралась на дружескую и верную поддержку светской власти. В Лангедоке она имела надежную опору в Раймонде VII и Людовике IX. Пока не замолкло национальное чувство в провансальцах, положение инквизиторов, этих ужасных, хотя и безоружных воинов, было опасно; они были предметом патриотической ненависти.
Мы оставили тулузцев в полном негодовании и озлоблении по поводу суда над синьором Пейрпертюзом и бароном Ниортом. Хотя страна была обезоружена, однако негодование проявилось в убийстве королевского сенешаля. Тем не менее новый епископ из доминиканцев, Раймонд, вместе с самим графом разыскивал по ночам еретиков. Можно было ожидать, что и сами судьи не избегнут руки тайного убийцы. Три тулузских проповедника были убиты в окрестностях Кордеса еще до введения трибуналов; их трупы бросили в колодец (98).
В 1233 году доминиканцы, получив инквизиторскую миссию, все еще медлили действовать в Лангедоке. Ересь будто скрылась. Но когда в следующем году Арнольд Каталонский вместе с Вильгельмом Пеллисом и магистром Вильгельмом из Ломбера хотели открыть трибунал в Альби, главном центре ереси, то, не успев еще исполнить своего полномочия, пострадали от мести населения, озлобленного слухами о насилиях в новых инквизиторских судах. Арнольд начал свои действия тем, что вместе с доминиканцем Вильгельмом Пеллисом присудил к казни двух еретиков, а двенадцать послал служить за море вместо покаяния. Но не прошло и нескольких дней, как ему пришлось убедиться в своем бессилии.
Дело происходило летом 1234 года, в четверг после Троицы. В Альби недавно скончалась еретичка Бессейра. Ее любили в городе и католики, и альбигойцы. Тихо похоронили ее на католическом кладбище святого Стефана. В это время Вильгельм, не заручившись еще поддержкой капитула и не показав своей силы и власти, приказал очистить католическое кладбище от еретиков. Епископ имел по этому делу со-квещание с городским духовенством в кафедральном соборе. Доминиканцы, присланные приором для розыска с буллой в руке, требовали содействия. Епископской страже и городскому бальи ведено было идти и разрывать могилы. Те отказались; трибунал, еще не организованный, даже не был открыт, не имел членов от правительства и города, которые могли бы дать ему действительную законную силу, ни собственной стражи, которая могла бы исполнить его приказания. Арнольд действовал пока в качестве проповедника. Вынужденный сам идти на кладбище, он пригласил с собой нескольких капелланов. Там его уже ждала большая толпа. Арнольд просил указать ему могилу Бессейры, которая недавно умерла. Он взял заступ и начал раскапывать могилу. Тогда среди толпы, в которой было двести-триста человек, послышался громкий ропот. Один, который был посмелее, кинулся на инквизитора. Он ударил его, воскликнув:
— Вон из города изменников! Смерть ему!
Это подхватили остальные, кинулись на Арнольда, смяли его и начали колотить кулаками. Некоторые старались убить священника кинжалами, другие, не допуская того, били его по лицу, таскали за капюшон, рвали в клочки его рясу. Собрав последние силы под сыпавшимися на него ударами, доминиканец мог еще воскликнуть:
— Благословен Господь Иисус Христос! — И, обращаясь к толпе: — Бог да простит вам!
Кто-то закричал:
— В реку его, в Тарн!
Инквизитора поволокли по земле. Народ кричал:
— Смерть ему, не следует на земле жить такому палачу!
Прошли одну улицу, повернули в другую, к берегу Тарна. Уже оставалось несколько шагов до реки, доминиканец прощался с жизнью, как военный отряд освободил его. Он бросился бежать прямо в церковь святой Цецилии, в которой еще продолжалось заседание, со страхом скрываясь от новых преследователей. Вслед он слышал возгласы толпы:
— Смерть изменникам, свернуть головы тем, кто не кинет его в реку!
Кричали человек двести. Окровавленный, истерзанный, в присутствии епископов и всего духовенства Арнольд перед алтарем торжественно произнес над Альби проклятие (99). Стряхивая прах от ног своих, он оставил отверженный город. Граждане только теперь поняли свое положение. Они просили монаха о прощении. Сперва он был непреклонен, но потом к просившим присоединился сам епископ. В ува жение его настояний Арнольд сказал, что он смягчил свой приговор, что охотно прощает и забывает все обиды, нанесенные лично ему, но не может простить оскорблений, сделанных мятежниками Церкви и папе. Альбигойцы попали под отлучение.
В 1235 году такую же неудачу потерпели первые попытки ввести инквизицию в Тулузе. Там было готово помещение для трибунала в доминиканском монастыре. Петр Челлани, увлеченный проповедью Доминика, бросил свои богатства, подарил свой дом новому братству, а сам пошел в монахи. Ему суждено было быть первым инквизитором в Тулузе. В том самом доме, где некогда он же устраивал гражданам свои праздники, теперь открылся суд, на котором, отрешившись от мира, вельможа призывал к ответу своих бывших друзей. Папское полномочие делало его, в сущности, судьей и государем страны. Он, таким образом, не проиграл ничего, сделавшись нищенствующим доминиканцем. Вместе с ним получил полномочие другой современник Доминика, монах Вильгельм Арнальди.
Первое заседание вовсе не носило инквизиционного характера — оно было публичным, собралось много народа, был приглашен графский наместник, потому что Раймонд VII находился в Италии. Обвиняемых еретиков было 'много. Между ними особенно выделялся некто Иоанн; против него выставили свидетелей, дали очную ставку и произвели перекрестный допрос. Таким образом, процесс был вовсе не инквизиционный, поскольку последний еще не успел выработаться. Тем не менее тут же над Иоанном торжественно произнесли смертный приговор. Его передали наместнику. Тот уже приказал распорядиться казнью, но народ не позволил. В толпе говорили, что будут во что бы то ни стало защищать осужденного; громко ругали монахов и викария. Иоанна перевели в епископскую тюрьму. Дорогой он называл себя добрым христианином и католиком. Это еще более вооружило горожан против незваных судей. Вся Тулуза была в волнении. Но доминиканцы тактично дали время успокоиться народу. Потом они начали снова судить заключенного и опять публично. Они убедили присутствующих в его еретичестве. На этот раз они одержали верх. Те, кто прежде защищали осужденного, теперь стали легкомысленно проклинать его и не мешали совершению казни (100). Вместе с ним сожгли многих еретиков, приведенных из Лавора. Но этим не кончилось сопротивление инквизиции со стороны тулузцев.
Оба инквизитора отправились в Керси. Они пока не имели возможности открыть трибуналы и действовать на правах легатов. В Кагоре они без сопротивления со стороны народа вырыли несколько трупов на кладбище, долго волочили их по улицам и после сожгли. В Муассаке они поступили так же. Один из альбигойцев думал скрыться под монашеской рясой и удалился в соседнее аббатство, но инквизиторы и оттуда вытребовали его. Он бежал в Ломбардию и был осужден заочно, то есть сожгли его чучело.
В присутствии Челлани аббат святого Сатурнина в Тулузе при содействии наместника посадил в тюрьму одного гражданина из предместья по обвинению в соумышлении. Народ ворвался в тюрьму и освободил его. Когда инквизиторы вернулись, они возобновили дело. Они требовали виновных на суд.
Между тем приехал граф Раймонд VII из Рима. Он был вынужден позволить монахам хозяйничать в своей столице. Он просил об одном, чтобы простили тех, кто сознается и расскажет всю правду. Ему обещали это. Между тем инквизиторы приказали вырыть с кладбищ нескольких заведомых еретиков. Когда стали производить эту операцию в таком людном городе, как Тулуза, то это грозило не уличным беспорядком, а настоящим мятежом. Капитул обратился к Раймонду, тот — в доминиканский монастырь. Распоряжение шло от Челлани. Надо заметить, что этот монах некогда был пажом во дворце Раймонда VI; там он имел ссору с молодым графом и с тех пор был его личным врагом. Теперь перед ним унижался жалкий государь Тулузы.
Как ни больно это было в душе Раймонду, но он так любил свой народ, так чувствовал себя виновным перед подданными, что решился ради них снести личное оскорбление. Челлани отверг его просьбу. Тогда Раймонд обратился к легату, архиепископу вьеннскому. Ему он особенно жаловался на Челлани, ссылался на его личную злобу к нему и предсказывал, какой вред будет для апостольского престола, если этот человек будет сделан постоянным инквизитором в Тулузе.
Легат согласился удалить Челлани в Керси. Доминиканцы снова обиделись на такое распоряжение легата. Но тулузцы от этого ничего не выиграли. Вильгельм Арнальди (или Гильом Арно, как его называли французы) был ни чем не лучше. Он вырыл двадцать трупов и сжег их. Вместе с тем он осудил двадцать еретиков; между ними был Арнольд Роже, считавшийся у альбигойцев архиереем. При помощи друзей все приговоренные успели бежать из Тулу зы и заперлись в Монсегюре. Тогда Арнальди обвинил н соумышлении многих знатных граждан, вероятно членов капитула, и потребовал их в трибунал. Те отвечали ему, что не пойдут, и советовали впредь быть осторожнее с ними, если ему дорога собственная жизнь. Арнальди не унижался и обратился за содействием к консулам, но они приняли сторону преследуемых. Ему заявили, что он должен или перестать мучить Тулузу своим преследованиями, или убираться из города.
Это не смутило неустрашимого монаха. Вместо ответа он снова вызвал к суду нескольких лиц. Тогда консулы, не решаясь нанести личное оскорбление папскому уполномоченному, обрушились на тех приходских священников, которые взялись быть исполнителями приказаний Арнальди. Консулы изгнали их из города своей властью, а прочим духовным лицам грозили казнью, если кто-либо из них будет служить трибуналу. Теперь капитул принялся за инквизиторов. Ему пришли на память те добрые старые годы свободы, когда он был всевластен и когда не он, а ему давали присягу.
При звуках набата герольды поехали по всем улицам и от имени консулов и графского наместника объявляли, что впредь всякие сношения с доминиканским монастырем вос-лрещаются, что не позволяется ни продавать, ни давать ничего монахам. К монастырю приставили стражу. С братьями стали обходиться по-солдатски; за сопротивление и дерзости били. Их хотели голодом принудить к уступке.
Когда епископ Раймонд вступился за доминиканцев, то и с ним поступили так же. Консульская гвардия заняла его дворец, взяла его бумаги и объявила его арестованным. Он в это время был болен и не мог сопротивляться. Несколько его слуг было ранено. Напуганный, он просил позволения оставить город; его не пустили и держали как заложника.
Старая ненависть к духовенству выплывала наружу. Альбигойцы надеялись, что как бы чудом вернутся дни их торжества. Если верить жалобам папы, то не только епископу, но и всему духовенству было запрещено проповедовать, капелланов за ослушание били в церквах. Потом и прочих духовных задержали под домашним арестом. Несмотря на то что старались прервать всякое постороннее сообщение с монастырем, нашлись люди, которые тайно, вероятно при содействии стражи, сумели помочь доминиканцам, так что последние не нуждались ни в чем.
Инквизитор Арнальди оставался непоколебимым и по-прежнему взывал к виновным. Он знал, что всякий может убить его из-за угла, но что в силу его полномочий никакая власть не смеет задержать его. Впрочем, по совету доминиканцев, которые опасались за его жизнь, он, получив согласие консулов, решился оставить город. Он вышел из Тулузы 5 ноября 1255 года торжественным образом. Его провожали монахи, пока консулы не запретили дальнейшие проводы, которые принимали вид манифестации, и грозили, что вернут Арнальди в монастырь. Вместе с тем инквизитору объявили от имени графа Раймонда VII, что он должен совершенно оставить пределы его владений.
Вильгельм почувствовал себя свободным лишь в Каркассоне; с ним был только один послушник. Но, оставляя Тулузу, он поручил кафедральному приору вызвать к суду оскорбивших его лиц, с тем чтобы они передали повестки приходским священникам. Последние пытались исполнить поручение; об этом узнали консулы и в ту же ночь арестовали священников. Утром их привели к суду и велели немедленно оставить город, а прочим духовным лицам под страхом смертной казни запретили принимать подобные повестки (101).
Между тем четыре доминиканца в тот же день осмелились потребовать самих консулов к ответу перед трибуналом в Каркассоне. Убедившись, что доминиканцы не думают покориться или уступить и что монастырь будет постоянным источником враждебных агитаций, капитул постановил изгнать немедленно из города всех доминиканских монахов, не исключая и епископа.
6 ноября сорок доминиканцев потянулись из города, по два в ряд, они остановились в загородном доме кафедрального духовенства. Епископ Раймонд прибыл в Каркассон и 10 ноября издал вместе с Арнальди и каркассонским епископом отлучение над капитулом. Сентенция обвиняла одиннадцать консулов в соумышлении с ересью и в неуважении предписаний его святейшества. О Раймонде VII не говорилось ничего, но знали, что изгнание монахов произошло не без его одобрения. Впоследствии легат, сообщая об этих происшествиях папе, обвинял и прямо указывал на графа как виновника всех гонений. В отсутствие доминиканцев минориты должны были вынести на себе весь гнев капитула. Они, не боясь опасностей, смело распространяли отлучение, произнесенное Арнальди. Их монастырь подвергся нападению; несколько францисканцев были избиты до крови, когда они отказались повиноваться капитулу. За все это должен был ответить несчастный тулузский граф. «Мы не можем обойти молчанием все эти злодеяния против веры», — писал Григорий IX Раймонду VII.
Папа слышал все подробности от самого тулузского епископа, который для этого ездил в Рим. Папа припомнил теперь и другие провинности графа: как он не платил обещанного жалованья профессорам богословия в университете, как вследствие этого прекратилось преподавание ряда предметов, как он отказывался ехать в Палестину прослужить обещанные пять лет, как дозволил осажденным жить на его земле. как держал при своем дворе подозрительных лиц. Теперь пап;: требовал полного удовлетворения за все и прежде всего воз вращения доминиканцев и инквизиции. В ожидании же руча тельств отлучил Раймонда VII от Церкви и приказывал везде «каждое воскресенье и по праздникам читать это отлучение во всех церквях легатства при звоне колоколов и погашенных свечах, до снятия его по распоряжению легата».
Когда это отлучение пришло в мае 1236 года в Тулузу Раймонд VII уже был под двойным проклятием. Он был отлучен архиепископом нарбоннским и инквизитором Арнальди за мнимое сочувствие нарбоннским еретикам. Жители Нарбонны обошлись с доминиканцами еще хуже тулузцев. Они напали на монастырь, овладели им, захватили книги инквизиции и сожгли их (102).
Раймонд VII был менее всего виновен в этом новом оскорблении инквизиции. Прошло несколько дней, и его требует к новому ответу епископ Комминга, которому было поручено разобрать его спор с аббатом Муассака за права над этим городом. Граф не явился на суд и был отлучен епископом в присутствии архиепископов Оша и Бордо; 16 марта 1236 года по всем церквям в Гиенни, Лангедоке и Аженуа приказано было читать это проклятие.
Вероятно, не надеясь на последствия отлучения, папа и прелаты пожаловались на Раймонда VII Людовику IX. Папа просил короля принудить непокорного графа ехать за море, а «вместо него послать брата Альфонса управлять тулузским графством» (103). Ради того, чтобы скорее и окончательно закрепить за французской короной и надежным королем бурный Юг, Григорий IX прислал разрешение венчать Жанну и Альфонса, хотя они были в дальнем родстве по четвертой степени. Известно, что в следующем году брак состоялся; молодым было по семнадцать лет. Не оставалось сомнения, что король, узнав о поношении духовенства, прибегнет к силе для законного возмездия.
Раймонду VII оставалось покориться, хотя это было сопряжено с унижением. Его не мучило то, что он был отлучен: это вошло для него в привычку. Но он не хотел подвергнуть дорогой для него народ ужасам новой войны и новых опустошений. Он согласился ехать в Каркассон для переговоров с изгнанными доминиканцами и жестоким Арнальди; там же он нашел легата.
Между тем Арнальди прекрасно устроился со своим трибуналом в Каркассоне и успешно работал во славу веры. Он заседал вместе с легатом, с приором францисканского монастыря святой Марии и королевским сенешалем в Каркассоне — Гюи де Левисом. Это был трибунал и по составу, и по характеру судопроизводства. В каркассонском архиве сохранились три протокола того времени, один за февраль 1236 года и два — за март (104). В первом деле доносчиком явился сам епископ тулузский. Он обвинял Бернарда Ото, барона де Корта, в том, что последний ел с еретиками, слушал их проповеди, принимал от них поцелуй мира и утверждал, что спастись можно только в альбигойской вере. Оба его брата Вильгельм и Жеральд вместе с матерью судились за дружбу с еретиками. Вильгельм был виноват в том, что терпел еретиков на своей земле. Подсудимые приговорены к пожизненному заключению «для покаяния» и искупления их греха.
Епископ и Арнальди, вероятно, выговорили себе в будущем свои права, когда обещали вернуться в Тулузу. Туда они прибыли осенью 1236 года. В день святого Августина граф Раймонд водворил их в монастыре — уже навсегда. Но он не искупил этим своего отлучения.
С возвращением Арнальди в Тулузу открылся настоящий свирепый трибунал. Первые заседания этого судилища в его полном составе последовали не раньше 7 июня 1237 года. По крайней мере, до того дня мы не имеем протоколов. Прошел почти год; Арнальди не имел возможности обнаружить свою прежнюю энергию и неутомимость. С одной стороны, альбигойцы притаились и, напуганные, не давали повода инквизиции преследовать себя; с другой, даже Людовик IX жаловался папе на личную злобу доминиканцев вообще против Раймонда VII, которая не содействует, а только вредит делу Церкви.
Вероятно, вследствие подробных указаний папы легат сделал распоряжение, чтобы в трибунале, кроме доминиканцев, заседали минориты, «дабы смягчить суровость» первых. Вместе с тем инквизиторы должны были сами обходить города и селения, чтобы не отрывать жителей своими повестками от занятий и работ. В силу того двое доминиканцев отправились в окрестности Тулузы. В Кастельнодарри они не узнали ничего — никто из еретиков и еретичек не выдавали друг друга, доносчиков не нашлось. В Пюи-Лоране предварительного заговора не было никакого, а свидетелей также не оказалось.
Открывая тулузский трибунал, легаты назначили в товарищи к Арнальди провинциала францисканцев в Провансе, но так как последний был обременен делами по своей администрации, то и вручил свое место минориту Стефану Сен-Тибери (105). Челлани тогда был избран приором доминиканского монастыря в Тулузе; он сохранил свое влияние на инквизицию, тем более что от него зависел выбор лиц в окрестные места. Стефан и Арнальди имели одинаковые права. Пощады ереси теперь ждать было нельзя. Лишь только начали дело по верным следам против одного лица, как появился целый ряд подсудимых и с тем вместе ряд сентенций, который продолжается с редкими промежутками в XIII и XIV столетиях.
Один из первых вызовов был обращен к графу де Фуа, Роже Бернарду II. Он славился своими громкими военными подвигами в минувшую войну и истинно рыцарским, самоотверженным и честным характером. За это он был при жизни прославлен именем «великого». Все знали о его симпатиях к альбигойцам, о той готовности, с какой он всегда являлся на защиту гонимых, и что всегда был оплотом несчастных. Тулузский трибунал вызвал его к суду. Он долго не отвечал, но, когда вызов был повторен доминиканцами, прибывшими в его резиденцию, он велел сказать им, что сам требует их к ответу, как дерзких вассалов и своих подданных.
К сожалению, мы не знаем, чем кончилось это дело, о нем не упомянуто в протоколах. Хотя явных улик не было, тем не менее тридцать два года спустя барселонские инквизиторы приказали выкинуть из общей графской усыпальницы тело Роже и его дочери, как заподозренных в ереси (106). Известно, что один из этих инквизиторов скоро погиб от руки тайного убийцы.
Первое дело, которым началась постоянная деятельность тулузского трибунала, разбиралось 7 июня 1237 года. На нем присутствовали: тулузский епископ, аббат Муассака, приор Челлани, графский наместник и назначенные депутаты от капитула. Трибуналу кто-то сообщил, что Аламан де Роэкс, знатный вельможа, не исполняет возложенной на него епитимьи. Роэксы принадлежали к древнейшим фамилиям графства Ларагуэ. Во время еретических движений они явились сторонниками новых доктрин. Альбигойские проповедники находили у них убежище, а когда Церковь открывала их след и они бежали в леса, скрываясь в пещерах, то и там находила их дружеская помощь Роэкса. Вместе с тем Роэксы питали фамильную привязанность к династии Раймондов. Гонимый Раймонд VII, лишенный своих владений и не находивши даже места, где склонить голову, всегда встречал благородное гостеприимство во дворце Аламана Роэкса. Один из легатов, подозревая Аламана в ереси, обязал его принять крест и идти воевать в Палестину. Будучи действительно еретиком, Роэкс нисколько не желал исполнять приказаний кардинала. Он оставался в Лангедоке и на вызов суда не явился. Трибунал осудил его заочно как еретика.
Вероятно, графский наместник и капитул не оказали должного содействия розыскам Роэкса и пяти других подозреваемых рыцарей; поэтому 9 августа последовало отлучение Петра Тулузского и консулов (107). Об этом было про-Тено на церемонии в церкви святого Стефана.
Стоило только начать одно дело, чтобы поощрить доносы и впутать других. На этот раз привлечены были к ответственности люди среднего сословия, и преимущественно женщины. Так, 9 сентября было осуждено десять женщин и трое мужчин (108). Через две недели узнали, что умиравший рыцарь Понций де Умберти прогнал священника, явившегося с причастием перед его кончиной. Сентенцией трибунала была осуждена его память и умерший признан еретиком. Осужденных в следующие месяцы было только четверо: двое мужчин и две женщины, и из них одна немка. После частых сентенций всегда наступала тишина; ересь опять трудно было обнаружить.
Примеры наказания являлись как бы действенным средством, хотя в сущности они нисколько не уничтожали ереси, а лишь заставляли еретиков предпринимать меры предосторожности. Нигде так не отпечатывается подвижность, эластичность альбигойства, как в датах протоколов инквизиции. Только через пять месяцев сказались еретики, в деле 11 марта 1238 года. В тот день судились представители знатных рыцарских домов, как, например, Журдан Вильнев и Бертран Роэкс вместе с адвокатами, купцами, их женами и сестрами. Всех подсудимых было двадцать три. Вильневы принадлежали к самым древним и могущественным домам провансальской аристократии. Они пролили много крови за независимость своей родины. Они были рыцарски преданы законной династии. Многие из них попали в список еретиков, иные даже в качестве проповедников, «совершенных» и архиереев альбигойских. Вообще это была самая ненавистная фамилия для инквизиторов вместе с Вил-лелями, Роквилями, Сент-Андрэ и Роэксами, так как привязанность к ереси и новаторству в Лангедоке возрастала сообразно богатству, положению и древности рода.
Бертран Роэкс сознался и отрекся. Журдан Вильнев был весьма важным преступником в глазах инквизиторов. Он уже был один раз осужден на покаяние и мог быть судим как отпавший. Теперь он защищался, но улики были слишком явны, если не в ереси, то покровительства альбигойцам. Иные женщины уже по пять лет сочувствовали ереси, пуская еретиков к себе, давая им помощь и советы. Когда все подсудимые принесли раскаяние и произнесли клятву в католической вере, то для спасительного покаяния их самих, для отвращения соблазна другим, все подсудимые, мужчины и женщины, были осуждены на вечное заключение (109). Для достижения покаяния тогда же решено было устроить особую тюрьму для осужденных и обращенных еретиков.
Напрасно думать, что промежуток в протоколах, наступивший после марта 1238 года, служит доказательством закрытия трибунала до 1241 года. Никаких папских распоряжений относительно этого не было. Напротив, мы имеем ряд документов, доказывающих присутствие деятель ности в трибуналах в 1238 и 1240 годах. Гораздо проще объяс нить дело не догадками и вымыслами мнимых грамот, а обыкновенным характером альбигойства, которое всегда искусно скрывалось от преследований. Такие явления повторялись и будут повторяться не один раз.
Известно, что в 1238 году Григорий IX писал сенешалям и бальи в провинциях Нарбонны и Альбижуа, что до него дошло, как они присваивают себе конфискованные в пользу Церкви феоды и бенефиции еретиков, как они препятствуют исполнению приговоров против значительных лиц, как лишают католичек достояния их осужденных мужей, как не отдают долга кредиторам и отказываются от содержания заключенных по делам ереси. Он советует им воздержаться от всех враждебных действий, а иначе грозит церковным преследованием. Это показывает, что трибуналы были в действии в разных местах, кроме Каркассона и Тулузы, где преследование прекратилось по недостатку материала, а если и там производились дела, то реестры их за это время не сохранились.
Но мы нашли в протоколах, как в 1240 году два раза в марте и два раза в мае было сделано четыре показания в трибунале о монсегюрских еретиках. Тут были замешаны громкие фамилии Делилей, Сен-Мартенов, Манзо, Фанжо, Полерма, Мирепуа. Некоторые обвиненные перед смер-:тью получили «consolamentum», другие тайно провели в Монсегюр во время осады альбигойского епископа Гильберта де Кастра, слушали и лобызали его в доме Бертрана Мартена, другого епископа (110). Доносчицей была, между прочим, жена рыцаря Равата, которая доносила на своего отца Раймонда Переллу, будто последний вместе с Рожером Мирепуа принимал у себя в доме Бертрана Мартена и слушал его. Такие доносы на родителей были нередки.
Надо заметить, что Доа, копировавший протоколы целыми связками без хронологической последовательности, без всякой группировки и оценки памятников, только вследствие случайности сохранил так мало процессов, записав, между прочим, несколько разрешений на покаяние, как факт деятельности трибуналов этих годов. Наконец, вспомним, что в XVII веке архивы Каркассона и Тулузы были далеко не в прежней целости, дела за некоторые годы легко могли затеряться.
Папа не мог питать особенного доверия к Раймонду, чтобы пойти навстречу его просьбе и устранить трибунал, только что начавший свои действия. Граф по сие время не исполнил своего главного обещания: он все еще не шел в святую Землю. Год за годом давались ему отсрочки из Рима, а он уклонялся по-прежнему и прибегал ко всевозможным уловкам. Наконец он делал такие заявления, которые не могли быть одобрены ни в Риме, ни в Париже. Он желал присвоить Монпелье и тем еще более затянул узы, в которых епископ Лангедока держал этот город. Раймонд затеял также борьбу с баронами Прованса, взял несколько замков и нашел в марсельцах деятельных союзников. Пылкий Тренкавель, последний виконт безьерский, хотел свергнуть иго французов и возвратить то, что отняли у него Монфоры. После изгнания Амори он было занял свои владения; но французы завоеванием лишили его всего. В 1229 году он уехал в Испанию. Одиннадцать лет о нем не было слышно. Он жил при арагонском дворе. Вдруг после одиннадцатилетнего отсутствия он появился, окруженный каталонцами. Кроме монахов и духовных лиц, все сословия встречали его восторженно и готовы были биться за него. Раймонд также агитировал в его пользу и легкомысленно подстрекал своих подданных на возмущения, очень хорошо зная, что возвращение прошлого невозможно. С замечательной быстротой Тренкавель завладел почти всем, что прежде принадлежало его отцу. Он занял Каркассон, несмотря на проклятия нарбоннского архиепископа и тулузского епископа. Но на этом его успехи прекратились.
Из Франции прибыла армия под начальством Жана Бомона; она оттеснила виконта в Монреаль. Здесь он должен был сдаться превосходящим силам противника. Ему предложили свободный пропуск со всеми приверженцами. Он удалился в Каталонию, оставив любивших его подданных на произвол французских начальников.
Что положение каркассонцев было тяжелое — показывают пять прошений королю о насилиях, которые они терпят от его епископов; жаловались даже женщины, называя себя несчастнейшими существами (111).
Тем более было непростительно увлекать этот несчаст ный и преданный народ. Тренкавель не ограничился одной попыткой. Он скоро опять вернулся. Опираясь на обещание и слабое содействие королей Кастилии, Наварры и Арагона и заключив союз с графом де Ла-Марш он, очертя голову пытал счастье. Пять лет он делал набеги на свои родовые земли, но закончил тем, что уступил Франции свои права на Безьер и Каркассон, отказался от титула, а сам в качестве простого рыцаря пошел в 1247 году за Людовп ком в крестовый поход. Он отказался от присужденной ему ренты в шестьсот ливров. Это все, что оставалось от богатых владений Безьера, Каркассона, Нима, Альби и Агда. Его потомство приняло частную фамилию Безьеров, и скоро последние следы знаменитой династии исчезли. За все та кие неудачные попытки национальных государей Юг расплачивался народ с сенешалями и инквизиторами.
После долгого молчания тулузский трибунал разразился в декабре 1241 года рядом протоколов над множеством подсудимых (112). Каждое воскресенье в течение Рождественкого поста читались в кафедрале длинные постановления, целыми днями тянулся церемониал над обращенными. В первое воскресенье осудили на покаяние сто двадцать человек и облачили их в особые наряды; между ними, как всегда, половина была женщин. Некоторые из последних были осуждены только за то, что встречали еретиков у своих знакомых; другие за то, что принесли из Константинополя какие-то священные пальмовые кресты и носили их на платье. В следующее воскресенье обратили сто четверых, из них одну женщину за то, что она два раза имела несчастье увидеть еретика. Вслед за этим девяносто и еще пятьдесят деловек; между ними одних за то, что приняли и накормили двух вальденсов, уверившись, что они «добрые люди».
Впрочем, под последними словами хотели видеть всегда целый круг преступлений против веры. К оговоркам, что подсудимый называл себя добрым христианином или знался с еретиком, прибегали тогда, когда не находили других более веских и точных обвинений. Так, в этом же процессе на одного показали, как он говорил, что Бог не творил ни человека, ни хлеба, ни вина, ни прочих злаков, — но виновный отделался лишь покаянием, странствиями и богомольем.
Всем этим далеко не ограничился список жертв трибунала. Для дня Спасителя было осуждено двести четыре человека. А сверх того отправленные с нарочной целью доминиканцы осудили в Монпелье и в Альтамонте по двадцати одному, в Кастельнове — одиннадцать и в Муассаке — восемьдесят восемь человек.
Вот ответ, который дала инквизиция на легкомысленные попытки Раймонда и Тренкавеля. В несколько недель было осуждено семьсот жертв. Что осуждения и приговоры трибуналов имели отношение к политическим движениям, подтверждается осуждением многих рыцарей, оруженосцев и людей влиятельных, обвиненных в покровительстве ереси (113).
И не только на этот раз, но и позже на судьбах инквизиции отражалось политическое состояние Лангедока. Это показал дальнейший ход событий.
Последние носители славных воспоминаний независимости Юга, покинутые счастьем и друзьями, но сохранившие любовь своих подданных, сходили в могилу. Два доблестных старца, представители знаменитых династий и громких имен, Роже Бернар II, граф де Фуа, и Бернар, граф Комминг, умерли в один год и оба внезапно. На них покоились последние надежды патриотов, но они были обессилены, разорены; французские гарнизоны держали их в постоянном плену, выжидая их смерти. Их беззаветная храбрость, боевое искусство были бесполезны при отсутствии единства.
Раймонд VII не обещал многого по причине уступчивости своего характера. Измученный в долгой борьбе, он, казалось, предавался наслаждениям, отдыху после позора и, как говорили, ласкал свои цепи. Но никто не знал, что в этом с виду спокойном, равнодушном человеке по временам закипает неутомимая душевная буря, плод сознания своего позора, что это сердце пылает ненавистью к завоевателям. Он не был, подобно двум своим предкам, сторонником альбигойства, сочувствовал суровым мерам против еретиков, но мучители в рясах возбуждали в нем наследственную злобу. Стремление возвратить потерянную независимость он скрывал так искусно, что простодушный Людовик IX всегда видел в нем верного друга. Между тем в тиши он готовил средства к возмущению.
Инквизиторы своими судилищами давно возбуждали общую ненависть. Трибунал был живым поводом к восстанию. Графу нужен был хороший союзник вне Лангедока, который мог бы парализовать силы французского правительства. Феодализм еще гордо носил голову. Мы помним, как Бланка одолела феодальную оппозицию лишь с помощью интриги и измены. Дружескую руку Раймонду протянул граф де Ла-Марш. Может быть, он первый возбудил в нем мысль о возможности вернуть прошлые времена, столь счастливые для феодалов. Он рассчитывал на поддержку английского короля Генриха III, который был его зятем. Граф де Ла-Марш опирался в своем восстании против французской короны не на феодальные принципы, а на нечто более серьезное. Жители графства Пуатье, его подданные, питали к французам ту же национальную вражду, что и провансальцы.
Чтобы удобнее сноситься с Ла-Маршем, Раймонд VII поехал в Аженуа и искусно не обнаруживал перед французами ни своей враждебности, ни своих приготовлений. Приехав в замок Пеннь, он почувствовал приступ болезни. Может быть, это было хитростью с его стороны, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение и получить предлог помириться с Церковью накануне великого дела. Повсюду разошлись слухи, что граф близок к смерти.
Так как он состоял под несколькими церковными отлучениями, то не мог быть приобщен без крайней необходимости. Местное духовенство озаботилось справиться о состоянии больного. Врач графа, профессор медицины к Тулузе, объявил, что больной безнадежен. Официал епархии, священники и капеллан замка вошли в комнату умирающего. Раймонд просил их благословения и разрешения перед близкою смертью. Он обещал, если останется в живых, удовлетворить Церковь во всех ее требованиях и содействовать уничтожению ереси. На нем лежали, кроме прежних проклятий за ересь, четыре отлучения за ущербы, понесенные в разных епархиях во время последней его войны с Провансом, в Арле, Кавальоне и Везоне; даже церковные лица Аженуа имели к нему претензии. Выслушав исповедь, официал снял отлучения и приобщил больного. Через несколько дней Раймонд был уже на дороге в Тулузу. Его известили, что Ла-Марш поднял восстание.
В апреле 1242 года Раймонд созвал в Тулузу феодалов Лангедока. Каждый из них знал, зачем ехал. Слезы текли из глаз и восторг сиял на лицах, когда Раймонд напомнил им, что они были и чем они стали. Старый государь, так симпатичный своими несчастьями, тронул в сердце каждого самые живые струны. Роже, граф Фуа, сейчас же написал акт клятвенного союза, в котором с увлечением говорил:
«Давно знаем, граф, скольких земель лишил вас король Франции. У нас есть средства для войны, мы рассмотрели внимательно все, что относится к этому делу, мы видим, что время настало. Клянемся над святым Евангелием служить вам верно в этой войне, мы все соединимся с вами, как с законным государем, все будем помогать вам против короля и всеми силами будем защищать вас».
Графы Комминг, Арманьяк, Родец, виконты Нарбонны, Лотрека, Ломаня, Люнеля, наконец, депутаты Альби и других городов обещали содействовать Раймонду. Военных действий еще не начинали, но уже не скрывали цели восстания. Раймонд поехал в Аженуа.
1 мая 1242 года он был в Ажене, и здесь-то обнаружился истинный характер его стремлений. Не во имя свободы совести готовились феодалы воспользоваться народной кровью. Опыт несчастий научил их, как опасно быть на стороне людей, гонимых Церковью; они сознали, что все бедствия их самих и их отцов произошли от солидарности альбигойцами, и теперь, перед новой и вероятно последней попыткой, они отреклись от своих прежних друзей, продали их тем же монахам и тем же инквизиторам, думая вымолить поддержку или хоть немое содействие Церкви. Они хотели порвать все связи с прошлым, как выскочки, думающие о выгодных новых связях и презрительно чурающиеся старых, но ненужных и обедневших друзей.
В этот день Раймонд подписал такой договор, от которого отшатнулся бы с ужасом любой из его предков. Все его старое благородство исчезло. С дерзким равнодушием, твердой рукой он, узнав о цене, подписал акт продажи духовенству всех альбигойцев, их единомышленников, защитников, всех недругов Церкви, которые живут и будут жить под его властью. От него ничего не просили; напротив, он сам навязывал свое содействие инквизиции. Он предоставил трибуналам полную свободу действий, в их власть он отдал еретиков или, лучше сказать, всех подданных. Этот акт хранился в архивах каркассонской инквизиции.
«Светлейший граф тулузский пришел к нам, — пишет епископ Ажена в присутствии многих светских и духовных свидетелей, — пришел к нам и настоятельно просил нас с умилением сердечным, заверяя, что искренне хочет уничтожить во всех своих землях еретическое нечестие, чтобы мы поступали против еретиков в диоцезе нашем по инквизиционному обычаю и искореняли всеми силами ересь, предназначив для этого или миноритов, или доминиканцев, или других хороших людей, которые сумеют все это совершить, как следует, во имя Бога и справедливости» (114).
Казалось бы, нет надобности внушать епископам пользу инквизиции, но Раймонд явился на этот раз усердным ходатаем трибунала, адвокатом его достоинств. В этом документе он назойливо предлагал свое содействие и все средства к услугам инквизиции, к преследованию и наказанию еретиков, и особенно — двум инквизиторам в Аженуа, Бернарду де Канчио и Иоанну, если только они будут действовать не от имени провинциала. Раймонд не забыл одного — оскорбления, которое лично ему сделал Челлани. Он заявлял в конце документа, что не отказывается от своей прежней жалобы на тулузского приора и на действия доминиканцев.
С таким детским легкомыслием, стоя почти у гроба, накануне важных предприятий, этот идол обманутого им народа продавал все, что было благородного в его деятельности, ради своего личного честолюбия; он оговорился только в одном, чтобы не трогали его мелочной, личной вражды. Мог ли быть какой-либо успех в национальной войне, когда из нее отстранялся целый элемент, едва ли не самый сильный и существенный, потому что им двигала вера? Вся история тулузской династии показывала, что ее сила заключалась лишь в союзе с церковной оппозицией.
Теперь был редкий случай опереться не только на остатки альбигойства, но на все народное отвращение к трибуналам и на множество безвинных жертв инквизиции. Раймонд не воспользовался ими и снова, уже навсегда, проиграл дело.
А между тем несчастные альбигойцы думали, что действительно им будет легко жить, что монахи и варварские суды не станут их мучить. Они поддались на обман и очертя голову первые кинулись на своих врагов. Пока Раймонд сражался с французскими вождями, они рассчитывались с инквизиторами.
В области Ларагуэ есть Авиньонский замок; теперь он называется Сен-Папуль. За несколько дней до праздника Вознесения, в 1242 году, во дворце этого замка остановись одиннадцать путешественников. Восемь из них были монахами. Один монах в белой рясе наводил особенный страх на жителей. Скоро узнали, что он из Тулузы и приехал в Авиньонет с целью карать жителей за ересь. Его особенно боялся городской бальи Раймонд Альфаро. 27 мая, накануне праздника, приезжих навестил приор Авиньонета и беседовал с ними до самой ночи. Разговор действительно шел об открытии инквизиционного трибунала в этом небольшом городке. Завтрашний праздник был удобным предлогом. Два монаха, которым все прочие оказывали особенное почтение, были известные инквизиторы Арнальди и Стефан. С ними был их постоянный сотрудник в Тулузе архидьякон Лезата и новый инквизитор, доминиканец Раймонд Писатель; при каждом из них был послушник. Нотарий и два прислужника тулузского трибунала, прибывшие вместе с ними, ясно показывали, с какой целью путешественники посетили Авиньонет. Альфаро имел основания опасаться стать первой жертвой трибунала. Назначенный на свою должность графом Раймондом, он знал, в каких отношениях был последний к Арнальди и вообще доминиканцам. Он рассчитывал одним ударом спасти себя и угодить своему государю. В день прибытия инквизитора он только что вернулся от графа.
Недалеко от Авиньона, в отрогах пиренейских гор лежит посреди скал замок Монсегюр. Он не был занят французами. Почти неприступная местность и предания прошлого делали его даже и теперь местом убежища еретиков и гонимых. Не только альбигоец, но и всякий преступник, даже разбойник, спасшийся в Лангедоке от рук правосудия, считал себя свободным в Монсегюре. Его владетель, старый синьор Роже Мирепуа, гордился тем, что он один , не склоняет своей головы пред королем и по завету предков поддерживает баронскую честь. Монсегюр был единственной крепостью еретиков. В таком городе, наполненном беглецами, было много пострадавших лично от инквизиции и пылавших особенною ненавистью к Арнальди. Мирепуа одобрил предприятие бальи (115) и послал в его распоряжение своих воинов.
Альфаро расположил в роще этот небольшой отряд. Из него было отобрано двенадцать добровольцев, которым роздали топоры и мечи. Была ночь на Вознесенье. Рыцарь Видаль привел двенадцать человек ко дворцу. Он встретил на улицах нескольких вооруженных горожан, у которых, видимо, было одно с ним намерение. Послали узнать, что делают монахи. «Они ложатся», — был ответ. Видаль пополнил свой отряд всеми встречными и тихо вошел во двор. Тут его ждал Альфаро. Оба поднялись на лестницу. Приор также ночевал у инквизиторов. Все двенадцать человек спали в одной длинной комнате — и все были убиты. Одни не успели открыть глаз, другие проснулись, но не могли защищаться. Альфаро первый замахнулся тяжелой палицей и убил Арнальди, прежде чем он успел промолвить одно слово. Запертые изнутри, монахи и прислужники кричали в смятении, но напрасно. Слабый свет освещал жуткую сцену. Последние жертвы, обреченные смерти, собрались в кучу и начали петь «Те Deum»; они падали под топорами и ножами один за другим. Убийцы приговаривали: «Очень хорошо, очень хорошо». У мертвого Арнальди Альфаро отрезал язык. Двух слуг бросили за окно. Бумаги, деньги и вещи убитых растащили. Факелы замелькали на улице; сбежались те, кто сочувствовал убийству. Альфаро рассказал, как было дело. Обращаясь к своим сотоварищам, он прибавил:
— Теперь все вы будете счастливы!
Убийцы вернулись в лес, сели на лошадей и ускакали. В Авиньонете все были довольны, немногие если и жалели кого из погибших, то одного приора. Синьор Мирепуа был недоволен только тем, что ему не прислали головы Арнальди; из его черепа он собирался сделать чашу.
Тулузские монахи пришли в ужас, когда узнали о гибели своих братьев. Но мстить было опасно. Восстание уже начиналось; Раймонд VII вел войну с французами. В Авиньонете более не боялись угроз.
Доминиканцы и минориты требовали только выдачи трупов. Они получили их и похоронили в своих монастырях, а архидиакона — в церкви святого Стефана.
Но убийцы нимало не помогли Раймонду своим преступлением. Напротив, многие союзники, опасаясь последствий убийства, тотчас отвернулись оттулузского графа (116). Папский престол был вакантен, но кардиналы, жившие во Франции, письменно изъявили доминиканцам свою скорбь о случившемся и утешали их. Каркассонская инквизиция произнесла проклятие над убийцами и предписала Раймонду преследовать их под страхом анафемы. Епископ тулузский запретил богослужение и требы во всем городе, и под этим интердиктом, лишенные всех религиозных обрядов, жители пробыли сорок лет (117).
Иннокентий IV особенной буллой велел причислить убитых к числу мучеников. А Раймонд VII в письме к королеве Бланке обещал примерное наказание убийцам. Но через месяц сам граф поднял мятеж против французского правительства.
Между тем Генрих III, исполняя свое обещание, внезапно начал войну с Францией в Пенни на Шаранте и расположился лагерем под Тейльбургом. Людовика IX такая неожиданность изумила. По обыкновению он стал допрашивать свою совесть, можно ли ему воевать с Генрихом, когда его отец клятвенно обещал двадцать пять лет тому назад жить в мире с Англией.
— Король английский обманут ложными обещаниями изменника Ла-Марша и еретика Раймонда, и мне очень прискорбно, что он презрел меня, — говорил Людовик.
Но придворные вывели его из недоумения, и вместо войны с неверными пришлось пожинать лавры над католиками. Людовик IX очень счастливо избавился от опасностей. Англичане были плохо подготовлены к войне. У союзников не было выработано плана действий, Ла-Марш обманул Генриха III. Союзников было легко уничтожить по частям.
В замке Фронтнэ Людовик взял в плен сына графа Ла-Марша и сорок рыцарей. Их советовали повесить.
— Сын неповинен смерти, — сказал король. — Он покорно должен был исполнить волю отца. Вассалы также, они до конца верно служили своему сюзерену.
В двух сражениях под Тейльбургом и под Сентом Генрих должен был уступить поле битвы французам и удалился в Бордо. Симон Монфор стяжал под Сентом военную славу. Людовик кинулся теперь на Ла-Марша, отнял у него владения и заставил просить мира. Ла-Марш бросился к ногам короля. Он уступил часть своих владений и обязался воевать против Раймонда за Церковь.
Все это совершилось тогда, когда восставшие лангедокские феодалы с Раймондом и Тренкавелем внесли войну в домены короля; они успешно действовали около Нарбонны, так что город готов был свергнуть французскую власть. Французский гарнизон вышел из него. Заручившись сочувствием населения, виконт Амальрик ввел в Нарбонну Раймонда и признал его своим законным государем. Граф ненадолго поселился во дворце своих предков. Он прежде всего стал вымогать суммы с духовных бенефиций на военные издержки.
Архиепископ нарбоннский Петр Амелий удалился в Безьер и здесь произнес отлучение над Раймондом, называя его нарушителем мира, разбойником, грабителем церковного достояния, клятвопреступником против Церкви и короля Франции, со всеми его сообщниками и заговорщиками, графом Коммингом, лжевиконтом безьерским, баронами Терма и Клермона, их детьми и братьями. При этом он повторил отлучение каркассонской инквизиции над Раймондом.
Не обращая на это внимания, Раймонд официально принял титул своих предков и, пользуясь отдыхом французов после побед, тайно отправился в Бордо для заключения нового союза с королем английским. Генрих III обещал сепаратно не мириться с Людовиком IX и защищать Раймонда VII даже после церковного проклятия. Есть сведения, что граф тулузский получил от Генриха III большую денежную субсидию.
— Не отчаивайтесь, брат мой, — утешал короля Раймонд. — Помните, что вы могущественный государь и что вы в силах одолеть французского короля. Припомните, как я отразил его один, хотя сам папа помогал ему. Как только я прогоню с моей земли этих изменников, то быстро явлюсь к вам на помощь (118).
Но все эти обещания были слишком легкомысленны; Раймонд не мог положиться ни на одного из своих союзников. Вернувшись в Нарбонну, он увидел в своем лагере полное разложение.
Людовик IX между тем овладел областью Пуату, которую постыдно оставили англичане, и только чума во французском лагере остановила его успех. По словам Матвея Парижского, в армии умерло восемьдесят рыцарей и около двадцати тысяч пехоты. Сам король заразился. Он тяжко заболел, и французами овладел ужас. Однако хилое телосложение Людовика пересилило болезнь. Но при страшных потерях в людях продолжать войну с Англией было нельзя. 7 апреля 1245 года Людовик принял пятилетнее перемирие, предложенное Генрихом, небезвыгодное для Франции, и больным вернулся в Париж. К тому времени восстание в Лангедоке было уже подавлено и Раймонд, снова униженный и побежденный, был у ног своего короля.
Французское правительство, руководимое умом королевы-матери, успело отделить от Раймонда графа де Фуа. Вопреки всем клятвам последний воспользовался первым же предложением противников и не только отстал от союзников, но даже согласился сражаться против Раймонда. Он выговорил себе право быть прямым вассалом короны. Эта измена, совершенная с удивительной легкостью, показывает, как нравственно вырождалась провансальская аристократия и как угасал гордый дух времен ее независимости. Чувство чести и долга исчезло; каждый из владетелей заботился прежде всего о своей выгоде. Замечательно, что при этом один узнавал себя в другом.
Чем объяснял Роже де Фуа свое отступничество? Он перелагал всю ответственность на того же Раймонда. Измена обыкновенно молчит. Здесь же она любуется собой и выставляется напоказ. Роже указывал на судьбу своего отца, который был подобным же образом покинут Раймондом VII перед заключением парижского трактата.
«Мой отец тогда заключил не такой мир, какой хотел, — писал он Раймонду, — а такой, какой мог; он связал тем себя и своих наследников. Тогдашние обязательства помешали на этот раз нашим добрым желаниям относительно вас. Потом вы не забыли, конечно, того, как обещали нашему покойному отцу, что будете жить в ладу с Церковью и с королем и что в противном случае добавляли его от всяких обязательств к вам самим». Далее Роже посмеивается над положением своего друга. «Вы сами настаивали, чтобы мы принесли присягу на верность и подданство королю Франции; мы же осыпаны от него благодеяниями. Теперь король настоятельно убеждает скорее помогать ему против вас — не исполнить этого значит быть виновным и клятвопреступником и лишиться доменов. И ваше высочество сим извещаетесь, что мы решились верно служить королю и Церкви, давать ему и помощь и совет, и вы убедитесь, что мы тем самым уже избавляемся от всякой верности и обязательств относительно вас. Потому не удивляйтесь, если мы когда-нибудь пойдем на вас войной. Мы с вами впредь ничем не связаны в войне, которую поведем на пользу короля и Церкви» (119).
Трудно представить себе падение более бесстыдное и безнравственное в людях, отцы и предки которых служили для народа образцом политических доблестей. Такие факты, как договор с епископом Ажена и письмо Роже, отвращают всякое сочувствие историка от этих лицемерных патриотов несчастного Юга, спокойно торговавших своими народами и собственной совестью.
Раймонд получил роковое для него известие во время осады Пенни в Аженуа. Он поспешил обязать присягой бывших в его лагере вассалов де Фуа. Напрасно он думал усовестить Роже, припоминая все, чем обязан дом де Фуа своим сюзеренам.
«Вспомните, как вы часто говорили мне, что откажетесь от ваших доменов, когда увидите, что я лишился своих».
Для Роже подобная фраза была ребяческою наивностью.
Раймонду невольно приходилось покориться. Со дня на день сильная армия из Гиен ни могла прийти в Лангедок и раздавить его слабые отряды. Посредником явился епископ тулузский. Граф уполномочил его вести переговоры с королем от лица всех феодалов, участвовавших в мятеже. Епископ был любезно принят королем, но предложения, привезенные им, передал в свою курию. Там решили, что Раймонд должен покориться без всяких условий, доверившись милости королевской. Чтобы поддержать такое решение, Роже и епископ клермонский отделились от главной армии и придвинулись к границам Керси.
20 октября Раймонд и его друзья сдались на милость короля, при этом с их стороны было условленно, что альбигойцы и все причастные к делам ереси не имеют права пользоваться этой амнистией.
«Исполненный стыда и печали за все, что произошло, не из страха, а из других побуждений, вам известных, — писал он королю, — я обещаю всецело предаться вам, верно служить для вас против всех и каждого, защищать и почитать Церковь согласно вашим желаниям, покровительствовать католической вере, очистить страну от еретиков и совершить наказание над теми, кто позорно умертвил инквизиторов».
Тот же Раймонд писал королеве Бланке, прося ее быть посредницей и обещая постоянную верность (120). Епископ, ходатай его, видел, что многие мятежники уже упредили Раймонда, своего союзника, и искали себе пощады ценой измены общему делу. Они согласились даже, если им прикажут, обратиться против Раймонда. Епископ не встретил ни в Людовике IX, ни в курии доверия к обещанию и клятвам графа тулузского. Понадобилось ходатайство Бланки, которая приходилась кузиной Раймонду. Она оказалась к нему очень милостива, так что многие при дворе остались недовольны.
Король из снисхождения к его раскаянию согласился простить мятежника на условиях парижского трактата. В Лорисе, 14 февраля 1243 года Раймонд подписал договор, по которому он сам, его союзники и все владения рабски передавались милосердию короля. Три королевских комиссара отправились принять клятву Раймонда. Саверден, Пеннь и еще четыре других замка были уступлены королю в ручательство клятвы. Жители Альби и Нарбонны были освобождены от присяги, когда-то принесенной ими с таким увлечением Раймонду.
Чтобы угодить Бланке, Раймонд немедленно дал приказ повесить всех, кто принимал участие в убийстве инквизиторов в Авиньонете. Впрочем, его воля после Лориского договора не значила ничего. Можно сказать, что он даже существовал из милости.
В Тулузу королевские комиссары прибыли 23 февраля 1243 года и обязали капитул следующей присягой:
1) соблюдая парижский трактат, оставаться верными королю и Церкви в случае, если граф Раймонд возмутится снова;
2) помогать Церкви против еретиков и их единомышленников;
3) стоять за короля, если граф восстанет против него.
Все жители Тулузы старше пятнадцатилетнего возраста были приведены к этой присяге.
Два месяца объезжали комиссары города и области Раймонда до последнего селения и каждого кастеляна, барона, рыцаря, оруженосца, горожанина и виллана, который был старше пятнадцатилетнего возраста, привели к присяге королю, хотя номинальный государь Раймонд был еще жив и даже рассчитывал оставить после себя потомство, торжественно празднуя в эти самые дни свой брак с принцессой де Ла-Марш. Свадьбу праздновали через неделю после Лориса. В радостном самозабвении, с заздравной чашей в руке похоронил последний представитель Раймондов независимость и свободу своих подданных и приветствовал наступление годины рабства. Он, как дитя, или ни во что не ставил свое горе, смеясь над скорбью порабощенного народа, или думал утопить в вине и в празднествах свою великую печаль.
Когда такие явления возможны, не может быть более речи ни о провансальской национальности, ни о возрождении самостоятельности Юга. Судьба его была решена.
Католическое духовенство на поместных соборах, со своей стороны, достаточно способствовало скорейшему уничтожению национальности. 18 апреля 1243 года происходило заседание в Безьере. На нем присутствовал Раймонд VII. Он привез с собой декларацию против доминиканцев, так как не имел ничего против самой инквизиции.
«Доминиканцы Феррьер и Вильгельм Раймонд, считая себя судьями над еретиками в моих землях, — жаловался Раймонд, — произнесли против меня приговор отлучения. Я законно апеллировал на это святому Престолу, так как нахожу их суд пристрастным и несправедливым — такой приговор не только бесчестит меня, но он постановлен вопреки всякому праву. Так как апостольский престол теперь вакантен, то я обращаюсь к собору как относительно приговора доминиканцев, так и моей апелляции. Я надеюсь, что собор окажет мне заслуженную справедливость, в уважение моей личности и репутации» (121).
Через два дня Раймонд имел особое свидание с епископами лангедокскими, а именно Тулузы, Ажена, Кагора, Альби и Родеца. Он просил их или принять на себя инквизицию, или поручить ее от своего имени цистерцианцам, францисканцам и доминиканцам, кому угодно, но под условием, чтобы эти судьи действовали от лица епископов. Тогда он вызывался помогать им всеми силами, исполнять их постановления через своих вигуэров и бальи, казнить и заточать виновных. Прелаты не могли дать ему никакого ответа, так как Церковь и не имела в это время верховного представителя, который один мог решить подобный вопрос. Но в принципе католицизм не мог сойти с однажды избранного пути.
Что искренности Раймонда в делах веры не доверяли, это было ясно. Людовик IX, заключив с ним мир, находил нужным делать сбор с духовенства и монастырей на искоренение ереси, который обусловливал недоверчивостью к графу тулузскому, как к старому еретику, недавно умертвившему нескольких проповедников (122).
С избранием в папы Иннокентия IV, друга святого Доминика, инквизиторы на нарбоннском соборе в конце 1243 года получили разъяснительные инструкции в двадцати девяти канонах. Здесь были определены подробности покаяния еретиков, которое по седьмому канону инквизиторы могли усиливать или уменьшать. Здесь выработалась та практика инквизиции, с которой мы познакомились в общем очерке. Здесь же была сделана попытка возвысить ее авторитет устранением денежных пеней. Но эта попытка имела в виду собственно не самую инквизицию, а доминиканцев, — денежные пени предоставлено было налагать епископам и папским легатам. Значит, инквизиция не облагораживалась и с этой стороны; корысть оставалась ее существенным стимулом. Чтобы гарантировать справедливость приговора, оба инквизитора должны делиться между собой сведениями и мнениями о подсудимых. Запрещалось осуждать без явных документов и без собственного сознания подсудимого, ибо лучше оставить безнаказанным преступление, чем осудить невинного.
Если бы принцип двадцать третьего канона был осуществлен, то дух инквизиции должен бы радикально измениться, так как до сих пор трибуналам не возбранялось осуждать вместе с виновными безвинных, во избежание вредного для веры снисхождения. Но это начало так дисгармонировало с общим унисоном всяких беззаконий, проявившихся в учреждении инквизиции, что устранялась всякая возможность его осуществления.
Не далее как рядом с этим двадцать третьим каноном был поставлен другой, который допускал быть обвинителями и свидетелями всех преступников и бесчестных. Прелаты знали, что одно дело говорить, другое — действовать.
Ко всему этому нарбоннский собор заявил в заключение, что своими наставлениями он не хочет связывать инквизиторов, что его каноны — лишь дружеский совет и что ибунал во всем сообразуется с папскими указаниями. Это было сказано в первые дни папствования Иннокентия IV, мы знаем, как он отнесся к трибуналам. Он усилил их строгость, поставив их выше себя, и окончательно установил здание, стоявшее до сих пор на непрочном основании. Теперь его могло опрокинуть одно время, а не люди.
После политического движения инквизиция могла найти в Лангедоке новую пищу. Всякая попытка, враждебная французскому владычеству, отражалась немедленно на религиозном вопросе, так как встречала ревностных приверженцев в альбигойцах. Во время мятежа инквизиция не могла уследить за еретиками, их проповедниками и так называемыми «совершенными». Преследуемые в одном месте, они появлялись в другом. Они находили себе приготовленные убежища. Когда опасно было поместить альбигойского священника или диакона в замке, ему давали приют в лесных хижинах, куда стекались ученики, стремящиеся выслушать поучение. Сцена альбигойства в эти годы переносится в леса, как в ранние времена катарства. Замок Монсегюр был центром, откуда расходились еретические проповедники, пуская в этот момент новые корни альбигойства.
Замок окружали лесные массивы, покрывавшие склоны ущелий и отроги Пиренеев. Современные протоколы обнаружили, какая усиленная агитация производилась здесь, помимо феодальных руководителей политического движения. В лесу Лагард учил Вильгельм Ричард; к нему собирались слушать и вкушать благословенный хлеб Роваль, Понс, Фабри, Аламан, Гитар и другие; тут же происходили состязания Ричарда с католиком Петром Бруни. Подобный же приют был в соседних лесах. В лесу Лабастид раздавались речи Лагета, Гроса и Бонафоса. Аламаны, Вельмуры и Мервили, принадлежавшие к известным рыцарским родам, теснились около них. Около Сан-Жермьера учил Бернар Гастон. В окрестностях Кассера, в роще Ла-Гизола альбигойцы поселились целой общиной. Им в изобилии приносили пищу, восхищались их учением; их всегда заставали за пряжей льна. Недалеко от них поселились в хижинах брат Сикр и Америк с товарищами. К ним приходили просить мира и приносили дары.
Некоторые фанатики не хотели жить на одном месте и выжидать там посетителей. Они ходили из места в место разносить свои идеи. Об их прибытии скоро узнавали; когда было возможно, то из леса их торжественно вводили в город, и зажиточные люди городка или селения считали за честь поместить их у себя, накормить и снабдить всеми средствами для путешествия. Их проповедь сохраняла свои прежние начала: альбигойская догма остановилась и перестала развиваться. Отшельники предписывали те же требования воздержания. Часто они разводили супругов, как было, например, в Ланитаре. Некто Бернар Брус первый стал делать это.
Не все проповедники и проповедницы с их спутниками отличались нравственной чистотой и соблюдением того воздержания, какому они поучали. Некоторые из них находились между собой в интимных отношениях. В одном показании говорится, что верная Вильеметта Компан была при посвящении своего любовника; свидетелями обряда были его больная сестра, ее мать и много посторонних значительных лиц. У нее же братья Сент-Андрэ, исповедовавшие альбигойство и не вступавшие в брак, всегда могли находить к своим услугам альбигойских диаконис. Преимущественно у последних любили останавливаться проповедники и даже сами еретические епископы. С некоторыми они находились в более прочной связи. Так, архиерей Мартен отбил у одного еретика красавицу и стал жить с ней. К некоторым альбигойским духовным служителям привязывались и католички, жены и дочери знаменитых фамилий. Они не щадили для них ничего, повергали к их ногам свое достояние и честь. Между собой они, не краснея, называли себя их любовницами. Они прислуживали им, кормили, одевали и любили их. При таких условиях странствующие проповедники легко находили награду своих трудов; воспрещая роскошную жизнь и увеличение населения правильными браками, альбигойская догма не возбраняла даже духовным тайные ласки прекрасных дам, с тем чтобы они не освящались узами брака. Бесплодие женщины, вопреки обыкновенным понятиям, стало считаться священным. Разрушая семейные узы, указывая на бесплодных развратниц, как на лучших жен, альбигойство подрывало все основы человеческого общества. Разврат приходилось поощрять, и еретички, удостоенные внимания своих священников и епископов, по грубому пониманию своей веры, считали себя выше прочих женщин и требовали особенного почитания.
Строй альбигойской Церкви, ее иерархия, догматика, обряды, обычаи, нравы — все это раскрылось по доносам и допросам, произведенным в те самые годы. Первый из допросов, важный в этом отношении, помечен 1 мая 1243 года (123). Строгие аскетические требования, обязательные для последователей ереси, поразили в этот день самих инквизиторов. Трудно было догадаться, что под наружной чистотой скрывается столько лицемерия и нравственного противоречия, уничтожавшего альбигойский протест. Доносчик рассказывал трибуналу про то, что он видел в Монсегюре у Переллы, когда там ночью поучал архиерей альбигойский Госелин и в присутствии многих благородных рыцарей совершал обряд посвящения. Посвященный падал перед ним на колени, обращался к присутствующим и просил их молить Бога, чтобы Господь сделал из него доброго христианина и ниспослал благой конец. Госелин учил, как альбигоец должен стоять на высоте своего призвания; ему предписывалось строгое воздержание, между прочим запрещалось вкушать мясо, яйца, сыр, масло и рыбу. Ему запрещалось клясться, лгать предаваться всяким страстям. Всю жизнь он должен был поступать так. Страх смерти, сам костер не должны страшить его. Умирая, он должен исповедовать свои убеждения. Речь Госелина увлекла присутствующих; они плакали. Лотом к обращенному каждый стал подходить по очереди, его лобызали и называли братом. Затем все друг у друга просили благословения и мира; мужчины целова-сь друг с другом, женщины между собой.
Трибунал обнаружил, что в Мирепуа альбигойские обряды совершаются так же открыто, как и в Монсегюре. Тяжелобольной просил принести себя в собрание верующих и к получал посвящение, что было поводом к большому торже-ству. Так сделал один из баронов Мирепуа Петр Роже, Сейсак в Каркассоне, Гильберт де Сен-Поль в Пюи-Лоране и многие другие. Умирающих собратьев альбигойцы навещали и напутствовали, невзирая ни на что. Врачи не боялись легчить; близкие и неблизкие женщины ухаживали за больным с одинаковым рвением. Утешенный умирал на руках дам, оруженосца и совершенного.
Это было в то время, когда шпионство сделалось ремеслом, когда страх за жизнь разрывал всякие узы. Например, в деле Арнольда Вильнева и его жены дочь выдавала сразу своего отца барона Ла-Барда в том, что он держал у себя открытый дом для еретиков, и свою мать, что она такой же дом имела в Тулузе. Дочь доносила, что мать ее развелась с мужем и умерла на попечении еретиков; она была у матери в самый день смерти, но ее не допустили, потому что умирающая уже лишилась языка. Разговорившись, она не забыла прибавить, что сам граф тулузский вместе с виконтом безьерским и бароном Пюи-Лорана некогда были в еретическом доме ее матери.
Находились дочери, которые во всех своих увлечениях, из страха наказания, обвиняли матерей, как поступила, например, пред трибуналом Адальгиза Моссабрак. Она была дочерью одного из баронов Мирепуа, в которых альбигойство переходило из рода в род. Мать ее, бывшая в разводе с мужем, воспитывала дочь в Авиньонете. Здесь она заставила подсудимую принять ересь; и вместе с матерью Адальгиза присутствовала при всех церемониях и богослужении еретиков, даже выйдя замуж. Когда епископ клермонский прибыл в Авиньонет для розыска, то она поспешила укрыться в Монсегюре и там невольно должна была слушать поучения Бертрана Мартена, к которому собиралась ее родня, а также Раваты, Конгост, Делили, Перелла и других.
Понятно, что это признание не избавило подсудимую от заключения. Однако примеры не действовали. Оговаривали с большим усердием, точно шла домашняя болтовня. Один обвинял своего побочного брата, распространяясь с подробностью, когда и как тот кланялся при встрече и как ему отвечали на поклоны, говорил о том, что было вовсе не нужно для дела, хотя пустейшим намеком привлекались к суду новые, ни в чем не повинные жертвы.
Особенно не любили молчать пред судилищем женщины. Они в большинстве случаев не скрывали того, что видели, и были в этом отношении весьма полезны для трибуналов. Они приплетали к одному лицу другое, к нему целое семейство, там близких и знакомых, навещавших и встречных. Все это делалось так легко, игриво и незаметно, что под конец под подозрением оказывались целые родства и фамилии, которые нотариус едва успевал вмещать на десяти — двадцати страницах, чтобы со временем разыскать и вызвать их (124).
Иные обвиняли из страха, скрывая свои преступления. Некая Консгран обвинила целое семейство Вельмур, которое якобы принимает у себя знаменитого еретика Ламота. В этом доме, по ее словам, жило будто до ста еретиков. Сама она была недолго тайной еретичкой, но уже давно епископ Фулькон обратил ее в католичество. По выходе замуж она не была в еретическом обществе, но Ламот сам зашел к ней, принес долг в пятьдесят солидов и снова ввел ее в запрещенные кружки. Тут она кстати заметила, что встретила здесь одного монаха, с виду цистерцианца, и рассказала, что слышала на поучениях: Бог не сотворил видимого; гостия не есть тело Христово; брак и крещение не ведут к спасению. Это так увлекло ее, что и она сама стала думать, как еретики, вследствие чего ей пришлось поплатиться заточением.
Сведения об альбигойской догме значительно пополняются этими показаниями, часто брошенными вскользь, оформленными, но потому весьма интересными и характерными. В протоколе догму можно проследить по впечатлению, какое она производила на умы массы. В 1243 году инквизиторы собрали особенно много сведений на этот счет. Они слышали из уст подсудимых темные апокрифические предания и легенды, посвященные тайнам мироздания, носившие восточный гностико-манихейский колорит.
Редко кто имел смелость взять на себя такое богохульство; всякий спешил выгородить себя, хотя прибавлял, что прежде и сам заблуждался. Одна слышала от жены своего знакомого, как Бог с диаволом делали человека и как Бог отсоветовал диаволу лепить человека из земной грязи, а велел сделать его из морской тины и тогда лишь вдунул в новое творение душу, сказав: теперь прекрасно, он не будет ни слишком силен, ни слишком слаб.
Другой показал, что десять лет тому назад слышал подобную легенду от Фабри. Бог видел, сколько без него зла делает диавол на земле и нечистые духи. Он призвал двоих ангелов и предложил им вызов: кто из них желает быть его сыном? Тогда один, по имени Христос, бывший его опорой, сказал, что хочет быть его сыном и что он пойдет повсюду, куда его пошлют. Тогда Бог послал его в мир, чтобы проповедовать свое имя.
Небесный мир представлялся в устах подсудимого аналогичным с земным; еретик полагал, что там также пашут быками. Христос, по другим показаниям, не был зачат святой Девою, а только заслонен, укрыт ею. Он никогда не устраивал мессы, которая есть изобретение кардиналов и духовных ради прибытка и доходов. Он не может вечно присутствовать в гостиях, иначе его тело при всевозможной громадности было бы съедено. При каждой подобной фразе указывали на лиц, которые могли слышать ее.
Показания нескольких женщин навели на подробности убийства в Авиньонете. Тут был сильно скомпрометирован Раймонд VII, и он был счастлив тем, что трибунал более не придавал его личности большого значения и потому оставил его в покое. Этот процесс начался в апреле 1244 года. Из показания одной подсудимой обнаружилось, что граф тулузский в день отъезда инквизиторов в Авиньонет поделал туда же своего приближенного Раймонда д'Альфаро, занимавшего при нем должность бальи. Последний имел в замке хорошего приятеля де Планта. Дорогой Альфаро съехался с рыцарем Манзо и узнан, что Планта недавно отлучился из Авиньонета в замок Брен, но что дома осталась его жена. .Альфаро почему-то не решился въехать в хорошо знакомый замок, а остановился в пригородном лесу и, расставаясь с Манзо, просил его вызвать к нему жену Планты. Альфаро знал ее лично; она была сестрой Отгона де Мос-сабрак. Она старанием диаконис была посвящена в альбигойство; и брат, и муж принадлежали к страстным приверженцам ереси. Она неоднократно присутствовала на собраниях и проповедях еретиков и, между прочим, слушала Бертрана Мартена, о чем заявила перед трибуналом 15 апреля 1244 года, припомнив кстати всех тулузских граждан, которых видела там. Была уже ночь, когда к ней постучался Манзо. Рыцарь сказал, что синьору ждут в антиохийском лесу по очень важному делу, касающемуся ее мужа. Смелая женщина отправилась туда одна. Альфаро потребовал прежде всего под клятвой соблюдения тайны, потом он сказал, что его господин, граф тулузский и Петр де Мазероль хотят убить приехавших инквизиторов, что для этого нужны люди барона Мирепуа, которого следует сейчас же известить о предприятии. Альфаро показал своей собеседнице привезенное им письмо к барону Мирепуа; он рассчитывал, что никто лучше ее мужа не устроит дела. Она предложила услуги своего брата, в ожидании возвращения мужа, взяла письмо, благополучно вернулась в город и ночью же передала поручение Моссабраку. Тот согласился ехать в Монсепор с охотой; барон Мирепуа явился лично и с собою привез двадцать пять головорезов. Как было дело, подсудимая не знает, но слышала от мужа, что в убийстве принимал участие он и ее брат, которые к этому времени скончались. Она также ничего не может показать насчет вальденсов.
В следующем месяце о том же деле сообщали новые лица, задержанные инквизицией. Допрос производили итальянские доминиканцы Феррариус и Дуранти. Между подсудимыми был один из участников убийства, воин Монсегюра, альбигоец Арнольд Роже. Спрошенный об еретиках и валь-денсах, он в трех заседаниях рассказывал о публичных собраниях у барона Мирепуа, на которых и сам он присутствовал и получал обычные благословения от Бертрана Мартена. По его показанию, сам де Планта привез письмо барону, и когда Мирепуа прочел его, то призвал своих воинов, и между ними подсудимого, и сказал, чтобы они готовились к поездке и что будет богатая пожива (125).
То же, слово в слово, показывал другой из воинов барона, Имберт де Салас, вспоминая все мельчайшие подробности поездки в Авиньонет и ожидания в лесу. Барон дважды посылал тихонько наведаться в замок выяснить, что делают инквизиторы, которые между тем нисколько не подозревали опасности. Этот последний процесс интересен как образец тщательности инквизиционного производства, не терявшего из виду ни малейшей мелочи. Нотариус кропотливо вносил в свои свитки все похождения и столкновения действующих и сопричастных лиц с полными именами. Трибунал позволял говорить даже то, что не относится к делу, надеясь извлечь для себя из этой болтливости немалую пользу. Так узнали, что Альфаро проговорился Равату, что если бы на этот раз ему не удалось исполнить поручение, то есть убить Арнальди, то для инквизиторов он распорядился устроить засаду: двадцать человек ждали монахов в лесу между Кастельнодарри и Сен-Мартеном (126).
Тулузская инквизиция видела, что во всех процессах замок Монсегюр играет первую роль. Только здесь еретики жили свободно, открыто совершая свои службы, публично собираясь на молитву, слушание поучений и принятие consolamentum. Только здесь находили свободный приют ересиархи. Монсегюрцы славились гостеприимством к своим собратьям. Сюда со всех концов Лангедока тайно привозили больных альбигойцев, и сам свирепый барон Мирепуа смягчался, когда присутствовал при трогательном обряде посвящения умирающего. Этот обряд часто происходил в его доме или на его дворе. Трибуналу поименно были известны лица, которые слушали Ламота или Мартена, но взять их из твердыни было невозможно.
Значение Монсегюра в эти годы было такое же, как Монтобана и Нима триста тридцать лет спустя или Ла-Рошели спустя почти четыре столетия[41]. Подобно им, Монсегюр был последним крепким оплотом гонимой веры и резиденцией ее патронов, людей храбрых, отважных, по-своему благочестивых, но в частной жизни мало отличавшихся от разбойников. При таких условиях Монсегюр был бы Государством в государстве, если бы не входил в удел, оставленный Раймонду VII. Последний жил в тесной дружбе его владетелем. Духовенство и инквизиция, правда, давно указывали ему на зловредную агитацию из Монсегюра, но неприступное положение замка среди пиренейских отрогов, на крутой и высокой скале, служило для графа достаточным поводом не принимать мер.
В начале крестовой войны этот замок с большим трудом был взят Симоном Монфором, но барон Мирепуа вместе с Переллой скоро прогнал крестоносцев и сам засел в нем. Петр Роже Мирепуа считал себя вассалом виконтов безьерских, был партизаном Тренкавеля и дрался за него; так как его сюзерен был теперь в изгнании, то он более никого не хотел знать над собою. Он разбойничал по дорогам и делал набеги на домены епископов и аббатов. Процессы 1243 года обнаружили все значение замка для ереси. Прелаты Нарбонны и Альби, в интересах «мира и веры», собрали наконец ополчение и решились положить конец подвигам барона. Сенешаль Каркассона помог им французским отрядом, чтобы одолеть «синагогу сатаны» и водворить мир в стране. Несколько провансальских баронов также присоединились к ополчению, которое двинулось на Монсегюр в марте 1244 года.
Альбигойцы поняли, что наступают на их последний приют; отдать его — значит проститься с мечтой о возможности возрождения их веры и с той ничтожной независимостью, которой они пользовались благодаря диким скалам Монсегюра, будто затерявшимся в море французского владычества. Так называемых «совершенных» оставалось в пределах Лангедока уже немного, но все они в этот год собрались, словно нарочно, в Монсепоре, поскольку в других местах им было куда более опасно. Своим неустрашимым духом они внушили геройство прочим единоверцам. Альбигойцы боролись за существование, а их последний защитник хотел отстоять свою феодальную гордость. Потому прелаты встретили удвоенное, отчаянное сопротивление.
Самая местность представляла для нападавших страшные препятствия. Всякие машины были бесполезны при высоте скал. В скалах пролегали тропинки, неизвестные осаждавшим; потому время от времени в Монсегюр доставлялись припасы, хотя и в незначительном количестве. Осажденные не жаловались на голод, и женщины, забывши провансальскую галантность, делили вместе с мужчинами все тяжести и труды. Во время осады Монсегюр был чисто альбигойским городом. Только в лучших своих мечтах ересиархи катарства думали о появлении такой общины. Католические церкви были закрыты, и никто не жалел о том. Раненых в схватках приносили в частные и общественные дома. Огромное большинство жителей хотя и не получило посвящения, однако ело благословенный хлеб. По обычаю, посвящение откладывалось до приближения смерти. Дамы приходили ухаживать за больными, родными ли, посторонними ли. Когда больной был безнадежен, являлись «добрые люди», спрашивали его согласия, читали апокрифическое евангелие Иоанна и требуемые молитвы и приобщали к своей Церкви умирающего, который обыкновенно жертвовал в пользу бедных альбигойцев известную сумму. Так умерли, покрытые ранами, Манзо и Моссабрак, известные по делу об убийстве в Авиньонете. На закате истории альбигойства осуществилась, хотя и ненадолго, на небольшом пространстве, та мечта, за которую погибли в бою, на виселицах и кострах тысячи людей. Как в фокусе, сосредоточилась в Монсегюре вся жизнь угасавшей веры с небывалой силой. Но в сравнении с долгой историей альбигойства это было лишь несколькими мгновениями.
Взятие Монсегюра можно объяснить только изменой, хотя летописец умалчивает о том (127). Из неясного рассказа надо заключить, что осаждавшие привлекли к себе много искусных горцев, хорошо знавших местность, следовательно людей, которых у них прежде не было. Они вызвались ночью взобраться на ближайшую скалу к Монсегюру, туда, куда прежде не решались пройти днем. С ними, преодолевая все опасности, взобрались рыцари с отборными пехотинцами. Наутро добровольцы, если верить летописцам, сами испугались той отвесной позиции, которую они занимали благодаря ловкости проводников. Как можно было ночью пробраться по незнакомым скалам, которые были недоступны днем, остается непонятным.
Здесь врагов не ожидали; они передушили стражу, ударили на ближайшее укрепление и овладели им после страшного побоища. По этой тропе пришли остальные французы. Заняв предместье, они были теперь почти у стен Монсегюра и стали каждый день энергично теснить осажденных.
Барон Мирепуа начал думать о капитуляции. Он с немногими приближенными получил право свободного отступления, так как для духовной и светской аристократии он все же оставался человеком близким, из феодального сословия, к слабостям и грехам которого причастны были ; более или менее все победители. Ценой собственного спасения он продавал инквизиции богатый клад.
Совсем другое дело — еретики, которым он оказывал покровительство. Они принадлежали ко всем сословиям. В Монсегюре было до двухсот альбигойских «совершенных» и духовных лиц. Когда прелаты заняли город, то прежде всего поспешили перехватать их. У победителей были готовые списки из инквизиционных трибуналов. Скрыться было нельзя. Архиепископ нарбоннский Петр Амелий импровизировал суд. «Совершенные» и духовные лица не хотели отречься от своей веры; они единодушно, и мужчины и женщины, требовали смерти, и все двести человек были приговорены к сожжению. Тут были рыцари, их жены и дочери. На обрыве соседней горы устроили большую загородку из высоких кольев, в середину накидали дров и привели связанных осужденных. Не пощадили и дочь Переделы, бывшего владетеля Монсегюра, позорно преданную палачам другом ее отца.
Осужденные радовались, что их не разлучили в эту торжественную минуту. Никто из них не издал ни одного крика. Священники и диаконы укрепляли слабых и женщин последней речью. Знаменитый Бертран Мартен, поучения которого были причиной гибели стольких людей, сгорел вместе со своими друзьями и учениками (128). Альбигойская община, со зданная его мрачным генигм, погибла вместе с ним.
Такой праздник устроили себе католические прелаты в великом посту 1244 года. Инквизиция, считавшая казнь делом богоугодным, была довольна этим совпадением. Разорив гнездо ереси и Сатаны, прелаты, не доверяя провансальским феодалам, передали такой сильный замок и руки французов. Гюи, новый маршал Мирепуа, вступил и обладание Монсегюром от имени французского короля.
Теперь инквизиция могла свободно находить свои жертвы. Они старались укрыться в Ломбардии, но там их встречали судьи не менее ловкие и беспощадные. Энергичные розыски начались тотчас по взятии Монсегюра. 1244 год особенно богат процессами. Сыпались доносы на матерей, мужей, отцов и родных (129). Осенью этого года можно насчитан, более тридцати процессов в одном тулузском трибунале. Чаше всего упоминается имя Бертрана Мартена, на поучениях у которого довелось побывать тем или другим лицам.
Старик Перелла вместе с сыном были пойманы и приведены перед Дуранти и Феррариусом. С низкой робостью старик, который в Монсегюре бросил палачам героиню дочь, оговаривал теперь и мертвых и живых, думая спасти себя. Он сказывал, как на поучениях Мартена и Камбитора присутствовали вместе с ним Мирепуа, Раваты, Конгосты, Моссабраки и многие другие из разных местностей. Он насчитывал всего более пятидесяти семейств. Двое других ссылались на тех же и постоянно на него самого. Одна женщина насчитала еще пятьдесят лиц, однажды слушавших Мартена (130).
Виновные теперь большей частью раскаивались в ереси и наказывались заточением.
Иннокентий IV при самом вступлении на престол предоставил инквизиции самую широкую власть. В доминиканцах он видел надежных друзей; в первые дни своею папствования он вручил им заведование инквизицией, предписал прелатам оказывать им помощь и содействие и предоставил им исключительную привилегию совершай, богослужение даже в тех местах Прованса, на которых лежало церковное запрещение. С самого начала он осадил епископов и даже своего легата, когда те хотели вмешаться в дела трибунала. Легат вздумал было по представлению авиньонского епископа освободить заключенных вопреки воле инквизиторов, но ему был прислан из Рима выговор. Епископ каркассонский хотел облегчить интердикт, наложенный инквизицией, — ему велено было отменить свое распоряжение и более не вмешиваться в подобные дела. Только инквизиторы своей властью могли усиливать или облегчать постановления (131).
Протоколы инквизиции до 1248 года; смерть Раймонда VII
При таком папе, как Иннокентий IV, судьбы еретиков определились бесповоротно. Кто успел — бежал в Ломбардию, где образовалась особая французская Церковь; в ней насчитывалось тогда более ста пятидесяти «совершенных». В Лангедоке, в непроходимой глуши, их было очень немного. По свидетельству Саккони, современного им инквизитора, который прежде сам был еретиком и хорошо знал их дела, в епархиях Тулузы, Альби, Аженуа и Каркас-сона около 1250 года могло быть не более двухсот, а во всей Европе около четырех тысяч еретиков, которые были приписаны к шестнадцати еретическим церквям (132). Но сюда же входили вальденсы, названные у него лионистами, от города Лиона, которые, в свою очередь, подразделялись на ломбардских и загорных. Альбигойцы и вальденсы могли бы жить свободно в Провансе, на другом берегу Роны, где богатые республиканские города часто бывали во вражде с духовенством и где вследствие того трибуналы инквизиции, не имея твердого оплота, встречали противодействие. Торговый дух этих городов, ценивший прямую выгоду, а не веру, веселая жизнь, свободные нравы — все это могло бы быть опасным для инквизиции, царившей над всем в Лангедоке, если бы судьба не распорядилась отдать Прованс в это самое время тому же французскому королевскому дому, который один только обладал достаточной материальной силой, чтобы оказывать когда нужно поддержку инквизиции.
Злой гений провансальской национальности Бланка Кастильская, эта предшественница Людовика IX, Екатерины Медичи и Ришелье, испанка, посвятившая себя всецело служению славе Капетингов, сделала теперь с графством Прованским то же, что прежде сделала с Лангедоком. Это случилось в 1245 году, когда торжествовавшая инквизиция стала беспокойно поглядывать на Прованс. Раймонд Беренгарий, последний граф Прованса, в первое время был полноправным феодальным государем в своей богатой, свободной земле. Он ничем не нарушал старых традиций своего дома. Он довольствовался почетом, присягой, доходами от своих вассалов и городов, а во всем прочем предоставлял их самим себе. Иначе нельзя было и поступать с такими городами, как, например, Марсель и Арль, которые снабжали полудикую Францию и даже Англию мануфактурными изделиями Италии и Востока, хлебом, пряностями и оружием. Капиталы со всех сторон стекались в эти общины, корабли которых составляли целые флотилии, выработавшие морское право для всей Европы, и консулы которых были богаче могущественных государей.
Симон Монфор загнал Раймонда Беренгария в Арагон. Беренгарий вернулся в Э и снова объявил себя государем. Но его характер уже изменился, он стал заносчивым, надменным с подданными. Желая войти в доверие к французам, Беренгарий вместе с ними осадил Авиньон. И с феодалами, и с консулами он начал обходиться иначе. Он, видимо, задался целью централизовать свое государство, чтобы приобрести большую силу и защититься от новых Монфоров. В борьбе с первыми он был счастлив потому, что его феодалы были разрознены и ссорились между собой, но общины оказали ему решительное сопротивление. Они поняли, что их государь хочет быть неограниченным господином, что несчастье испортило его. Они составили лигу, куда вошли Марсель, Арль, Тараскон, Тулон, Ницца. Их при случае могли поддержать итальянские города — стародавние союзники, издавна жившие одинаковой с ними политическою жизнью.
Раймонд Беренгарий потребовал покорности; ему отказали и дали понять, что государь для них только почетное лицо, что добрые города дают ему средства для суше-ствования в вознаграждение за то, что его предки некогда проливали кровь за их отцов, что, купив себе свободу за деньги, они отстоят ее оружием. Но у городов не было войска, каждая община должна была защищаться отдельно. Раймонд Беренгарий, вступив в сделку с Арлем, кинулся на Ниццу и изменой овладел ею. Потом он осадил Мар сель. Но не с его силами было сладить с такими горожанами, дух которых закалился в морских опасностях и которые еще не знавали, что такое рабство. Пока граф осаждал Марсель, Арль отложился от него, послал марсельцам помощь, а Ницца прогнала его гарнизон.
Раймонд VII рад был воспользоваться этими стеснительными обстоятельствами своего соседа. Он объявил ему войну и заставил снять осаду Марселя. Чтобы помириться. Раймонд Беренгарий обещал графу тулузскому в супруш свою дочь Беатриче. Она была блестящей партией для Ран монда VII. По завещанию ей предназначалось все наелся ство ее отца. Но Раймонд VII только недавно женился на Маргарите Ла-Марш, сестре короля Генриха III. Впрочем отказываться от живых жен, сажать их в монастырь и выдавать за вассалов было не редкостью в рыцарские века; тулузской династии это было даже довольно обыкновенно. Раймонд VII уже удалил от себя свою первую жену Санчию за бесплодие, которое так мучило его после парижского договора. Нашли предлог и для второй — какое-то родство в четвертом колене, воспрещенное латеранским собором. Стоило только поклониться перед папой.
А Иннокентий IV был теперь близко; в Лионе, бежав из Рима от императора Фридриха II, он собирался отлучать его под защитой французских рыцарей. Оба графа, тулузский и прованский, поехали на собор, чтобы поделиться своими голосами с кардиналами. За это Иннокентий IV благодарил Раймонда VII расторжением его брака. Дело разбиралось на соборе. Сперва был задан естественный вопрос: как мог состояться подобный брак? Но Раймонд представлял на это оригинальные доводы, которые хорошо характеризуют нравы эпохи и крепость семейных уз. Он объявил собору, что вступил в брак со своей женой под условием развестись через год, если святой отец не разредит брака, а по сие время такого разрешения не последовало. Отцы собора удовольствовались этим оправданием и предоставили Маргарите искать другого мужа, чего она не преминула сделать. Тогда же папа разрешил дальнее родство между Раймондом VII и Беатриче Провансальской, которая тут же в присутствии папы и Балдуина, императора константинопольского, бывших свидетелями, была объявлена невестою графа тулузского (133). Свадьба была делом решенным.
С веселыми мыслями возвращался Раймонд VII из Лиона. Судьба улыбалась ему на старости лет. Вместе с молодой женой он приобретал права на Прованс, где его имя было так популярно. Может быть, его династии суждено будет возродиться снова, может быть, жена подарит ему наследника, может быть, Раймонды со временем вернут себе Лангедок, достояние своих предков, и слава их дома загремит снова в Европе! Эти сладкие мечты скоро потревожило одно известие.
Курьер из Прованса примчался в Тулузу с сообщением, что 19 августа граф Беренгарий скончался. К этому посол прибавил, что и пред смертью Беренгарий подтвердил свое распоряжение о Беатриче, и что графу необходимо поспешить с прибытием в Прованс и там немедля устроить свадьбу. Он предупреждал графа не брать с собой воинов и вассалов, а ограничиться небольшой свитой; так, по крайней мере, желали регенты. Но ни посол, ни сам Раймонд не догадывались, что их обманывают, что регенты тайно ведут переговоры с матерью невесты, которая из честолюбия желала отдать Беатриче за одного из братьев французского короля. Бланка Кастильская давно работала над этим планом, она давно искала расположения матери невесты и смотрела на своего угрюмого Карла, четвертого сына, как на будущего владетеля Прованса. В то время как Раймонд VII спешил в Прованс на свадьбу, его невеста уже была предназначена другому.
Раймонд приехал в Прованс без войска и без денег. Слабохарактерный, доверчивый как ребенок, он мог стать игрушкой в руках всякого хитрого человека. Своим политическим поведением он не имел права требовать, чтобы ему верили. Он не догадался заручиться симпатиями в регентах, от которых зависело теперь так или иначе направить судьбы Прованса, отдать его графу тулузскому и тем продолжить его независимость или вручить Карлу Анжу, через посредство которого рано или поздно графство составит часть владений французского королевского дома.
Регентами были Ромео де Вильнев и Альберт де Тараскон; первый принадлежал не к тем Вильневам, которые были патаренами и даже диаконами альбигойцев: он был испанского происхождения. Нет сомнений, что регенты-феодалы не могли доверять слабому и лицемерному характеру Раймонда VII, которого обстоятельства изменили к худшему. Известно, что бароны не желали его. Никакая сторона не могла на него положиться ни в чем, как доказало его отношение к ереси. Его легкомыслие и непостоянство и в политической и в семейной жизни приобрели ему печальную известность. Регенты скрывали от графа свои переговоры с Бланкой и между тем не отказывали ему. Он обратился к невесте, но старик не мог внушить никакой симпатии молодой и пылкой девушке. Он заискивал у ее родных и также бесполезно. Против него интриговали все коронованные женщины Запада; сестры Беатриче просили папу расстроить брак Раймонда.
Кроме старости, графу вредила бедность. Оказалось, что у жениха нет средств отпраздновать свадьбу. Ему посовето вали обратиться за деньгами к Бланке, его кузине. Но ку зина и король в это самое время занимались переговорами с папой в аббатстве Клюни о браке Карла с Беатриче; тем не менее Бланка, играя всю жизнь своим кузеном, не преминула еще раз обмануть его и обнадежить. Но когда Раймонд VII послал к ней второй раз, чтобы благодарить ее за любезность и получить деньги, то его послу объявили при дворе, что он разъехался с принцем Карлом, который но главе французской армии отправился за рукой Беатриче. Мы знаем, как выиграли Франция и Капетинги от этого брака. Французский принц не только стал государем Прованса, но и королем Неаполя; французская политика в этот момент начинает влиять на события в Италии.
А бедный Раймонд VII, покинувший двух живых жен, в надежде получить потомство от третьей, осмеянный, обманутый, со стыдом покинул двор Беатриче. Он не мог мстить, если бы и хотел, потому что был бессилен. Но в нем так иссякла всякая энергия после стольких поражений неудач житейских, что он даже не чувствовал обиды и с примерной незлобивостью вскоре после того в угоду французскому королю и папе принялся заседать в инквизиционном трибунале. Им помыкали как слугой и вдобавок народили нужным его же осмеивать. Он судил на этот раз Человека, который, кроме рыцарской преданности, ничего лично ему не сделал, но который был деятельным агитатором альбигойцев несколько лет тому назад. Это был Аламан Роэкс, которого трибунал уже осудил заочно. В 1245 году был осужден его брат Петр. Но его самого долго не находили, хотя знали, что он часто посещал Лангедок. Весной 1246 года взяли его жену Иоанну и 4 мая поставили перед тулузским трибуналом. Ее также обвиняли в ереси. Она видела многих еретиков и слушала поучения их проповедников, присутствовала на службах и совершала их у себя в доме, поклонялась «совершенным» или, как тогда выражались, обожала их, посылала им пищу, была за их трапезой, ела благословенный хлеб, побуждала мужа к оказанию покровительства еретикам, даже давая на это средства, и всегда считала их добрыми людьми.
Она, видимо, наговаривала на себя, чтобы несколько смягчить преступления своего мужа и тем облегчить его участь. Она знала, но молчала, что муж ее не только еретик, но вождь, архиерей и пророк их, что он ведет скитальческую жизнь, проповедуя в потаенных местах запретное учение. Аламан Роэкс бросил свои богатства и дворец и в плебейском облачении «совершенного» стал служить своей вере и скоро сделался епископом альбигойской Церкви. Но за него пострадала Иоанна; она была осуждена на вечное заточение. Тогда Роэкс был не в состоянии более переносить своего положения. Совесть укоряла его за жену. Он представлял себе суд над ней, ее страдания в тюрьме, в которую она пошла, думая оправдать его, готовая даже на пытку, воспоминания неотступно преследовали Аламана, когда он поучал в лесу неофитов. Наконец он не выдержал, сбросил свою черную рясу и добровольно явился в трибунал, 14 февраля 1247 года.
Его государь, для славы которого он жертвовал жизнью, был в числе его судей. Такая неблагодарность проистекала из благочестивого лицемерия графа; это был тот предел, когда бесхарактерность близится к нравственному преступлению. Инквизитором был фанатичный и суровый аскет Бернард де Канчио, занимавший этот пост с 1243 года и подписавший за свою жизнь несколько сотен протоколов, и Иоанн из Сан-Пьетро. Про архиерейство Аламана в трибунале еще не успели получить сведений, так как он только недавно принял священнический сан.
Аламан не хотел отпираться, что был в общении с еретиками. Он сознался, что был и на трапезах, и на службах альбигойцев, что верил в двух богов, доброго и злого, что добрый не мог творить ничего видимого, что брак и крещение не ведут к спасению, что тела не воскресают, что спасаются личным воздержанием и прочее. Тридцать лет он исповедовал эти убеждения и теперь покаялся, думая разделить участь своей жены. Он скрыл свой сан и то влияние, какое имел между альбигойцами. Трибунал, не принимая во внимание его бегство и не усиливая наказания, определил заточить его на всю жизнь в тюрьму при церкви святого Стефана.
Эта тюрьма поглотила в те годы многих из видных людей Тулузы, занимавших подобно Роэксам места в капитуле. Не все они держали себя перед трибуналом благородно. Вместе с Аламаном Роэксом на собраниях еретиков неразлучно бывали Вильневы. Журдан Вильнев уже сидел в заточении с 1237 года, Бертран Вильнев оговорил своего брата Арнольда еще до ареста Аламана и тем избавился от наказания. Он стал шпионом при инквизиции и среди прочих дел участвовал в процессе жены Роэкса. Арнольд в июле 1245 года, стараясь выпутаться, показал, что вместе с братом он слушал альбигойских проповедников Гроса, Бонфиса и Лагета, но что никогда не верил их учению, не принимал их у себя и что даже и в том каялся перед отцом-инквизитором Арнальди.
Стефан и Арнольд Вильневы были осуждены на покаяние, пилигримство с посохом в руках и постройку темниц для осужденных. Но замечательно, что этот ряд осуждений, постигший фамилию Вильневов, нисколько не опорочил ее. Инквизиционные сентенции, обрекавшие на легкое покаяние, встречались так часто, посещения трибунала горожанами правыми и заподозренными стали так обыкновенны, что осуждение в трибунале уже теряло свой прежний позорящий характер. В тулузском архиве хранится современный манускрипт протоколов, который разделен на столбцы со списком почти всего городскою населения одной общины, которое поодиночке допри шивал приехавший инквизитор. Потеря чести не ложилась пятном на род и семейство. Потому в XIII столетии между рыцарями, консулами и членами муниципалитетов на Юге по-прежнему попадаются Вильневы.
Иные рыцари, как Эстольд де Роквиль, старались указать на большое число своих единоверцев, ошибочно думая тем облегчить свою участь. В Сен-Пуелле Роквиль принимал архиерея, исходившего почти весь Лангедок. Тут бывали на службах Манзо и Конгосты. То же самое было в замке Кассер и Монгискаре, где Роквиль позна-рсомился с проповедником Баконией. В Тулузе он был злизок с Ламотом, который однажды сопутствовал ему в странствиях (134). Но ему было тем труднее оправдаться, что, по собственному его признанию, на его руках были ; склады одежды и припасов для еретиков. Жена разделила его участь. Она указала на Мазеролея, Кастельново и .Арнольда Вильнева.
Гораздо важнее было показание Б. Мира в мае 1245 года. Он жил постоянно в Фанжо и поучал ереси в доме Мерсье, с которым рано сошелся. Но интересно то, что в его дом приходили слушать еретические поучения трое клириков: Гугон, Лантар и Гозберт, бывший капелланом Амори Монфора. Все они обожали «совершенных», склоняли пред ними колена и брали благословение. В Фанжо и позже в Кастельнодарри, куда перебрался их кружок, появлялись и другие проповедники с диаконисами, как то: Гильберт де Кастр, Бордас, Коломб, сестры Вильмет и Лонгбрюн. К ним присоединился графский бальи Понс Вильнев.
Это было двадцать один год тому назад, но мы видим участие духовных лиц в еретичестве впервые после орлеанских казней. К сожалению, неизвестно, чем кончилось это дело, так как протоколы сохранились в беспорядочных неполных копиях и не вошли в общую коллекцию.
Что касается каркассонской инквизиции, то ее протоколы от этих годов, хранившиеся долго, как в безопасном убежище, в архиве доминиканского монастыря, в Монпелье, были истреблены кальвинистами во время религиозных войн вместе со старым монастырем, сгоревшим дотла. Случайно сохранился лишь один инвентарный перечень этих документов. Этот инвентарь сам по себе обширен, представляя полного перечня дел и имен подсудимых, он освещает, как искра среди мрака, сущность и последствия решений.
Из него видно, что в 1244 году дела были в трех связках, в 1245 году — в трех, для 1246 года — в одной. В 1244 году многие были осуждены на костер за непризнание в ереси и много костей было выкинуто из кладбищ; другие были осуждены за неявкой заочно; третьи наказаны заточением. Составилась особая связка о тех, кто ходили по нарбоннской и каркассонской провинциям утешать больных и умирающих и совращали их в ересь под предлогом обращения к Богу и Евангелию. В следующем году инквизиция действовала в Альби, осуждала на заточение, покаяние и пеню. Наконец, в 1246 году поприще действий было перенесено в Фуа и направлено против «живых и мертвых». Трибунал встретил здесь редкую энергию и стойкость убеждений. Эти люди смело смотрели в глаза инквизиторам и вызывали их на бой. На допросах большинство альбигойцев смело показало, что они считают своих единоверцев добрыми людьми, правоверными и заслуживающими спасения. Подсудимые заявляли свою догматику, дуализм, свои сомнения о пресуществлении, таинствах и затем сказали, что Бог не мог сотворить ни мужчину, ни женщину, ни какую-нибудь тварь и что они верят в то, чему их учили.
Известно, что такая исповедь вела на костер, если преступник не раскаивался.
Чем далее, тем более находила себе пищи деятельность трибуналов. Недаром некоторые доминиканцы гордились, что инквизитор тех лет Бернард Канчио исписал такое множество пергаментов одними сентенциями, когда его братья проводили бессонные ночи над фолиантами во славу той же католической веры. Тулузские дела 1246 года, которые имеются в парижском сборнике, представляют ту же связь с движением в Монсегюре, как и процессы, им предшествовавшие.
Новое оскорбление, нанесенное инквизиции в Нарбонне, тщательно скрытое летописями, но обнаруживающееся из булл Иннокентия IV (135), не могло умалить ревность трибуналов. Надо предполагать, что в Нарбонне в инквизиционные книги попало слишком много горожан, чувствовавших вполне свою правоту. Придирчивость приехавшего трибунала, его подозрительность превосходили всякую меру терпения. В Нарбонне трибунал был едва ли не впервые. Католики произвели нападение на дом инквизиции — стражу, которая пыталась защитить его, переранили, а двух убили, между ними пострадал один клирик. Потом толпа кинулась на книги, чтобы их уничтожить; их вынесли и сожгли. Это не принесло никакой выгоды горожанам, а только породило новые розыски.
Папа распорядился восстановить книги по другим экземплярам, оставить те же наказания и преследовать мя тежников, а равно власти, которые безмолвствовали и не приняли должных мер. Все это пришлось ему вторично под тверждать через год, что показывает, какое неэнергичное содействие инквизиции оказывала светская власть в неко торых городах. Но где трибунал, как, например, в Тулузе, водворялся прочно, там он имел свойство напускать на город какое-то оцепенение, подчинять все своему темному, но неодолимому влиянию.
Два-три возмущения не удались, и Тулуза склонила свою непокорную голову пред ненавистной ей поповской властью. Скоро тулузцев трудно было узнать. Братство между ними исчезало, трибунал вооружил друга против друга. Одни отпирались, другие, напротив, не только сознаваясь, но старались привлечь еще кого-нибудь к делу.
Граф де Фуа и его семейство были обвинены по доносу некоего Арвиньи, который, впрочем, не пощадил свою мать и прочих родных. Он же рассказывал, как самые знатные из альбигойских духовных лиц посвящали в ересь брата аббата де Фуа в Памьере перед его кончиной. Относительно самого графа де Фуа дал подтверждение его собственный бальи в Гарасконе. Бальи уверял, что граф сидел за трапезой еретиков вместе со своей матерью. Семейство рыцаря де ла Канна акже назойливо уличало графа в дружбе с еретиками, ссыпаясь на его пребывание в Э.
Против других подсудимых доносы были слишком обычны и часто слишком ничтожны. Иные еще двенадцать лет тому назад блуждали в ереси, сиживали в собраниях еретиков, падали вместе с другими на колени при входе и выходе старших. Другие только имели случай слышать мысли альбигойцев, гонимых католиками, но веривших, что спасение наследуют лишь они, да имели неосторожность поддать денарий одному нищему, оказавшемуся после вальденсом (136).
Можно ли было остеречься от этого, когда по показаниям католиков в некоторых городах ересь недавно исповедовалась публично? Поэтому понятно, что запрещение священникам хоронить трупы еретиков на христианских кладбищах не исполнялось.
Альбигойские священники были настолько самоуверенны, что вступали в спор с францисканцами; это было недавно, как читаем в одном деле за 1247 год. Шесть тулузских миноритов свидетельствовали об этом в трибунале — брат Гарсия взялся дискутировать с альбигойцами; это было негласно, хотя и в самой Тулузе. Такой способ действия со стороны францисканцев был лучшей услугой для католицизма. Эти еретики высказались вполне в духе крайнего дуализма: Бог ветхозаветный был злой. Христос, Дева Мария и Иоанн Креститель низошли с неба и не имели человеческой плоти; последний был величайший из диаволов, какие только бывали на земле. Христос никогда не сходил в ад, никого не освобождал оттуда. Брак — то же наложничество; мужчина, имевший союз с женщиной, не может быть спасен, что символически выражено в древнем предании о яблоке. Последняя истинная месса была совершена во времена святого Сильвестра; все так называемые богослужения католической Церкви, которые исполняются после того времени, ничего не значат, а в те времена Церковь не имела понятия о собственности.
К этому были добавлены весьма интересные для нас сведения об альбигойцах. Еще в эти годы они доказывали, например, что смертная казнь не должна существовать, что человек ни под каким видом не должен обрекать себе подобных на смерть. Так думать показалось не только странным, но даже греховным (137). Одна эта идея, возвещенная альбигойцами, снимает с них много ответственности за другие, мало симпатичные или вовсе не историчные стремления. Читая эту страницу преступлений еретиков, трибунал не предвидел, что осуждает благороднейшую мысль, самую священную и самую христианскую идею, которую одинаково безуспешно будут высказывать с трибун и в литературе пятьсот лет спустя образованнейшие и передовые люди Европы,
Нет ничего отраднее для историка, как после долгих исканий в пыли архивов открыть среди тысячи бесполезных, скучных и утомительных документов эти две строки, показывающие, что есть вечные истины, современные древнейшим цивилизациям, что всегда находится кружок людей, которые их оберегают, какова бы ни была культура общества.
Альбигойцам также казалось странным, как может человек телесными очами видеть какое-либо чудо. Святой Франциск и ему подобные не могли творить чудес, да и Бог никогда бы не наградил их таким даром за одну их свирепость относительно так называемых катаров. Они также не могли понять, как крест, знак унижения и позора христианства, может быть признан христианством не только священным знамением, но даже водителем к победам. Доносчики слышали, как в Альтавилле, в большом собрании, где было человек семьдесят, громко говорили, чти неприлично с крестом ополчаться на Фридриха или на сарацин. А если христиане считают его святым, то как священное знамение может нести за собою смерть и истребле ние вроде Монсегюрского? Сам по себе крест остается деревом. Что касается обречения одних на спасение, а других на осуждение, то подсудимый высказался об этом с патетическим озлоблением, прибавив, что он оплевал бы такого Бога, так как он тогда не стоит и капли морской ! (138)
Гонимая и уничтожаемая Церковь альбигойская была в эти годы в таком внутреннем процветании, которое по закону всех общественных явлений предшествует падению. Деморализацию мы уже видели в греховных слабостях «верных»; одно следственное дело дает нам и другие данные. Подобно католическому духовенству, альбигойское эксплуатировало религиозные чувства и облагало поборами свои обряды и требы. Жена Арнальди Серена рассказывала, что еретические священники требовали сто солидов за с:опзо1атеп1ит над ее больным мужем и что он вместе с племянником аббата де Фуа Аньелом дал им эту сумму, после чего оба они были приняты в ересь (139). Конечно, этот случайный факт, который мы нашли в груде протоколов, мог быть изолированным, но тем не менее появление его имеет значение, особенно ввиду громадного количества несохранившихся документов.
Этот процент тем значителен, что, например, с 1247 до 1273 года мы не имеем ни одного протокола тулузской инквизиции. По крайней мере, Доа не нашел их уже при Людовике XIV, хотя известные нам папские буллы и их подтверждения, наконец, политическое положение страны, управляемой французским принцем, — все это обнаруживает существование инквизиции. Персеи в истории тулузских доминиканцев пробегает мельком эти годы за неимением материала.
Таким образом, нить внутренней истории инквизиции прерывается, а с нею вместе прерывается и история альбигойства в указанный период.
Так как протоколы каркассонской инквизиции, которая была младшей сестрою тулузской, также исчезли, то мы не имеем никакой возможности восстановить этот пробел. Из первой графы инвентаря можно заключить, что в Каркассоне производились дела непрерывно от 1248 по 1274 год. В них говорилось о показаниях против тех, которые принимали еретиков, ели с ними и слушали их. Для 1247 и 1248 годов имелся даже особый портфель, в который входили преимущественно процессы еретиков области Мирепуа. Также особые дела за этот год были об еретиках Альби, которые отреклись и были осуждены на покаяние и приняли католицизм.
Позднейшие допросы еретиков в Тулузе семидесятых и восьмидесятых годов XIII столетия, сохранившиеся в целости, служат свидетельством того, что альбигойство держалось прочно и непрерывно во все предшествовавшее время, то есть, что политические обстоятельства не имели на него того уничтожающего влияния, которое должно бы было предполагать. Если тогда находили кого судить и притом чуть не ежедневно, значит катарство, питавшееся влиянием из Ломбардии, имело возможность и средства существовать, хотя и тайно. Ему готовилась поддержка в самом духовенстве, в той его среде, которая восстала против гнета римского папы. Для ереси теперь ничего не значит, поддерживает ли ее светская власть. Альбигойцев слишком часто обманывали, чтобы они могли верить в вельмож и князей. Их взоры были устремлены к небу. Они давно простились с политическими мечтами и доживали свой век, сосредоточившись в себе. Их пропаганда была малозаметна.
На Раймонда VII они смотрели как на изменника и равнодушно отнеслись бы к известию об его смерти. А она близилась.
Граф тулузский, подобно другу своему Фридриху II, был слишком несчастлив в предприятиях в последние годы своей жизни. Он был в положении человека, который своим характером никому не внушает доверия. Церковь, которая гнала его, теперь была в мире с ним, но не оставляла своих подозрений. Ему напоминали его обещание идти в крестовый поход, который он давно откладывал под разными предлогами. В душе он теперь не мог не питать полного сочувствия к этому предприятию, его прежний скептицизм исчез с годами борьбы; под старость он стал прекрасным католиком и, можно сказать, ревностным слугой папы.
Мысль о крестовом походе была любимой идеей короля, поэтому Людовик IX, со своей стороны, напоминал графу и торопил его. Так же поступала и Бланка. Раймонд VII забыл недоброжелательство, какое недавно оказали ему в Париже. Ловкие люди из него могли делать что угодно. Он приехал к королю в марте 1247 года. Людовик IX уже собрался в Египет — нашивая в это время на всех кресты, он надел крест и на графа. Раймонд намекнул, что у него нет денег; ему обещали тридцать тысяч ливров на расходы и, кроме того, посулили восстановление нарбоннского герцогства.
Всякий бы догадался, что это обман, но легкомысленный Раймонд был в восторге. Папа похвалил его и тоже обещал десять тысяч марок, что еще более польстило Раймонду. Иннокентий IV брал на себя приятный труд — наблюдать за Тулузой в его отсутствие. Раймонд поблагодарил и за это; в припадке восторга от любезности папы он чувствовал себя его другом, которому, конечно, не будет отказа в такой законной просьбе, как, например, в разрешении предать земле кости своего отца. Он хотел отдать долг памяти отца пред отправлением в поход. Он уже давно начал это дело и получил уверение от имени Иннокентия IV в том, что препятствий не будет и что необходимо только ручательство французского короля. Раймонд просил о том же Людовика IX.
Между тем в Тулузе, в доме храмовников, два инквизитора, де Канчио и де Брив, вместе с епископом Лодевы две недели в июле 1247 года занимались исследованием жизни Раймонда VI и обстоятельств его смерти. Они допросили сотню свидетелей, решили дело в благоприятном смысле и уведомили папу.
Раймонд торжествовал. Но каково было его изумление, когда папа отвечал, что очень удивляется, как могли начать подобное дело без него, что никаких обещаний он не давал. Иннокентий IV, видимо, не хотел ослаблять силу церковных проклятий и разрушать кары своих предшественников. Он не постыдился отпереться от собственных слов и извещал графа, что, вероятно, его обманули и злоупотребили его именем, но что, впрочем, он не имеет ничего против того, чтобы начать розыск заново, для чего назначал особую комиссию. Ему нужны были услуги Раймонда VII, но он знал, что достигнет их без всяких уступок со своей стороны.
Раймонд VII уже потерял способность чувствовать обиды и понимать насмешки. Он просил не возобновлять дело об отце, и совершенно основательно, так как новая комиссия трех епископов Оша, Пюи и Лодевы иначе взглянула на работы инквизиторов и потребовала более веских доказательств. Так труп Раймонда VI и остался непогребенным. Его сын наконец согласился с мыслью, что, вероятно. Богу угодно, «чтобы он более не женился и не пытался хоронить отца», так как оба эти дела ему не удавались (140).
Замечательно, что после жизненных неудач последнего времени Раймонд VII в каком-то непонятном ослеплении вымещал досаду на альбигойцах и жадно принялся жечь их. В ответ на оскорбительную выходку папы он почувствовал потребность отблагодарить его и потому изъявил желание уничтожить у себя всякие остатки нечестия. Об этом он извещал папу, за что тот очень похвалил его. Граф не преминул скоро оказаться достойным этих похвал. Людовика IX уже не было во Франции — он отправился в крестовый поход, сопровождаемый рыцарством Франции, Тренкавелем Безьерским и двумя Монфорами. Раймонд VII, не успев снарядить свой корабль, отложил поездку до следующей осени и, больной, жил в Ажене. Вместе с ним должны были отплыть все провансальцы, осужденные инквизицией на покаяние и получившие от папы милостивое дозволение заменить покаяние походом, что, впрочем, их обрадовало.
Но Раймонд, вероятно, не желал общества таких ненадежных товарищей; по крайней мере, он отнесся к ним иначе. В местечке Берлег, недалеко от Ажена, трибунал напал на след ереси. Восемьдесят человек были схвачены, граф присутствовал при допросе и суде над ними. Они принадлежали к числу «верных» и скоро отреклись от своих заблуждений. Их следовало обречь на покаяние и заточение. Но на этот раз все они были сожжены, и именно по настоянию и приказанию Раймонда (141).
Сожжение восьмидесяти альбигойцев было последним событием в тревожной жизни этого несчастного человека, боровшегося в одно и то же время и с собой, и с ходом событий. Он начал свою деятельность рыцарской защитой гонимой ереси, а кончил тем, что перешел на сторону самых жестокосердых ее гонителей. Лично он не мог питать злобы к людям, с которыми были связаны лучшие дни его жизни, но он не обладал достаточно сильным характером, чтобы не подчиниться тому принципу религиозной нетерпимости, который систематически распространялся из Рима по всему Западу, покоряя себе умы государей и народов. Раймонд VII был болен с осени 1248 года. В июле 1249 года он узнал, что в Египет отправился с войском его зять Альфонс, что его сопровождает Иоанна. Раймонду хотелось посмотреть последний раз на свою дочь, которой суждено было принять его воображаемое наследие. Собрав остатки своих сил, преодолевая с каждым днем мучившие его лихорадки, он прибыл в Эг-Морт, откуда обыкновенно отправлялись французские крестоносцы. Он сам уже не мог привести в исполнение любимой мысли последних годов, но дал обет осуществить ее, когда почувствует облегчение. Во всяком случае, это святое дело он поручал своему наследнику.
Раймонд благословил детей, когда они сели на корабль, он с грустью следил за ними, пока суда крестоносцев не скрылись с горизонта. На обратном пути в Ажен, где он хотел поселиться на осень, Раймонду постепенно становилось все хуже. Наконец около Родеца, в местечке При, он должен был остановиться.
Он чувствовал, что силы покидают его и что подходит время, когда надо спокойно проститься с жизнью. Ему хотелось успокоить свою совесть. В окрестностях спасался отшельник, считавшийся святым у народа за свое подвижничество; его звали брат Вильгельм Альбароньер. Граф просил призвать его. Схимник не отказался, пришел в местечко, исповедал больного, успокоил его сомнения, но не мог причастить его. Раймонду стало немного легче.
Между тем слухи о его болезни, самые разноречивые, быстро распространились по Лангедоку. Прелаты, вассалы, консулы из Тулузы спешили в бедное При, чтобы застать своего графа живым. Ближе всех был альбийский епископ. Он привез ковчег со Святыми Дарами. Когда граф услышал звон колокольчика, он поднялся с постели, с трудом добрел до порога спальни и опустился на колени. Он приобщился с сердечным умилением и после того погрузился в долгую дремоту.
Так прошло несколько дней. Когда он мог владеть собою, то вокруг него собиралось много приближенных. У них шли совещания о том, куда перевезти больного теперь же, пока возможно. Тулузские консулы желали, чтобы граф провел последние дни жизни во дворце своих предков, в том городе, судьба которого столько веков была связана с судьбою Раймондов и который только один должен быть местом успокоения. Они прощали ему все зло, какое он наносил стране и столице, и помнили только, что в его лице имеют последнего представителя национальной династии. Бароны и прелаты согласились с ними. Но Раймонд умолял, чтобы его отвезли куда-нибудь поближе, так как чувствовал себя не в состоянии совершить дальнюю поездку. Действительно, в городке Мильо, расположенном на реке Тарн, поезд принужден был остановиться.
Здесь, 23 сентября Раймонд продиктовал свое завещание. Он приказывал возвратить кому следует все то, что неправильно приобрел, и завещал десять тысяч серебряных марок на аббатство Фонтевро, где просил похоронить себя. Объявляя Иоанну наследницей и отдавая тем свою страну в руки французского правительства, он утешал себя мыслью, что по крайней мере его вассалы сохранят свои права и привилегии, что они не потерпят впредь никакого ущерба и не будут обременяемы новыми поборами, так как они служили ему своими средствами по доброй воле, а не по обязанности. Он не хотел уносить в могилу вражду священников и проклятие монахов; он возвращал им и их церквям, как милость, все, что у них отнято было по суду. До прибытия Альфонса он поручал управление государством Ричарду Аламану, которого просил исполнить свои приказания.
На другой день, в присутствии регента, он сделал дополнительные распоряжения относительно крестового похода. Его преследовала мысль, что он незаконно присвоил себе деньги папы и короля, которые уже давно были получены им для похода. Он завещал своим наследникам возвратить их кому следует и на словах велел вручить папе те сокровища, которые тот дал ему на борьбу с неприятелями Церкви, императором и герцогом савойским и которыми он не успел воспользоваться.
Он был в эти дни в полной памяти, но чувствовал крайнее истощение сил. Прелаты совершили над ним миропомазание. Смерть приближалась быстро.
27 сентября Раймонд VII скончался. Его тело положили в ящик и отправили по Гаронне; его везли через Тулузу в монастырь Парадиз в Аженуа. Покойник, таким образом, объехал все свои родовые земли, половина которых уже не принадлежала ему при жизни. Народ стекался к городам, через которые тянулась погребальная процессия. Он оплакивал в покойном некогда любимого государя и, забывая все его недостатки, помнил одно — что с ним вместе он хоронит в одной могиле свою независимость и свою национальность.
Патриоты сознавали, что каковы бы ни были личные слабости Раймонда VII, он заслужил симпатию уже тем, что вытерпел за народ весь позор побежденного, что пал после долгой, но бесполезной борьбы за независимость страны. Жертвы его напрасной жестокости были у всех на памяти, но каждый знал, что граф был поставлен в самое безвыходное положение и, гнетомый каким-то роком, делал то, что противоречило побуждениям его сердца. Как было его не любить народу, когда их связывало общее несчастье.
Из монастыря Парадиз весной 1250 года его тело перевезли в аббатство Фонтевро. В этом готическом Пантеоне рыцарского времени покоились Генрих II Плантагенет, Ричард Львиное Сердце и Элеонора Аквитанская. Рядом с ними была приготовлена свежая могила для последнего потомка династии Раймондов. Его положили, согласно завещанию, в ногах матери и Львиного Сердца, который был его дядей. Над гробницей была изображена из мрамора его распростертая фигура с руками, сложенными на груди. В XVII столетии все гробницы были перенесены в другое место, где можно еще теперь видеть статую Раймонда VII, который молится стоя на коленях, как бы вымаливая прощение за провансальский народ, погибший вместе с ним для истории и для цивилизации.
Патриоты Лангедока, которые плакали над этой многоговорящей гробницей, не могли удержаться от вопля:
— Отчего он не оставил наследника!
Благочестивый католик объяснял такое несчастье Раймонда VII, ставшее орудием гибели целой национальности, наказанием Божьим за попущение еретического нечестия.
Глава третья Последствия ереси и завоеваний
Упрочение административных связей Франции и Лангедока. Начало централизации; деспотизм Альфонса. Выражение национального чувства в литературе, направленной против Франции и Рима. Филипп III и уничтожение ереси в народных массах. Судьба страны при Филиппе IV. Распад францисканского ордена. Последние альбигойцы.
Упрочение административных связей Франции и Лангедока
Лишь только Раймонд VII испустил последний вздох, сенешаль Каркассона поспешил известить о том королеву Бланку. В отсутствие детей она быстро сделала необходимые распоряжения. Два рыцаря, Гюи и Эврэ Шеврезы, и капеллан Альфонса Филипп были посланы принять наследство покойного. Через двадцать дней после смерти Раймонда французские послы принимали в нарбоннском замке присягу от консулов на имя графа де Пуатье, который теперь стал графом Тулузы и маркизом Прованса.
Этим фактом началась французская эра Лангедока. Акт завоевания свершился. Через брешь, пробитую крестоносцами, в эту страну вошли французы, но они далеко еще не сделали ее своей. Начинается более интересный и более важный период— офранцуживания страны, упрочения внутренних связей завоевателей и покоренных.
Мы можем избавить себя от хронологического изложения правления Альфонса. Не выходя из пределов нашей задачи, мы должны объяснить силу и качество французского влияния, чтобы убедиться в изменениях, которые были произведены в Лангедоке завоеванием. Такое изложение послужит этюдом о политическом значении и государственном результате альбигойского движения в истории Франции.
Административная история французской монархии довольно полно разработана, но только в последнее время обращено внимание на тот процесс слияния северной Франции с южной, который совершился централизацией, правительственным искусством Альфонса, при содействии ему трибуналов инквизиции. Архивы всех областей, входящих в нынешнюю Францию, собранные в знаменитой Сокровищнице Хартий, находящейся в государственном архиве Франции, дают к тому богатый материал.
Было бы весьма ошибочно предполагать какую-либо солидарность Франции и Лангедока в каком бы то ни было отношении в течение всего XIII столетия. Напротив, мы встречаем факты враждебности обеих национальностей и внутреннюю противоположность их государственных организмов. Для историка интересно изучить, как административная система, управляемая умными и энергичными личностями, одержала победу над преданиями прошлой вековой истории и совершила завоевание не оружием, а пером, внутренними и потому более прочными мероприятиями. Через столетие после смерти Раймонда VII его страну и его подданных нельзя было узнать.
Трудно найти в истории более решительное доказательство торжества законодательного принципа над разнообразными историческими элементами. В процессе офранцуживания Лангедока видно появление новых идей в политической истории: духа единения вместо областного партикуляризма, монархии вместо общинных, республиканских начал. А все такие идеи служат выражением духа новой истории. Таким образом, изучая эту систему, мы исследуем отдаленнейшие корни новой истории. Взглянем же, что было при Альфонсе и что стало после него на Юге.
К 1250 году южная половина нынешней Франции, лежащая за линией Луары и Роны, или коренной Юг, говорившая на провансальском языке, представляла собой тринадцать независимых частей, из которых каждая имела своего государя в средневековом, феодальном смысле. Самые значительные части составляли земли «двух королей», то есть владения Генриха III и Людовика IX. Владения первого шли между Шарантой и Адуром, обнимая Сентонж, Перигор, Лемузен и западную часть Аженуа до устья Адура. Французской королевской короне собственно принадлежала широкая, но неправильная полоса от английской границы на Адуре до Узеса, Нима и Средиземного моря. Домен Иоанны, жены принца Альфонса, окружал дугой английские земли. Обнимая Пуату и Онис, собственный удел Альфонса, эта дуга прерывалась владениями графа де Ла-Марш; она возобновлялась в Оверни, включала в себя Велэ, Руэрг, Керси, восточную часть Аженуа и шла вниз по правому берегу Гаронны до графства Фуа. Наследство Беатриче простиралось между Роной, Средиземным морем и Гаценсэ. Гуго Лузиньян имел Ла-Марш и Ангомуа; граф Гастон Беарнский — часть Гаскони между Адуром, Пиренеями и Арманьяком. Далее, к океану, страна басков принадлежала наваррскому королю. Король арагонский владел Рус-сильоном и Монпелье. Дофинэ имела своего герцога. Граф де Фуа фактически был во французских руках, так же как и граф Арманьяк, правивший как бы ничтожным островком во французском море. Граф Перигора и виконтесса Лиможа приносили вассальную присягу английскому королю.
Каждый из этих тринадцати владетелей был в сущности титулярным государем: под ним были сотни вассалов и подвассалов, связанных с государем честью, но имевших более действительную власть. Некоторые прелаты по-прежнему считали свои резиденции городами, принадлежащими им по праву избрания, как в Арле, Нарбонне, Альби, Магеллонне, Пюи, Кагоре, Гэпи и Карпентре, хотя эта претензия оставалась номинальной, ограничиваясь присягой консулов. Феодалы, даже «оба короля», не могли считать себя обладателями городов.
Каждый город знал только своих сановников, продолжая называть себя республикой. Города ссорились и мирились между собой, независимо от своих князей, заключали торговые и политические договоры через посредство избранных властей и только по доброй воле вмешивались в феодальные распри, помогая посильно деньгами и людьми своим государям.
Но ни города, ни князья Юга не приносили прежде вассальной присяги французскому королю. Он был один из тринадцати же владетелей, как и три других короля, как графы и прелаты. Стремления французского правительства на главенство, на историческую миссию в Лангедоке, будто завещанную и начатую Мартеллом и Карлом Великим, тогда не высказывались. Об этом главенстве и миссии вспомнили, как видно из архивов (1), спустя два столетия королевские прокуроры. Тогда же стали утверждать, что граф Тулузский был в давней вассальной зависимости от французских королей.
Гораздо откровеннее и честнее генеральные прокуроры Франции поступили бы, если бы ссылались на акт завоевания, а не на бумажные хартии.
В середине XIII столетия, и при Альфонсе и раньше его, города того и другого берега Роны говорили на провансальском языке. Они не испытали еще на себе французской правительственной системы. Мы застаем там те же порядки в пятидесятых годах XIII века, как и столетием прежде. До нас дошли факты из истории городов в доменах Карла, графа Прованского, мужа Беатриче, которые для нас имеют то же значение, что и собственно лангедокские города.
Например, в 1248 году город Арль произносит грозный интердикт на своего архиепископа; он не хочет его более знать. При звоне в вечевой колокол капитул читает следующее: «Запрещается на будущее время всякому гражданину Арля обращаться хоть за одним словом к господину архиепископу, ходить к нему в дом, оказывать какую-либо услугу ему или его семейству, продавать или менять у него кого-либо». Подеста встает и просит избавить его от подписания такого постановления, так как воля большинства и ез того — закон, и что решение будет обнародовано, как сегда, от его имени.
Через семь лет Монпелье говорил все тем же гордым языком с виконтом нарбоннским. Виконт обязался служить обшине своим оружием за себя и за своих наследников, в чем поклялся над Святым Евангелием перед консулами и синдиками. Он обещал защищать город и его права от всяких нападений, взамен чего консулы обещали не заключать без него мира и покровительствовать его личности и достоянию. Обе стороны чувствовали себя равными; если одна нуждалась в помощи другой, то отплачивала ей, не признавая никаких иных обязательных отношений.
Потому французские комиссары, прибывшие в Лангедок в 1249 году для принятия наследия Раймонда VII, в своей попытке отнестись к южным городам по обычаю , королевства, потерпели поражение. Капеллан Филипп подробно описывает свою поездку в донесении к Альфонсу, которое дошло до нас в подлиннике (2). В Тулузе их Встречали любезно, хотя придворный капеллан немного польстил, когда прибавил, что там очень желали господства принца. Когда на следующий день комиссары собрали горожан в Капитуле и потребовали присягу, то получили ответ, что граждане ничего не могут ответить до возвращения депутации, посланной к королеве-матери, что прежде они должны иметь от нее ручательство в соблюдении городских вольностей. Комиссары ждали более двух недель. Наконец ответ был получен. Вольности подтверждались, но в формулу присяги было внесено важное изменение, хотя оно первое время прошло незамеченным; казалось, сделали только перестановку имен, но эта перестановка определяла все настоящее и будущее страны. Велено было присягать Альфонсу и его жене Иоанне с их детьми, «соблюдая права короля и его наследников, согласно условиям парижского договора».
Этим нарушалось завещание Раймонда VII. Покойный оставил престол своей дочери, как прямой наследнице. В завещании имя Иоанны было поставлено раньше ее мужа; Бланка же приказала поместить Альфонса раньше его жены. Собственно говоря, французское правительство делало политический подлог в довольно смелых размерах. Оно нарушало принцип, а это имело огромное значение. Раймонд VII никогда не обязывался завещать свой удел французскому принцу или короне; он обещал только отдать свою единственную дочь и наследницу за одного из братьев короля. Графство оставалось ее достоянием, ее приданым, которое она по силе римских законов, действовавших в этой стране, могла отдать после смерти мужа и за неимением детей кому ей угодно, например, королю английскому или императору германскому. Последние приобрели бы в таком случае наследие Раймондов dе jurе в силу дара и с гораздо большими юридическими основаниями, чем это сделал французский король, брат или племянник Альфонса. Это понимали в Париже; там искренно желали, чтобы у Иоанны не было детей, но еще более заботились о том, чтобы отстранить дочь Раймонда VII от прямого права на престол в силу отцовского завещания.
Пока юристы обдумывали этот вопрос, комиссары успели принять присягу от тулузцев, от множества баронов и вассалов, бывших в столице, начиная с графа Комминга, и отправились с такою же целью по добрым городам и областям Тулузы, Альбижуа и Керси.
Их везде принимали, рассказывали они, не особенно охотно, но в Ажене положительно отказались присягать. Воспоминания о вольностях города и любовь к старой династии всплыли наружу. Бароны и рыцари Аженуа заговорили в том же тоне. Французам все это слышать было очень прискорбно, и они поехали дальше. Проезжая мимо Гиенни, они заехали к ее наместнику Симону Монфору, графу Лейчестеру, сыну знаменитого крестоносца. Симон был женат на сестре своего нового государя[42] и был у него в большой чести. Человек решительный, он держал в страхе свою страну; все повиновались ему, так что французы не могли не прийти в восторг от такого «доброго порядка». Услуги Монфора им понадобились — комиссары заключили с ним трактат о взаимной выдаче преступников, и ночь, проведенная в замке Лейчестера, прошла не бесследно для упрочения французского влияния в Лангедоке.
В Ажене посланники просто напугались. На обратном пути буржуа выслали депутацию к капеллану и предложили ему свою присягу. Но он уже не согласился, так как находил ее не совсем приличной и выгодной. Внушения Монфора не прошли даром. Рыцари Аженуа сразу пали духом, покорились и присягнули так, как от них требовали.
Консулы же с упорством своих предков пошли искать правды у королевы-матери. Они нашли ее в Милане и присягнули перед ней в верности Альфонсу, «который отсутствует ради службы Христовой»[43]. Они предоставили себе права потребовать лично у графа подтверждения их привилегий.
Между тем комиссары объехали все земли Раймонда VII и везде приняли присягу. Они не были только в Венессене, то есть маркизатстве Прованском, так как Церковь оспаривала права графов Тулузских на эту область и предоставила им там один лишь титул. Там города тем более привыкли жить вполне самостоятельно.
После смерти Раймонда VII общины Арль и Авиньон ровозгласили себя республиками и выбрали трибуном Бараля де Бо. Арль принадлежал Карлу; Авиньон — Альфонсу и Церкви. Бараль прибыл в Милан к королеве-матери, чтобы прийти к соглашению, но из разговоров с нею убедился, что, кроме безусловной присяги, он не может выхлопотать для своих сограждан ничего. Даже и он, как ни был решителен, дал письменное обязательство быть в «воле и послушании» французских принцев и, кроме того, принужден был, подобно мятежнику, просить прощения.
Так с первых же дней французская корона принесла строгий монархический дух и порядок, который противоречил историческим преданиям и обычаям Лангедока и Прованса. Республиканские начала при новом правительстве не могли быть терпимы. Альфонс велел описать все свои приобретения и составить счет доходов. Капеллан собрал большие суммы тогда же и послал в Акру к Альфонсу с письмом, которое послужило нам источником сообщенных сведений.
Совершенно чужой для своих новых подданных, Альфонс смотрел на них как на простую статью дохода. Когда после плена и неудачного похода под Акру он вернулся во Францию в сентябре 1250 года для поиска средств помощи крестоносцам, то, занятый поручениями короля, не поинтересовался даже взглянуть на свое наследие и проехал прямо в Лион к папе, думая уговорить его помириться с Фридрихом II, а после — к английскому королю, рассчитывая на сочувствие последнего к крестовому делу. Только после всего он вспомнил о своих подданных и решился поехать к ним.
Весною 1251 года Альфонс вместе с женою прибыл в Авиньон. Здесь республиканская община отказала ему в повиновении; в союзе с Карлом, графом Прованса, он хотел принудить ее повиноваться силой. Авиньонцы смирились и покорились, ограничившись присягой Альфонса их старым вольностям. Двадцать третьего мая граф торжественно въехал в Тулузу, где, собрав жителей, подтвердил клятвой их вольности, но тут же объявил себя государем не по завещанию, а в силу парижского договора.
Таким образом, французы явились обладателями лучшей и богатейшей части Юга по тому же праву завоевателей, по которому они приобрели домены 1227 года, с той, впрочем, разницей, что образ действий правительства на этот раз был гораздо безнравственнее. За завоеванием последовал подлог, а там дойдет дело и до яда. Прежде победители утвердились в стране насильственно, острием меча, предводимые вооруженными монахами, теперь же опирались на ложь и в политическом подлоге искали средства и опору для своего водворения. Нет ничего более прискорбного, чем наблюдать, как Альфонс, будучи орудием своей матери, хотел придать насилию и попранию справедливости вид законности.
Мы замечали уже, что королевское правительство досадовало на завещание Раймонда VII, которое отделяло богатый домен от короны: Альфонсу отдано было приказание уничтожить завещание. Но так как оно было уже обнародовано, то следовало доказать его незаконность.
Здесь выступает на сцену новая сила. Крестоносцев сменили на этот раз юристы. Им поручено доказать, что совершенно верный документ не верен и не имеет значения, а что подложная ссылка на парижский договор — как нельзя более справедлива. Если они вполне достигли своей цели, то история не может не признать, что повествование о подробностях уничтожения провансальской национальности увеличилось еще одной темной страницей. Не было документа более совершенного формально и законно, как завещание Раймонда VII. Оно было написано в здравом уме, в присутствии нужного числа свидетелей и скреплено двадцать одной печатью; завещатель не нарушал прежних договоров и, как добрый католик, почти все свои капиталы отказал на богоугодные цели.
Лучшие французские юристы должны были высказать немало дерзости, чтобы отвергнуть эти данные; более двадцати легистов занялись этим делом. Между ними был ученый провансалец Гвидо Фулькодий, который после стал папой под именем Климента IV. Он продал себя и судьбу своей родины французскому двору ради блестящей карьеры. Юрисконсульты решили, что для действительности завещания не соблюдены условия, требуемые гражданскими римскими законами, так как не имеется свидетельства, что завещание прочтено перед завещателем и свидетелями и что сам завещатель не объявлял об этом; другие придирались, что печати, приложенные к документу, не заменяют подписей и что свидетели не удостоверили их, что завещание было вскрыто в отсутствие наследников и свидетелей. Подтверждением того, что все такие толкования были произвольны и имели одну цель — закрепощение страны за французскими принцами, служит признание законности дополнения к завещанию, по которому король и папа должны были получить обратно свои деньги, данные на крестовые предприятия, и которое с большим основанием следовало бы отвергнуть, как составленное без всяких формальностей. Юристы, конечно, получили внушение, что двору вовсе не желательно отказаться от такой значительной суммы.
Французам невыгоден был один документ — решили, что он незаконен; им был полезен другой — нашли, что он вполне легален.
Как бы то ни было, завещание Раймонда VII было объявлено недействительным. Иоанну устранили от престолонаследия, и брат французского короля или, точнее, сам французский король, стал государем Тулузы и ее областей.
Но в Париже забыли, что в завещании заинтересован весьма влиятельный элемент — церкви и монастыри, которые получали в силу его значительные дары. С ними ссориться было опасно, а они протестовали. Альфонс предложил им сделку, но жадность духовенства не допускала ущерба. Аббатство Фонтевро особенно домогалось завещанных драгоценностей покойного. С трудом сумели сойтись на обоюдных уступках, на уплатах и бенефициях, и то только благодаря тому, что Альфонс опирался на свой безупречный католический авторитет и на услуги, оказанные Риму. При этом граф указывал на мнимую беззаконность документа, которая уничтожала всю силу записей. Он хотел казаться великодушным, даже распоряжаясь чужой собственностью.
Подчинение всей восточной половины Юга французской короне надо начинать с года смерти Раймонда VII, потому что Альфонс был лишь номинальным государем. Приняв присягу, он тотчас же оставил Лангедок, чтобы никогда больше в него не возвращаться. Его скоро разбил паралич, и он был не в состоянии тронуться с места. Больной, из своего Венсеннского замка, а после из своего парижского дворца у ворот Сент-Онорэ, он управлял страной, собирал с нее доходы и неуклонно вводил те реформы, которые указывало ему парижское правительство. Последнее даже не стеснялось распоряжаться доменами Альфонса, как своими собственными; оно брало, отдавало и меняло его земли, не спрашивая согласия. Другим доказательством парижского государственного влияния было то, что земли провансальского языка получили такое административное преобразование, которое сгладило в них местные политические и социальные особенности и приблизило по внутреннему устройству к землям северным, коронным.
Подтвердим фактами и то и другое.
Начало централизации; деспотизм Альфонса
В 1258 году Людовик IX заключил в Карбейле договор с Иаковом I Арагонским и в Аббевиле — с Генрихом III Английским, который должен был прекратить вражду между тремя королевствами, приводившую к частым опустошениям на Юге. В Карбейле король арагонский отказался от своих прав на некоторые припиренейские домены и на несколько кантонов в Оверни, удержав за собой только сюзеренство в Монпелье. Здесь не было даже и речи о правах Альфонса, может быть потому, что эти владения были спорны. Но иное дело в договоре с Англией. Людовика IX преследовало довольно благородное, но не совсем государственное желание, поправить «великую несправедливость» своего деда Филиппа II, который отнял у английского короля Пуату и другие земли на Юге. Генрих III не в состоянии был бы возвратить их оружием, но благодушие Людовика IX помогло — стоило только указать французскому королю, что его отец когда-то в Лондоне обязался возвратить Англии эти земли[44], и Людовик IX чувствовал себя не вправе их удерживать, хотя позже Генрих III, нарушив свои обязательства и подняв оружие, тем самым освобождал французского короля от нравственной ответственности. Но получив соответственные гарантии от Генриха III, Людовик IX возвратил и уступил вместе со своими доменами и то, что входило в удел Альфонса и в наследство Иоанны, нимало не спрашивая согласия графа, графини и их народа. В Ангулеме, Лемузене, Керси и Перигоре Людовик IX не имел прямых доменов, но только права на присягу разных феодалов, которые в большинстве не любили английского короля, хотя впоследствии начали враждовать с Францией, так как английская власть оказалась более гуманной к их национальности. Из доменов Альфонса Людовик IX уступил Англии доходы Аженуа, а также с нижнего Керси и с области Кагора.
Таким образом, приданое жены Раймонда VII отходило назад к Англии распоряжением французского короля. После смерти графини де Пуатье, то есть Иоанны, Англия должна была получить также южный Сентонж. В вознаграждение за это Генрих III и за себя, и за наследников отказывался от всяких прав на Нормандию, Анжу, Мен, Турень, северный Сентонж, Онис, Пуату и сверх того признавал себя вассалом французского короля за все английские владения на материке, прежние и новые, вместе с Пеннью и Бордо. Последнее условие должно было удовлетворить самолюбие французских вельмож и самого короля, хотя и не давало никаких материальных выгод. В самом деле, средневековым французам, всегда тщеславным и самолюбивым, было лестно иметь своим вассалом беспокойного соседа и одного из могущественнейших государей.
По многим косвенным доменам Франция ничего не теряла, по другим теряла доход, власть в городах, но сохраняла королевский авторитет, который простирался теперь на вдвое большие пределы. Французские королевские сенешали по-прежнему оставались в уступленных областях рядом с английскими, а в Перигоре появился новый, который напоминал собой верховную власть в Гиенни. Парижский парламент, как видно из документов, принимал по-прежнему апелляции на решения английских сенешалей и приводил в исполнение свои приказания. Но ежегодная уплата трех тысяч семьсот двадцати ливров за Аженуа, добровольно возложенная на себя Людовиком IX, естественно, раздражала французский народ, так как напоминала даннические отношения и не могла загладиться тем, что Генрих III в Луврской башне преклонил колено пред королем Франции, чего не было уже пятьдесят лет.
В любом случае Франция получила довольно выгодный мир, а главное, спокойствие и уверенность за свои граниты, хотя это достигалось нарушением самостоятельности провансальской национальности. Желаний не только населения, но даже баронов уступленных земель не спрашивал. Своему великодушию и личному спокойствию король, вопреки справедливости, приносил в жертву законные интересы Юга. Замечательно, что он думал сделать этим прекрасное дело.
Ответом на это было общее недовольство и в Лангедоке, и в самой Франции, проявившееся даже среди собственного двора короля. Впечатлительное рыцарство не хотело спокойно взвесить выгод трактата. Оно не понимало, что гористый Перигор и бедный Лемузен стоят четырех лучших провинций Франции.
— Государь, нам кажется, что вы потеряли, когда уверяете, что выиграли, — сказали ему в совете.
Выходило, что потеряли обе стороны. Замечательно, что договор, не удовлетворив франиузов, одинаково раздражал и английских баронов. Он был предлогом к восстанию вельмож и городов в Англии, и Генрих III едва не поплатился за него короной. Существенной причиной революционного движения была зависть гиенньских и английских вельмож к богатым бенефициям, захваченным итальянцами. Ненависть к римскому владычеству дошла до того, что образовались общества для убийства папских гонцов во главе с йоркширскими рыцарями. Побужденный баронами, предводимыми Симоном Лейчестером, сыном Монфора, который не хотел подчиняться французскому правительству за свое наместничество, и взятый в плен, Генрих III должен был покориться в Оксфорде воле первого парламента и водворить в Англии начала ее конституционной свободы. Король был стеснен опекой двадцати четырех баронов.
После шестилетней борьбы король и бароны предоставили решить спор третейскому суду Людовика IX. Французский король, опираясь на Библию, провозгласил, что надо повиноваться верховной власти, и вместе с папой кассировал оксфордские статуты. Но этим он только вызвал новую борьбу. Монфор предложил городам место в парламенте и, призвав их к участию в политической жизни, склонил счастье на свою сторону. Симон погиб в этой благородной борьбе, но его дело восторжествовало.
Лангедокцы после аббевильского договора могли понять, что отныне ими распоряжаются по произволу, как завоеванными, что даже не желают видеть разницу между подданными короля и графа. Личность Людовика IX не могла внушать им симпатии. Когда короля канонизировали, то во многих местностях Юга отказались признавать его праздник. Для выражения злобы против его братьев не находили слов.
В самом деле, французское управление, хотя и приносило с собой порядок, не могло внушить симпатии ни в одном слое населения. Французы начали ломать самые дорогие начала самоуправления. Легисты, которые появились тогда в королевском совете, вынесли из университетов Италии глубокое уважение к государственным принципам Римской империи, то есть централизации и возвышению монархического сана. В Германии и Англии проявились те же идеи, но там их постигла другая участь. Во Франции они победили; Империю и Англию же эти попытки обессилили.
На территории Лангедока и Прованса были сотни муниципий. Ураган альбигойских походов смыл некоторые из них, но во время мира они возродились снова, и звук вечевого колокола получил свою прежнюю привлекательность. Французские сенешали под влиянием легистов противодействовали ему. Они решительно не допускали новых общин. Они уничтожали и старые общины, но не прямо, а подыскивая предлоги, которыми служило возмущение, неисполнение обязательств и прочее.
Так, в 1254 году сенешаль бокерский запретил выборы в Ниме. Горожане пожаловались королю. Людовик IX отправил для расследования дела комиссию из архиепископа д'Э, одного доминиканца и двух юристов. Действительно, на этот раз, в уважение старинной свободы города, самоуправление осталось. Но когда в том же году подобного же пожелал город Лимукс, то ему французские полномочные послы, наведя справки, отвечали так:
— Ваш город сражался с синьором Монфором во время первых крестоносцев, за это Монфор приказал вам сойти с горы и построиться в долине. Немного спустя вы еще раз вооружились против Монфора, снова поставили город на горе и дали убежище диакону альбигойскому, Изарну Иордану, графу де Фуа и множеству других еретиков. Во время осады Авиньона, вы поднялись против короля, соединились с его неприятелями и начали жестокую войну. За это вас опять выселили в долину, и в наказание вы были обложены пеней в двести ливров, которую платили в продолжение двадцати восьми лет, а сверх того земля, на которой вы жили, была конфискована. Но это наказание не помешало вам, вопреки клятвам, поднять оружие против короля за Тренкавеля и осадить Каркассон. За это последнее злодеяние вы потеряли и те свои права, которые еще имели. Возвратить вам свободу теперь, после всего сказанного, было бы весьма дурным примером (3).
Некоторые общины в Провансе должны были отказаться от своих привилегий в пользу Карла. Так в 1257 году случилось с Аптом, который предоставил графу Анжуйскому как бы в дар свой консулат, свои права и выборы. Это делалось для «блага города» несколькими людьми, которые вошли в сделку с графом. Через два года такой же документ был заключен от имени общины Рейлан одним из ее сановников, который уступил графу навсегда право консульства, сохранив пожизненное отправление должности исключительно за собой.
Такой тактикой, напоминавшей узурпации римских императоров, начали свою политическую деятельность французские принцы. Они переносили на себя где можно республиканские должности, то есть фактически уни- чтожали их. Стараясь подавить местную свободу, Карл хотел вознаградить провансальцев славой завоевателей Сицилийского королевства, куда, как мы уже говорили, он пошел вместе с ними и французами.
В таких стремлениях французского правительства выразился рост новых идей, враждебных партикуляризму и самоуправлению. Но им трудно было взрасти на средневековой почве; такой рост требовал слишком много времени. Пока же легисты, перед которыми было будущее и история, искали благоприятные условия для успеха своего дела. Не разбирая средств, сокрушая на пути препятствия, точно озлобленные на современников, презирая их мольбы и вопли, они в поте лица работали над сокрушением старины, терпя поношение, подвергаясь на каждом шагу опасности, но продвигаясь вперед с сознательной уверенностью в победе. Новые люди, они создавали новые государственные формы осторожно и постепенно.
Посмотрим, в чем они состояли. Начнем с положения центральной администрации Лангедока во второй половине XIII века.
Подобно Людовику IX, Альфонс имел при себе в Париже Совет или парламент, который вместе был и высшей судебной инстанцией. Он состоял из духовных и светских лиц. Церковными делами заведовал в нем казначей аббатства Святого Илера (в Пуатье), который был вместе с тем и капелланом графа. При Альфонсе их сменилось три, и каждый из них одинаково сносился с Римом и был посредником в столкновениях светских и духовных властей. Это был министр духовных дел, который самостоятельно работал на своего государя.
Двое провансальских вельмож были главными деятелями закрепощения страны за Францией и сторонниками новых порядков. Сикард Аламан, переживший Альфонса, пользовался большим влиянием в Лангедоке благодаря своему юридическому образованию и блеску своего имени. Он оказал графу неисчислимые услуги. Замечательно, что он действовал сознательно, ради своих принципов, не брал наград и титулов. В наследии Раймонда VII ему принадлежала светская администрация и внутренние дела. Он должен был следить за бальи и сенешалями, давать им советы и руководить ими. Другой провансалец, Понс д'Астуад, наблюдал за юстицией. Двое духовных лиц, заведовавшие финансами и составлявшие ежегодный бюджет, французы родом, которые позже перешли на те же должности в королевский Совет, дополняли организацию, близко подходящую по определенности обязанностей каждого министра и вместе по коллективности и единодушию действий кабинета к высшей администрации нашего времени. Средневековый характер этому совету придавало, собственно, одно лицо — это Жак Дюбуа, наблюдавший за фискальными делами инквизиции и прилежно обогащавший казну графа конфискацией имущества еретиков и евреев.
Обязанности этого лица имеют самую близкую связь с историей первой инквизиции. Потому мы впоследствии остановимся подробно на фактах его деятельности по отношению к евреям и еретикам, а теперь заметим только, что на тех и на других при Альфонсе смотрели лишь как на источник дохода. Трибуналы действовали усердно, но заточения все чаще и чаще заменялись пенями, и каждое дело приносило графу новую лепту. Евреи редко являлись перед инквизиторами, так как они без того во владениях Альфонса были обложены поголовным и чрезвычайным побором. Можно сказать, что их кошельки были в распоряжении графа. Вообще Дюбуа существенно пополнял финансовые источники правительства, пользуясь религиозным чувством народа, научившегося после горьких примеров питать ненависть к осужденным инквизицией. Вследствие этого Дюбуа был в Совете довольно крупным лицом. Исполнителями воли Совета в областях были сенешали. История этих сановников имеет несколько периодов. Когда-то они имели наследственную власть на Юге, как и во Франции, назначали себе помощников, собирали доходы и вершили судебные дела. Филипп Август из опасения увидеть новых палатных мэров уничтожил эту должность и вверил управление своих провинций бальи с властью, близкой к власти английских сенешалей в Гиенни. Это учреждение Филиппа имело громадное значение для всей истории Франции, так как бальи должны были уничтожить феодальную аристократию и своей администрацией сгладить все местные особенности. Оно было перенесено Альфонсом в его владения.
Бальи Филиппа II имели широкие обязанности: следить за тяжбами, заботиться о приведении в исполнение постановлений двора и королевских приказаний, покровительствовать церквам, управлять собственными доменами короля, вести счет доходов и расходов своей области и командовать ополчением в военное время (4). Они были королевскими чиновниками, правили, пока было угодно королю, и потому иногда назывались министериалами. С теми же правами и обязанностями, какие указал Филипп II, их застает и XIV столетие. Альфонс искусно прививал это нивелирующее учреждение, смертельное для феодализма и самоуправления, к своим пестрым владениям. В Пуату он назвал бальи прево. Вообще он действовал постепенно, но так, что его учреждения сохранились в сущности до самой Революции. Он застал в Лангедоке шесть сенешалей, но ничем не походили на тех, которых посадил Альфонс или, точнее, его Совет. То были сенешали Тулузы, Аженуа, Керси, Руэрга, Альбижуа, Венессена Альфонс сократил их число, присоединив Альбижуа к Тулузе, а Аженуа к Керси и снабдил сенешалей такой же властью, как во Франции. Каждое сенешальство делилось на бальяжи, управляемые бальи, но с другими задачами.
Новые сановники, назначенные из французов, получавшие четыреста-пятьсот ливров жалованья, стали глазами графа и легистов. Сенешали блюли интересы Альфонса, как свои собственные, и считали свою службу— службой Франции. Они сами определяли бальи, тоже большей частью из французов, но места эти, как доходные, отдавали с торгов. Тогда пожалели о временах Монфора, который не трогал внутреннего управления страны и, уважая старые обычаи Юга, сохранил даже печать Раймондов, на которой графы изображались в платье горожан с мечом, мирно покоившимся на коленах.
Теперь же с методичной последовательностью преследовали процесс преобразования национальности. Сенешали Альфонса получили в руководство тот же наказ, что и сенешали Людовика IX в его знаменитом Уложении. Общая политика готовила общность политической жизни северных и южных областей. Все важные акты редактировали оба Совета. Везде старались устранить всякую возможность сделки сенешалей с подчиненными. Сенешали не могли жениться в той области, где начальствовали, а в случае смещения должны прожить еще сорок дней после сдачи дел, чтобы дать ответ на те жалобы, которые могли бы возникнуть против их управления. Им предписывалось беспристрастие к народу без различия сословий, в чем они присягали; чтобы не отрывать население от домов, они должны были созывать его только в критических случаях и тюремное предварительное заключение заменять по возможности поруками и залогом, и только в делах самых важных, как в преступлениях против Церкви, арест становился необходимостью: это было нечто вроде французской Маgпа Сhаrtа. Далее следовал ряд наставлений о судопроизводстве. Допрос и следствие во Франции носили инквизиционный характер даже в светских судах, в Лангедоке документы сообщались подсудимому.
Для судебной функции сенешальство было разделено на вигуэрства и судейства. Вигуэры существовали давно, они остались в качестве помощников сенешаля, по одному в сенешальстве; судьи же были введены Альфонсом в каждом участке. В южных доменах короля их везде заменяли вигуэры. Они и вигуэры присягали в верности графу и представляли собой решительное воплощение монархических порядков. Ниже их стояли бальи, которых было по несколько в сенешальстве, для собирания налогов и исполнения полицейской обязанности и иногда знного предводительства. При трудности сбора податей и пошлин правительство с охотой продавало права сбора желающим занять эту должность. Таким образом, бальи из графских сановников скоро стали откупщиками. По приказанию Альфонса велено было продавать эти места непременно с торгов, и притом как можно дороже; для выгоды короны велено было сменить бальи, назначенных сенешалями, и их места также перепродать. Понятно, какой тяжестью ложились на население эти кровопийцы из французских мелких дворян с их беззастенчивостью и алчностью.
Насилия и злоупотребления были естественны. Каждый, заплативший вперед сумму положенного сбора, старался вернуть ее с лихвой и произвольно увеличивал податную тягость земель, городов и замков. Другой, кто купил только одну должность, искал хорошей награды за труды по управлению и сбору налогов. Бывали примеры, что в одно время вместо одного имелось два бальи 5. Случалось, что несколько лиц составляли компанию на известном участке и эксплуатировали его как могли. И Людовик IX, и Альфонс одинаково старались устранить излишние злоупотребления этой системы, но допускали сам факт. Так было тогда во всей Франции с той разницей, что в Пуату и других провинциях бальи назывались прево, в отличие от верховных сановников Филиппа П. Одна эта мера уничтожала всю долю пользы, какую приносила народу система централизации, введенная на Юге французским правительством. На заре своего появления в истории централизация имела патологические формы.
Когда вопль провинций, сдавленных самовластием сенешалей и бальи, дошел до двора, то регентство[45] в 1270 году приняло ничтожные предупредительные меры. В каждом бальяже предоставлено было избирать лицо из нотаблей, которое наблюдало бы за бальи, и в случае его гнета и грабежа жаловалось бы сенешалю. После второй жалобы последний мог обложить виновного пеней в пользу графа. Строго запрещено было допускать более одного бальи на участке. Тогда же были сделаны наставления сенешалям, что служит доказательством их самовластия и вымогательств. Оказалось, что они, вопреки наказу, сажают в тюрьмы совершенно невинных, продают бальяжи своим родственникам и тому подобное.
Хотя Совет старался уверить, что Альфонс ценит правосудие и счастье подданных выше всего, но его система грешила и в самой себе, и в способах применения, потому что гналась не за благосостоянием народа, а прежде всего за приобретением средств для достижения личных целей во что бы то ни стало, как, например, для того же крестового предприятия, за которое готовился погибнуть его брат (Людовик Святой) и которому он отдался вместе с ним в последние годы своей жизни.
Надо заметить, что на местную администрацию и на местный суд провинции могли жаловаться членам парламента, то есть Совету и даже самому графу. Парламент всегда следовал за графом, но ежегодно в день Всех Святых его можно было найти в Париже. Разбор дел брал на себя каждый из членов отдельно. Граф часто назначал для того монахов, которых очень любил. Чаще с жалобами на сенешалей обращались прямо к Альфонсу. Прежде он судил терпеливо и внимательно, но наконец утомился и в 1270 году запретил такое нарушение правильной юстиции и образовал, как настоящий монарх, из себя третью инстанцию, стоящую над парламентом.
В общем заседании парламент служил первой инстанцией для важных гражданских дел между феодалами, общинами, прелатами и для претензий правительства. Его решения приводились в исполнение сенешалями без апелляции. К тому времени граф убедился, что за его сановниками необходим непосредственный надзор. С этой целью он иногда отправлял в провинции членов Совета, в большинстве же случаев, по примеру Людовика IX, так называемых следователей. Объезжая области, они должны были выслушивать жалобы населения на сенешалей и сановников и даже на самого графа; иногда они производили следствие по делам, обжалованным в парламенте.
Учреждение института следователей приносило много чести уму и сердцу Альфонса, но особенно Людовику IX, которому принадлежала мысль о нем. Рассказывают, что короля возмущали насилия и конфискации, которым подвергались на Юге люди, случайно замешанные в дела ереси, хотя имущества наказанных шли в пользу его казны. Чувствуя угрызения совести за такие несправедливые приобретения, облитые слезами ограбленных, он думал о возвращении отнятого. К тому присоединились усиленныые жалобы на грабежи и притеснения местных властей во время регентства Бланки. Поэтому, собираясь в поход, король, желая примириться с совестью, разослал честных и верных людей из монахов выслушать жалобы народа и восстановить справедливость. Это было в 1247 году (6). Следователям не должно было стесняться принимать жалобы и на самого короля, и на его Совет. Они вели дела открыто по средневековому обычаю и, в большинстве своем будучи доминиканцами, чуждались тем не менее инквизиционного судопроизводства. Они обстоятельно записывали все подробности притеснений, вынесенных народом от королевских сборщиков и властей, и достойно сожаления, что эти документы сохранились далеко не все. По их приказанию виновные или их наследники возвращали неправильно приобретенное имущество. Епископы должны были оказывать содействие; сенешали и бальи повиновались им. Их слово бывало словом любви и истины. Будто чуждые земных страстей и интересов, они произносили, когда следовало, приговоры, направленные даже против короля, их пославшего, и весьма часто вопреки желанию парламента. Но их инспекции были периодическими — такая благотворная власть, как акт верховной справедливости, вступала в свои права только тогда, когда ропот народа требовал ее содействия, проявление ее было непостоянным.
Альфонс, во всем подражая королю, попытался привить и в своих владениях эти порядки. Но это значило влить в новые формы старое содержание. Доминиканцы привыкли смотреть на альбигойские области как на источник нечестия; они часто не исцеляли зло, а усиливали его. Они не забывали, восстанавливая справедливость, устанавливать наказания для еретиков, которых главным образом и порождало насилие и угнетение. По характеру Альфонс мало походил на своего брата. В нем не было величавой кротости духа, идеальных стремлений, самопожертвования и бескорыстия Святого Людовика. Он не мог допустить, чтобы подданные судили его. В этом он опередил средневековое время. Его посланцы должны были восстанавливать его права, а не нарушать их. Их обязанностью было разбирать, между прочим, претензии на него самого и его предшественников и жалобы на его слуг, и если они получили право произносить свой приговор, то всегда почти номинально. Собрав на месте все сведения, они, как высшая полиция, представляли все дело Совету или графу для окончательного решения.
Почти каждый год назначались следователи, но в сущности для того, чтобы подписать на своих трудах: «Возвращено господину графу», или «Граф оправдал». Только неважные дела они осмеливались решать сами, а что касалось восстановления имуществ и наследств, а не только других, более серьезных, дел, то в них они не переходили рамок юридической практики графа. Так радикально извратилось это учреждение в применении к несчастному наследию Раймондов, которое, следовательно, проигрывало, не попав прямо во власть такого короля, каким был Людовик IX.
Воспитанный идеями новых законников, Альфонс, не чуждый гордости и ограниченного честолюбия, любил самовластие. Он приучил своих подданных к мысли, что он их глава по праву завоевания и по праву рождения, что договор не имеет места в его отношениях к ним. В этом состояло политическое воспитание лангедокцев под властью французов. Он окружал себя монархическими формами правления. Властвуя издалека, он правил бумагами, на составление которых пошла вся его энергия. Может быть, болезнь помешала обнаружиться его деспотизму во всей полноте и жестокости. Советники для него значили немного; он росчерком пера изменял решения Совета. Он никогда не допустил бы судебных преследований, невыгодных для его казны, хотя бы и сознавал их справедливость. Он усвоил в решениях формулу самодержавного государя: «Угодно господину графу», давая тем знать, что считает в пределах Лангедока свою личную власть источником всякой другой.
Если бы эта власть при помощи следователей успела предохранить население от притеснений, водворить в стране порядок и дать гарантию сохранения личности и имущественной безопасности, то она заслужила бы право быть уважаемой, так как принесла бы с собой новую эру для страны. Но этого не произошло. На сенешалей и бальи по-прежнему сыпались жалобы.
Под предлогом взыскания имуществ еретиков, подлежавших всецело конфискации, — что было на их ответственности, — они совершали различные злоупотребления, кого притесняя, кому послабляя, смотря по личным отношениям. Так как деньги, отданные когда бы то ни было осужденными в рост или на сохранение, составляли собственность казны, то администрация сурово взыскивала их со всякого с полными процентами, которые иногда доходили до ста в год.
Подобное случилось с одной церковью, приор которой занял на один год у ростовщика, осужденного впослед ствии трибуналом, под условием заплатить вдвойне. Администрация требовала уплаты у его преемника по обязательству, хотя по законам и на практике обязательства с еретиками были недействительны, если только дело не касалось фиска церковного, королевского и тому подобного, дело перешло к следователям.
В одном графстве Венессен в 1266 году было представлено парламенту до пятидесяти жалоб. Решение последовало через два года, так как следователи объезжали провинции не каждый год. А между тем множество злоупотреблений делалось в это время не только самими бальи, но даже их писцами и слугами. Один писец не хотел платить за дом, который купил; другой тащил у сироты последнего осла. Иные бальи бесцеремонно приказывали собрать у кого спелый виноград, у кого хлеб с полей, видимо, считая себя лолными хозяевами имущества обывателей. На такой грабеж смотрели снисходительно, виновного наказывали небольшой пеней в шесть солидов.
Коннетабль в Оверни просто грабил, брал поборы с бальи и продавал их места столько же себе на пользу, сколько в пользу графа; он сошелся с епископом клермонским, позволяя ему всякие насилия, а сам приказывал угощать себя в церковных домах и монастырях. Скоро в Оверни исчез всякий порядок, власти делали что хотели, никто не находил себе защиты. И феодалы, и вилланы оставляли эту область, что было сопряжено с огромными убытками для графа; они обращались к покровительству монастырей; графская власть была в опасности.
Свидетели при следствии показали, что коннетабль не любит давать суд маленьким и бедным людям, грозит, наказывает и выгоняет, так что нет охоты приходить жаловаться в другой раз. Себе он предоставил только одно занятие: брать с тех, кто может что-либо дать; он не презирал никакого даяния, брал лошадьми и ястребами. В лихоимстве этому администратору усердно помогали его советники и клерки, их любовницы и жены.
Подобные насилия могли случаться и в прочих областях. Они, естественно, отталкивали народ от тех преобразований, весьма полезных по идеям, которые Альфонс желал ввести в своем государстве и которым принадлежит большое значение в истории.
Что общего между таким состоянием общественного и административного строя в преобразованном Лангедоке и тем духом особенности, самоуправления, самодеятельности, о котором мы говорили в первой главе первого тома и который, оживив и окрылив страну, сделал из нее в свое время один из лучших уголков земного шара? Нет сомнения, что Альфонсу принадлежит первая после Фридриха II попытка осуществления монархических идеалов и форм, что он руководствовался историческим стремлением создать порядок из хаоса, единство из разнообразия направлений, единодушие и силу из борьбы элементов. Что он, как государственный человек, хотел опередить в этом свое время и даже отчасти преуспел в этом, — но можно спросить, неужели только через одну централизацию, через одно подавление личности, через одну суровую монархическую школу Европа могла дойти до известной высоты цивилизации?
Каждый город и домен в Лангедоке представлял до альбигойской резни такое богатое разнообразие правительственных учреждений, судебных порядков, обычаев, экономических и сословных отношений, что беспощадное уничтожение их лишило историю края и вообще цивилизацию тех путей, которые, может быть, скорее привели бы ту и другую к одинаковым целям и результатам. В большей части Европы феодализм пагубно отражался на населении, хотя некоторое время и он оказывал пользу. Но в Лангедоке феодалы издавна вошли в соглашение с городами и народом; они понимали свою зависимость от них и всю выгоду дружбы и согласия. Бароны там пользовались популярностью и были не только защитниками сирых, к чему они везде обязывались долгом, но действительной аристократией, лучшими людьми в глазах народа. Их власть и без таких качеств была бы легче, потому что они все же оставались своими.
Завоеватели, предлагая устроить порядок среди побежденных, в сущности стремились задавить всякую возможность проявления религиозной мысли и политической свободы. Городскому самоуправлению осталась незначительная власть; на суды и общины была апелляция, выгодная для всех изменников национальному делу. На копье и мече был принесен в страну новый язык, с которым долго не могли свыкнуться провансальцы и на котором не везде говорят еще и по настоящее время. Французский язык сделался официальным в новой администрации, для того чтобы перейти в города и стать книжным, а позже простонародным.
Город Тулуза предлагал правительству исправить положение государства учреждением в каждой области апелляционного верховного суда с тем, чтобы он вместе преследовал и устранял беспорядки и злоупотребления управления. Благодаря ходатайству Сикарда Аламана эта мера была приведена в исполнение. Такой же совет был учрежден в Пуатье; но прочие области обошли. Аженским баронам, например, совсем отказали, ссылаясь на то, что их просьба основана не на обычае и не на праве, как будто на старые
Зычаи опиралась вся новая система. Но новый тулузский Парламент — как этот суд был назван — не соответствовал Ожиданиям; жалобы и просьбы об изъятии имуществ он возвратил сенешалям при первом же заседании для производства дознания. Парламент взял на себя только выдачу Привилегий и хартий, но и тут постановлял только принцип, а подробности условия и платежей зависели от администрации. Последняя должна была совещаться с опытными людьми и инквизиторами, если в деле встречалась какая-либо связь с ересью.
У провансальцев оставалась еще одна возможность искать правду и защиту. Они имели право апеллировать на графские советы и даже на него самого в парижский королевский парламент, так как Альфонс в силу договора 1229 года считался непосредственным вассалом короля, а парижский парламент признавался высшей верховной властью по всей Франции. Но в Париже не приходилось разбирать подобных апелляций, так как подданные Альфонса потеряли веру в возможность получить защиту и слишком были утомлены судебной процедурой, которая после многих хлопот не приносила им удовлетворения.
«Я вижу, как легисты совершают тяжелые проступки, — поет трубадур Понс де ла Гарда. — Они искусны обманывать и соблазнять. На их языке обида называется справедливостью. Они губят и свои души, и чужие. В ад им дорога, и они будут там. Не на человеческие мучения, а на бесконечные терзания осуждены они».
Мы заметили, что Альфонс более всего наблюдал за неприкосновенностью личных интересов и своей казны. В финансовой организации он подражал системе, установленной в королевских владениях еще при Филиппе II. Обыкновенные доходы составляли три статьи: ленная подать, доходы с доменов деньгами и натурой с прямых и вассальных владений, пеня. Знакомство с последними интересно и важно еще тем, что дает возможность судить о нравах времени и о злоупотреблениях администрации, так как в счетах обыкновенно отмечалось само преступление и проступок.
Пени были общеупотребительным наказанием и вытесняли все другие; даже за убийство можно было отпла-титься штрафом в пятьдесят ливров. Из такой таксы на преступления, которая сохранилась в оригинале в Архиве, можно заключить, например, что правительство считало оскорбление действием монаха в четыре раза важнее оскорбления дворянина, облагая первое штрафом в сто солидов; слуга графский считался выше дворянина (тридцать солидов). Можно догадаться также, что судья за взятку облегчал приговор, что за деньги возводили в дворянство даже не благородных, по открытии чего возведенный должен был уплатить большую пеню в двадцать ливров. За брак с девушкой, бывшей под опекой графа, без его разрешения полагался штраф в двести солидов, так как это нарушало уважение к графу. Большие пени налагались за угрозы графским чиновникам (сто солидов), за прелюбодеяние (четырнадцать ливров), за укрывательство убийц (двадцать ливров, в чем повинны были даже госпитальеры), за порчу товаров и подмешивание в вино воды (двадцать пять ливров), за обман тяжущихся сторон (двадцать ливров), за принятие в заклад краденой церковной чаши (тридцать пять ливров) и постоянно— за нарушение общественного мира и порядка, которое строго было воспрещаемо ордонансом Людовика IX. В этом случае бальи уже не стеснялись переходить за границы графских доменов, а хозяйничали и у феодалов. Община Пор-Сен-Мари уплатила за свои междоусобия двадцать ливров, а аббат Сен-Мориц за войну с бароном Тезаком внес в казну девяносто ливров — самая большая пеня, которую мы встретили (7). Нельзя не видеть, что одно это делает правление Альфонса полезным и прогрессивным для Лангедока.
Но нельзя сказать того про его фискальную систему при взимании чрезвычайных налогов, которая сильно вооружала против него население, так что некто Виталий Кара был выразителем общественного мнения, когда перед судом высказал, что с тех пор как французы пришли в страну, в ней не стало больше справедливости и правосудия. Это было признано за кощунство против графа, и виновный был наказан штрафом в четыре ливра.
Для крестовых предприятий граф часто нуждался в экстренных ресурсах. По средневековым порядкам это было весьма обыкновенно, но нововведение состояло в установлении особой системы сбора, которая, будучи вначале временной, стала впоследствии постоянной. Альфонс не мог удовольствоваться внезапным удвоением налогов в своих удельных землях; это вызвало там уже при первом применении сопротивление, так как походило на грабеж. Оппозиция побудила Альфонса созвать в Пуатье баронов, чтобы склонить их просьбами на субсидию; граф стал ухаживать и за городами с той же целью. В Пуату, Сентонже и Оверни общины давали субсидию, оговариваясь, что это добровольное даяние с их стороны, и получили в этом форменную грамоту от графа. Рошель, на пример, вытребовала за шесть тысяч ливров привилегию своим купцам. Тем не менее Альфонсу приходилось и и своем уделе разрешать истязания над жителями, которые отказывались платить, как, например, в Ниорте. Но Лангедок был более несчастлив; он должен был испытать всю тяжесть поборов, которые высасывали его благосостояние на крестовые цели.
О так называемом подымном налоге там не знали до 11247 года, когда Раймонд VII, собираясь в поход, сделал слабую попытку его введения. Альфонс же в 1263 году открыл в нем богатый источник для своей казны, который исчерпывали до XIX столетия.
«Дым» не означал собою печи, дома, семейства — это было отвлеченное представление о податном участке, количество и пределы участков не сообразовывались ни с пространством, ни с населением; обычаи и старые условия имели в распределении главное значение. В 1263 году Керси, Альбижуа и Аженуа были обложены первый раз подымным побором, который производился сперва изредка, а потом постоянно. Первое время подымной податью облагалось семейство, имевшее какую-либо оседлость и собственность; потому ей не подлежали сервы и работники. Альфонс облагал податью и собственные, и вассальные домены, но, к сожалению, счета, которые могли бы служить богатыми статистическими документами, не сохранились. Впоследствии в единицу дыма вошло несколько семейств, и таким образом составился маленький участок, дым, который в известное время и в известной местности, но в XIII же столетии — о чем мы не имеем точных сведений — был обложен определенным налогом, а этот налог принят за нормальный для всей области, для всех прочих дымов. Администрация обязана была наблюдать за увеличением населения и сообразно с тем увеличивать число дымов. Но из финансовых расчетов не видно уменьшения дымов. Казна всегда требовала полной уплаты налогов с области, и притом в прогрессивном размере. Потому часто выходило, что община или поземельные соседи владельцев обязаны были на началах круговой поруки платить за выбывших. Это было иногда не по силам; жители жаловались, но безуспешно. Проверка дымов производилась очень редко. В XV столетии после вековой борьбы целые общины были в нищете от платежей, не соответствовавших производительности опустошенной страны. Карл V после проверки пришел к мысли уничтожить этот вредный и нецелесообразный налог, но его преемники восстановили подымный сбор.
Его количество определяли особые комиссары по своему усмотрению на известный период до следующей ревизии. Чаще всего величина сбора определялась в десять су в год и почти никогда меньше. Но в иных местах она доходила до двадцати четырех су с дыма, как, например, в общине Боллен в Венессене. Это данные для позднейшего времени. Вначале, как мы сказали, брали с каждого семейства, и притом сообразно состоянию В 1263 году Альфонс дал наставление сенешалю, как облагать таким сбором (8); этот документ нашелся только недавно.
Прибыв в город, сенешаль или другой чиновник, отправленный для этой цели, приказывал явиться к себе двенадцати горожанам и, внушив им, как необходим сбор и что-де все государи и графы, начиная с короля Франции, нуждаются в деньгах, просил определить состояние каждого человека в городе, его движимость и недвижимость. Эти горожане делают свои показания под присягой и сами прописывают, сколько можно взять с каждого, но так, чтобы составилась требуемая сумма. Копии передают сенешалю и графу. Никакая община не избавлялась от этого сбора, даже подвассальная церквам, монастырям, прелатам. Если же город изъявляет добровольное желание внести известную сумму взамен подымной и если притом такая сумма немногим меньше последней, то в случае согласия сюзерена она может быть принята. В 1267 году подымный сбор стал обязательным для всего Лангедока и старых тулузских владений.
Провансальские феодалы, конечно, не препятствовали сборам со своих вассалов, потому что были обессилены и довольствовались тем, что, как «благородные», не подвергались лично такому же налогу. Общины, пользовавшиеся иммунитетом, должны были вносить добровольные даяния, которые не обязывали ни к чему. Клирики постановлением парламента в 1270 году были также избавлены от подымного сбора.
Интересно узнать, что в уме Альфонса зародилась мысль о подоходном налоге, который один только мог облегчить положение населения. Время тому благоприятствовало. От итальянской и восточной торговли накапливались капиталы и расширялись обороты. Бедные от введения новой системы не чувствовали бы тяготы. В своих указах сенешалям Альфонс предписывает руководиться доходом и брать солид с ливра. Но естественно, что богатые и себялюбивые буржуа оказали сопротивление, тогда как прочие готовы были воспользоваться предложением. С не меньшей охотой общины предлагали уплачивать валовой налог, вроде субсидии, и часто даже в большей сумме, чем та, которая приходилась по расчету с города Так, Тулуза давала шесть тысяч ливров, Ажен— две тысячи. Они боялись вмешательства власти во внутреннее хозяйство, опасались допустить агентов правительства до изучения быта и доходов каждого семейства, вероятным последствием чего было бы уже никак не уменьшение, а увеличение налога, на что французская-администрация была очень падка.
Интересно наблюдать в этот начальный период борьбы исторических элементов, отмечаемый второй половиной XIII столетия, как средневековые принципы свободы отбиваются от монархическо-централизаторского веяния нового времени, по возможности сопротивляются, отступают тихо, шаг за шагом, входят с ними в сделку, постоянно требуя себе уважения от противника, пока не скроются от наплыва новых людей и стремлений. Людовик IX руководствуется благородными и какими-то теплыми чувствами к старым формам; он вводит подымный налог, незнакомый прошлому, требует с городов субсидий для похода, но хочет сделать так, чтобы ему дали то и другое «по доброй воле и милости». Зарождающееся третье сословие квотиру-ет субсидии и налоги по городам, первые скрипя сердце, вторые с готовностью, так как они были в обычае времени. Французский король желал, чтобы соблюдены были старые формы, но если его добрые города начинали шуметь, то он тотчас внушительно просил их не забываться и давал знать, что обойдется без их согласия. Став одной декорацией, согласие со временем перестало даже быть формою.
По отрывочным сведениям, которые дошли до нас, можно убедиться, в какой сильной арифметической прогрессии возрастал подымный сбор. В Тулузской области в 1267 году собрали до десяти тысяч подымного налога, через некоторое время уже двадцать с половиной тысяч; Кер-си, Альбижуа и Аженуа дали в 1263 году около тридцати двух тысяч ливров, а Руэрг — до двадцати двух тысяч. Понятно, что города вроде Тулузы старались внести предварительно солидную сумму, которая иногда стоила подымной, чтобы только избавиться от появления правительственных агентов и неизбежных с тем надбавок.
Сборщики действовали еще в XIII веке так, как это было после, при Людовике XIV. Плохо было не платить, но невыгодно было также платить поборы аккуратно; это показывало бы цветущее состояние края.
На случай экстренных надобностей у Альфонса был под руками неиссякаемый финансовый источник — евреи и еретики. Граф смотрел на них только со стороны их доходности. Их убеждения его мало беспокоили. На евреев всегда было легко напустить народ; иные города даже были готовы заплатить за позволение сорваться с узды порядка и закона. Четыре су с христианского дыма валовым счетом — и дозволение выгнать евреев было готово. Потом можно было взять столько же, если не больше, с самих евреев, и снова водворить их, как, например, в Пуату, за тысячу ливров. Этими действиями Альфонс показал дорогу Филиппу IV Красивому — тот без тени смущения торговал спокойствием и собственностью евреев.
Евреи должны были носить желтые знаки на спине, но за деньги граф давал им льготу уклоняться от исполнения этого обязательства. Буллами Климента IV им было веле-но, между прочим, в вербное Воскресенье и в Великую пятницу открывать настежь двери и окна своих домов и всю Страстную неделю быть зрителями религиозных процессий католиков. Их Талмуд и другие книги велено было представить на цензуру доминиканцев, с тем чтобы она невредные возвратила, прочие удержала. Цензура должна была руководствоваться советами доминиканца Христиана, обратившегося из иудейства (9).
Собираясь в поход, в 1268 году Альфонс поднял целое гонение на евреев: на всем пространстве его владений они были арестованы и их имущества конфискованы. Вследствие того, что этим распоряжением были нарушены привилегии отдельных феодалов, произошло некоторое столкновение. Бароны считали себя собственниками евреев, и так как получали с них отдельный побор за существование, то требовали за последнюю беззаконную меру долю конфискованного имущества. Альфонс уступил, исполнил желание феодалов, отдал им рухлядь, а сам занялся переборкой пленников. Оказалось, что жертвы ему нужны были для того, чтобы вытянуть с них все, что можно. Больные, бедняки и все дети моложе четырнадцати лет были отпущены сразу как неподходящие. Прочим предложили определить их богатства; показавшие высокую цифру и уплатившие требуемый выкуп были отпущены; остальные с женами остались в тюрьмах. Их пытали о спрятанных сокровищах. Приходилось объясняться прямо с графом; два богача просили отвезти их к нему, но условия, вероятно, были невыгодны. Кто-то из заключенных открыл властям, за обещанное освобождение, что громадные богатства зарыты в известных им местах. В двух домах действительно нашли золото и драгоценности; о такой радости граф извещал своих сенешалей и после оказывал покровительство доносчику.
Наконец пленники сошлись с Альфонсом в цене выкупа — ради свободы и, может быть, спасения жизни они отдали все свое состояние. Одни еврейские обитатели Тулузы заплатили три с половиной тысячи ливров, а областные — девять тысяч ливров, вдвое более условленного; в Пуату— восемь тысяч, в Сентонже — шесть тысяч, в Оверни — две тысячи, в Руэрге — тысячу. Евреи сверх того должны были простить долги своих должников-христиан и возвратить заклады; следователям было приказано наблюдать, чтобы они впредь не занимались ростовщичеством.
Их обобрал граф, но многое досталось и на долю местных властей. Расчетливый Альфонс, не желая терпеть ущерб в своей казне, начал следствие и повелел принимать показания евреев под присягой, хотя в другое время в их устах она значения не имела. Правительство становилось все более и более алчным. В 1270 году было второе гонение на евреев; предлогом стали их проценты. В каждом диоцезе был установлен особый трибунал над израильтянами под председательством доминиканца. Каждый мог привести туда еврея и обвинить под присягой в ростовщичестве. Проценты по парламентскому решению брали с имущества кредитора.
Для нас важно заметить только одно, что даже в минуты озлобления к французским евреям относились вообще мягче, чем к еретикам. Против еврея не мог показывать обесчещенный, а также его домашние и родные. Еретиков же, как нам известно, мог обвинять всякий преступник и разбойник, и это вменялось даже в богоугодное дело. Не было человека на свете, который не имел бы права и возможности сделать из подозреваемого еретика. Если евреи составляли предмет фиска, то альбигойцы служили статьей дохода для Альфонса и жертвой инквизиторов. Они заняли в его бюджете место рядом с другими источниками чрезвычайных доходов. Архивы, не сохранившие еретических процессов того времени, сберегли документы о постоянно дружеских отношениях Альфонса к трибуналам. Граф тщательно заботился, чтобы заподозренного и еретика поместить куда следует, а также чтобы для казны его имущество не пропало. Он и его Совет не уставали напоминать вигуэрам и сенешалям о каждом осужденном рыцаре, об его земле и доходах. Когда инквизиторы сменялись, то неутомимый Альфонс обращался с воззванием к прелатам и приказывал своим вассалам, административным и муниципальным властям принести немедленно присягу трибуналу (10).
Мы знаем, что при Альфонсе состояло особое лицо, в обязанности которого входило преимущественно приобретение в казну имуществ осужденных на костры. Жак Дюбуа был кем-то вроде министра, так как он давая приказания сенешалям по данной специальности; он имел большую переписку с провинциями. Из огромных доходов его ведомства назначались пенсии и награды тем, кто оказывал содействие к увеличению подобным образом доходов казны. С точки зрения фиска, осуждение на смертную казнь было выгодным: оно избавляло от издержек на содержание заключенного или кающегося; оно делало графа законным собственником значительной доли земли и имущества. Таковым способом при хорошей жатве на ересь прямые домены графа быстро округлялись и росла сила государства, а следовательно, и сила родственной французской короны. Преданные слуги Альфонса в областях старались почаще доставлять ему такое удовольствие. Для этого они, руководимые Дюбуа, не только хлопотали у инквизиторов о смертных приговорах, но даже втайне сами совершали их.
О таких возмутительных фактах свидетельствуют подлинные документы. Тулузский инквизитор Рено де Шартр, вступив в свою должность, принимая дела, увидел, что несколько осужденных за ересь были снисходительно приговорены трибуналом к пожизненному заточению, но что светский судья распорядился их сжечь. Прежние инквизиторы, вероятно, не обратили на это внимания. Но Рено восстал против такого самоуправства и написал графу послание, где, вступаясь за верховные права трибунала, высказывает более великодушия к еретикам, чем французская администрация. Он разделяет лично ту мысль, что наказания, налагаемые трибуналом, должны быть исправительными, а не карательными. Но все же его одолевали сомнения.
«Некоторые думают, — пишет Рено, — что если мы не будем в точности следовать практике своих предшественников, то наши труды будут бесполезны и земля эта не очистится от еретической язвы, которая, напротив, укрепляется и снова проявляется с такой силой, какая не обнаруживалась с давних пор. Ревнители веры могут, пожалуй, сказать, что мы разрушаем дело инквизиции, действуя мягче, чем прежние инквизиторы» (11).
В ожидании разрешения папы, как поступать впредь с еретиками и можно ли облегчать их участь, новый трибунал, имея дело с несколькими отпавшими, посадил их в тюрьму.
Это был не единственный пример усердия сановников Альфонса. Сенешаль руэргский извещал в 1253 году графа, что он не отстает от трибунала, чтобы угодить интересам правительства. Как хищная птица, он выискивал жертвы, и в своем письме сенешаль выступает именно в таком виде. Благородный сенешаль не стесняется скрывать свою любовь к «актам веры» инквизиции, которую он возымел лишь в результате тех выгод, которые они доставляют графской казне.
«Епископ родецкий, — пишет он, — продолжает заниматься инквизицией в своем диоцезе; в Наяке он представил мне одного упорного еретика, Гуго Парайру, которого я поспешил сжечь, конечно, взяв все его движимое и недвижимое имущество, бумаги и книги. После того епископ потребовал в родецкий трибунал еще шесть граждан из Наяка. Так как все уверяли, что они еретики, то я последовал в Родец, чтобы присутствовать на суде, дабы вы не сделались жертвой какого-либо обмана. Монсиньор епископ сказал мне, что все они действительно еретики и что вы приобретаете от их имуществ тысяч до ста солидов. Но вдруг он же сам и несколько других судей начинают просить меня, чтобы я сделал снисхождение, предоставил долю имущества осужденным или по крайней мере оставил что-нибудь их детям. Конечно, я отказался это сделать. Тогда, на другой день, следуя, вероятно, дурным советам, епископ осудил всех шестерых вместо смерти на покаяние, явно вас обманывая. Пишу вам откровенно, не преувеличивая и не скрывая ничего. Несмотря на такую проделку, я, однако, захватил все имущество осужденных и оставил только то, что необходимо на существование их самих и семейств. И добыл я таким образом движимости и недвижимости приблизительно на тысячу тулузских ливров, никак не меньше. При этом замечу, что так как епископ продолжает судить еретиков, то не мешало бы вам, если заблагорассудится, посылать от себя в трибунал полномочного следователя; это было бы не дурно, так как вы избегли бы возможности терпеть дальнейший ущерб и быть обманутым касательно имущества еретиков».
Как хорошо это лаконическое «явно вас обманывая...» в драгоценном письме сенешаля. Альфонс в самом деле полагал себя законным владетелем всего имущества осужденных, правых и неправых. Он старается, чтобы осужденных было как можно больше и чтобы по большей части их подвергали смертной казни, так как это гораздо выгоднее для казны. Правосудие для него последнее дело. Для деспотических целей ему нужны деньги и домены, и потому он со спокойной совестью торгует кровью и имуществом населения, которое досталось ему стечением исторических обстоятельств.
Разве преувеличен после этого отзыв одного подсудимого, что с прибытием французов в стране исчезло правосудие?
Мы можем привести еще несколько фактов из истории деятельности трибуналов при Альфонсе, кроме тех, которые по другому поводу указаны в предыдущей главе. Самые отрывочные сведения мы находим по этому вопросу в ре¬гистрах инквизиции и по необходимости должны ограничиться ими.
Из документов видно, что Альфонс поощрял ревность трибуналов и министров, наблюдавших за ними; за деятельные услуги в пользу казны граф не оставлял их наградами. Так, своему министру финансов, клирику, он дает сто тулузских ливров ежегодной пенсии из конфискованных в Сен-Феликсе земель, а потом и совсем отдает ему эти земли. Эта награда слишком значительная, и по делам видно, что Эгидий Камеллини отличался особенной деятельностью. Граф в тех же видах фиска продает дома и имения осужденных и отдает их в аренду своим подданным с посрочней уплатой. Не успевая напоминать епископам и всем должностным лицам об их обязанностях по отношению к еретикам, он оставил за собой пол¬ное распоряжение имуществом, так как взял на себя содержание трибуналов. Он не прочь утвердить распоряжение Раймонда VII относительно передачи в чужие руки имущества еретиков, если оно было незначительно. Вероятно, ввиду того, что лучшая доля всегда оставалась в руках графа, а трибуналы не всегда были довольны своим содержанием,— тулузская инквизиция стала заменять покаяние уплатой известной суммы, которая уже шла в пользу трибунала.
Так, альбигойский рыцарь де Подио был приговорен «за грехи своего отца» к пени в сто пятьдесят ливров, из которых пятьдесят шли в пользу городских церквей; это называлось «искупать грехи». При этом происходили столкновения с местными епископами, так как прежний епископ Дюранд, нуждаясь в деньгах, продал свою долю в частные руки по двум формальным квитанциям, сперва в сорок ливров, потом в пятьсот солидов. Когда сами прелаты смотрели на ересь со стороны ее доходности и некоторым образом радовались ее появлению, то тем извинительнее подобное корыстолюбие в Альфонсе, который нуждался в средствах для упрочения монархии. Чтобы более увеличить его ресурсы, папа Александр IV, как нам известно, решился допустить в свидетели даже соучастников ереси (12).
Все это делалось в тулузских владениях в то время, когда король французский, пылавший к еретикам самой искренней ненавистью, к какой он только был способен, заботился о смягчении фискальных законов против них. Что для Альфонса в ереси было первым вопросом, то для Лю-кдовика IX — последним. Ему не нужно этих неправедных доходов, облитых слезами и кровью. Людовик заботился, чтобы жены не лишались имущества из-за их осужденных мужей, кредиторы — их долгов; ему нет дела до тех, кто некогда сражался против Монфора, он не позволяет касаться их имущества и делает исключение только для тех, кто участвовал в государственном мятеже Тренкавеля и графа Тулузского.
В последние годы своей жизни Альфонс, желая замолить свои грехи, становится щедр на раздачи еретического имущества клирикам, церквам и монастырям. Впрочем, немногие из клириков покупали конфискованные земли на значительные суммы; но большая часть получа¬ла их в дар. Мы имеем восемь дарственных записей Альфонса, из них четыре в мае и июне 1270 года. Несколько раз Альфонс утверждает продажи, сделанные его министром Камеллини в более надежные руки (13). Он строит церкви, назначает сто ливров дохода тулузским монахам и определяет по представлению Камеллини пенсию главному инквизиционному фискалу Жаку Дюбуа в триста двадцать пять ливров, и все с конфискаций имуществ еретиков.
Дочь Раймонда VII не только не препятствовала таким богоугодным делам, но настаивала на них. Так, по ее ходатайству шартрский каноник получил большое имущество вдовы Аламана, осужденного за ересь (14).
Вместе с тем документы сохранили одну сентенцию, которая имеет значение в истории инквизиции. Местные епископы, продолжая отстаивать свои права, пытались отстранить монахов от трибунала. Это удавалось ненадолго, вероятно потому, что постановления белого духовенства были одинаково невыгодны как для светской, так и для церковной власти. Какими идеями руководствовались эти судьи на своем посту? В Альби один раз городской инкви¬зицией заведовал не монах, а два каноника из Лодевы. Некто Мария де Марзак был уличен в том, что был весьма близок с еретиками, принимал их у себя, водил к больным, считал их за добрых людей и тому подобное. Для монашеского трибунала таких обвинений было достаточно, чтобы осудить виновного на вечное заточение, но каноник, приняв раскаяние подсудимого, присуждает его к церковному покаянию, притом весьма необременительному. Подсудимый должен был посетить могилу Иакова Компостельского, поститься по пятницам, оказывать содействие в преследовании «вальденсов» и заплатить епископу шесть ливров на сооружение капеллы. Гражданская власть, со своей стороны, распорядилась не допускать виновного к должностям и, конечно, не осталась довольной снисходительным приговором белых священников (15).
Если Альфонс позволял себе делать подарки монастырям и духовенству из конфискаций, то гораздо чаще употреблял с этой целью свои доходы. В бюджете для этого имелась особая статья. Он пользовался и при жизни, и по смерти расположением духовенства, наравне со своим старшим братом. В Клюни каждый день молились за него и жену; цистерцианцы справляли везде его память; доминиканцы, францисканцы соперничали с ними; то же было в других французских и заграничных монастырях. Все это не делалось даром и стоило громадных денег. Альфонс действительно прослыл «великим милостивцем» за счет еретиков и провансальцев вообще. Он основал до пятисот капелл. Список тех церквей и монастырей, которые пользовались его пожертвованиями, громаден. На французские церкви, как более близкие его сердцу, граф тратил больше всего. Особенную щедрость после них испытали тулузские монахи и капитулы — на тулузское сенешальство отпускалось с этой целью ежегодно до ста тридцати ливров; доминиканцы и францисканцы нигде не получали менее двадцати ливров в год ежегодной субсидии. Кроме капелл, Альфонс основывал целые аббатства у себя и во Франции, содержал множество церковных братств, но наблюдал, чтобы под видом последних не организовывались политические общества.
Действительно, существует документ, который глухо указывает на существование таких попыток, где под внешностью богоугодного дела проводилось патриотическое стремление освободить Юг от французского ига. В 1270 году все подобные национальные братства были строго воспрещены, как «непозволительные и вредные».
Так как на инквизицию стали смотреть со стороны ее доходности для государства, то естественно было сократить по возможности издержки на взимание такой статьи, то есть на содержание трибуналов и тюрем. Альфонс по тогдашнему мировоззрению рассчитывал вернее спасти свою душу при помощи хорошей государственной казны и пожертвований; всякие издержки потому следовало сокращать. Оттого в 1268 году он жалуется, между прочим, Жаку Дюбуа, что тулузская инквизиция в столице стоит слишком дорого, и предлагает перенести ее куда-нибудь по соседству, например, в замок Лавор, где жизнь гораздо дешевле. Интересно, что граф, в письме к инквизиторам, скрывая истинную причину перенесения трибунала, говорит о больших удобствах лаворского замка для заседаний (16). Между тем содержание заключенных еретиков было весьма недостаточным; самые богатые из них получали по шесть денариев в сутки из собственного же имущества.
Нельзя сказать, чтобы правительство чувствовало недостаток в доходах от еретиков. К 1270 году альбигойская церковь была еще в силе; она сохраняет свою организацию, имеет епископов, диаконов, хотя ее знаменитые проповедники и скрывались в изгнании. Изредка, рискуя свободой и жизнью, они пытаются навестить своих верных в Лангедоке, По-прежнему преемственно избираются епископы; Бернард Олива в это время считался епископом Тулузы, Эмерик дель Коллет — в Альби (17) В Роквидале и Сен-Поле проповедовали публично. Все это обнаружилось позднейшим розыском, о котором мы будем вскоре говорить.
Проповедники и духовенство еретиков жили в лесах, в пустых фермах, недоступных скалистых пещерах, но иногда они по-прежнему появлялись и в замках. Кто мог оказывать существенную поддержку этим людям, как не провансальская аристократия? Народ был напуган преследованиями и казнями, он обнищал и с прежним рвением готов был служить католическому культу, который гарантировал ему свободу и жизнь. Последняя оппозиция таилась в аристократии — она была образованнее, сильнее чувствовала позор рабства и потерю независимости.
И вот парижское правительство предлагает принимать меры и против светской аристократии. Альфонсу не довольно было того, что ее численность сократилась кровопусканием во время двух войн. Инквизиторские гонения также главным образом направлялись на нее. Целые роды на Юге прекратили свое существование — кто погиб в тюрьме, кто на костре. Кроме того, бывшие под судом и оставшиеся в живых нисходили в разряд горожан, так как лишались имущества. Каждое восстание в какой бы то ни было области влекло новые жертвы. Результаты же французского завоевания на феодалах отразились различно, смотря по близости к центру французской власти. В Пуату, после движения 1242 года, множество синьоров было лишено собственности, конфискованной в пользу графа. В остальных доменах феодальные связи были только в Сентонже закреплены сильнее; граф стал не средневековым сюзереном, а государем, который по милости лишь оставлял за тем или другим владение, предоставляя себе право удалить барона по первому желанию; феодал был, как называлось, в воле сюзерена. Так как в некоторых местностях Пуату (как, например, в виконтстве де Туар) наследство передавалось, вопреки феодальной системе, по праву первородства, как в наших удельных княжествах, то при междоусобицах графу было тем легче уничтожать мелкие феоды.
В Лангедоке еще с 1212 года стали обязательны для феодалов французские кутюмы из Иль-де-Франса, поневоле принятые на собрании трех сословий. Из документов видно, что чужие кутюмы упрочились в графстве Кастрском и в сенешальстве Каркассонском, но отсутствие прямых указаний не дозволяет заключить, что они не привились в остальных местностях.
Вспомним, что на Юг переселилось множество французских баронов, что им доставались земли после конфискаций, что новые начала внедрялись насильственно, что французский язык стал языком официальным даже в сношениях баронов между собой. Чтобы по возможности уничтожить старую аристократию, растворить ее среди новых элементов, Альфонс допускает продажу рыцарского звания за деньги, что особенно часто случалось в Пуату (18), и признает дворянство нисходящим даже по женскому колену. Фискальные цели Альфонс умел преследовать везде. Горожанин по-прежнему мог купить феод дворянина, но под условием большого взноса. В конце столетия и провансальские горожане стали искушаться прелестью и привилегиями рыцарского сана, хотя в силу прежних социальных условий феодал не возбуждал в горожанине зависти. Многим льстило носить рыцарские перевязи, другие покупали грамоты.
Следует заметить, что по отношению к феодализму французское завоевание было благотворно в интересах водворения порядка. Альфонс поставил целью смирить феодалов, и его администрация, прекрасно устроенная, достигла этой цели. Местная власть говорила со знатью решительным языком; парламент, сенешали, вигуэры, бальи требовали вельмож к суду за любое самоуправство, что было весьма благотворно для страны. Если приговор не приводился виновным в исполнение, то сенешаль прибегал к оружию, овладевал замком и облагал побежденного огромнлй пеней. Для сенешаля были равны все; если доносили, что барон похитил девушку и держал ее в замке, то он приказывал схватить виновного и заточить его в тюрьму.
Конечно, прежде всего порядок зависел от исполнителей. Законы Людовика IX против междоусобий и дуэлей были применены и на Юге. Альфонс пытался даже, вместе с Людовиком, запретить носить оружие на всем пространстве королевства (19). Есть сведения, что некоторым баронам лишь по особой милости было дозволено носить оружие. Подобный авторитет граф мог получить лишь вследствие деятельности новой административной машины, которая разбивала, как таран, старые феодальные стены.
Парламент, учрежденный Альфонсом, был особенно ненавистен для феодалов; он был наполнен легистами, новыми и опасными людьми, такими же, из которых состоэяла вся ненавистная администрация, требовавшими точного исполнения закона и часто позволявшими себе злоупотребления и явные насилия. Засев за судейским столом, нарядясь в красные шапочки и длинные мантии, эти люди вызывали к себе то в Венессен, то в Париж, то в Тулузу представителей знаменитых домов, имена которых гремели на Востоке и на Западе.
Эти «ябедники и крючки», как их называли, осмеливались нарушать древние привилегии знати. Бароны Пуату решительно отказались являться к такому незаконному судилищу и отстаивали свое древнее право судиться у себя дома или у равных себе пэров. Не признавая суда крючкотворов, феодалы хотели преобразовать парламент в учреждение представительное, а не коронное. Такое мнение взялись высказать бароны Аженуа. Они заимствовали свои планы из Англии; конституционные английские идеи впервые оказывали влияние на материк.
Момент этот весьма важен для судеб Франции. Упрочив тогда представительный принцип на Юге, она, может быть, избавилась бы от долгой внутренней борьбы, от тяжелых опытов централизации, от долгой нищеты, от ряда революций. Бароны желали, вероятно, участия в парламенте одних рыцарей, но веяние демократического духа, присущее Югу, не могло бы не заразить собой это учреждение; горожане при своей старой дружбе с феодалами непременно и вскоре же получили бы те же права, как и английские города.
Документ, к сожалению, не распространялся о подробностях плана: он так ужаснул тулузских легистов в 1270 году, что они даже не записали его. Известно только, что бароны требовали постоянного рыцарского парламента, с четырьмя ежегодными определенными сессиями, и притом с тем, чтобы этот суд был апелляционным. Это учреждение из судебного могло сделаться законодательным. Понятно, что граф не согласился, ответив, что такое требование не опирается ни на обычай, ни на право (20).
Это было совершенно справедливо. Просьба опережала первое, но не согласовывалась и с римским правом, которое требовало прежде всего документальности и ра- товало за начало повиновения единой власти во имя порядка, служившего для него синонимом справедливости. Королевская власть, едва только приобрела некоторую силу, стала дорожить этим правом, как своим законным наследием от древнего мира. Лишь с этим лозунгом леги-сты могли создать государство. Тот же тулузский парламент спешил провозгласить превосходство того, что разумелось под словом «право» в противовес обычаю.
«Право должно быть уважаемо, потому что оно записано, определено и заключено и ведет к общественному благу, тогда как обычаи сомнительны и неопределенны. Уже с давних времен в графстве Тулузском справляются во всех случаях с письменным правом. Оно всегда было уважаемо, и ему не переставали следовать, хотя правительство столь же ценит известные и справедливые обычаи, если они засвидетельствованы исследованием и показанием почетных и достойных доверия лиц».
Но если идея этого права разрешала подавление феодалов, всегда склонных к самоуправству, если ее понимание возвеличивает историческое значение Альфонса, то она не оправдывала его политики по отношению к горожанам. Мы уже знаем, как отразилась французская власть на общинах Юга вообще и в частности на самоуправлении городов Прованса. Альфонс утверждал старые политические вольности городов, когда это было необходимо, но не давал новых, делая частые попытки отнять прежние хартии. У Капетингов создалось убеждение, что общины — не что иное, как выгодное оружие в руках королевской власти против феодализма.
Политика Альфонса, между прочим, состояла в том, чтобы ссорить баронов с городами. Сокрушая аристократию на Юге, Альфонс имел целью подавить вместе с ней и муниципальный дух старых общин, которые и без того поколебались от новых судов, централизации и образа действия администрации с ее парламентами и «следователями». Граф долго боролся с недовольством Тулузы. Древнейшая из европейских республик, гордая своим прошлым, она не желала склонить свою непокорную голову перед французским принцем, который был в ее глазах не более как бароном. Издавна она отвоевала кровью свободу, но счастье оставило ее, и она теперь была бессильна сопротивляться. Когда столица давала присягу Альфонсу, то каждый тулузец прибавлял, что «этой клятвой мы не потеряли — ни я, ни прочие граждане, ни буржуа тулузские, — ничего из наших обычаев и привилегий».
И вот к тулузцам стали применять те же деспотические приемы. Альфонс хотел лишить их права выбирать консулов, права, которое они имели еще за двести лет до Рождества Христова. Добиваться этого силой значило поднять против себя весь город поголовно, и потому граф осторожно заявляет свои права. Альфонс не обладал воинственными наклонностями — человек кабинета, он не хотел вступать в решительную борьбу с подданными за монархическую идею. Он предоставил все дело времени и настоял только на одном: чтобы городские налоги не назначались без согласия сенешаля, который стал просматривать городские счета. Его парламент в ответ на просьбу жителей Марманда — где бальи также не допускал выбора консулов— отвечал заявлением, что графу принадлежит законное назначение консулов и что все лангедокские общины отреклись от этого права в пользу покойного графа Раймонда, о чем имеются акты.
Действительно, сохранились подобные документы от Муассака и Кастельсаррана, но они были плодом каких-нибудь мелких коммунальных революций и не могут иметь обобщающего значения.
Так как замыслы Альфонса по поводу преобразования старых общин не удались, то он, озаботясь приобретением надежных элементов в стране, основал в Лангедоке до тридцати пяти небольших общин. Он снабжает их хартиями, на них также написаны разные вольности, и притом в большом количестве, но надо знать, что это за вольности. Все грамоты составлены по одному образцу, как вообще делалось в подобных случаях в средние века, и из их содержания видно, каков был идеал Альфонса и к чему стремилось французское правительство. Горожане могут жениться, составлять завещания, конечно не нарушая церковных установлений, продавать свое имущество, но им предписывается повиновение графу, сенешалю, бальи и даже городским сержантам. Всякое преступление против этих лиц судится как уголовное, влечет потерю имущества, и виновный осуждается на заточение.
При прежних порядках это не могло бы считаться преступлением со стороны вольных людей. Альфонс предоставлял ежегодный выбор восьми консулов своему бальи, но из таких лиц, «которые более других способны служить графу», они клянутся соблюдать его права.
Но в чем же их обязанность, каков ее характер?
Консулы по наставлению Альфонса должны быть почти тем же, чем его городские сержанты. Они обязаны наблюдать за улицами, дорогой, садом, фонтаном и мостами с той разве разницей, что им предоставлено вводить налоги сообразно состоянию каждого, но не иначе как с утверждения сенешаля и с участием совета двенадцати граждан, ко- торым принадлежало самое распределение налогов. Короче, консулы были простыми, мелкими чиновниками графа. Альфонс дал новой должности дорогое имя, с которым страна связывала столько воспоминаний, но лишил его всякого содержания. К такому ничтожеству он хотел привести консулов всех городов вообще, прежде лишив их значительной доли влияния, но когда подобное предприятие оказалось невозможным без применения силы, то он ограничился подчинением городского хозяйства своему контролю. Последнее было весьма полезно, потому что богатые люди, захватившие муниципальную власть, часто эксплуатировали своих сограждан и всюду вели счета слишком небрежно, так что вмешательство власти могло бы пробудить прежнюю энергию.
Сам внешний облик городов изменился при французском владычестве. Прежний их блеск исчез, как исчезла галантность и куртуазность вельмож и рыцарства. Роскошь, с которой боролось альбигойство и которая тем не менее в силу веяния свободных идей в начале столетия была предметом зависти других стран, теперь исчезла. С ней уменьшились и удовольствия. Монахи, или зловеще молчавшие или проклинавшие, все больше наполняли города и приносили с собой омертвение. Игры и песни запрещались. Над горожанином тяготела суровая регламентация — от одежды с головы до ног, от количества блюд до количества сна. В уставах некоторых тогдашних общин жизнь стоит не более чем съестные припасы.
В этом проглядывало еще другое побуждение, коему невольно силой событий подчинялись общины. Аристократический принцип отныне начинает преобладать в стране над городским, и в этом заключается одно из последствий завоевания. Но это та аристократия, которая уже прошла через горнило постороннего влияния; в ней нет ни прежнего национального духа, ни гордого сознания независимости, ни радушного чувства к другим сословиям. Она слилась с вельможными завоевателями, приняв многие черты из их типа, а этот тип был совершенно нов для Юга.
Городские документы того времени, местные постановления консулов и собраний, объясняют нам, какой дух начинает веять в больших общинах. Горожане забыли, что они когда-то превосходили феодалов блеском и удобствами жизни. Они были теперь забиты, принижены; их помыслы наполнены скорбью о родине. Долго им не принять прежний веселый вид, и долго они будут помнить старые счастливые дни. Завоеватели принесли им идею о превосходстве дворянина, о том, что ему по одному происхождению его следует оказывать больший почет, что элько для него предназначена изысканность жизни, что только он и его семья умеют пользоваться роскошью и аслуживают право иметь дорогих коней, пышные шелковые и бархатные одежды, горностаи, золотые и серебряные украшения на шее, на груди и на платье и тому подобное. Горожанам это не только бесполезно, но даже ртеприлично и непозволительно, так как иначе буржуа нельзя будет отличить от рыцаря и вельможи, а жену его от знатной дамы, вследствие чего знатные будут лишены должного почета.
В таких понятиях французский феодал рос с детства, и с удивлением увидел, что у провансальцев нет точного отличия знатного от гражданина.
Городам, напуганным оружием завоевателей, приходилось подчиняться новым идеям и порядкам, и вот в Монтобане в 1274 году издают следующий устав касательно нарядов горожан.
«Никакая женщина не должна носить ни на верхней, ни на нижней одежде, ни на головных уборах украшений из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней; равным образом не дозволяется употреблять парчовых или шелковых одежд и мехов; вместо них носить простые суконные с отделкою из красной кожи. Женщины не должны носить серебряных цепочек и застежек, фермуаров и запястий и уж тем более никогда не показываться в них на улицах. Мужья, граждане Монтобана, обязаны наблюдать за тем, чтобы жены их не носили запрещенных вещей. Гражданки не должны носить булавок и застежек на платьях и корсетах; взамен их нашивать пуговки, количеством не превышающим десять и ценой не более трех солидов. Городские портные не должны шить длинных дамских платьев, шлейфы пускать не более фута; за несоблюдение положен штраф в двадцать солидов и исключение из цеха» (21).
Такие распоряжения нельзя объяснить бережливостью горожан, заботливостью консулов об экономии. Напротив, прежде монтобанцы любили блеснуть, показать себя. Мы не знаем более ранних документов подобного содержания. Доказательством того, что этот устав явился под французским давлением, служит его предисловие. Из него видно, что вече на этот предмет было созвано вигуэ-ром, по приказанию короля, торжественно, при звуке труб, и постановления его признаны обязательными навсегда.
Подобные же статуты можно найти в архивах других городов. Такие стеснения не могли быть одиночным явлением, а, напротив, стали общими на Юге. В Марселе, например, предметы роскоши получались из первых рук. Там до эпохи завоевания вместе с роскошью были сильно распространены всякие дозволенные удовольствия. Богатые купцы жили открыто. Обеды, пирушки, гулянья, праздники, жонглеры, спектакли фокусников и актеров составляли постоянный предмет городских толков. В отсутствие мужей жены продолжали вести светскую жизнь и не скучали в своих покоях, как француженки.
Новой верховной власти это не могло нравиться. Государь Прованса, граф Карл, очень не любил шумных забав — суровый, угрюмый, всегда погруженный в честолюбивые замыслы, он мало говорил, почти никогда не улыбался; он не понимал, как люди могут восхищаться подобными бреднями, как сказки трубадура, или такими глупостями, как кривляния жонглера. Он презирал даже охоту и еще ниже ценил музыку, без которой не могли жить на Юге; мандолина и арфа была в его глазах ничтожнее сломанной прялки. Мог ли этот «черный человек», как выражается о нем Виллани, «никогда не спавший», изображавший собой тип алчного крестоносца, погубивший впоследствии мучительными пытками и казнями сотни семейств в Неаполе и Сицилии за одну преданность прежней династии, мог ли он равнодушно видеть, как веселятся в его Провансе? Образом жизни он походил на монаха, и был настолько энергичен, что мог заставить и подданных жить по его идеалу.
Духовенство и инквизиторы видели в этом дело богоугодное, они, конечно, желали, чтобы веселые города Прованса и Лангедока постепенно обратились в монастыри. Им надо было загнать в жесткие рамки и тело и душу паствы, которая только недавно изведена была из пропасти нечестия, как они выражались. Для них не было разницы между знатными и буржуа.
За отсутствием прямых документов мы не знаем, в какой степени осуществились их желания в Марселе, но нам известна замечательная перемена нравов в Монтобане. Действительно, Монтобан, начавший с упрощения костюмов, вводит у себя, хотя ненадолго, монастырский устав. В одном из статутов города конца XIII века читаем следующее: «Никакая дама, живущая в Монтобане и на его территории, под страхом штрафа в пять солидов, не должна ходить в гости к соседкам, если они не состоят с ней в близком родстве до второго колена и не приходятся ей кузинами или кумами, и то не иначе как по воскресеньям. Исключение делается для шутих и публичных женщин. На свадьбу и домашние праздники нельзя приглашать более четырех человек; иначе могут поступать только женщины .рного поведения. Глава семейства и хозяйка не должны делать приглашений на вечер и ужин, тем более обручальный и свадебный, не сходив предварительно в церковь. Жонглеры и скоморохи, провансальские или чужеземные, не смеют являться на праздники или на свадьбы в продолжение рождественского поста и в рождественские праздники. Тот, кто будет противиться этому постановлению, навсегда изгоняется с городской территории» (22).
Сам Савонарола в своих фанатичных проповедях не рисовал таких идеалов частной жизни, хотя жил в эпоху полной разнузданности и ревностно стремился к очищению нравов.
Можно представить себе это тяжелое удушливое состояние, в которое впали южные города под двойным гнетом ханжества и шпионства. Мрак и скука стали обязательными, попытка отвратить то и другое считалась преступлением.
Святость домашнего очага была нарушена; неприкосновенность старых привычек не была уважена. Если французская власть вторглась грубо в быт семей, стремясь содействовать инквизиции, то тем яснее характер и цели ее действий в политической области. И на том и на другом пути обе власти, духовная и гражданская, действовали дружно и обе возбуждали против себя одинаковую вражду. Государственные реформы сопровождал прочный успех. Сословные права и вольности можно было вернуть ненадолго, например при Людовике X, снова попользоваться ими, но лишь на короткое время[46]; против них была история. Попытки моральных преобразований в конце концов не достигли цели, зато подавили народный дух, его свободный полет; потому они являются гораздо более возмутительными и с исторической, и с нравственной точек зрения. Это было неприличное и бесполезное разрушение старых начал. Аскетических идеалов жизни хотели достигнуть безнравственным путем.
Народ искренне ненавидел то и другое. Всякому племени свойственно оберегать свою национальность, то есть учреждения, нравы, обычаи. Так откуда бы провансальцам знать, что централизация, вводимая Альфонсом, является одним из важнейших вкладов в историю, что она своим значением превосходит прочие элементы их прежней государственной жизни? До будущего им не было дела; они со слезами на глазах смотрели, как у них отнимают все дорогое, — что значило для них суждение позднейших поколений?!
Их не могло утешить то, что централизация произведет над ними свой первый опыт на Западе. Притом в самой системе Альфонса, если даже не принимать в соображение страшные жертвы, необходимые для полного ее проведения, далеко не все было полезно и с исторической точки зрения. Он подавил самоуправление, дал правильную организацию и поднял авторитет власти, устроил полицейский порядок и суды, близкие к полицейским,— но надо ли было в выгодах истории относиться враждебно к общинному самоуправлению? В строгом смысле он вовсе не враг феодализма, он даже друг его, но он только хочет переделать его по своему образцу; к тому же во всех поступках он руководился прежде всего денежным и только потом государственным интересом; изо всего и изо всех он старается извлечь доход, не щадя ни знать, ни горожан, ни народ. Этого нельзя было скрыть от провансальцев.
Наконец, имеем ли мы право считать несомненным принципом ту теорему, что централизация — безусловно необходимая ступень для достижения народного благосостояния? Отчего бы не могло образоваться в пределах Юга, при живучести, обилии и разнообразии общественных сил, особой и самостоятельной цивилизации, способной при национальных условиях создать те же основные элементы, какие достигнуты централизацией, направляемой завоеваниями? Во всяком случае, покорение и неразлучное с ним применение насилия способны были очернить собой даже чистые стремления, а известно, что Альфонс не принадлежал к тем государственным людям, которые руководятся идеалами и сеют благо лишь для будущих поколений.
Как бы то ни было, тогдашние народные памятники провансальской поэзии, к которым мы должны теперь обратиться, исполнены ненависти к французскому владычеству. Народ потерял вместе с независимостью политическую и религиозную свободу, свободу действовать и свободу мыслить. Нельзя потерять большего. Потому он считал себя вправе негодовать. К злобе присоединилось отчаяние, которому нельзя не сочувствовать. И содержание, и характер провансальской поэзии решительно из меняются.
Вместо описаний турниров и праздников встречаем мрачные повествования о кровавых бойнях, казнях, эшафотах. Вместо любви к дамам трубадуры воспевают ненависть к французам и монахам. Их негодующая муза во вторую половину этого столетия обращена на Церковь и государство в одинаковой степени. Трудно сказать, что им было противнее — французы или папа. Завоевание долго представлялось хищническим набегом, а монах — разбойником. Можно заметить только, что ненависть к католическому духовенству была прочнее и сохранилась дольше, потому что оно было главной причиной народного несчастья. Плач о потере независимости льется в горячих, неудержимых стихах по всей земле от Тулузы до Марселя.
«Отныне провансальцы облекутся в траур, — восклицает Аймери де Пегвилья. — Вместо власти доброго синьора они подчинились королю... О, Прованс, Прованс, какой стыд и поношение! Ты потерял радость, счастье, славу, спокойствие, веселье и попал под иго французов. О, лучше бы умереть всем нам... Разорвем скорее наши знамена, разрушим стены городов наших, сломаем башни замков наших. Горе, мы стали французскими подданными! Мы не должны носить более ни щитов, ни копий. Какие мы воины?» (23)
«И это называется помогать Церкви: наводнять нашу землю французами, — поет тулузец Анельер, — привести их туда, где быть они не имеют никакого права по тысяче своих нечестивых дел; мечом они губят христиан, несмотря на их происхождение и язык; они хотят одолеть свой век. Духовенству это нипочем; вместо проклятия они посылают французам благословения и дают им целый мир в награду за злодейства» (24).
«С горьким чувством пишу я эту сирвенту, — плачет другой патриот. — Сам Бог не знает про те мучения, какие испытываю я. Кто может передать их! Я страдаю дни и ночи, во сне и наяву одна мысль томит меня... Французы обирают донага провансальцев — это жалкое и несчастное племя, они им не оставляют ни медяка. Они отнимают у них земли и не платят ничего. Рыцарей и воинов пленными ссылают как разбойников, а когда те умрут, то берут все их добро. Но кто убивает, от меча и погибнет... Куда ни оглянусь, везде мне слышится, как придворные рабы твердят: "Господин, господин", низко кланяясь французам и увиваясь за ними. Французы везде; они завоеватели и в этом все их право. О Тулуза, о Прованс, о земля Ажена, и вы, о Безьер, Каркассон — чем вы были и чем стали теперь?»(25)
Каждую попытку свергнуть французское иго трубадуры восторженно приветствовали; они с трепетом ждали исхода восстания и своими стихами возбуждали воинский дух тех, кто боролся за независимость. Идя в бой, рыцари и горожане пели эти стансы Пернаса:
«У меня есть лук и дубина, я пущу стрелу, чтобы она достигла самых далеких пределов. Позор английскому королю, который допустил выгнать себя из своих земель; на него должно пасть первое мщение. Смертельно я ненавижу Иакова Арагонского, который постыдно изменил и бросил нас одних без помощи. Арагонцы не хотят оставить своей борьбы с маврами, чтобы отнять у французов их завоевания. Вот Эмерик Нарбоннский поступает иначе, как следует храброму человеку, — и я люблю его. О если бы только кто-нибудь помог нам, мы бы освободились; французы рассеялись бы тогда, а граф (Раймонд VII) уверовал бы в себя, и не пошел бы ни на мир, ни на сделку. Сильные люди спокойно переносят свой позор, и вот лучшая часть земель порабощена оружием французов. Но не удастся же им счастливо владеть тем, что они злодейски отняли у стольких доблестных баронов. Война, война, я люблю тебя больше жизни, больше, чем свою возлюбленную; ты даешь пищу и праздник веселью; тобой наполнены песни; ты делаешь из виллана рыцаря. Да и как не любить тебя? Дождемся, кто начнет эти битвы и истребления! Скоро послышатся удары мечей, будут развеваться конские хвосты и гривы; падут стены и башни, а замки сравняются с землей» ".
Но восстание не удалось. Юг покорно склонил свою голову. Он безмолвен пред грозной силой. Однако мысль о свержении ига долго не покидала его.
Вот один марсельский поэт передает в плавных стихах свою грустную беседу на берегу тихого ручья с бедной пастушкой; в образе последней легко узнать олицетворение погибающей национальности Прованса. Она была прекрасна и, склонив голову, сидела одна под зеленым дубом, забыв про своих ягнят, которые паслись в стороне. Скромно она отвечала на приветствие поэта:
«Бог да хранит вас от всякого зла, синьор».
Поэт вступает в разговор.
«Скажите, — спросила она, — почему наш граф купается в крови провансальцев; зачем он делает столько зла, когда мы в ответ не делаем ему ничего плохого? Он пошел на войну с Манфредом[47], за что же он хочет обидеть его и лишить наследства, когда тот никогда не был его вассалом и не обязывался ему ничем?»
«Гордость ослепила анжуйского графа, — отвечал поэт, — оттого он так безжалостен к провансальцам. Клирики для него как лук для стрелы, они послали его ограбить короля, который истинно доблестен и любит подвиги. Меня утешает только одна надежда, что доблесть никогда не даст одолеть себя честолюбию. Если только воины Манфреда сплотятся вокруг его знамени, то французы наверное погибнут».
«Но что же думает славный юноша арагонский (Иаков); что он не возвращает себе того, что принадлежало его отцам? Он храбр и любезен; о, как бы я хотела, чтобы он пришел к нам и прогнал этих французов с нашей земли. Как бы рада я была, если бы этот благородный юноша соединился с молодым Эдуардом Заморским (то есть английским принцем[48]). Оба они одного происхождения, этот дом славился храбростью».
«Да, да, — соглашается трубадур, — эти принцы благородны и храбры. Не следует им спокойно смотреть, как лишаются они своего законного наследия. Скорее бы пустить в дело наши шлемы и искристые кольчуги» (26).
В Провансе соглашались скорее приглашать арагонского или даже английского принца, чем выносить иго французов. Так мало были симпатичны те идеалы, которые приносили с собой завоеватели, оскорблявшие национальное чувство на каждом шагу. Манфред был любимым героем провансальцев, потому что он боролся с ненавистным Карлом. Эдуард I прославился своим благородным характером и своими подвигами в Палестине и в войне со страшным Лейчестером[49]; довольно было этого, чтобы считать его хорошим государем. В нем провансальцы видели человека куртуазности и поклонника галантности, благородной отваги. Ни он, ни Манфред не прятались за монашеские рясы, не жгли свой народ, не убивали из-за угла, не мстили побежденным на поле чести. Карл же оставался для них совсем чужым.
Французы долго не могли утвердиться в завоеванном крае; им приходилось иметь дело с систематическими враждебными проявлениями и народными восстаниями. Великая англо-французская война[50] показала, на чьей стороне симпатии южан. Лангедок и Прованс оказывали всевозможное содействие англичанам, когда те проходили эти области. В 1379 году Лангедок объят восстанием. Борьба арманьяков (орлеанцев) и бургундцев в сущности есть борьба южан и северян — эхо альбигойской крестовой войны[51].
Провансальцы и гасконцы старались всячески уязвить тех северных французов, над которыми им приходилось торжествовать; в эпоху междоусобий они варварски вымещали на парижских поселенцах жестокости крестоносцев Монфора, вынесенные некогда их предками. Сами парижане должны были молча сносить насилия южных дворян, вступивших в столицу с арманьяками и оглашавших ее провансальскими победными криками. Демократическое движение, охватившее Францию после смерти короля Карла V[52], столько же было возбуждено фландрскими, сколько провансальскими традиционными идеями.
От продолжительной, но напрасной борьбы за сохранение народности, а также под влиянием старых общинных воспоминаний, крепко укоренившихся в Лангедоке и Провансе, их обитатели, уже вполне потеряв свою национальность, продолжали всегда сохранять республиканский дух более, чем остальные французы. Южный народ обладал в высшей степени подвижным, впечатлительным характером. Радикализм его, не находя деятельности в политической области, проявился в духовных и социальных стремлениях. В Реформации и в Великой революции останутся незыблемые следы влияния провансальского духа. И то и другое явление приняло бы иной вид под влиянием одного лишь северного элемента, иначе текла бы тогда и вся французская история. Жирондисты именно с Юга приносят свои республиканские теории. Дух национальной особенности невидимо присутствует в исторических явлениях даже тогда, когда сама национальность теряет самостоятельное политическое существование и более не представляет собою единого целого. Таковы были результаты альбигойства и французского завоевания в политической области.
Выражение национального чувства в литературе, направленной против Франции и Рима
Взглянем теперь, как относились вообще на Юге к католической Церкви, после насильственного водворения ее при помощи трибуналов.
Там католицизм никогда не был прочен. На Юге мало жили сердцем — жизнь чувства преобладала. Внутренние томления о неведомом не могли долго занимать лангедокцев, вследствие впечатлительности народного характера. Красивая женщина в глазах трубадуров была часто выше Мадонны. Земные наслаждения были знакомее и потому дороже небесных, которые не поддавались чувству. В красоте форм провансальцы были знатоки, они унаследовали понимание : и вкус своих греческих предков. Каким-то античным характером, переносящим под портики древней Эллады, дышат некоторые строфы христианских поэтов Прованса XIII века, написанные после альбигойской резни. Трубадур воспевает чувственное наслаждение и отдает за него все, что было бы дорого для другого католика.
«Не надо мне ни империи римской, ни папского престола, счастье я мог бы найти лишь около моей возлюбленной. Когда я смотрю на ее чудные косы, на это прекрасное и юное тело, я чувствую себя счастливее, чем если бы получил целые города в обладание. Я готов твердить мессы, жечь Богу свечи и лампады, чтобы наконец склонить ее уступить моим мольбам и победить суровость моей дамы. Но если Бог не поторопится услышать меня, то любовь, которая горит в моем сердце, кончит тем, что испепелит его» (27).
Такие люди не пойдут в бой за веру, им чужды религиозные интересы. Над религией и святыми трубадуры иногда посмеиваются, они и прежде ненавидели духовенство за его блеск и безнравственный образ жизни.
Теперь, после войны, эта ненависть усиливается в страшной степени, что вполне понятно. Не было пороков, которые бы не приписывали духовенству. Священники и монахи считались «лжецами, вероломными, клятвопреступниками, ворами, развратниками». Теперь хотели воспитывать совесть оружием.
«Но истинная вера, — говорили трубадуры, — не носит кинжалов, чтобы разить, умерщвлять и совершать человекоубийства».
Насмешки и остроты градом сыплются на монахов и духовенство.
«Если Бог спасает тех, кто умеет только хорошо поесть и искусно соблазнять женщин, то черные и белые монахи, тамплиеры, госпитальеры и каноники непременно попадут в рай. Святой Петр и Святой Андрей были слишком глупы, что вынесли столько мучений из-за рая, который так дешево достается другим. Черными да белыми рясами не спастись, — гремит Монтаньягу. — Надо отказаться от суеты и пиршеств. Надо перестать красть чужое достояние. Тогда только поверят вам. Их послушать, так они ничего не хотят, а посмотреть, так они тащат все» (28).
Пьеру Кардиналю принадлежат самые смелые и блестящие сирвенты. По положению автора, они служат отражением мыслей высшего общества. Он обладал высоким поэтическим дарованием и до самой смерти, то есть до 1306 года, будучи столетним стариком, сохранил презре- ние к духовным лицам и прямо называл их хищными зверьми. С того дня, как он родился, он выучился ненавидеть несправедливость и любить добро. В себе он носил грехи других и мучился их заблуждениями.
«Коршун и ворон не вьются с такой радостью над добычей, как клирик и доминиканец над своей жертвой, — начинается одна из его сирвент. — Они следят за ней неуклонно, и когда удар грянет, то будь уверен, что все достояние жертвы окажется в их руках, а близким не достанется ничего. Французы и монахи зло считают честью. Они погрузили вселенную в глубокий мрак, теперь всякая новая вера будет знать свою участь. Знают ли они, куда пойдут награбленные сокровища? Придет другой суровый грабитель, который разоблачит нас донага. Для смерти, которая всех ждет, не надо этих сокровищ— она нагих столь же удобно уложит в четыре ольховых доски».
Кардиналь не щадит и высшее духовенство. В сатире на архиепископа нарбоннского он говорит, что те, «кто носит митры на головах и белые одежды на плечах, несут на устах низость и измену, как волки и змеи» (29).
«Кто хочет слышать сирвенту из печали, проникнутой гневом? — спрашивает он же в другом месте. — Люблю честных и храбрых, чуждаюсь злых и клятвопреступных, потому удаляюсь от беззаконных клириков, которые совмещают в себе всю гордость, все обманы и всю алчность нашего века. Они торгуют изменой и своими индульгенциями, они отняли у нас все, что осталось. Не думайте излечить поповское племя, чем выше стоят они, тем больше в них обмана, тем меньше веры, меньше любви и больше жестокости. А рыцари, как унижены они теперь! Жизнь их хуже смерти, священники их попирают, короли грабят. Они— поповские подданные по смерти, и еще более при жизни. Между тем лукавые священники, обобрав церкви, завладев всем остальным, стали властителями мира. Тех, кто должен управлять, они попрали своими ногами. Карл Мартелл накинул на них узду, но они скоро убедились, что нынешние короли — глупцы. Они заставили их делать все, что хотят, и поклоняться тому, что надо позорить» (30).
«К своим порокам они присоединяют измену, — продолжает Кардиналь. — Они приказывают слушаться французов, этих куропаток, этого низкого и изменнического племени. А французы с каждым часом приносят нам свои обычаи, свою привычку уважать только тех, кто может широко попить и поесть, и презирать бедняков. Они стремятся богатеть и ничего не давать, они возвышают измен пиков и унижают честных людей. Да есть ли нынче хоть один человек, который бы не думал только о своем желудке, только те и счастливы! Тот, кто любит справедливость и негодует против дурного, будет опозорен, кто начнет вести светскую жизнь, того будут преследовать. Теперь всякий обманщик торжествует». Священники же превосходят их всех. «Вы никак не сосчитаете, когда они грешат, потому что это происходит целый день и целую ночь. В остальное время они прекрасные люди, не ненавистники, не симонисты, и ничего не берут насильно».
Инквизиционный трибунал при всем ужасе, который он наводил, не избегнул насмешек Кардиналя. Доминиканцев он называет пьяницами.
«У якобинцев нет другой заботы, как судить о достоинстве вин, — им надо спорить, которое лучше, которое хуже. И вот они составили совет. Кто осмелится порицать их, тот вальденс. Смелые инквизиторы, ревностно стараясь проникать в наши тайны, они становятся все страшнее и все ненавистнее» (31).
«Что осмеливаются делать все эти люди, я не смею даже передать», — часто дополняет Кардиналь, рисуя самые возмутительные картины из жизни духовенства, ненавистного ему и его сословию.
В противоположность Кардиналю, Вильгельм Фигвейрас, столь же даровитый, как и он, выросший среди простого народа, служит выразителем настроения масс. Его произведения потому именно и драгоценны для нас. Сын тулузского ремесленника, бедный портной, он вместе с Пегвильей в молодые годы вращался в кругу рабочих, мелких торговцев, жил в трущобах бродяг и публичных женщин. Он хорошо знал, что думает народ, ему можно поверить потому, что он искренен. Никто из поэтов Прованса не был так популярен, как он. В его тен-сонах и сирвентах провансальская поэзия решительно изменяет свой характер.
Фигвейрас наносит удар рыцарской лирике. Поэзия, некогда пышная и чопорная, облачилась в грубые деревенские одежды и посвятила себя службе мести. Она уже никогда не получит прежнего приятного светлого колорита. Но если в ней не видно больше прежней грациозности, то она стала более существенной и искренней. Эта муза так же сумрачна, так же печальна, как то несчастное отечество, которое она оплакивает. Ее преследуют, но певцы из изгнания распространяют свои бичующие сатиры с той же энергией.
К чему приведет их месть? Враги их так сильны, певцов так немного — кажется, что они избрали самое слабое орудие. Главный враг их была римская тиара. Она была всесильна и, казалось, могла раздавить их, как пигмеев. На Риме сосредоточивалось все чувство горечи и ненависти, которое кипело в этих наболевших сердцах. Из-за Рима забыли французов. Перед последними народ должен был склониться; он признал французского короля, он забыл о Раймонде, но тем больше возненавидел ту страшную силу, которая была действительной причиной уничтожения национальности. И что же? Стоило только раздаться этим негодующим звукам, как страшная сила заколебалась, стала подозрительно оглядываться вокруг себя, потеряла опору, почву под ногами, лишилась своего обаяния, лишилась прежней энергии и с недосягаемых высот стала быстро спускаться в бездну. Ее унизили теперь те самые, которых некогда она сама унизила. Она была освистана общественным мнением, и в первый раз национальная литература в лице Фигвейраса выступила как двигатель событий, как историческое орудие судеб.
Чтобы познакомить с характером этой новой исторической силы, приведем одну из лучших сирвент Фигвейраса, проклявшего Рим за двести пятьдесят лет до Лютера. Она имеет всемирно-историческое значение.[53]
«Я хочу написать сирвенту в том же тоне, как пишу всегда. Я не хочу более молчать. Я знаю, что наживу себе врагов, так как пишу сирвенту о людях, исполненных лжи, о Риме, который причина всего падения и одно прикосно вение которого разрушает все доброе.
Рим, я не удивляюсь нисколько тому, если весь мир заблуждается, ты повергнул наш век в тяжкие опасности м войну, ты мертвишь и истребляешь достоинство и добро детель. Вероломный Рим, тобою был предан добрый аш лийский король[54], — ты вместилище и источник всех зол.
Лживый Рим, алчность увлекает тебя; ты стрижешь слит ком коротко своих овец. Но Святой Дух, принявший плои, человеческую, да услышит мольбы мои и сокрушит клюк твой. Я отрекаюсь от тебя, Рим, ты несправедливо и жесто ко поступаешь как с нами, так и с греками[55].
Рим, ты сокрушаешь плоть и кости невежд, а ослеплен ных ты ведешь с собою в пропасть. Ты уже слишком престу паешь повеления Божий. Твоя алчность так велика, что ты отпускаешь грехи за денарии. Ты навлекаешь на себя страш ную ответственность.
Знай же, Рим, что твоей низкой торговлей и твоим безумием погибла Дамиетта[56]. Ты преступно царствуеш, Рим; да разрушит в прах тебя Господь, потому что ты лживо властвуешь. Ты низкой породы, Рим; ты клятвопреступен.
Рим, нам хорошо известно, что глупостью одурачив народ, под видом ложного снисхождения, ты повергнул в несчастье баронов Франции и народ французский. Даже добрый король Людовик погиб от твоей руки, потому что лживым предсказанием ты удалил его с родины[57]...
Рим, сарацинам ты нанес мало вреда, но ты вконец уничтожил греков и латинян. Рим, твое место в пламени ада....
Рим, я хорошо вижу множество злоупотреблений твоих, о которых неудобно говорить. Ты смеешься над мученичеством христиан; в какой книге написано, Рим, чтобы ты убивал христиан? Истинный Бог, который посылает мне насущный хлеб, да поможет мне увидеть от римлян то, что я желаю видеть от них.
Теперь ты, Рим, слишком занят твоими предательскими проповедями против Тулузы. Ты с низостью кусаешь руки и сильных и слабых, подобно бешеным змеям. Но если достойный граф проживет два года, Франция почувствует всю горечь твоих обманов.
Моя надежда и утешение в одном, Рим, что ты скоро погибнешь; пусть только повернется счастье к германскому императору[58], пусть только он поступит как следует с тобой, тогда, Рим, увидим, как сокрушится твое могущество. Боже, владыка мира, соверши это скорее!
Рим, ты так хорошо забираешь в свои когти, что от тебя тяжело отнять то, что захватил ты. Если ты вскоре не лишишься твоей силы, то это значило бы, что мир подчинен злому року и что он погиб окончательно.
Твой папа тогда сделал бы чудо. Рим, папа занимается дурным делом. Он ссорится с императором и продает его корону. Он прощает его врагов, а такое прощение, безосновательное и несправедливое, не заслуживает похвалы, потому что в корне своем оно мерзко.
Рим, ты развращен до такой степени, что презираешь Бога и его святых, — вот до чего позорно царство твое, несправедливый, коварный Рим. Вот почему в тебе скрываются, гнездятся и развиваются пороки мира сего; так велика твоя несправедливость относительно графа Раймонда.
Рим, Бог помогает этому графу и дает ему власть и силу, ему, который режет французов, сдирает с них кожу, вешает их и делает из них мосты при осадах, когда их много. А я, Рим, мне сильно хочется, чтобы Бог вспомнил о твоих злодействах, чтобы вырвал он графа из твоих рук, то есть из объятий смерти...
Рим, мы часто слыхали, что у тебя пустая голова, потому что ты ее часто бреешь; я думаю, что тебе и не надо много мозга, потому что ты властвуешь дурно, как и цистерцианцы; в Безьере вы произвели страшную резню.
Рим, своими лживыми соблазнами ты ставишь сети и пожираешь много дурных кусков, раздирая на части нуждающегося в утешении. Ты носишь личину кроткого агнца, но внутри ты бешеный волк, порождение ехидны; ты змея коронованная, оттого-то дьявол называет тебя своим творением» (32).
Это — перечень преступных деяний Рима, здесь ничего не забыто. Редко сатира доходила до такой резкости — сердце поэта накипело до того, что он не мог сдержать своих порывов. Можно сказать, что эти строчки написаны кровью. Поэт к небу взывает об отмщении, и мщение для него самое высокое наслаждение. Его в ответ назвали еретиком; ему до того не было никакого дела. Он с тем же огнем, с той же отвагой продолжает бичевать «венчанную змею» и ее слуг, которые своими лукавыми речами похитили у мира свет.
И так говорил не один, не десяток певцов, а почти все представители тогдашней провансальской национальности. Трубадуров насчитывают до трехсот шестидесяти; между ними только один опозорил себя содействием крестоносцам и агитацией в пользу Монфора. За то он пал под тяжестью отвержения и проклятия всего народа. Лишившись даже куска хлеба, умирая с голоду, презираемый всеми, он искал спасения в стенах монастыря (33). На него смотрели как на прокаженного.
Литература провансальская в своих лучших представителях приняла обличительное направление. Немногие допевали песни о походе короля в Тунис. Третий и последний период ее, время ее блеска и вместе падения, имее: потому самое существенное значение. Дело не в красотах этих последних произведений, не в их частностях, а в том громадном влиянии, какое они своими идеями оказали на отечество и на всю Европу. Грамотные попадались редко; не все трубадуры умели писать. Они наизусть разучивали сирвенты и через жонглеров разносили их повсюду. Сир вента соответствовала нашим газетам; она стала нравствен ной силой, общественным мнением.
Перейдя за пределы Лангедока, она вооружила против папства и другие народы, привила им смертельную ненависть к Римской Церкви и средневековому духовенству. Она познакомила другие страны Запада с Провансом, всем повествовала скорбное, полное ужасов сказание об альбигойской резне и о тирании французских королей. Сирвента трубадуров приняла участие в подготовке народов Запада к восприятию Реформы. В этом — высокое историческое значение провансальской литературы.
Но, если в истории падения папства сирвента должна занимать одно из влиятельных мест, то ее непосредственное влияние на развитие национальной литературы было пагубно. Поэзия Прованса погибла вместе с нею. Такое радикальное изменение содержания было ей не по силам. Новой эпохи она не могла принять. Прежняя история ее была так богата. Теперь нечему было радоваться, нечего было воспевать. Разрушенные замки, ограбленные города и села, пепел еретиков, тысячи людей, заточенных по тюрьмам, изгнанные патриоты, падение свободы, новый суровый порядок, продажная администрация — все это могло возбудить лишь негодование, а когда относительно проявлений даже безмолвной оппозиции были приняты строгие меры и страна была офранцужена, то и ему не было места.
Потому, когда замолкла последняя сирвента, провансальская литература прекратила свое существование, став достоянием истории. Последние лучи ее осветили розовым светом память святого короля, каким считали Людовика IX даже на Юге, где ненавидели французов. Он был гордостью не одной страны, а всего христианского мира, и когда он погиб за дело веры, то те же трубадуры на время перестроили свои лиры. Они чувствовали, что с королем уходит в могилу многое, что было близко их сердцу. Можно сказать, что с Людовиком IX исчез дух средних веков.
Филипп III и уничтожение ереси в народных массах
Преемник Людовика IX, Филипп III, прозванный современниками Смелым, являлся сторонником новой системы; он не мог питать снисхождения к покоренным. Он ждал увеличения своих владений, которые должен был унаследовать с кончиной Альфонса и Иоанны. Желание короля быстро исполнилось. Смерть обоих супругов не заставила долго ждать себя.
Альфонс и Иоанна сопровождали Людовика IX в последнем походе; они приняли последний его вздох. Чума, господствовавшая во французском лагере, не пощадила и их, но они перенесли ее. Здоровье супругов не могло быть крепким после тяжелых душевных потрясений, свидетелями которых они были, и после страшной болезни, их постигшей. Потому они рассчитывали подкрепить его итальянским климатом. Зиму они провели в Сицилии и весной из Неаполя морем отправились в Геную. Одна итальянская летопись говорит, что уже в Сицилии граф и графиня почувствовали себя дурно и спешили на родину, боясь умереть на чужой земле. Провансальские источники умалчивают о подробностях (34).
Супруги не доехали до Генуи, они остановились в Савоне. Здесь, двадцать первого августа 1271 года, Альфонс скончался. Ввиду того, что граф остановился в Савоне, следует принять, что он действительно тяжело хворал в дороге. На третий день после его смерти с Иоанной начались мучительные припадки, и, прежде чем успели оказать помощь, последняя представительница династии Раймондов скоропостижно скончалась.
Филипп III был в это время в Париже. Прошло уже три месяца, как он вернулся из Африки. Смерть дяди и тетки крайне обрадовала его, но внезапность кончины Иоанны навлекла на короля подозрение в отравлении графини. Об этом долго говорили на Юге, несмотря на запрещение. Слухи сильно были распространены в Италии и даже были занесены в официальную генуэзскую летопись (35).
Нет сомнений, что смерть Альфонса была на руку молодому и пылкому королю, питавшему весьма честолюбивые устремления, но она не вполне соответствовала его желаниям. Она не успокаивала его. Можно догадаться, что Филипп опасался Иоанны, и для подозрений у него были весьма существенные поводы. Тогда как Альфонс перед отъездом в Африку составил совершенно частное завещание, не имевшее никакого официального характера, ибо в нем ни слова не говорилось о судьбе государства, его жена поступила иначе. В последние годы в ней пробудилось сознание, что она — законная государыня в Тулузе и что она если не имеет права в силу договоров распоряжаться своим наследием вполне, то может по крайней мере наградить своих обиженных родных хоть чем-нибудь. Она завещала формальным порядком Альбижуа, Аженуа, Руэрг и Керси своей кузине Филиппе, племяннице виконта Ломань; Венессен она отдавала Карлу, королю сицилийскому.
Документ этот цел и хранится в архивах, он состав лен на самых законных основаниях, с соблюдением всех правил, подписан семью свидетелями и скреплен их пе чатями. О завещании французское правительство знало давно и было им крайне недовольно. В завещанных ви-Тконтессе областях было сорок восемь бальяжей; в Венессене — двенадцать. Иоанны стали опасаться. Она обладала крепким здоровьем, и никто не поручился бы, что она вторично не выйдет замуж. Как правительница, она не давала доказательств своей преданности французским интересам. От нее могли ожидать чего-либо смелого и энергичного. Фанатичная католичка, она все-таки оставалась кровной провансалкой.
Вот почему предположение о насильственной смерти Иоанны согласуется с обстоятельствами и не кажется абсолютно нелепым.
Недоставало только этого преступления для окончания грустной повести о завоевании Лангедока.
Вероятное отравление несчастной дочери Раймонда VII завершает ужасы альбигойских войн.
«Итак, — говорит один новый историк Юга, — незаконная конфискация доменов Иоанна Безземельного, несправедливый поход против графа Ла-Марша, крестовая альбигойская резня, парижский договор и, наконец, отравление последней отрасли тулузских графов — вот средства, которыми приобрела Франция свои южные земли» (36).
Завещание тотчас же было признано недействительным. Ажен в силу аббевильского договора отдали английскому королю. Венессен был оставлен за Святым Престолом. Принцессе Филиппе и королю Карлу I парижский парламент наотрез отказал в их претензиях. Впоследствии, в 1283 году, было постановлено государственным законом, что все уделы во Франции, по прекращении мужского колена, как выморочные, отходят к короне.
Тулузские владения были торжественно приняты в вечное подданство короля французского, но они продолжали составлять особое графство до 1361 года. Пять дней, в январе 1272 года, тянулась присяга. В Тулузу съехались тысячи вассалов, баронов, рыцарей, воинов со всех областей графства, консулы со всех городов. Все по очереди клялись над святым Евангелием, перед лицом двух королевских послов, быть в подчинении у господина-короля и его преемников, хранить и защищать его власть и его права, его людей и достояние, и всегда быть верными ему против всех и каждого. Городские и замковые нотариусы сверх того обязывались содействовать к уничтожению ереси, а также представить администрации все акты и документы времени Раймонда VII, в которых заключаются какие-либо отчуждения тулузских земель и другие «обманы» против короля (37).
Какой характер примет королевская власть в отношении к своему новому приобретению, Филипп III показал в том же году. Роже Бернар, граф де Фуа, позволил себе сделать нападение на замок Гэпи, предоставленный короне ее владетелем Казобоном, и разрушил его. Но времена феодального самоуправства прошли. Королевский сенешаль с неожиданной быстротой кинулся на него, овладел его землями, так что к приезду Филиппа III все было кончено.
Напрасно граф де Фуа думал выставить свой поступок патриотическим делом в глазах населения, напрасно он пытался взволновать народ, напомнить ему прежнюю независимость. Напрасно он взывал к тени Раймонда и обещал восстановить старые права баронов и городов. Провансальцы, наученные несчастьем, оставались глухи к воззваниям, а граждане Савердена даже не пустили его к себе, как опального. Он должен был сдаться на милость короля, который конфисковал его владения, а его самого посадил в тюрьму, откуда освободил только по ходатайству короля арагонского (38).
Так же поступил английский король Эдуард I с виконтом беарнским, который должен был молить его о прощении на коленях с веревкой на шее. Таким образом, бароны и горожане на всем Юге должны были покориться силе. Сокрушив последний оплот феодализма в лице графа де Фуа, последнего борца за независимость, король царствовал как неограниченный монарх. Он оставался ревностным слугой инквизиции, так как в ней видел лучшее средство, после собственного оружия, для закрепления за собой Лангедока. Последняя попытка к восстанию, сделанная графом де Фуа, и конфискация его владений вызвали за собой немедленное усиление деятельности трибунала на новоприобретенной территории.
До нас сохранилось в копиях огромное количество следственных дел, произведенных в этой области в период с 1273 по 1289 год. Они занимают два толстых фолианта. Председателем трибунала был Райнульф де Галиако, главный инквизитор. Заседание производилось в кафедральном соборе города Фуа. Еретики и многие из опасавшихся привлечения к ответу по религиозным и политическим делам бежали в Ломбардию. И понятно: они не находили более покровительства у напуганных и прижатых феодалов, за которыми зорко смотрели сенешали.
Альбигойские «совершенные» имели друзей только в среднем и низшем сословии, но что могли для них сделать бедные ткачи, плотники, брадобреи, жонглеры, рыбаки, небогатые купцы, едва находившие скудные средства к существованию. Только по ночам выползали альбигойцы из своих берлог в города: духовенство совершать свои необходимые требы, прочие на соп5о1атеп1ит. Многие, скрывшиеся от преследований судов, могли путешествовать только ночью, они пускались до рассвета в путь по ; окольным дорогам, в ожидании встретить новый приют на следующий день в какой-нибудь покинутой хижине. Где сочувствовали им, там провожали и приносили в лес хлеб, плоды и соленую рыбу. Человек в черном, живший в лесу, , был непременно еретик. Они стремились к итальянской границе, за которой хотя и существовала инквизиция, но благодаря республиканским учреждениям, продолжавшим там существовать, правда, не с прежней силой, она не могла получить действительного значения.
Война Церкви с «безбожным» Эццелином д'Эсте благоприятствовала эмиграции в Ломбардию и Романью[59]; еретики могли в нем найти вождя и друга. Но любовь к родине чаще всего оказывалась сильнее любви к вере. Из документов видно, что в Лангедоке, особенно в графстве Фуа, жили тайные еретики, которые не отказывали в помощи своим несчастным собратьям, делали для них складчины и посылали эмигрантам более или менее значительные суммы. Считаясь за католиков, они иногда ходили к своему духовенству, куда-нибудь в Александрию, Павию или Милан, принять от них благословение или присутствовать на их службах. Так делали Морелли из Авриака, Гальярды, Саикки из Карамана, который при этом донес на своего отца. В этом же обвиняли монаха Жерара Бон пиана, из тулузского братства Святого Креста. Встретившись с одним священником в Ломбардии, он говорил, между прочим, что исповедь излишня, что в папской церкви одна гордыня, что спастись можно только между еретиками, у которых епископы и диаконы издавна посвящаются преемственно. Говоривший изъявлял желание пострадать и даже умереть за свои убеждения 39.
Между прочим, инквизиция задержала в Фуа одного престарелого еретика де Ривали. Он был в сношении с Давидом, Растелли и Пенсом де Фуа, альбигойскими диаконами. Ему было шестьдесят пять лет; его долго держали в заточении, пока дошла до него очередь. Нотариус пошел к нему в тюрьму, чтобы сделать предварительный допрос. Ривали знал, что от него будут выпытывать, где находятся еретические духовные лица. Чтобы не изменить себе, он решился покончить с жизнью. Когда он услышал шаги на лестнице, то ударился головой о каменную стену. Удар был силен, но не смертелен. Тотчас же отворились двери тюрьмы, и вошло четыре человека. Ривали был жив. Через несколько дней его вылечили и привели к судьям. Он открыл только одно, что во время осады Монсегюра диакон Понс де Фуа хотел передать должность другому лицу, что с тою целью Аламан был посредником и носил какую-то шифрованную табличку из воска, и что больше, из прежней своей жизни, он ничего не помнит. Вероятно, пытка, которой он так боялся, постигла его.
Между еретиками Фуа были и альбигойцы, и вальденсы. В конце XIII века в протоколах довольно часто упоминается о вальденсах. На одного доносили, что в бытность в церкви он смеялся над образами святых, пострадавших за Христа. Он говорил, что это в порядке вещей, если злые преследуют добрых. Прежде гнали и терзали святых мучеников, а теперь альбигойцев. Францисканцы и доминиканцы — это те самые, о которых в Писании сказано: «И представили ложных свидетелей»[60] (40). Если этот еретик уверял, что тело людей есть дело злых демонов, а души их созданы на небе, то другой, Дюранд де Россиак, совершенно отрицал существование души и утверждал, что душу человека заменяет кровь[61]. Он прибавлял, что если бы истинное тело Христово было в причастии, то клирики давно бы съели его, хотя бы величиной оно было даже с гору. Когда Дюранд раз на Пасхе наблюдал, как стремятся в церковь его знакомые, то сказал, что они ничего не найдут там, что это все равно, как если бы им вздумалось отыскивать апостолов Петра и Иоанна и других учеников Христа. Он при этом отвергал достоинство и пользу молитв (41).
Рядом с такими радикалами в религии трибунал осуждал тех, кто уверял, что не следует ни клясться, ни лгать, или того, кто осмелился утверждать, что хлеб и другие растения родятся от труда земледельца и от качества почвы и что странно бы полагаться исключительно на доброту и благословение Божие (42). Таким образом, безобидные воззрения признавались за отступничество от Евангелия; то, что не согласовывалось с суеверием, было преступно.
Сомнительно становится иногда, кто был прогрессивнее, кто был впереди, невежественный альбигоец или ученый доминиканец?
Хотя сторонники ереси в последнее время были преимущественно люди среднего и низшего класса, лишенные средств тогдашнего образования (впрочем, некоторые прекрасно изучили альбигойскую догматику (43); тем не менее и они не оставались в стороне от пропаганды против завоевания. Жена одного тулузского плотника ссы-: далась на соседку Фабрицию, которая учила, что, когда Люцифер сотворил человека, то лишил его дара слова, но Бог, узнав, что человек не может говорить, дунул ему в рот, и он вдруг заговорил. За это Фабрицию с дочерью привлекли к ответственности. Они в свою очередь сослались на Мореля, агитатора из Ломбардии, агитировавшего против французского владычества, которое-де так же тяжело, как поповское. Он утешал своих слушателей, что в случае, если они пострадают за правду, то станут святыми мучениками (44).
От графа де Фуа ждали во всей области поддержки аль-бигойства; узнали, что он пошел бы по следам своих предков и дал бы полную свободу совести, если бы дело его восторжествовало. Потому победа короля поразила в корне всякие надежды на восстановление альбигойства. Но это не успокаивало трибунал; ему везде казались еретики. Боязливо оглянуться на улицах, одеться в черное, наконец, призывать во время родовых схваток Святого Духа, а не Христа и не Деву Марию, как это сделала одна женщина (45), — всего этого было достаточно, чтобы заподозрить в альбигойстве. Беда была сказать, что с изгнанием еретиков и появлением доминиканцев в стране остановилось течение торговых дел, как заявлял один нотариус (46), — это тоже было религиозное преступление.
Под влиянием гонений и строгого полицейско-инквизиторского надзора, отсутствия постоянных руководителей и учителей религиозная мысль альбигойцев начинает принимать фантастические образы. Из двух богов стало три; некоторые не ограничивались этим, а признавали шестерых богов, которые произвели седьмого, и прибавляли, что все боги произошли от пшеничного зерна, а не сами по себе (47).
Когда мысль, развивая исторические традиции, доходит до таких ребяческих вымыслов, то это показывает, что она потеряла уже всякое значение и способность к дальнейшему органическому развитию, что в ней уже не было жизненных элементов. Последние альбигойцы слушали лишь отголоски прежней речи, схватывали на лету, что могли, потеряли тайну целого и уродливо комбинировали свои ничтожные данные. Катарство теперь уже не могло оживить никого; оно отжило свое время и умирало, потому что ему не дана была истина. Его последние адепты бредят, как умирающие, в тяжелой агонии.
Вальденсы стояли на более прочной почве; как рационалисты, они имели перед собой громадное будущее. Их могли уничтожить, сжечь, но их идеи должны были снова возродиться. Их имена в семидесятых годах встречаются в процессах все чаще и чаще, хотя они эмигрировали вместе с альбигойцами, избирая для этого Пьемонт и недоступные альбигойские лощины. Их доктрина высказывается не в прежней чистоте — она смешана с мифологическими представлениями катаров; часто можно предполагать, что их именем называли смягченное катарство. Они бредили переселением душ на небо, куда закрыт доступ только Богородице и Предтече; они думали, что в этом мире существует какой-то приют для душ, и это видно из жизнеописания Святого Брандина, которое было распространено в Лангедоке.
Зато убеждения некоторых подсудимых отличаются близостью к лютеранству, кальвинизму: только добрые дела, а не молитва могут быть полезны для судьбы умершего (48). Тех и других соединяло одно, что тело Христово не присутствует в гостии. Учителя одних были святы в глазах других. Страшные опасности, которым они подвергались, стараясь из Италии пробраться в Лангедок, делали их мучениками в глазах всех еретиков. После семидесятых годов немногие «совершенные», и между ними епископы еретиков в Тулузе и Альби, бежали за границу. В 1277 году мы находим братьев Олива в Ломбардии, где они учат навестивших их провансальцев своему «Отче Наш». Там же были другие епископы из Лангедока. Павия и Сермионе стали их главным убежищем. Паства провансальских еретиков осталась без пастырей.
Между тем в то время, когда инквизиция допрашивала еретиков, в среде католического духовенства она могла наблюдать такие стремления, преследовать которые было одной из ее обязанностей. Аббаты и епископы советовались с гадателями, вопреки строгому запрещению трибуналов. От них узнавали время избрания, получения бенефиций, осведомлялись о делах в Риме, и даже высокопоставленные духовные лица справлялись о вопросах первой важности, касавшихся папства. Тем простительнее было подозреваемым в ереси держать у себя гадальные книги и тем безнравственнее было со стороны инквизиции преследовать с беспощадной строгостью подсудимых, когда в их ряды с одинаковым основанием могли встать они сами.
Имеются сведения, что трибуналы в это время отличались большею суровостью, что они чаще прежнего прибегали к пытке.
Судьба страны при Филиппе IV
Король Филипп IV ознаменовал в 1287 году начало своего царствования изданием ордонанса о пытке по церковным делам. Более самого Альфонса он думал о выгодах своего фиска. С этой целью он торговал евреями и не останавливался ни перед какими безнравственными средствами. При нем инквизиция свирепствовала по всей Франции. Бернард Кастанет, епископ и инквизитор вместе, отличался жестокостью в Альби; доминиканец Симон де Балле — в Каркассоне. Де Балле дошел до того, что вооружил против своих мер местного архидиакона вместе с консулами, когда задумал сжечь книги трибунала и давал за это двести ливров добровольцам, так что дело дошло до папы. На архидиакона Марлана донесли, что он участвует в молитвах еретиков; Гонорий IV не поверил этому; он требовал, чтобы оклеветанный прислал в Рим свое исповедание веры. Конечно, все оказалось клеветой. В 1270 году Симона сменил Иоанн Галанди, а его — Николай д'Аббевиль, который приобрел вскоре громкую, но печальную известность.
Всякий протест против жестокостей считался доказательством ереси и наказывался. В Каркассоне никто больше не чувствовал себя в безопасности, даже самый ревностный католик. Однажды были схвачены два профессора римского права по обвинениям в ереси. Это вызвало волнение, но оно было подавлено содействием военных властей. Жители решились написать просьбу королю. Нотариус, который сочинял просьбу, был схвачен по приказанию Аббевиля и брошен в тюрьму инквизиции; тем и окончилась попытка.
Король рядом ордонансов предписывает повиновение инквизиции, потому что это было ему выгодно. Управы не было никакой; инквизиторы делали в эти годы что хотели. Гонорий IV вместо расследования предписывает наказание мятежников. Из документов можно убедиться, что папе Николаю IV принадлежит честная попытка устранить самоуправство судей, смягчить строгие статуты трибунала, обеспечить правосудие. Пользуясь одним сложным делом, которое было представлено на его рассмотрение, он показывает пример основательного расследования и в особой инструкции велит впредь руководствоваться тем юридическим принципом, которым он сам пользовался. Он определил срок действительности обвинения, хотя и продолжительный — от сорока семи до шестидесяти двух лет после совершения преступления, — и ввел, таким образом, хоть какой-то закон вместо пол- ного беззакония. Для достаточности обвинения необходимо свидетельство известного числа лиц; так, например, из четырнадцати свидетелей, необходимо обвинение девяти лиц, и притом чтобы уличавшие сколько-нибудь согласовались в подробностях; противоречие в обозначении времени, даже на год, не имело значения (49). Папа определил все подробности и случаи, когда можно принимать показание свидетелей; на собственной следственной работе, которая занимает тридцать страниц, он указал все юридические соображения, «дабы при определенной верности показаний свидетелей, добиться беспристрастного суда».
Отрадно среди дикого голоса разнузданных, кровожадных страстей слышать голос умеренности и законности, идущий из Рима.
В своем образцовом обвинительном акте против восемнадцати подсудимых, папа разбирает дело до тончайших мелочей, взвешивает показания множества свидетелей, pro и contra относительно каждого. Ввиду общего раздражения против свирепости инквизиторов он не решался внушать прямо сильным людям умеренность в поступках; он старается оправдать мятежников перед трибуналом и приказывает считать такими только тех, кто действует с корыстолюбивой целью или питает ненависть к католичеству.
Николай IV правил недолго— с 1288 по 1292 год. Законность и умеренность, которую он завещал инквизиции, плохо прививалась в развращенной и корыстолюбивой, воспитанной на насилии среде. И в Италии, и во Франции продолжается прежнее самоуправство в трибуналах.
Жители Пармы не в силах были больше терпеть. Когда тамошний трибунал осудил одну немку на костер, народ кинулся на дом инквизиции, разорил его и выгнал доминиканцев. Но власти пошли следом за ними и убедили их вернуться, обещав уплатить пеню и наказать виновных (50).
Примеру Пармы последовали Безьер и Каркассон. Кар-кассонцы вышли из себя от жестокости и самовластия Аббевиля. В начале 1297 года они возмутились, дружной толпой пошли на доминиканский монастырь, разорили его дотла, сожгли книги и разогнали испуганных инквизиторов. Брат Николай успел спастись от ярости народа и наложил на город проклятье. В консулах проснулся старый дух. Они запретили горожанам посещать доминиканскую церковь. В то же время они послали жалобу королю.
Даже Филипп IV отказался далее помогать инквизиции. Но надо знать, что в это время он начинал борьбу с Бонифацием VIII и даже грозил казнью за всякие сношения с Римом. Под влиянием такого враждебного настроения, но вовсе не в интересах человеколюбия, которому он всегда оставался чужд, удовлетворяя лишь своей личной страсти, король издает указ сенешалям. Он запрещает им заключать в тюрьму тех, кто не заведомый ереик, предписывает вести дело осмотрительно, а в случае настояний инквизиторов, предъявлять им королевский приказ (51).
Но поневоле отлученный Каркассон должен был смириться перед Аббевилем, и через два года страшный «брат» простил его. Обязав горожан выстроить в знак раскаяния капеллу в монастыре, а двенадцать городских сановников осудив на епитимью, он снова стал поступать как террорист. Казни и конфискации пошли своим чередом.
В Тулузе действовал столь же жестокий инквизитор Фулькон де Сен-Жорж, а в Альби по-прежнему — епископ Кастанет, в качестве «наместника инквизитора». В сообществе двух доминиканцев епископ устроил чисто домашний суд, сажал в тюрьму самых зажиточных и уважаемых людей. Его дворцу и жизни не раз угрожала опасность. Так как частные просьбы и восстания не удавались, то три общины собрались подать коллективную просьбу и получили уверение в поддержке от многих епископов, баронов и даже самой администрации; они воспользовались прибытием в Лангедок королевских комиссаров, или «реформаторов», как они были названы официально.
Это было в августе 1301 года. Прибывшие сановники, в честность которых на Юге верили, были амьенский викарий Жан де Пекиньи и архидиакон Ричард Леневё. Они должны были исследовать дело епископа памьерского и при этом осмотреть провинции, узнать желания народа, обнадежить подданных королевской милостью. Едва только они прибыли в Тулузу, как представители Каркассона, Альби, Кастра, Кордеса и Лимукса осадили их жалобами на инквизицию. Все они прямо называли инквизиторов тиранами. Видно было, что чаша страданий переполнилась. Вместе с депутатами от общин к викарию прибыли в большом числе матери и жены жертв инквизиции. Лишенные куска хлеба преследованиями, доведенные до нищеты алчными монахами, они поведали викарию о мучениях голодом и пытках, которым подвергаются их ближние в недоступных тюрьмах инквизиции. Устроено было так, чтобы общими силами произвести на комиссаров сильное впечатление и побудить их употребить власть именем короля против тех, кто был страшнее самого правительства. Душой этого заговора, прекрасно подготовленного, является молодой францисканский монах — Бернар Сладостный.
На личности этого замечательного человека, связанного со всеми интересными для нас событиями в Лангедоке, мы должны остановиться особо.
Бернар был родом из Монпелье. По зову сердца он в 1284 году пошел в францисканцы. Жизнь его протекла в странствиях; он имел страсть к проповеди и, путешествуя по Франции и Италии, составил себе громкое имя сладостью и увлекательностью речи. Он далеко не был фанатиком — его образование не допускало того. Теплая дружба, которую он свел в Милане с Раймондом Лулли-ем и с врачом Вилланова, из которых один считался еретиком, а другой кудесником, всегда компрометировала его. В нем было много самых светлых сторон провансальского духа. Он отличался сильной энергией характера, верностью своим убеждениям, за которые не раз жертвовал жизнью. Порабощение родины вызывало слезы на его глазах, а свирепость инквизиторов приводила его в негодование, которым он делился со всеми.
Потому Николай Аббевиль имел с ним частые столкновения и понимал, что в нем встретил врага более опасного и непримиримого, чем все жертвы, сидевшие в доминиканских темницах. Когда инквизитор потребовал у Бернара выдачи трупа гражданина Кастельфабра, похороненного в монастыре и подозреваемого в ереси, то получил решительный отказ, так как память Кастельфабра не заслуживала осуждения и незаконно нарушать сон покойника. В ответ на настояния трибунала Бернар написал протест в защиту Кастельфабра, называл процесс незаконным, лживым и противным папским постановлениям; не ограничившись тем, он прочитал его среди белого дня в Каркассоне и прибил к дверям трибунала.
Авторитет инквизиции был решительно подорван этим актом даже в глазах самых преданных католиков. Францисканцы в борьбе со своими противниками взывают к общественному мнению. С тех пор вся страна смотрела на Бернара как на будущего своего спасителя от инквизиции.
Лишь только королевские комиссары прибыли в Тулузу, Бернар поспешил к ним и постарался не оставлять их. Он сблизился с ними; в нем они видели ум, основательное знание страны, наконец, сан и рясу, которая ручалась за его правоверие. Он явился ходатаем за все жертвы инквизиции и представил викарию целый список преступлений и насилий, совершенных одним Фульконом.
«Такая инквизиция, — говорил он, — способна не унич-тожить, а распространить ересь; даже духовенство ропщет на жестокости, но все наши увещания бессильны. Теперь даже вовсе нет надобности в инквизиции, но пока без короля нельзя ничего сделать, а успеха в свержении ее ждать трудно, потому что духовным отцом у него является доминиканец».
Викарий склонился к жалобам и воплям, которые доходили до него отовсюду, и велел каркассонцам подать обстоятельную жалобу на Аббевиля; ее он отдал разобрать Бернару.
Между тем наступал срок отъезда комиссаров из Лангедока. Они обещали передать обо всем королю. Значительнейшие граждане от общин по наущению Бернара просили и получили позволение ехать к королю в качестве жалобщиков. Бернар вызвался быть во главе их. Кар-кассон отправил Илью Патриса, который действительно был «маленьким царем» города, чего совершенно заслуживал своими умственными и нравственными качествами. Он был необычайно смел, деятелен и энергичен. От Альби поехало трое: консул Франса, магистр Гарсиа и Кастанет, родственник и заклятый враг епископа; от Кастра — Проби, родня которого сидела в тюрьме. Альбийские консулы также снарядили в Париж одну женщину, пострадавшую от Фулькона, — ей дали десять ливров на дорогу и коня.
Но инквизиторы, зная, что делается у их врагов, также приняли меры и отправили к королю свою депутацию с тулузским инквизитором Фульконом во главе. Они надеялись, что противники уйдут с позором, и много рассчитывали на королевского капеллана и своих придворных друзей. Но они слишком мало ценили Бернара, на котором лежало все дело. В Париже он завел обширные знакомства, двери его кельи не закрывались.
Подготовленный викарием, король скоро дал провансальцам аудиенцию. Бернар говорил за всех. В ярких красках он представил пред Филиппом IV всю жестокость трибуналов, алчность судей к чужому имуществу, их грабительство среди белого дня по судебным формам, осуждение при помощи подставных свидетелей и пытки. Далее Бернар доказывал полнейшую бесполезность инквизиторов в настоящее время. Если они уничтожили ересь, значит, они не нужны; если же нет, то, значит, неспособны продолжать дело. Это показывает, что следует изменить систему, отказаться от жестокостей с заточениями, от самовластия, которое вопиет к Богу, — а доминиканцы никогда не в состоянии отрешиться от своих привычек. В Риме также согласятся на изменение старой системы, потому что папа завален жалобами на беззакония его судей.
— А если бы его Святейшество отказался от этого, — продолжал Бернар, — то король так силен, что может привести в исполнение свою волю и закрыть на некоторое время трибуналы или по крайней мере передать их в другие руки.
В это время растворились двери приемной залы, и показались белые рясы доминиканцев; впереди выступал придворный капеллан, за ним шли инквизиторы тулузские, каркассонские и памьерские. Они хотели оправдываться, но Филипп IV замахал рукой и подал им знак удалиться.
— Этот честный человек говорит правду, — сказал он, обращаясь в окружающим. — Якобинцы каждый день надоедают мне своими россказнями и сновидениями, они думают прикрыть баснями свои измены.
Напрасно доминиканцы употребляли все свое искусство и влияние; инквизиторы не смогли оправдаться. По совету Бернара король велел сместить Аббевиля и Фулькона, а на Кастанета наложил пеню в две тысячи ливров. Свою волю он изложил в грамоте к епископу тулузскому, бывшему тогда в Париже.
«Его обязанностью, — писал он про Фулькона, — было искоренять заблуждения и пороки, а он только более распространял их. Под покровом дозволенной кары он осмеливался делать вещи совершенно недозволенные. Под видом благочестия он делал бесчестные и бесчеловечные поступки. Под предлогом защиты католической веры он совершал ужасные и гнусные злодеяния».
Вместе с сим король 7 декабря 1301 года формально запрещал лангедокским инквизиторам сажать в тюрьмы кого бы то ни было без разрешения сенешалей и без согласия местного епископа. В случае разногласия их с трибуналом требовалось вмешательство особой комиссии из доминиканских приора и лектора. Король запретил своим чиновникам повиноваться инквизиторам, если они требуют незаконного.
«Мы не хотим, — писал Филипп IV, — чтобы жизнь и смерть наших подданных зависела от произвола и фантазии одного человека, может быть, невежественного и руководимого одной слепой страстью» (52).
Все это было сделано по желанию Бернара. Но инквизиторы дорого хотели продать свои права. Они решились вступить в борьбу с королем, хотя обстоятельства были крайне неблагоприятны для них. На улице Сен-Жак собрались парижские и приезжие доминиканцы. Через ту-лузского епископа они ответили королю, что находят полезным оставить Фулькона в его должности и что советуют королю согласиться на это.
Взбешенный Филипп IV отвечал, что он не спрашивает их советов, а приказывает повиноваться.
«Нам кажется, — писал он, — что братия ищет случая оскорбить нас и угнетать народ, а вовсе не преследовать пользы Церкви и не наказания преступлений. Согласиться на продолжение службы Фулькона — значит делать несправедливость за несправедливостью и нисколько не думать о тяжелых опасностях, об общественном позоре, которое оно навлекает в будущем. Кто смеет подумать, чтобы провинциал ордена с его монахами в наши дни имел дерзость, вопреки нашей воле, требованию целого народа, удержать человека столь гнусного, обремененного таким бесчестием, столькими преступлениями» (53).
Но доминиканцы, верные себе, не уступали. Пришлось прибегнуть к силе. Король приказал сенешалям тулузскому, каркассонскому и аженскому приставить свою стражу к тюрьмам инквизиции, не допускать заседаний трибунала и прекратить субсидии. Народ вздохнул свободнее, хотя ненадолго, и где мог спешил выразить свою ненависть притеснителям.
В Альби доминиканцам не стало прохода. Во время одной процессии пришлось выслушать угрозы от народа; они не раз опасались за жизнь. Консулы, со своей стороны, также старались оскорбить их. Инквизиторы поставили на ближайших городских воротах статую Святого Доминика[62]. Власти сняли ее.
Уступая королевским настояниям, провинциал доминиканцев назначил вместо Фулькона Морерия, приора из Альби, а смещенному дал повышение. Король был удовлетворен, но снова начались старые сцены насилия; они происходили везде.
Новые законы при старых исполнителях были недейственны.
В Альби разом казнили двадцать пять католиков, как отступников54. Готфрид Аблузий сменил в Каркассоне Аббевиля, но принес ту же тиранию на всю обширную территорию.
К Бернару и викарию, которые прибыли в Каркассон, опять потянулись плачущие жены и родственники заточенных. Бернар мог помочь им только одними утешениями. Во множестве они теснились вокруг него и просили защиты, так как больше не чаяли ее ни от кого. Напрасно он думал остановить палачей увещаниями. Он стал проповедовать в монастыре миноритов и громил инквизицию. Весь город спешил услышать его. Он стал своего рода трибуном Каркассона, и тогда-то в нем родилась патриотическая мысль поднять народ в одно время и против инквизиции, и против французской власти, которая оказалась такой ничтожной сравнительно с тиранией трибунала.
— Когда Иисус приближался к Иерусалиму, то, увидев его, заплакал,— начал он одну из своих проповедей. Помолчав немного и окинув долгим взором слушающих, продолжал: — Так плачу я над вами, каркассонцы, я, посланный к вам Иисусом уже несколько лет, чтобы оберегать честь вашу и защищать от клеветы изменников, облеченных в рясы проповедников.
И он начал говорить о преступлениях и жестокостях инквизиторов.
— А что мы станем делать в ответ им? Братия, на это я вам расскажу притчу о баранах, когда эти животные еще умели говорить. Их было большое стадо, они паслись привольно в пышных и зеленых лугах, около холодных, прозрачных ключей. Каждое утро повадились их навещать из соседнего города два палача, которые таскали то по одному, то по два барана, выбирая по преимуществу тучных. Видя, что число их каждый день уменьшается, бараны стали совещаться между собою. «Эти палачи будут продавать наши шкуры и есть наше мясо, а у нас нет ни покровителя, ни защитника, который бы защитил нас, но разве у нас нет на лбу рогов? Кинемся на них дружно, пустим в работу наши рога и прогоним кровопийц с поля — только тем мы и спасемся». Что вы думаете об этом? Я растолкую вам. Бараны — это вы, жители Каркассона; прекрасные луга — это римско-католическая вера, которая дышит вечной святостью и которая орошается ручьями счастья духовного и мирского. Тучные бараны — это богатые граждане Каркассона, которых убивают палачи, чтобы воспользоваться их достоянием. Разве это не тучная жертва, человек столь значительный, как господин Кастель, которого изменники доминиканцы обвинили в ереси? А мессир Горрик, он также не еретик ли, потому только, что от него хороша пожива? А Брунет, а Казильбак и множество других замурованных в тюрьмах, ограбленных и лишенных всего, потому что не нашлось никого, кто бы защитил их от палачей? (55)
При этих словах в церкви пробежал из уст в уста сдержанный вопль ненависти к инквизиторам, грозивший бурей. Окончание проповеди Бернара и его воззвание к мужеству жителей довершило впечатление. Буря разразилась.
Взволнованные каркассонцы прямо из церкви бросились на дома тех консулов, которые были в дружбе с инквизицией, и разрушили их. «Но что делать дальше?» — спросили они себя и остановились.
Бернар сам не ожидал мятежа, не приготовился к нему и вовремя сдержал его. Он чувствовал себя плохим трибуном для народных движений. Он удалился в Альби в ожидании прибытия викария, всегда стоявшего на его стороне, но и там не переставал возбуждать недовольство народа против инквизиции.
Когда в Каркассоне узнали, что викарий Пекиньи возвращается, постарались устроить ему радушный прием. С ним были Бернар и архидиакон. В воротах кроме властей его встретила толпа женщин и детей. В то время, как одни приветствовали викария, другие окружили его и остановили коня.
— Милосердия, милосердия, во имя Господа, защити нас от изменников! — кричали они.
Чем далее ехал он по улицам, тем громче раздавались мольбы и стоны, заглушая крики радости. Вдруг заметили в его свите адвоката, Гальярда, члена трибунала. Толпа черни кинулась на него, стащила с коня и готовилась растерзать, если бы не заступничество викария. Подъехали к францисканскому монастырю; здесь правителей ждали депутаты из Альби и других городов. Высказав викарию всю истину про инквизицию, они требовали вмешательства королевского правительства и освобождения заточенных.
Викарий не мог обещать первого, так как того не допускали прямые законы, но относительно второго промолчал, предоставляя вывести отсюда заключение. В другом собрании городских выборных он слышал то же самое: народ сам распорядится с инквизиторами и не посмотрит на запрещение. Власти не могли допустить в городе беспорядка и медлили.
Однажды толпа женщин из Альби, предводимая Бернаром, остановила викария на улице; с воплями рассказывали несчастные, что их мужья похоронены заживо в каркассонских темницах, что уже несколько лет ничего не известно об их участи. Они просили только взглянуть на них. Викарий обещал разобрать дело, но Бернар уже принял свои меры. Все враги инквизиции сходились к нему в церковь с самым разнообразным оружием: долотами, ломами; они готовились разрушить инквизиционные тюрьмы. Таких охотников набралось человек восемьдесят. Между ними были самые зажиточные люди, родовые члены капитула. Бернар их не удерживал, а поощрял. Вдруг явился викарий. Не сознавая себя в силах подавить волнение и разделяя в душе чувства мятежников, он решился стать во главе этих людей, чтобы по крайней мере управлять ими и отстранить тем политическое движение. Он пошел вперед их, по направлению к доминиканскому монастырю.
Там, если не могли защититься, то решились протестовать. Доминиканец Блуман стоял у окна тюрьмы, как бы желая загородить своим телом достояние и честь ордена. Викарий приказывал отворить ворота и грозил иначе разломать их.
— Остановитесь, — кричал Блуман, — не оскорбляйте святыни! Здесь кончается власть короля!
Над ним смеялись. Сломали ворота и вошли во двор. Но в двери самой темницы было трудно проникнуть. Горожане усердно работали ломами. Викарий, хотя и был духовным лицом, поощрял их. Тогда Блуман протянул ему из окна бумагу, в которой содержался протест против дерзкого насилия. С протестом в руках викарий, со-путствуемый Бернаром, Гарсиа, Проби, главными агитаторами волнения, спустился в темницы. Они спросили факелов, так как ничего не было видно, кроме черных нависших стен подземелья; следом ворвалась толпа народу — каждый искал своих родных и друзей. Двойные двери летели с петель. Освободители не упускали из виду ни одной темницы, в которых были погребены заживо жертвы. Главные казематы, в которых сидели осужденные, были расположены под землей; свет не проникал в них, они были заражены скоплением нечистот и извержений; вторая дверь, которая вела в эту темную берлогу, никогда не отворялась; пища подавалась через отверстие, проделанное в этой двери из первой, выходившей в коридоры. Толщина стены была пять футов. По обеим сторонам коридора тянулись эти страшные темницы.
Такое заточение стоило всякой казни, было даже ужаснее ее; оттого на него милостиво обрекали самых заклятых альбигойцев, оставляя им жизнь, от которой они бы восторженно отказались. Когда замурованных вытащили на свет, то они окончательно обессилели — это были живые трупы, грязные и ужасные в своих лохмотьях. Их хотели нести по домам, но викарий приказал отправить всех в государственную тюрьму, которая после инквизиторских гробниц показалась раем.
Трибунал собрался на другой день после такого небывалого разгрома. Неужели уступят буйной толпе и их вождю-отступнику люди, которые сжились со своей властью и считали святотатством всякое покушение на нее? Готфрид, главный инквизитор, произнес торжественное церковное проклятие над викарием и всеми участвовавшими в злодействе (56). Он известил о нем по всей стране, а капитул написал обо всем папе.
Викарий апеллировал в Рим и донес королю, прося заступничества. Общины, для которых так много сделал Пекиньи, со своей стороны отправили жалобу к папе на бесчеловечные поступки инквизиции, вынудившие народ к насилию. Извиняясь, они прославляли викария как благочестивого человека и благородного правителя, цветущего добродетелью и справедливостью.
Так как при римском дворе без денег нельзя было сделать ничего, то по предложению Бернара вместе с жалобой было послано три тысячи ливров; из них полторы тысячи дал Каркассон, тысячу — Альби и полтысячи — Кордес. На такое благородное дело всякий без исключения готов был жертвовать, сколько потребуют. В то же время деятельный Бернар, не зная, как взглянет на все дело Филипп IV, заискивал при королевском дворе.
Разносится слух, что викария уволят. Это было бы ударом для всех надежд. Но как противодействовать? Вспоминают, что у королевы духовник — францисканец, а это было находкой при нынешних обстоятельствах. Через него королеве было подано письмо от граждан Альби, сочиненное, вероятно, Бернаром:
«Против викария и архидиакона известные люди строят низкие козни, их хотят обесчестить и внушают королю лживые наветы на них. Куда нам обратиться за помощью, если не к вашему обычному милосердию? Все просим вас единодушно, мужи и жены, старцы и дети, люди всех возрастов, все взываем к вам, последнему сильному прибежищу наших надежд с мольбой о ходатайстве пред королем, чтобы он сохранил нам этих достойных его представителей».
Пекиньи следовало ехать в Париж. Викария решились не выдавать и крепко за него стоять. Бернар и прежняя депутация из граждан сопровождали его, чтобы защитить пред королем. На этот раз было много и новых лиц; это живые улики, жены, отцы и братья заточенных, слезы которых сделались причиной волнения. Королева была тронута рассказом этих людей; король сохранил всегдашнее спокойствие. Так как с другой стороны ему надоедали доминиканцы и неотвязный духовник, то он изъявил желание лично посетить свой Лангедок со всем семейством и убедиться на месте в положении дел.
Бернар и в Каркассоне, и в Альби внушил, как надо встретить царственное семейство. В церквах он начал было утешать народ, что настал последний день инквизиции, но он жестоко ошибся в своем восторге. Впрочем, чтобы лучше подействовать на правительсгво, он организует лигу и собирает деньги. Выборные от народа научены идти навстречу королю и слезами внушить сострадание. В Каркассоне, на старом бенедиктинском кладбище, ночью, он созвал горожан и убеждал их примкнуть к лиге.
— Нечего бояться, будьте смелее. Что сделает инквизиция? Отлучит? Но разве это так страшно? Про меня же они говорят, что я антихрист, но пусть верят тому; над этим только можно смеяться. Викарий отлучен, но он не боится, потому что инквизиторские отлучения уже двадцать лет ничего не значат.
Так говорил Бернар, возбуждая граждан своими словами. Но он слишком надеялся на короля, он не понимал, что Филипп IV ищет везде выгоды своей короны, что для него усиление личного могущества важнее тех или других принципов.
В день Рождества 1303 года король прибыл в Тулузу с женой и детьми. Его сопровождал, между прочим, знаменитый Гильом Ногарэ, доктор права, из легистов ставший рыцарем, который прославился на всю Европу, кроме своей преданности королю, еще тем, что избил папу Бонифация VIII. Когда Филипп IV, приветствовав консулов, въехал в город, то прежде всего он услышал крики:
— Справедливости, справедливости!
Громадная толпа заступила путь королю.
В день приезда он выслушал жалобы на инквизицию. Первым хотел говорить его же представитель, викарий; но едва он начал, как один из придворных доминиканцев отстранил его, как отлученного. Тогда стали говорить депутаты. Проби рассказал, как недавно альбийский епископ посадил в тюрьму тридцать честных и зажиточных граждан, лукаво обвиняя их в ереси, к которой они ничем не причастны (57).
Арнольд Гарсиа, другой депутат от Альби, рассказывал о пытках, которым подвергаются жертвы трибунала, и прибавил, что короля долго обманывали на этот счет и клеветали на народ.
— Господин Арнольд, — перебил его Бернар, — скажите, кто говорил так, назовите клеветника! Скажите его величеству, что это брат Николай, его духовник. Прибавьте, — продолжал он, — что государь не должен верить изменнику, который передает фламандцам все, что говорят о них в Совете.
Гарсиа повторил это и продолжал среди общего смущения рассказывать про злоупотребления инквизиции. Он просил у короля решительных мер. За ним говорил судья из Альби, Гальярд Этьен, о Фульконе, об его насилиях, роскошной и развратной жизни, затем, теми же красками описав его товарищей, высказал удивление, как мог народ по сие время выносить такое иго.
Король обещал принять к сведению все дело и произнести свое решение после личного посещения Альби. Через несколько дней он потребовал к себе Бернара. Он был недоволен им, как агитатором, и, может быть, даже поставил под сомнение его верность своему правительству. Но францисканец не устрашился. Его допрашивали в присутствии королевского совета. Он сообщил королю новые факты, отстраняя и себя, и провансальцев от его подозрений.
— Они верные подданные и прекрасные католики. Недавно уверял короля сам провинциал доминиканцев, что еретиков нынче на всем Юге сорок или пятьдесят человек и что страна спокойна. Стоит ли для такого ничтожного числа поддерживать инквизицию и напускать на всех страх? Но и это неправда — теперь во всем Альбижуа нет ни одного еретика. Для трибунала все еретики, его нельзя насытить. Если в настоящее время к ним привести апостолов Петра и Павла, то и этим святым трудно бы было оправдаться в ереси (58).
Но король уже принял меры против злоупотреблений, сказали Бернару в Совете в ответ на его представления, люди, ненавистные народу, такие как Фулькон, Аббевиль, Галандий, удалены из трибуналов.
Но монах продолжал твердить свое:
— Вы слышите, плач и стоны еще не умолкли. Значит ли это, что королевский Совет, при всем своем благоразумии, нашел средства к исцелению зла?
Филипп IV не обратил на эти слова внимания. Он не мог уничтожить учреждение, которое служило для него источником могущества и обогащения. Указом из Тулузы 13 января 1304 года он объявил, что трибуналы должны действовать на всем пространстве его владений для пользы веры и что судить их злоупотребления — дело папы, которому сообщено обо всем. Известно, что через год он еще усилил меры строгости против еретиков. Инквизиция была упрочена безусловно, подозреваемым в ереси возбранялось занимать общественные должности, а всякие заговоры и лиги против инквизиторов строго запрещены, как преступные.
К этому побудило его впечатление, вынесенное из путешествия по Лангедоку. Его деспотическую натуру крайне раздражили протесты и решительные выражения неудовольствия, которые сопровождали его повсюду. Они укрепили его в мысли, что уничтожить инквизицию — значит снять последнюю узду с провансальцев и пробудить в них старый дух. В Каркассоне, например, его по началу встретили радушно: жители украсили флагами свои дома и готовили праздник. Но когда известный патриот, Илья Патрис, обратил внимание короля на жестокое обращение трибунала с этим городом, то получил в ответ от Филиппа приказание удалиться и впредь не показываться на глаза за дерзкую назойливость. Тогда Илья поскакал по улицам города, везде просил снимать флаги и распорядился об отмене праздника, так как прибытие короля — день печали.
Король, в свою очередь, не принял дара, предложенного городом; и когда узнал, что королева не отказалась взять две урны, наполненные серебром, то велел ей возвратить подарок бунтовщиков.
В Безьере Бернар в присутствии Гарсиа и Патриса имел объяснение с Ногарэ, всесильным при королевском дворе. Тут он узнал, что бесполезно ожидать внимания правительства к жертвам инквизиции. Ногарэ отказал ему наотрез:
— Королю теперь не время думать об этом — у нас на руках дела поважнее. Наши отношения с римской курией весьма щекотливы. А новый папа Бенедикт XII сам из доминиканцев, он питает благоговение к своему ордену и никогда не коснется его привилегий, не осудит ни одного из своих. Ждите более благоприятных обстоятельств (59).
Ногарэ, конечно, не имел никакого пристрастия ни к папству, ни к инквизиции, он поклонялся одному королю, и следовало послушаться его совета, совета человека, опытного в политических делах. Но Бернар и его друзья были нетерпеливы:
— Папа предает нас палачам, король забыл про нас. На что нам надеяться? — спрашивали они друг друга с отчаянием.
— На Провидение, — отвечал им Бернар.
Скоро ему представился повод утешить себя мыслью, что Провидение действительно печется о стране. Вместе с друзьями народного дела он сопутствовал королю в Мон-пелье и Ниме. В последнем городе патриотам довелось столкнуться с принцем Фернандом, одним из сыновей арагонского короля Иакова, который с детьми приехал видеться с Филиппом, своим сюзереном по Монпелье.
Дону Фернанду было едва двадцать пять лет; при всем легкомыслии он был честолюбив и любил прихвастнуть. Не надеясь получить корону Арагона, он мечтал о приличном домене; этой слабостью страдало большинство молодых рыцарей. Он знал, что Лангедок не может быть доволен французским владычеством, что провансальцы хранят старинные симпатии к своим запиренейским соседям, с которыми имеют много общего и в нравах, и в обычаях, и в языке, и в преданиях прошлого. Он очень обрадовался, когда проведал о тех неудовольствиях, какие возникли в Лангедоке по поводу инквизиции. Ему известны были также влияние и популярность Бернара. Он увидел его в королевском дворце в Ниме, познакомился, разговорился и довольно ясно дал заметить, что сделал бы то, от чего отказывается Филипп.
Бернар встрепенулся при этих словах, в нем мгновенно пробудился ряд мыслей; воображение его вдруг разыгралось и нарисовало радостные картины, но он сумел сдержать себя, притворившись, что не понимает намека принца. Он просил Фернанда пожаловать завтра в келью, где будут почтенные люди, с которыми ему будет приятно побеседовать.
Фернанд застал Илью Патриса и Вильгельма Сен-Мартена, консулов Каркассона, в келье минорита. Здесь созрел заговор, которому не суждено было принести плодов и который остался последней попыткой немногих патриотов сохранить погибшую национальность Прованса, но который стоил им всем свободы и жизни. Молодой принц согласился на все условия, а консулы обещали склонить на свою сторону всех товарищей и впоследствии образовать лигу городов, центром коей будет Каркассон. Весь заговор будет храниться втайне. Бернар будет сообщать принцу о ходе дела.
Патрис повел свое предприятие со всею энергией. При первом свидании с Гарсиа и Проби, синдиками и агитаторами Альби, он сообщил им об обещаниях дона Фернанда. В ответ последовало живое заявление восторга. Южане легко поддавались всяким упованиям, как бы они ни были призрачны. Они не думали о том, что будущий государь их бессилен, как ребенок, что он не имеет никакого значения даже в своей стране, что он во всем зависит от отца и что он ничем не показал еще ни своих способностей, ни своего характера. Но как действовать? Отец Гарсиа говорил, что для освобождения от врагов можно прибегнуть ко всяким средствам, призывать к помощи Божьей или дьявола. Отец Бернар не одобрял только последнего, впрочем, согласился идти во всем за отважным Патрисом, уступая ему в этом деле первую роль. Это и было одной из причин того, что заговор не удался в самом начале.
Патрис своей горячностью испортил дело, которое и без того было слишком непрочно. Ему недоставало осторожности и сдержанности своего друга. В каркассонской ратуше он говорил людям, не подготовленным к делу, в присутствии пятнадцати горожан речи против французского правительства. Его замысел вначале показался слишком смелым. В то же время Бернар со своей трибуны говорил публично, что если папа не согласится на требования викария и его ходатаев, то в стране найдутся мученики, готовые постоять за дело правды. А однажды, проповедуя у себя в церкви, решился заявить, что король не исполняет своих отеческих обязанностей по отношению к народу.
Между тем в Альби заговор не прививался. Только три консула согласились с Гарсиа, остальные не одобряли его замыслов. О лиге нельзя было и думать. Ее можно было создать примером решительного, скорого восстания. Для этого нужен был смелый вождь. Дону Фернанду следовало не медлить и встать во главе восстания. Бернар вызвался переговорить с ним об этом и отвезти грамоту от каркас-сонских консулов.
Сопровождаемый одним молодым миноритом, он в самое ненастное время года, подвергаясь постоянным опасностям, отправился по снежным тропинкам Пиренейских гор в замок Пла-де-Корс, где тогда проживал арагонский двор. Подъезжая в замку, Бернар, раздумав подавать принцу грамоту, которая могла бы впоследствии послужить уликой, сошел с коня, пробрался в лесную трущобу, разорвал на мелкие куски это опасное для него послание и остатки раскидал по земле (60). Он не решился остановиться во дворце, хотя имел на то право, а, чтобы отстранить подозрение, заехал к капеллану и через него получил аудиенцию у принца. Он сказал Фернанду, что Каркассон готов присягнуть ему, если принц в силах прогнать французов из страны.
С детским самохвальством дон Фернанд, не спросив ни о средствах защитников, ни о настроении страны, ни о силах неприятеля, объявил свое согласие на этот легкий, по его мнению, подвиг. Бернар тут же понял, с каким человеком имеет дело, он в душе не мог не рассмеяться над своей доверчивостью и влечением своих товарищей, он уже собирался в обратный путь, но получил от короля приглашение немедленно явиться к нему.
Иаков проведал о прибытии францисканца и о его тайных переговорах с сыном. Он не мог не заподозрить этих сношений, зная про ссору Бернара с инквизицией, которая в его глазах была святейшим учреждением. На вопросы короля, какова цель его приезда и о чем он говорил с принцем, Бернар молчал. Не получив от него никакого ответа, король велел ему дожидаться, а сам отправился к сыну. Этот разболтал, как было дело, и в вознаграждение получил от патриархального родителя такое внушительное наставление, что выбежал из комнаты с раскрасневшимся лицом и с взъерошенными волосами. Бернару было велено через канцлера немедленно удалиться из арагонских владений. Довольный тем, что его отпустили живого, он скакал без оглядки в Каркассон.
Этим закончились все сношения заговорщиков с Фернандом. О продолжении их нельзя было и думать, а дело между тем разгласилось. Бернар хорошо понимал, что его похождения известны и правительству, и инквизиции. Потому, когда его товарищи пали духом и старались забыть произошедшее, он искал своей гибели. Не стесняясь в выражениях, он с прежней силой гремит против доминиканцев с церковной трибуны. 3 мая 1304 года он решился взойти для этого даже на кафедру тулузского собора Святого Са-турнина.
Столица Юга в начале XIV столетия была вполне католической, она привыкла к французской администрации и к доминиканской полиции. Потому проповедь минорита там могла встретить лишь слабое сочувствие. Заметив непривычное для него равнодушие и даже изумление на лицах слушателей, Бернар прервал свою речь, окинул негодующим взором собрание и заявил:
— Я вам многое хотел сказать, но между вами я вижу шпионов, которые готовы, может быть, схватить меня.
Он отряхнул прах от ног своих и ушел из Тулузы. В Альби его не ждали, ходили слухи, что он повешен на той самой веревке, которая дорогой служила ему поясом.
— Вот я пред вами, — сказал он альбийцам, живой и невредимый, — по-прежнему всегда готовый свидетельствовать против вашего епископа и против ваших инквизиторов, всегда готовый доказывать, что они несправедливо заточают ваших сограждан в тюрьмы. Не бойтесь, я не оставлю вас, друзья мои, я не убегу от вас и готов самую мою жизнь отдать на службу вашему делу, я не отрекусь от вас даже тогда, когда меня потребует папа на суд, как всегдашнего противника ваших преступных преследователей. Я жду этого... Наши общие враги сказали вам, что я воспользовался вашими деньгами. Отчасти это правда — своего я ничего не имею, я путешествовал на ваш счет. Но ради вашего дела, я все, что имел, распродал, даже свои последние книги. Говорят, что я требовал от вас большие жертвы. Так! Теперь я буду просить у вас еще большей: я вас прошу оставить ваши ремесла, ваши лавки, ваши дела, идти на все четыре стороны и везде кричать как можно громче против гнусных людей, которые остервенились против вашей страны.
Ожидание Бернара сбылось скорее, чем он предполагал. В то время, как он говорил эти слова, уже состоялось повеление об его аресте. Бенедикт XI по настоянию доминиканцев подписал в Витербо, 15 апреля 1304 года буллу на имя провинциала аквитанских миноритов, в которой приказывал взять и представить Бернара на суд папской курии за сопротивление инквизиции, за возбуждение народа к восстанию против королевской и духовной власти (61). Если бы преступник ослушался, то велено тайно схватить его и привести под надежною стражей. Об этом пришли слухи раньше, чем в Альби было поручено формальное предписание.
Бернар мог бы легко спастись, но он не хотел бежать. Он желал в последний раз побеседовать с своей паствой. Он сказал, что пришел его час, и просил тех, кто любит его, молиться за него и за папу, чтобы Бог склонил первосвященника к правому суду. Народ перед монастырем толпился целый день, как бы желая защитить собой своего заступника. Духовные власти не знали, что делать. На следующий день были те же волнения; горожане по очереди сторожили Бернара от всяких покушений на его свободу. Это внушило отважному францисканцу мысль о сопротивлении, о котором он прежде и не думал. Однажды, когда спустя месяц викарий провинциала вошел в его келью и приказал ему следовать за собой, Бернар отвел его руку и решительно сказал, что он не пойдет. Викарий мог только произнести над ним отлучение, на которое Бернар не обратил никакого внимания. На его счастье, через несколько дней было получено известие, что Бенедикт XI, который намеревался быть его судьей, скончался в Перудже.
Бернар ликовал. В церкви среди большого стечения народа он известил о смерти папы как о великой радости. С замечательной смелостью, играя остротами и шутками, он говорил о покойнике, заявляя надежду, что вместо доминиканца сядет другой папа, более справедливый (62). Вскоре узнали о вступлении на папский престол Климента V, креатуры французского короля.
Бернар теперь окончательно не предвидел для себя никакой опасности и только скорбел об одном, что его старый покровитель и друг, викарий Пекиньи, скончался вслед за папой. Так как, по слухам, он умер без причастия, то францисканцы отслужили по нему заупокойную обедню, к новой досаде доминиканцев.
Но если Бернар легко отделался от одной беды, то трудно было предотвратить новую грозу. Филипп IV из письма Иакова Арагонского узнал об интригах патриотов и о похождениях Бернара за Пиренеями. В первое время он так был поражен этим, что не хотел верить. Он привык считать свой Юг довольным и счастливым. Он долго совещался со своими приближенными, что делать с преступниками, а между тем сенешаль арестовал Патриса и воспретил Бернару пребывание в Каркассоне. Вместо того чтобы скрыться, Бернар стал уговаривать консулов Альби и Кордеса послать депутацию к королю просить о прощении и сам поехал в Париж.
Король, конечно, вместо того чтобы принять просителей, велел задержать их, а о Бернаре написал к папе Клименту V, предлагая взять и судить дерзкого францисканца, как преступника против божеской и королевской власти. Папа был недалеко и с удовольствием исполнил эту просьбу, так как с давнего времени Бернара считали соучастником кружка так называемых «лжеапостолов», который распространился тогда в францисканском ордене.
Бернар был арестован в парижском монастыре миноритов, монахам не велено было оставлять его одного. Скоро его повезли в Лион, где папа сбирался короноваться, а оттуда возили, как арестанта, следом за папским двором, по разным городам Лангедока, не назначая никакого суда.
Вдруг 25 ноября 1307 года в Пуатье с согласия короля Бернар получил свободу и позволение возвратиться в Каркассон, но уже без звания лектора. Папа был равнодушен к борьбе орденов и беспристрастно смотрел до времени и на тех, и на других. Король спустя три года успокоился.
Не такова была участь друзей Бернара. Некоторые, и притом главные, агитаторы успели спастись благодаря своим богатствам, такие, как Проби, Гарсиа, Франса, и вернулись, когда гнев короля утих. Другие были схвачены. Следствие тянулось не больше месяца. Илья Патрис и с ним четырнадцать каркассонцев были повешены. Через два месяца повесили еще сорок человек из Лимукса, знавших о заговоре. Сенешалю Жану д'Онэ был предоставлен полный произвол; одинаково с участниками он вешал людей ни в чем не виновных. Кто был побогаче, легко мог откупиться.
Когда д'Оне собрался ехать в Альби, чтобы продолжать следствие — хотя король был вполне доволен поведением этого города, — то консулы, чтобы отвратить неприятное посещение, предложили ему пятьсот ливров, обещая позже прибавить столько же. Но сенешаль отвечал, что правосудие не полагается на обещание, и потребовал через пять дней доставить ему всю тысячу ливров. Его требование было исполнено.
Так кончилась эта последняя, отважная, но легкомысленная попытка освободиться от французского владычества.
Бернар был на свободе, но он не отказался от своего дела. Руководимый идеальными устремлениями, он сознавал, что борьба с насилием, в чем бы оно ни проявлялось, есть его назначение. Он искал новых опасностей, потому что не мог выносить, как тирания монахов, которая временно утихла над его родиной, воскресла снова, лишь только Климент V принял сторону доминиканцев. Мы застанем его скоро опять среди самой порывистой деятельности, с той только разницей, что он теперь разорвал всякие связи с окружающей его духовной кастой и, следуя влечению своего открытого характера, явно стал на сторону оппозиции, которая сформировалась тогда против римского двора в среде францисканцев, вообще питавших нерасположение к своим соперникам доминиканцам.
Эта коллизия введет нас в новый аспект истории инквизиции, для уяснения которого необходимо оглянуться немного назад.
Распад францисканского ордена
Напрасно думать, что возмутительная жестокость инквизиторов когда-либо достигала цели и ослабляла ересь.
Напротив, в таких случаях она встречала более и более материала. Допросы и следствия продолжались почти ежемесячно, например в течение 1279—81 годов, и с каждым делом открывались все новые центры еретиков в Италии и во французских городах. Некоторые процессы тянулись по девять лет, и все это время подсудимые сидели в тюрьмах.
Процессы этого времени имеют то значение, что и них чаще и чаще привлекаются к суду духовные лица. Это связано с появлением и распространением нравственной реакции в среде духовенства и монахов, которая римским двором была сочтена за ересь. Стремление водворить в жизни строгие правила Святого Франциска и сделать апостольскую бедность обязательной даже для папы, поднятое лучшими людьми тогдашнего католического духовенства и вышедшее из среды францисканцев, клеймилось «лжеапостольством», признавалось оскорбительным для достоинства Римской Церкви и, что всего курьезнее, приравнивалось к альбигойству. Оно стало подведомственно той же инквизиции, которая с последних годов XIII столетия начинает привлекать к своему суду преимущественно священников и монахов, называвших себя «бедными во Христе».
В развращенном сословии чувствовалась потребность нравственного обновления, но не многие имели дар точно определить ее, ясно осознать свое стремление, не многие могли примирить католическую обстановку с зарождавшимися в них идеями. В них это явилось только впоследствии, а вначале всякий недовольный обращал взоры на готовую и оформленную оппозицию и, не затрудняясь искать новых форм, ни догматических, ни нравственных, удовлетворял своему чувству ненависти к Риму союзом с альбигойцами.
«Лжеапостольство», носившее в себе живительные начала обновления, заклеймило себя союзом с ересью; оттого-то началось впоследствии такое суровое преследование бегинов, как можно называть всех протестовавших францисканцев[63].
Из протоколов инквизиции в Фуа видно, как на скамье подсудимых начинают появляться новые лица: монахи в коричневых сутанах и священники.
Приходский священник присутствует на сборищах и принимает посвящение63. Очевидно, он нашел не то, чего искал, но он не был способен высказать нечто новое, хотя его томило чувство ненависти к своим властителям, — и он поэтому присоединился к готовым и многочисленным врагам Римской Церкви другого лагеря, один он не может растворить эту все еще плотную массу и становится таким же альбигойцем, как и другие.
Ровно через год после этого факта явился донос на Жеро, престарелого аббата Монтолье, который пред смертью принял посвящение в альбигойство из рук «совершенного» Пагесия в самом аббатстве, чему свидетелями было четверо монахов, которые равным образом преклонялись пред еретиком и лобызали его64. Только в минуту смерти осознал старый аббат свое преступление и, не видя вокруг себя достойных пастырей, которые были грешны гораздо более его, ищет утешения у гонимых.
Осенью 1284 года раскаивается один нотариус и доносит, что вместе с ним на беседах у Пагесия были многие бароны, как, например, Аллемани, Мирепуа и также католические священники, которые, подобно им всем, благословлялись у альбигойского учителя. Еще через год подобный же факт имел место в Каркассоне.
Вообще «лжеапостольство», являясь реакцией на гонения, было следствием альбигойства. Более того, гонения возбуждают протест в среде самих гонителей. Мы имеем в виду движение так называемых «духовных францисканцев», о котором вкратце поговорим.
В конце XIII столетия одним из наиболее красноречивых францисканских учителей был Петр Иоанн Олива. Родом из Прованса, он в 1259 году вступил в монастырь Бе-зьера. Он напоминал собой основателя ордена, с той лишь разницей, что в его характере было больше мягкости и глубины. Народ почитал его за святого.
Олива стремился восстановить христианство апостольских времен, образец чего видел в уставе обожаемого им Франциска. Между тем эти правила перетолковывались различными иерархами, некоторые даже отвергались.
Так, Николай III разъяснял их особой буллой. По его толкованию получалось, что «минориты, соблюдая Евангелие, должны жить в послушании, целомудрии и всегда отказываясь от собственности — не владеть ни домом, ни доменом, ни чем бы то ни было... Добровольное отречение от всякой собственности вообще и в частности в глазах Господа, было заслугой и делало святым. Так учил Иисус Христос и словом и примером, а апостолы, идя по следам учителя, старались об осуществлении этого на деле» (65).
Это постановление было объявлено каноническим, внесено в дектреталии, и потому неудивительно, что из него Олива вывел мысль о том, что устав Святого Франциска носит евангельский характер и что братья-францисканцы не должны иметь собственности, призваны жить подаянием для удовлетворения необходимых потребностей. Оскорбительного в этом для католицизма не было пока ничего, но, сравнивая жизнь современного ему духовенства с таким евангельским идеалом, Олива в комментарии на Апокалипсис не мог не назвать Римскую Церковь вавилонской блудницей, а Святого Франциска — ангелом обновления духовной чистоты христианства. Он предсказывал также скорое пришествие Святого Духа для восстановления на земле царства божественной любви (в то самое время, когда в Италии о том же учил Сегарелли, прямо назвавший папскую Церковь вавилонской блудницей).
Для исследования сочинения Оливы была назначена комиссия из семи богословов. Она нашла в нем шестьдесят еретических положений. Олива вступил в полемику и защищал свое правоверие, но перед смертью сам усомнился в себе и отрекся от большей части своих идей. Он скончался в 1297 году; народ считал его святым и верил в чудеса над его могилой; Церковь не препятствовала этому, а между тем через три года жгла на костре Сегарелли, который не многим отличался в своей деятельности от Оливы.
Но идеи того и другого крепко привились ко многим безьерским монахам, а от них стали расходиться по другим францисканским обителям. С именем Оливы связывалось понятие о духовном совершенстве и о стремлении к евангельскому идеалу. Многие францисканцы отделились и составили особое братство, которое хотело жить в мире со всеми, даже с еретиками, посвятить себя молитве и мечтаниям о небе, а для поддержания тела довольствоваться самым необходимым подаянием.
Аскетический Целестин V признал это братство, которое получило наименование «отшельников папы Целестина». Они поселились на одном из островов Архипелага, так как на Западе им не было житья от роя других монахов, которые не хотели допустить рядом с собой такого невыгодного для их репутации соседства. Они клеветали на них пред Бонифацием VIII, который свергнул ограниченного Целестина V, но интрига была безуспешна.
«Я не вижу никаких причин возбранить этим добрым людям стремления к духовному совершенству, и знаю очень хорошо, что они гораздо лучше исполняют условия, чем их надоедливые преследователи» (66).
Тогда папе напомнили, что эти отщепенцы — ревностные сторонники покойного Целестина V и что они его избрание считают неправильным. Этого было довольно для подозрительности Бонифация VIII, и он приказал уничтожить и рассеять братство. Многие из отшельников добрались до Лангедока, и здесь назывались то бегинами, то духовными, то «братьями строгого чина» в противоположность францисканцам-общинникам. Своим постничеством, строгой жизнью, бедной одеждой, едва прикрывавшей тело, длинными бородами, бегины привлекали к себе расположение народа и сочувствие всех людей, которых томила мысль о возвышении нравственного уровня в стране. Народ приходил в негодование, видя, как преследуют этих святых.
Они между тем оборонялись от нападений пером, укоряя Римскую Церковь за светские устремления, прелатов за разврат, а своих собратьев-общинников за то, что они носят одежды не по уставу и едят слишком сытно и не по-монашески. Их главой был красноречивый и суровый мистик, Убертин де Казаль.
Так шло дело до 1312 года. Число «духовных» отщепенцев увеличивалось быстро, и притом людьми самыми энергичными и даровитыми. Под их знаменем могли укрываться и политические идеи, и реформаторские стремления к обновлению Церкви.
Бернар Сладостный встал в их ряды. Он давно был склонен заявить чем-либо решительным свой протест против злоупотреблений властью со стороны духовенства. Идеи «отшельников» как нельзя больше удовлетворяли его.
Он видел, что инквизиция начинает свирепствовать по-прежнему. Климент V еще в начале своего правления сам явился ходатаем за каркассонцев. Относительно поступков инквизиции он назначил следствие, так как коллегия кардиналов получила жалобы не только от каркассонцев, альбийцев и кордесцев, но даже от священников города Альби и от монахов аббатства Гальяк, которые свидетельствовали, что население вполне католическое, что инквизиция ведет страну к падению и гибели и что правление епископа Бернарда невыносимо. Папа послал в Лангедок двух кардиналов, Петра де ла Шапелля и Беренгария Фредоля.
Везде получая жалобы на инквизиторов и на епископа, они на первых порах должны были оказать свою защиту и покровительство двум каркассонцам — Благи и Эймерику, которые особенно агитировали против трибунала. Они проникли в инквизиционные тюрьмы Каркассона и застали в жестоких мучениях сорок скованных пленников. Это были большею частью старики, некогда привыкшие к роскоши, теперь в рубище, казавшиеся при последнем издыхании; они заплакали, когда увидели свет божий. Тут же были и женщины, изнуренные болезнями и душевными страданиями. О многих дело даже не начиналось, потому что недоставало улик, а между тем их богатство было привлекательно.
Кардинал велел очистить тюрьму и перевести арестантов в другое помещение; главного тюремщика он тотчас сменил, назначив от себя монаха. Несчастные жаловались, что, отнявши у них все, им не дают даже постели и пищи. То же самое кардиналы увидали в казематах Альби. Следствие открыло, что трибунал прибегал к подставным свидетелям и обвинителям для своих осуждений, что таким лицам платились деньги. Тем же, кто хотел показывать в их пользу, грозили тюрьмой и даже костром. Светские чины трибунала обязывались присягой не открывать под страхом сожжения этого секрета судопроизводства.
Что оставалось делать кардиналам? Прежних жертв воротить было нельзя. Они сделали все, что могли, — отрешили временно епископа альбийского и впредь запретили заключать кого-либо в тюрьму под видом ереси без приказания папы и без участия местного епископа. Наконец стороны должны были явиться на суд Климента V в Бордо (67). Вместе с тем своей властью кардиналы сняли отлучение, наложенное некогда Аблузием на викария Пекиньи и, очистив этим память народного любимца, приобрели большую популярность.
Казалось, самой курией был положен предел узурпации доминиканцев, но прежде, чем общины успели воспользоваться своим торжеством, обстоятельства круто переменились.
В Италии появился новый ересиарх, который ненадолго смутил спокойствие Климента V. Петр Дольчино, уроженец Милана, мечтатель, долго живший одним внутренним созерцанием, стал учеником Герарда Сегарелли. Дотоле подвижник никому не известный, он, после смерти своего учителя, совершившейся на его глазах, вдруг ощутил в себе страшные силы и пошел на проповедь. Он был отражением того бурного времени, когда церковь, величавое учреждение, которое держало на своих раменах весь Запад, потрясалась в своих основаниях. Папство представлялось для Дольчино порождением Антихриста, той же вавилонской блудницей, которой оно было в глазах альбигойцев, вальден-сов, бегинов, Сегарелли и всех позднейших протестантов. Но, отвергая его авторитет, он искал руководящих начал в темном мистицизме, в котором трудно было уловить то новое, что он хотел положить в основание учения. Могучий демагог, он не обладал знаниями и идеями. Он имел предания и опору в проповедях Оливы и Сегарелли, которые еще пятьдесят лет тому назад на той же самой почве требовали немедленного покаяния ввиду наступающего царства Божия, и Дольчино решился быть продолжателем Сегарелли и развивать его учение. Сжигая Сегарелли медленным огнем, Церковь наживала в Дольчино врага более энергичного и опасного68.
Воспитавшись в стороне от лангедокского движения, незнакомый с учением Оливы, он повторял основную идею последнего, сам не подозревая того. Замечательно, что одинаковое движение возникло одновременно и в Лангедоке, и в Италии; оно исходило из разных и самостоятельных источников, но причина, руководившая этой реакцией, была одна, так как заключалась в общей деморализации нищенствующих орденов и в стремлении поднять последние до прежней высоты.
Дольчино сам не понял своего предназначения: он счел себя провозвестником нового порядка. Он унесся в мир утопий, в видения Апокалипсиса, тогда как создан был для практической деятельности. Он видел четыре периода в жизни человечества (смутное отражение идей бегинов) — ветхозаветный век патриархов и пророков, апостольский, современный и будущий. Современный, начавшийся с папы Сильвестра и Константина Великого, был причиной унижения Церкви, увлекшейся земными благами, соблазнившейся имуществом; из него Церковь выйдет только самоотвержением и уничижением своих вождей, не пап, которые к тому не способны, а подвижников — постников, героев духовной силы вроде Доминика и Франциска. Для того чтобы быть достойным служителем Церкви и духа, надо отказаться от всякой собственности и маммоны.
«Папа будет свергнут, — пророчествовал Дольчино в 1300 году,— а король Сицилии, Федерико Арагонский, через три года освободит Церковь»[64]. Пророчество отчасти сбылось, хотя желание Дольчино исполнил не тот король, на которого он рассчитывал[65].
После этого должно было начаться духовное Царствие, весь мир преобразоваться в великую братскую общину, управляемую Святым Духом, который вселится на этот случай в него самого, следовательно, ему будет принадлежать духовная власть над миром. Вместе с тем он считал себя шестым Ангелом Апокалипсиса[66]. Дольчино скоро стал главой общины, если далеко не столь значительной, как он предполагал, то и не особенно аскетической. У него нашлись сотни преданных людей, искавших нравственной чистоты и ради нее всегда готовых обнажить меч, но не отказывавших себе в удовольствиях брака. В Цебелло[67] он видел новый Фавор, который был для его геройских последователей тем же, чем некогда Монсегюр для альбигойцев. Благородные мечтатели долго защищались здесь от крестоносцев Климента V, предводимых доминиканцами, но голод вынудил их сдаться (69). Страшные пытки и костер покончили с пророком. Его сестра во Христе или, точнее, жена сгорела вместе с ним.
Беда Дольчино была в том, что он не сознавал своего истинного призвания, не мог встать на настоящую дорогу и растратил богатые силы на мистицизм и визионерство. Это был полный контраст практической натуре Бернара Сладостного, который в эти самые годы так ловко и с таким успехом боролся за ту же идею терпимости, которая в сущности подвигнула Дольчино на его подвиг.
Исход дела Дольчино невыгодно отразился на провансальцах и их отношениях к инквизиции. Доминиканцы оказали столько услуг в Италии делу папства под Цебелло, что Климент V отныне стал видеть в них своих верных друзей. Потому, инквизиторы, которые сожгли Дольчино и его жену, стали снова опорой папского престола.
Распоряжения кардиналов были уничтожены, и папа особой буллой воспретил всякое препятствие и помехи инквизиции при исполнении ею своих обязанностей. Те, кто некогда боролись с ней, были объявлены еретиками. Под эту категорию подпали, между прочим, и те, которые спаслись от королевских преследований по делу о доне Фернанде. Знакомые нам Проби, Гарсиа, Франса, Караман и другие горожане из Каркассона, Альби и Лимукса щедро платили в Лионе деньги при папском дворе разным кардиналам и родственникам Климента V, надеясь откупиться от наказаний. Кардинал Сайта-Кроче взял две тысячи ливров, племянник папы столько же, — но тем не менее виновные должны были подчиниться церковным наказаниям, положенным трибуналом.
Бернар оставался на свободе, пока его соучастие в обществе бегинов не сделалось слишком явным, чтобы не повлечь к преследованиям со стороны папы.
Климент V смотрел на оппозицию францисканцев как на нарушение дисциплины и возмущение среди ордена. В булле «Исходя из рая» он, не осуждая духовенство, тем не менее требовал их примирения с орденскими властями (70). Он упускал из виду своеобразность их богословских воззрений, которые, впрочем, не выработались в стройную форму, а только смутно бродили в умах этих отшельников. То, от чего отказался Олива, сделалось верой его последователей, за которую они готовы были пострадать; некоторые прибавили к тому свои собственные измышления.
История Церкви представлялась их воображению в семи периодах. Сошествие Святого Духа, побиение Святого Стефана, Никейский Собор, Павел Самосатский, Карл Великий, Святой Франциск и, наконец, умерщвление Антихриста, который народился в лице пап, отвергающих апостольский устав, — вот знамения этих периодов (71). Франциск в мистических выражениях признавался первым после Христа и его Матери; он воскресил Церковь в Его духе; он был Апостолом Апокалипсиса и когда нисходил для властвования в шестом и седьмом периодах Церкви, то прямо называл себя обновителем ее великолепия и ее хранителем. Плотская Церковь должна пасть и замениться Церковью Святого Франциска.
Одно из положений Оливы, за которое продолжал ратовать де Казаль и его братья, было признано уже не мистическим, а явно еретическим и «ужасным». Папа, по учению де Казаля, грешил, если покушался менять устав Святого Франциска или давал право собственности миноритам. Наконец, Римская Церковь устами бегинов была провозглашена преступной, великой блудницей, потому что удалилась от истинного служения, чистой любви и утех Христа, супруга своего, прильнула к миру земному, его богатствам и прелестям — а потому служит дьяволу, королям, вельможам, прелатам и другим поклонникам этого царства.
Смерть Климента V и наставшая после него неурядица среди курии[68] были причиной усиления бегинов. Они приобрели покровительство Федерико Сицилийского и поглотили в себе сходных с ними по проповеди итальянских последователей Сегарелли и Дольчино. В Лангедоке был центр оппозиции. Бернар Сладостный стал вождем ста двадцати братьев, живших в разных городах. Он решился употребить это воинство на борьбу за терпимость. Многие из них были схвачены и посажены в тюрьму. Каркассонский и безьерский монастыри францисканцев сделались открытыми центрами оппозиции против инквизиторов и вообще доминиканцев. В Каркассоне народ кинулся на доминиканский монастырь, овладел им, открыл тюрьмы и освободил пленных миноритов. Подобные же беспорядки в том же 1314 году были произведены в Нарбонне и Безьере — здесь напали на францисканские монастыри[69], сменили в них начальство и ввели порядки новых «апостолов» (72).
Новый папа Иоанн XXII, открывший собой ряд авиньонских первосвященников, в самом начале своего правления принял ряд строгих мер против лжеапостолов. Он приказал королю Федерико изгнать из Сицилии тех францисканцев, которые не желают подчиниться своему генералу и общим постановлениям ордена. Буллой «К чему требуешь...» он предписывает всем отпавшим немедленную по-корность духовному начальству.
«Нищета — дело почтенное, целомудрие еще выше, но послушание есть высшая добродетель», — писал он.
Провинциал Аквитании, Бертран де ла Тур, хотел привести в исполнение распоряжение папы, но встретил решительное сопротивление. Он приказывал сменить короткие рясы на обыкновенные — ему отвечали, что этот костюм установлен самим Франциском. Когда тот стал настаивать, они апеллировали на папу несправедливого папе беспристрастному.
Их протест был покрыт сорока шестью подписями, Иоанн XXII велел пригрозить подписавшимся отлучением.
Тогда они потребовали суда и пошли в Авиньон. Все они были из Нарбонны и Безьера. Дорогой к ним присоединилось несколько других, так что набралось семьдесят четыре человека. Их вождями были Убертин де Казаль и Бернар Сладостный; вместе с ними приобрели известность Франциск Санций, Вильгельм Сент-Аманд и Анжелик Кларен.
Прибыв в Авиньон, бегины не захотели остановиться во францисканском монастыре и расположились ночевать на лестнице папского дворца.
Иоанн XXII встретил их ласково и стал уговаривать, но когда увидел в них непоколебимую стойкость, то ввел в залу нескольких францисканцев, которых стал осыпать порознь беспощадными обвинениями. Бернар Сладостный, Вильгельм Сент-Аманд, Франциск Санций защищались так резко, наговорили Иоанну в глаза столько правды, что папа вышел из себя и с досады велел заключить их троих в тюрьму, прочих же держать под стражей до окончания суда.
Напрасно бегины взывали к справедливости — их больше не слушали. Инквизитор, францисканец Михаил, начал процесс, который продолжался два года.
Между тем Иоанн XXII издал буллу, в которой суждения бегинов были объявлены еретическими. Узнав об этом, сорок девять подсудимых немедленно заявили повиновение, но двадцать пять долго стояли на своем. Впрочем, из них только четверо сохранили до конца свои убеждения и изъявили готовность умереть. Это были Иоанн Барро, Михаелис, Вильгельм Сантон и Понс Роча. Что касается Бернара, то он, к удивлению, отрекся, думая сохранить свободу и жизнь. Для него не устав Святого Франциска был вопросом первой важности — своим призванием он считал борьбу с инквизицией и нетерпимостью. Он рассчитывал принести еще какую-нибудь пользу своей стране, но ошибся.
Четверо упомянутых бегинов были привезены в Марсель; здесь их поставили перед трибуналом инквизиции. Они проявили истинное геройство. Их процесс имеет исторический смысл, что обыкновенно упускают из виду. Важно не то, что они защищались, а та идея, которая двигала ими. Они были первыми, кто, будучи правоверными католиками, бесстрашными борцами своей веры, решились высказаться против гнета папства и отказались признать авторитет одного человека, какую бы степень в иерархии он ни занимал. Католики до мозга костей, они погибли за тот самый принцип, какой руководил позднейшим протестантизмом.
Из протокола этого процесса видно, как подсудимые отрицали право папы определять ту или другую степень бедности и подвижничества, какую кто хочет возложить на себя лично или на все братство, что он не может разрешить монаху, священнику или епископу свободы в образе жизни, которой прежде не допускалось, а равно возбранить говорить и действовать против нововведений апостольского престола. Равным образом папа не может кассировать устав Святого Франциска или какой другой; это явно противоречило бы власти апостольской, так как равнялось бы уничтожению и исключению ордена из среды других. Папа не может допускать, чтобы орденские власти и казначеи по своему произволу наполняли житницы и погреба братии необходимыми продуктами; такое толкование права первосвященников влечет к несообразности и не согласуется с апостольской властью (73).
В сущности бегины просили немного. Они хотели обязать себя уставом более строгим, который всякий папа при других обстоятельствах счел бы себя счастливым утвердить своей подписью. Они отрицали авторитетность буллы «К чему требуешь...», опираясь на ее противоречие с прежними. Но инквизиция понимала, что мотив, руководящий движением бегинов, при логическом своем развитии, может повести к результатам весьма опасным для папства. Потому-то инквизиция смотрела на этот по видимости ничтожный протест как на самое тяжелое преступление. Объявленные нераскаянными еретиками, четыре францисканца были осуждены на низложение, которое было поручено привести в исполнение марсельскому епископу. Окруженный духовенством, он с торжественной церемонией совершил этот обряд седьмого мая 1318 года. Одну за другой снимали с осужденных все принадлежности духовного сана, произнося при этом положенные формулы. Еще раз убеждали их отречься, и они еще раз заявили свою правоту (74). Тогда им обрили головы и передали в руки светской власти. Они сгорели живыми и до последнего дыхания не могли упрекнуть себя ни в чем.
Друзьям и вождям их дела недоставало душевной энергии, чтобы доблестно отстоять ту идею протеста против папских притязаний, которую они приносили с собою. За это они сохранили жизнь и свободу, хотя не избавились от церковного покаяния, благодаря «справедливости и благосклонности» святейшей инквизиции.
Но между тем был человек, еще не переставший казаться опасным для Римской Церкви. Он осмеливался восставать против учреждения, которое оказало ему столько услуг. Он неоднократно наносил инквизиции такие удары, воспоминание о которых исчезнет не скоро. Папа, простивший Бернара, с целью успокоить волнение его примером, теперь должен был отдать его в жертву врагам. Над Бернаром тяготело столько старых грехов, что за уликами дело не стало. Его вызвали в Авиньон. Он чувствовал, что на этот раз ему не избежать наказания, и составил завещание, в котором распорядился своим скудным имуществом, состоявшим из книг.
Папа лично объяснялся с ним, и два дня спустя, 24 мая 1318 года, Бернар был арестован. Епископу труаскому, аббату Святого Сатурнина было поручено произвести следствие (75). Обвинительный акт состоял из шестидесяти статей, читая которые можно подумать, что подсудимый принадлежит к числу отъявленных злодеев. В сущности Бернар обвинялся: 1) в покушении против безопасности инквизиции, 2) в защите, которую он оказывал еретикам, и 3) в попытке к мятежу против короля.
В последнее время он не производил никаких волнений против трибуналов и не защищал еретиков, а что касается до его политической деятельности, то правительство в настоящее время ничего не имело против него. Политические обстоятельства так переменились, что подобное обвинение не имело уже значения. Для уяснения этого стоит только кинуть взгляд на предшествовавшие политические события, и, пока судят нашего героя, посмотрим, какое положение застигло в это время французское правительство.
Филипп Красивый сошел в могилу[70], оставив государство накануне бури. Перед смертью он, всегда так прозорливый, подозревая вокруг себя все, не питал никаких подозрений относительно Бернара. Лангедок привык к ярму, и когда в северных провинциях королевства, изнуренных налогами и бедностью, произошли восстания против административного гнета во имя старых привилегий, Юг был вполне спокоен, хотя там, как казалось, было куда больше горючих материалов.
Филипп не увидел падения системы, насажденной его предками. Он чувствовал себя в силах бороться с феодальной и коммунальной оппозицией, для которой его смерть была счастливым событием. Он передал взволнованное государство неспособному сыну[71], который был далеко ниже своего положения. Руководимый своим дядей, Карлом Валуа, воспитанный во вражде к легистам, он сделал все, чтобы восстановить старое феодальное время, к которому имел личные симпатии. Он видел, как аристократия соединяется с коммунарами, чтобы вместе действовать против него, и как Франция покрывается мелкими лигами. Вместо того чтобы опереться на преданных легистов, создавших монархию, король сам принес их в жертву оппозиции и ревностно заявлял себя другом рыцарства.
Напрасно объяснять успех феодальной реакции, наставшей после смерти Филиппа Красивого, только личностью нового короля. Механизм, созданный искусственно и слишком рано, вопреки всем экономическим законам, не мог упрочиться сразу: он жил крайним напряжением государственных элементов, которые наконец истощились. Когда погибли творцы системы, прорвались прежние искусственные плотины и Франция на несколько лет вновь объята духом партикуляризма, который два века искореняли короли. Вешая министров своего отца, Людовик X заносил нож на самого себя и губил дело, которое создалось такими талантами и с такой традиционной энергией. Обессиленный, он отдался течению. Все сословия и области просыпаются после долгого сна и требуют возвращения того, что у них было отнято коварными королями. Редко в столь короткий срок было сделано так много; 1314, 1315, 1316 года погубили то, что создавалось веками.
Казалось, Франция грозила снова рассыпаться на отдельные области. Но в это время, когда провинции одна за другой приобретали себе хартии свободы, когда феодалы Пикардии, Нормандии, Бургундии, Шампани выговаривают все старые привилегии и даже право чеканить монету, освобождаясь от обязательной службы под королевскими знаменами в случае необходимости, когда местные суды отстраняют надзор парижского парламента, а население, возвратившись к сословному и феодальному суду присяжных, избавляется от пыток, введенных леги-стами и инквизицией, когда восстанавливаются поединки и частные войны, — что предпринимает в это время Лангедок? К удивлению, он, прежде отличавшийся духом независимости, отстает на этот раз от прочих провинций.
Южное духовенство и отчасти аристократия принимают участие в реакционном движении, но не по самостоятельному побуждению, а следуя готовому примеру. Города же мало заявляют о себе. Каждое сословие отстаивает свои особенные права. Благодаря политике Альфонса Лангедок так офранцузился, что не думал в этот удобный момент о возвращении своей национальности. Силы страны были разъединены.
Если верить Лафайлю, то еще при жизни Филиппа IV тулузцы ходатайствовали об установлении более постоянной монеты, так как частые изменения ее ценности при упорном возвышении налогов совершенно истощили горожан (76). Король отвечал согласием, так как был стеснен на севере.
Еще более должен был задабривать южан его сын. Но так как южане просили о немногом в их длинных, но малосодержательных хартиях, то легко получили желаемое. Они рядом ордонансов избавлены от платежа денег на фландрскую войну. Вместе с тем прекращены иски небольших сумм, должных евреям, и подтверждены привилегии, данные Людовиком IX и Филиппом IV, то есть замена предварительного заключения денежной порукой и право судиться собственным судьей. Налоги оставлены те же — единовременные взносы с каждого сенешальства при вступлении на престол доведены до десяти тысяч ливров. Апелляции в парижский парламент сокращены, смотря по важности дел, но не уничтожены; притом в Лангедоке по-прежнему дело вершил сенешаль— и о восстановлении старых судов в грамотах не упоминается. Право чеканить монету получили только некоторые прелаты, но не безусловно, а определялись ее форма и вес. Феодалы получили право частной войны и право отчуждения недвижимости, которое разрешал Альфонс только под условием уплаты пошлины.
Все это в сравнение не идет со знаменитой Нормандской Хартией (март 1315 года), с восстановлением старинных «добрых кутюмов» в Оверни (декабрь 1315 года) и с возрождением самостоятельности феодальных дворов в Бретани (март 1316 года). Между тем последние страны далеко не имели богатой национальной истории Лангедока и Прованса.
Известно, чем кончилась реакция. Она установила идею индивидуальной свободы каждого сословия, но упустила из виду государство. В этом достоинства и недостатки дви- жения. Французская аристократия доказала в такой редкий момент полное свое неумение воспользоваться выгодами положения; она не умела стать единым политическим телом и не хотела протянуть руку другим сословиям, чтобы выработать единодушными усилиями из множества частных грамот одну хартию свободы и встать на конституционный путь. Она заботилась только о себе; все сословия были разъединены, и королевская власть должна была поневоле взять управление государством из рук феодальной партии и вступить в свои старые права.
Это случилось при Филиппе V, когда легисты снова принялись исправлять ошибки феодалов[72]. Прямо из темниц они встали у кормила власти. Аристократия, польщенная сохранением своих сословных прав, без борьбы возвратила королям свои политические права. Старая тирания Филиппа Красивого уже не могла вернуться после опыта 1315 года, но принцип самодержавной власти и нераздельности монархии был провозглашен решительно, и теперь уже бесповоротно направил судьбы Франции.
Право чеканки монеты, в истории которого можно прочесть историю монархической власти, было отнято от феодалов в июне 1317 года. Парижский Совет или парламент получил наряду с королем важнейшее значение в государстве; его организация и пределы власти были усовершенствованы. Тем не менее средневековые государственные идеи, которые клонились к гибели, благодаря феодальной реакции, на некоторое время продлили свое существование.
Мы позволим себе заметить, что действия инквизиции также отразились на возникновении реакции; это подтверждается тем, что в годы ее проявления трибуналы подвергались безнаказанным и смелым оскорблениям со стороны бегинов и народа и что со дня новой победы королевской власти ее могущество было снова упрочено распоряжениями гражданских властей, которые клялись ей вместе с консулами в повиновении, заключали с ней союзы и поспешили ознаменовать правление Филиппа V церемонией аутодафе.
Только указанными обстоятельствами объясняется процесс Бернара. Его судили полтора года, когда вздумали возбудить вопрос о тех преступлениях, за которые он уже поплатился заточением. Так как ограничиться одним возобновлением обвинения было неудобно, то отыскали такую вину, о которой Бернар даже и не думал. Его обвинили в смерти Бенедикта XI при помощи колдовства и отравы, тогда как он не имел случая даже видеть этого папу. Подобные обвинения при Иоанне XXII были особенно распространены и давали немалый материал для деятельности трибуналов, — вопреки своему первоначальному назначению взявших в свое ведение процессы о волшебниках, ведьмах и некромантах.
В таких преступлениях феодальная партия обвиняла, между прочим, министров Филиппа IV, Энгеррана Мариньи, епископа шалонского, Петра де Латильи и генерального адвоката Рауля де Пресля, из которых все последние выдержали пытку и были освобождены, а Мари-ньи и некромант Делор с его женой были повешены за то, что делали восковые фигуры короля и баронов, с целью извести их.
Обвинение же, взведенное на Бернара, не было даже достаточно прилажено — ив этом отношении довольно характерно. В процессе значится, что он «послал к римскому двору вестника и с ним ящичек, обитый в холст, запертый замочком, наполнив его разными снадобьями, питьями и порошками; в него же он положил письмо, писанное собственною рукою, и при помощи всего этого сократил жизнь папы Бенедикта XI». Сказывали, что он «в проповеди перед альбигойцами говорил о смерти папы в самый день его кончины» и что он, наконец, «имел книгу, исписанную разными кружками и непонятными изречениями, по которой и занимался предсказаниями» (77).
Прискорбнее всего то, что прежние друзья Бернара, вызванные по этому делу, дали показания, самые благоприятные для инквизиции. Патриоты вроде Кастанета и Франса простодушно верили в кудесничество своего вождя; они говорили, что Бернар посылал их за воском и холстом, в который завернул кожаный ящичек, отправленный им в Италию к доктору Вилланова, его приятелю, для передачи папе. Свидетели думали, что посылаются письма, но совпадение внезапной смерти папы и этой таинственной посылки навело их на мысль о колдовстве. Теперь совесть этих людей была спокойна — то могущественное влияние, которое производил на них Бернар, они могли легко объяснить его сношениями с нечистым духом.
Из Авиньона Бернара повезли в Кастельнодарри, где были назначены заседания особого верховного судилища, состоявшего из лиц светских и духовных. Дорогой он узнал о сожжении в Марселе четырех бегинов. Он писал, что та же судьба постигнет и его. Он осуждал вслух беззаконный суд и называл этих страдальцев святыми мучениками. Эти слова послужили после фактом для нового обвинения в ереси.
В сентябре 1319 года сперва в Казтельнодарри, а потом в Каркассоне, собрался верховный трибунал по делу Бернара. Его процесс не носил на этот раз инквизиционного характера. Председателем был назначен архиепископ ту-лузский, но он удалился со второго заседания, оставив вместо себя двух суффраганов. Предсгавители светской власти именем короля предложили относиться к делу беспристрастно и не медлить с его окончанием. Подсудимому были представлены все протоколы, и он признал их подлинность.
Бернар открыто, с некоторой торжественностью, сознавался в той глубокой ненависти, которую он питает к инквизиции и к доминиканцам, ее орудиям. Он считает лучшим делом своей жизни эту борьбу с тиранами города Альби, и если он не смог достичь цели своих желаний, то об этом душевно и искренно скорбит. Он добавлял, что не может считать себя ответственным перед собственной совестью за такое честное дело. Допрошенный о сношениях с принцем Фернандом, он скрыл некоторые факты против своих прежних показаний. Инквизиторы потребовали пытки, причем постановили, чтобы палач сообразовался с его летами и не довел бы подсудимого мучениями до смерти или лишения членов, но, впрочем, палача не стесняли в выборе и продолжительности истязаний. Бернара, в сопровождении нотариусов и актуария и одного инквизитора, повели в пыточную камеру. При всей слабости натуры он выдержал страшные истязания — он стонал от боли, не произнося ни одного слова. Вероятно, он упал в обморок. Подобные явления случались часто, пытка в большинстве случаев обманывала ожидания судей. С истязаемыми обыкновенно происходил обморок, и вместо ответов, которых от них добивались, они издавали пронзительные крики, бессвязные восклицания и после мучений долго не могли прийти в себя, чтобы понять, чего хотят от них мучители.
Но на другой день Бернар показал уже всю правду о заговоре. Он удерживал от него товарищей и никогда не одобрял такого способа действий. Во всяком случае, как дело политическое, оно было уже давно закончено и он в свое время дал в нем ответ перед королем, который простил его. Что касается обвинения в отравлении Бенедикта XI, то Бернар даже отказался отвечать на навет столь нелепый, для которого нет даже сколько-нибудь действительных улик. Инквизиторы опять прибегли к пытке. Бернар геройски выдержал новые мучения. Даже из страха смерти, на дыбе, он не хотел возвести на себя клевету.
Как ни старались палачи и судьи, нотариусы не могли записать в протокол ни одного точного показания. Нотариус объявил суду, что подсудимый не сознается. Как известно, это обстоятельство не служило бы гарантией подсудимому, тем более что на нем висели и без того достаточные обвинения, «бездны зла», как выразилось судилище. На Бернара возвели также обвинение в некромантии, вызове духов, наконец, в чтении запрещенных книг, между которыми на первом месте стояли сочинения Оливы и комментарии на его трактаты (78). Он не хотел оправдываться в этом, потому что сочувствие к стремлениям «истинных миноритов» было не чуждо ему, а к вождю нового направления он питал даже глубокое сочувствие. Суд был окончен.
8 декабря 1319 года Бернара вывели на каркассонскую площадь. В присутствии всего городского и приезжего духовенства и несметной толпы народа, прочли длинный приговор. Его преступления состояли в том, что он осмелился поносить инквизицию, которую неоднократно ок-леветал-де в несправедливости и жестокости, кощунственно выражаясь о ее мнимой готовности осудить даже святых апостолов, что он возмущал народ против нее и заставлял не раз прибегать к насильственным действиям, что он изменнически сносился с принцем Фернандом, желая предать ему город Альби и Каркассон, что он держал, читал и комментировал книгу по некромантии о вызывании духов, о приношениях им, о кудеснических заговорах, о колдовстве и всяком зле. За все это судилище в неизреченной милости своей приговаривает его к лишению церковного сана, монашеского чина и к пожизненному заточению в оковах в инквизиционной тюрьме, в продолжение которого он не может ничего вкушать, кроме хлеба и воды.
Народ, за свободу и счастье которого Бернар боролся так бесплодно, так долго и ради которого он пострадал, не шелохнулся ни одним движением, слушая чтение сентенции трибунала. Епископ приблизился к осужденному и расстриг его. С него сняли все священнические одежды, произнося следуемые по обряду формулы. Королевские судьи изъявили свое согласие с приговором. Затем Бернара отвели в тюрьму. Ему не суждено было долго страдать в страшном каземате. Он умер спустя год с небольшим...
Французское правительство продолжало поддерживать и усердно поощрять инквизицию. Оно считало приговор судилища над Бернаром слишком мягким. Королевский прокурор заявил судьям, что они были слишком милостивы к преступнику, злодеяния которого так громадны, что они не должны были принимать оправданий его в отраве папы Бенедикта, что заточение для убийцы наказание весьма снисходительное. «Интересы правосудия нарушены, королевское достоинство оскорблено»,— писал прокурор (79).
И чего домогалось правительство? Бернар не имел никакого имущества, чтобы завещать его королевской казне; каземат он охотно променял бы на эшафот. Прокурор хотел отличиться в документальной преданности Церкви. По его мнению, монах, покусившийся на жизнь первосвященника, должен был «несколько раз умереть». Он апеллировал к папе на трибунал, настаивая на смертной казни францисканца. Но Иоанн XXII был спокоен и доволен. Усердие прокурора оказалось излишне, но для отношений того времени оно осталось характерным.
Последние альбигойцы
Казнь четверых бегинов и заточение Бернара было началом целого ряда подвигов инквизиции над францисканцами, державшимися учения Оливы. Сведения о процессах альбигойцев становятся редкими, притом в них почти всегда замешаны францисканцы, обвиняемые в лжеапостольстве. Бегины и вальденсы, говоря в целом, начиная со второй четверти XIV столетия сменяют альбигойцев.
Из этого не следует, чтобы катары совершенно исчезли; они в такой степени слились с альбигойцами, что было бы слишком смело оставить в стороне инквизиционные преследования, которыми так богат 1319 год и жертвой которых были в одинаковой степени все протестанты, то есть бегины, вальденсы и собственно альбигойцы. Тогда же обрушилось преследование на французских евреев вместе с прокаженными.
Евреев жгли повсюду по двести человек разом благодаря указам Филиппа V, который получил от такой операции сто пятьдесят тысяч ливров (80). В продолжение периода времени от 3 марта 1308 до октября 1319 года, только в одной Тулузе было шесть больших инквизиторских съездов, которые вежливо назывались публичными назиданиями. Эти оригинальные беседы влекли за собою те же костры. В Кабестане, Лодеве, Люнеле, Безьере, и особенно в Нарбонне, казни совершались непрерывно до 1324 года. Они были вызваны процессом Бернара и оппозицией францисканцев.
Мы имеем подробные сведения о подвигах Бернарда Гвидона и Иоанна де Бонь, председательствовавших на тулузском съезде 1319 года. Заседания суда происходили в кафедральном соборе. Особенно торжественно было заключительное заседание (81). Инквизиторы разобрали множество дел, старых и новых. Епископы окрестных диоцезов дали Гвидону полномочия судить и карать от их имени. Муниципальные власти Тулузы, королевские судьи и чиновники поклялись оберегать Римскую Церковь, преследовать еретиков, доносить на них и исполнять повеления инквизиторов. Присутствовавший здесь же архиепископ произнес проклятие против тех, кто будет оказывать препятствия и помехи делу инквизиции. Тогда инквизитор стал читать помилования по старым делам и сентенции по новым, — по-провансальски и по-французски. С двадцати человек была снята епитимья; пятьдесят шесть человек освобождены от заключения с обязательством носить покаянную одежду; двадцать пять за сношения с альбигойцами и вальденсами осуждены были на пилигримство и разновременные заточения. Затем было прочитано сознание двадцати семи подсудимых. Они каялись в том, что покровительствовали еретикам; за раскаяние они получили разрешение от проклятия, но тем не менее осуждены были на тяжелое пожизненное заточение. Это были по большей части бургундские ремесленники. В их числе был один отпавший, перекрещенный еврей. Вероятно, в глазах инквизиции альбигой-ство было преступнее иудейства, потому что осужденному сохранили жизнь.
Затем следовали сентенции о десяти умерших в продолжение процесса, имущества которых были конфискованы в пользу инквизиции. Трое умерли, исповедуя ересь, и этим избавились от мучительной казни; их кости были вырыты из могил и сожжены. Наконец, был прочтен приговор о нераскаянных и отпавших. Их всего было восемнадцать человек: из них четырнадцать бежавших и осужденных заочно. Один бургундский священник Иоанн Филиберт, уже раз получивший прощение, снова стал последователем вальденсов; его передали в руки светской власти для исполнения над ним казни и предоставили ему милость перед смертью исповедаться и приобщиться, если того он сам пожелает. Другой раскаялся на суде, но потом заявил, что его раскаяние было вынуждено пыткою и что он не хочет оправдываться и каяться; ему было дано пятнадцать дней на размышление. Все четверо были сожжены, на прочих кострах сожгли чучела четырнадцати бежавших.
В следующем месяце тот же инквизитор Иоанн де Бонь, по своем возращении в Нарбонну, сжег еще трех еретиков. Замечательно, что эти жертвы послужили поводом к недо- разумению между инквизицией и светской властью. Каждая хотела присвоить себе право исполнить казнь. Спор кончился в пользу короля. Королевский наблюдатель, граф Форец, внушительно заявил, что исполнительная власть исключительно во всех подобных случаях принадлежит ему.
Папство не могло тогда найти человека более ревностного для исполнения обязанностей великого инквизитора в Лангедоке, как Бернарда Гвидона. Родом из лемузен-ского рыцарства, он надел рясу доминиканца, чтобы стать инквизитором. Он обладал известностью писателя и среди своих полицейских занятий не переставал посвящать часы досуга историческим трудам. Пятнадцать лет он был великим инквизитором и в продолжение этого времени (1307—22 годы) осудил шестьсот тридцать семь еретиков на различные наказания. Тут были последователи всех тогдашних сект: вместе с евреями — альбигойцы, валь-денсы, бегины.
После казней 1319 года, Бернард Гвидон пробыл некоторое время в Тулузе, потом предпринял поездку в Памьер. Там ему предстояло много такой работы, которой он привык отдаваться с увлечением. Быстро окончив ее, то есть учинив несколько «публичных заседаний» и «актов веры», Бернард вернулся в Тулузу, успев снова заявить свою ревность к Церкви, и в вознаграждение получил место епископа Лодевы.
В период, следовавший непосредственно за 1320 годом, основные преследования инквизиции сосредоточиваются на бегинах. Мы не будем перечислять подробно все процессы, потому что не хотим наводнять книгу каталогом собственных имен. Мы сообщим только те интересные данные, которые могла почерпнуть провансальская и ломбардская инквизиция об убеждениях бегинов, лжеапостолов и бедных братьев. Что прежде было известно намеками, теперь уяснилось вполне.
«Эти люди исходили из того, — говорит неизданный протокол трибунала, — что Христос был беден, а апостолы не имели ничего». Что вернуть Церковь к истинным ее основам взялся Святой Франциск. Этот подвижник не только после апостолов, но даже после самого Христа и его Матери, служит высшим выражением евангельской высоты; он обновитель последнего, шестого периода Церкви, современного бегинам. Наставления Франциска представляют истинное евангельское учение, поэтому никакой папа не может ни в чем изменять его предписаний, то есть обетов нищеты, послушания и целомудрия, данных последователями Франциска. Облегчая их, изменяя, уничтожая, папа поступил бы против Евангельского учения. Францисканец должен сохранять их свято, даже на папском престоле.
Мы знаем, что бегины питали страшную ненависть к учреждениям плотской, то есть Римской Церкви. Они предрекали, что эта вавилонская блудница будет разрушена, как некогда еврейская синагога. Федерико, король Сицилийский, этот друг бегинов, будет содействовать ее разрушению. Ни французский, ни неаполитанский король не спасут папу. Римского первосвященника эти францисканцы называли хищным волком, лживым пророком, Каиафой, осудившим Христа, Иродом и тому подобное. Он со своей Церковью погибнет от руки Антихриста, который родился в мире с тех пор, как начались преследования на истинных францисканцев; это было около 1325-35 годов. Все монашеские ордена погибнут от руки Антихриста, кроме францисканцев, и притом только тех из них, которые будут принадлежать к общинникам, братьям и духовным[73]. Собственно, только последние доживут до кончины века, ибо так Господь обещал блаженному Франциску.
Все подробности, сопровождающие пришествие Антихриста, носят фантасмагорический, мифологический характер, навеянный библейскими воспоминаниями. С Антихристом восстанут сражаться двенадцать колен израильских, в каждом двенадцать тысяч ангелов, то есть сто сорок четыре тысячи духов со знаменем Бога. Победа будет одержана, но ценой избиения всех христиан, кроме бегинов. Духам-победителям после великого побоища явятся Илия и Энох. И не останется тогда на земле мужей христианских; жены будут обнимать в отчаянии деревья. После того прибудут сарацины. Войдут они в землю христианскую через Нарбонну и уведут всех оставшихся жен и станут жить с ними. Так сказал сам Господь брату Оливе. Новая Церковь по примеру первобытной будет иметь также двенадцать апостолов, которые обратят весь живой мир в новую веру. Все зацветет тогда: настанут блаженные времена. Люди станут братьями: все у них будет общее и потому им не будет надобности враждовать между собою. Грех исчезнет из мира; одна любовь будет царствовать между людьми. Это будет продолжаться сто лет, потом зло опять мало-помалу станет вселяться в людей.
Здесь пророчества бегинов обрываются. Они верили в слабость и бессилие человека, в непрочность всего земного. Они полагали, что Христос снизойдет тогда снова совершить свой суд (82).
Вальденсы в глазах инквизиции почти ничем не отличались от бегинов. Их отдельная история, не подлежащая нашему изложению, начинается стой поры, как они выселились из Лангедока и Прованса в долины Дофинэ, Швейцарии и Пьемонта. Там, где Альпы соприкасаются с отрогами Юры, они сохраняют свои верования до настоящего времени, несмотря на все тяжелые гонения, которые они претерпели.
Несколько альбигойских семейств выселились вместе с ними и жили общей жизнью, пока разгром 1387 года, а именно приезд инквизитора Антония де Савильяно, не уничтожил, как надо полагать, остатков альбигойства на Юге. Провансальские эмигранты занимали преимущественно укрепления: Салюццо, Пиньероль, Сузу, Шери (в Пьемонте); Барселонету, Кейрас, Фрейзиньер (в Дофинэ); альпийские ущелья: Ангронью, Сан-Мартино, Люцерн, Праджелу, Валь-Жирон и другие.
В некоторых местностях, как, например, в Фрейзиньере, протестанты жили еще до Вальдо и туда гнев римской курии направлен был издавна. Папские буллы то и дело предписывали истребление тамошних еретиков. Один инквизитор, явившийся туда в 1238 году, клеймил вальденсов раскаленным железом. Через сто лет с небольшим, в 1344 году, вальденсы принуждены были из Фрейзиньера перебраться в Пьемонт. Им предлагали или отречение или поголовную ссылку. Редко, как, например, в Ангронье, валь-денсам удавалось вооруженной рукой отстоять свою веру от инквизиции. Но напрасно: на помощь инквизиции являлось, по обыкновению, содействие гражданской и военной власти.
В Дофинэ, в долине Валь-Жирон, один бальи объявил награду за голову вальденса в восемь солидов и тридцать денариев золотом. Это не осталось без последствий. В конце XIV столетия над вальденсами усиливается надзор, а с ним и преследования.
Неосторожные монахи, такие, как Антоний де Паво и Бартоломей де Червере, погибли от рук еретика, но общинам от того не легче. Страшным предчувствием отразилось в сердцах французских и итальянских вальденсов известие о приезде верхнеломбардского инквизитора Савильяно в Пиньероль и Киери, старые прибежища еретиков в северной Италии.
До нас дошли протоколы этого процесса целиком, со всеми подробностями (83). В них, собственно, интересны те обстоятельства, которые указывают на постоянную и взаимную дружбу между альбигойцами и вальденсами. Инквизитор часто становился в затруднение, к какой ереси отнести своих подсудимых. От постоянного общения догматы одного исповедания смешались с другими, так что катарство в его первоначальном виде исчезло.
Но, во всяком случае, пиньерольские еретики, которых явился карать Савильяно, в 1387 году были менее вальденсы, чем катары. Они, конечно, сами могли называть себя вальденсами, так как жили в одинаковых политических условиях с обитателями других соседних долин, но их дуализм и воспоминания о манихеях ясно показывали существенное направление их религиозных убеждений. У них было видно также знакомство с воззрениями бегинов. Пиньероль был, одним словом, сборищем последователей всех учений, враждебных Риму84.
Впрочем, строй церковной общины продолжал оставаться чисто альбигойским — с диаконами, старшими и младшими сыновьями. Существенное сходство с вальденсами, не обманувшее инквизитора, состояло разве в том, что его подсудимые в одинаковых с ними выражениях осуждали Римскую Церковь, называя ее блудницей, отвергали посты и осуждали светскую власть католических государей.
В марте 1387 года инквизитор верхней Ломбардии, Антоний да Септо ди Савильяно, проведав, что число еретиков в Пиньероле и в соседних с ним селениях Сан-Мартино, Нерозе, Люцерне и Асти не уменьшается, явился перед пиньерольцами со всем трибуналом. Он имел целью произвести, между прочим, следствие по поводу убийства монаха Паво, в котором прямо обвинялись жители Перозы. Савойский герцог предписал своему канцлеру, а также и пиньерольскому судье оказывать содействие инквизитору. По водворении в Пиньероле трибунал прежде всего воспользовался одним священником по имени Галозна да Сан-Рафаелло, который был заподозрен в сочувствии к ереси и который, испугавшись пытки, согласился стать доносчиком на горожан. Священник был заключен в тюрьму, где ему пришлось просидеть более года до окончания следствия. Городской нотариус стал делопроизводителем трибунала. В одну ночь было разобрано дело четырех главных подсудимых. Первым привлечен зажиточный горожанин Иоанн Фовр. Его привели в капеллу. Вопросы, которые предлагали ему, сходны по сущности с допросом прочих подсудимых (85). Его обвиняли, что он присутствовал при проповеди и благословении хлеба и вина, то есть при consolamentum. Он сознался, что пробыл всю ночь на сходке, прибавив, что когда погасили огни, то все присутствующие кинулись на женщин и что подсудимый выбрал себе девушку по имени Маргарита, с которой совокуплялся два раза. Двое дру- гих, женщина и мужчина, изложили догматы своей веры. Они отрицали Бога-Сына, Духа Святого, молитву за умерших, чистилище. Они сознались, но не с первого раза; господин инквизитор остался недоволен и погрозил пыткой. Но до нее не дошло дело, второй допрос был снят без пытки; обоих подсудимых даже не вводили в пыточную камеру.
Благодаря признанию все трое были осуждены только на пожизненное заточение. Снисхождение было оказано также за то, что подсудимая Матерна назвала поименно до ста подозрительных лиц, которых встречала на сходках. По своим убеждениям подсудимые принадлежали к альбигойцам.
Не такова была судьба Лаврентия Тальярето из Люцерны, который посещал еретических учителей уже после отречения от ереси, каялся у них и получил разрешение, хвалил их образ жизни, пил и ел с ними. Он был осужден, как отпавший, на смертную казнь. Этот человек, вероятно, пользовался большим уважением в общине: он способен был возбудить к себе фанатическую преданность. За его казнь одна женщина неустрашимо назвала инквизитора палачом — при полном заседании трибунала (86). Это была некая Бруинаско, за свою благородную смелость она поплатилась двойной пыткой — в ее протоколе два раза повторяется страшное и лаконическое: «Господин инквизитор не доволен».
Рядом с действительными еретиками привлечена была к процессу не одна сотня оговоренных; некоторые не могли ничего ответить, когда спрашивали, например, была ли лет двадцать тому назад в таком-то месте конгрегация вальденсов. В Пиньероле Савильяно пробовал вызывать иногда целые деревни.
В продолжение марта и апреля к суду привлекались почти исключительно альбигойцы; изредка встречаем нечто похожее на верования вальденсов; но вот с июня или, точнее, с 29 мая, выступает на сцену и другой элемент церковной оппозиции. То были отложившиеся францисканцы. Брата Антония Галазну прежде всего сочли нужным допросить о том, какое платье он носил, будучи францисканцем; назвав третий орден, он сам выдал себя; четырнадцать лет он принадлежал к обществу бегинов. Он рассказывал об обряде Вечери, который тогда выработали у себя бегины. Некто Мартин призвал к себе двух францисканцев; перед ужином он взял хлеб и преломил его на пять равных частей: две гостям, третью жене, четвертую себе, пятую служанке. Потом пили вино все из одной чаши поочередно. За трапезой Мартин говорил, что нынешние духовные по наружности кажутся благочестивыми, а в душе хищные волки. Он не признавал Бога в Евхаристии, потому что Господь всегда пребывает только на небесах, называл Римскую Церковь домом лжи, прибавляя, что ни папа, ни священники не могут разрешать от грехов, если они только не принадлежат к бегинам. Отвергая чистилище, он допускал вместе с тем, что брать, например, восемьдесят или девяносто процентов не является грехом (87). Подсудимый горько каялся в своем двуличном общении с такими еретиками и предпочитал быть растерзанным волками или погибнуть в страшных мучениях, чем лишиться надежды на спасение.
Но и бегинство не могло повлиять на искоренение альбигойских суеверий (88); проповедь разврата находила много поклонников. Последние следствия были произведены над бегинами из Киери, на которых, в свою очередь, повлияло альбигойство. Приговор инквизиции был торжественно прочтен в Турине и утвержден туринским архиепископом. Иаков Бек, главный подсудимый, был в близких сношениях с упомянутым еретиком Мартином. Он уже тридцать лет носил рясу так называемого третьего ордена; всю свою жизнь он провел в странствиях и несколько раз был в Риме.
Для нас важно, что Иаков Бек имел сношение со славянскими землями; оттуда не переставали приходить проповедники, хотя боснийская Церковь клонилась уже к падению и носила только политический характер. Трое дуалистов видоизменили бегинство Иакова в смысле смягченного дуализма; между ними был один славянин.
Бог не творил мира видимого, то было делом дьявола, считал Иаков. Мужчина и женщина состоят не из духовного и телесного начала, а суть порождения демона, и те только, кто спасаются на земле, имеют душу ангелов небесных. За тем следовало отрицание таинства и Символа веры, креста и присутствия Спасителя в таинстве Евхаристии. Он не хотели и слышать о таинстве воплощения.
Восставая против папы и его главенства, альбигойцы не понимали необходимости запрещения работы по праздничным и воскресным дням. Они отрицали чистилище и ад: «То и другое и без того видим в повседневной жизни». Не крещение, а обращение в альбигойскую секту очищает человека и избавляет от власти дьявола; для этого требуется полное сознание и зрелые лета. Для женщины, например, срок определен двадцатью пятью годами. Все чтимое иудейской Церковью отвергается, начиная с патриархов и Моисея, кончая святыми и мучениками. Моисей, этот великий грешник, получил свой закон не от Бога, а от дьявола (89). Ни Страшного Суда, ни воскресения мертвых не будет; потому излишни молитвы и подаяния за умерших.
Вот какое учение проповедовалось в Киери. Славянское влияние продолжало действовать в конце XIV столетия. Это было катарство в том самом виде, в каком оно было известно еще три века тому назад.
В пьемонтских ущельях и городах застаем те же обряды между еретиками, какие знакомы читателям из первого тома нашей книги. Традиция не замирала; религиозный обряд совершался с той же точностью и правильностью, как в старые времена. Между прочим находим интересную и новую подробность касательно consolamentum. Больного спрашивали, хочет ли он стать мучеником или исповедником. Вероятно, естественная смерть не всегда была последствием болезни, но и другой выбор представлял мало утешительного. Принявши consolamentum, больной должен был на трое суток отказаться от пищи и питья и на всю жизнь от своего имущества в пользу посвященного (90). Случалось, что больной не выдерживал такой суровой диеты и умирал, но наследники уже не могли рассчитывать на его имущество.
Полагаем, что этот факт был одним из явлений деморализации, постигшей альбигойскую Церковь в период ее заката. Пьемонтские альбигойцы называли тогда себя Газарами. Обыкновенно инквизитор обращался к ним с вопросом: «Являешься ли ты Газаром?» Если подсудимый принадлежал к числу «совершенных», то обыкновенно прямо отвечал утвердительно, как бы вызывая тем на бой своего судью. Но в массе своей, как известно, еретики имели наставление не сознаваться для пользы своей веры.
Процесс 1387 года был вызван общим тревожным настроением римской курии. Но если ей легко было выместить тревогу на пьемонтских дуалистах, опиравшихся на отвлеченные принципы, то труднее было победить практическое протестантское движение, которое проявилось тогда в Англии.
Прошло пять лет с тех пор, как на Лондонском Соборе были осуждены положения Джона Уиклифа; уже три года, как не было в живых его самого, но его тень и плоды его учения не переставали тревожить папство[74]. Могущественное заступничество короля Ричарда II спасло английского реформатора от казни, — и тем неистовее обрушился Рим на тех протестантов, которые были у него под руками. У уиклифистов и альбигойцев были общие идеи: непримиримая ненависть к римской блуднице, восстание против светской власти пап, монашества, духовных имуществ, десятин и тому подобное.
Возможность высказать такой протест в пределах Франции и Италии объясняется только анархическим состоянием курии. Но и при этом смелость не проходила даром. В 1393 году в Эмбрене сожжено восемьдесят вальденсов, а вслед за ними в Вальдуизе сто пятьдесят человек; это была половина местного населения.
Окончание авиньонского пленения и прекращение папской схизмы[75] стало сигналом к истреблению остатков катарства и к гонению на последних вальденсов. Серьезного значения альбигойству более на Западе не придавали.
В Риме знали, что ересь, покидая Запад, приняла обратное движение к Востоку Европы; она спешила возвратиться в то лоно, которое вскормило ее. В славянских землях Балканского полуострова она еще сохраняет жизненность. Там она выражала патриотические стремления, была символом церковной и политической самостоятельности славянских племен. Там, как ни слаба была ее духовная сила, она все же продолжала иметь политическое значение, как в былые времена в Лангедоке.
В Сербии ересь, прежде почти господствовавшая в форме богомильства и павликианства, уже к концу XII столетия стала гонимой. Династия Неманичей выказывает ревность к восточноевропейскому православию. Святой Савва снова водворил православие и дал прочное устройство местной греческой Церкви. Когда ересь хотела возродиться снова, опираясь на «благородных», то встретилась с судилищем инквизиции. По просьбе короля Милутина папа Гонорий IV временно отправил в Сербию францисканцев, которые после были сменены постоянным трибуналом, учрежденным для славянских земель. Но «бабунска речь» не угасала в Сербии до конца XIV столетия; иначе законник Душана не определил бы гражданской смерти за ересь.
Казалось, в Болгарии ересь имеет более прочные корни существования. Там она была знаменем национальных интересов. Она была символом самобытности Болгарии, теснимой в одно время греками и латинянами. Венгерские
короли, которые хотели поработить Болгарию, приносили с собой ненавистный папизм. Царь Асень I опирается на богомилов. Его положение — самое ужасное; он с двух сторон окружен латинянами, которые идут на него с крестом и мечом в руке. Он устоял в борьбе с венграми. Но когда миновала опасность, то богомильство уже не могло найти себе прочной защиты, хотя оно не оскудело проповедниками и мучениками. Но у тех и у других не было каких-либо идей, они были скорее изуверами и юродивыми, чем еретиками.
Те болгарские катары, которые стали подданными венгерских королей, были обращены в католичество огнем и мечом в начале второй половины XIV века[76]. Две тысячи францисканцев работали над этим делом; многие из них, правда, погибли от народной мести, но начало католического влияния было положено.
Православное духовенство было менее счастливо в борьбе с богомильством. Но когда турки покорили Болгарию и разрушили византийскую империю, то фанариоты, имея защиту в лице султана, уже не стесняемые прежней опекой императорской власти и действуя более самостоятельно, уничтожили следы богомильства. Если где они встречали затруднение, то это было в округах, пограничных с Боснией, в которой богомильство долгое время было почти господствующей религией.
Труд сербского историка Петрановича достаточно раскрывает историю и строй так называемой боснийской Церкви (91). Для нас важно указать аналогию между Церковью альбигойской и боснийской, хотя должно заметить, что боснийские богомилы по религиозным убеждениям несколько отличаются от болгарских богомилов. Богомильство в Боснии укрепилось в результате напора католицизма; оно послужило такой же опорой патриотическим интересам, как в Болгарии и Сербии. Лучший из боснийских государей Бан Кулин в конце XI века открыто принял сторону богомилов, и его преемники ведут постоянную борьбу с папами и католическим духовенством. Бан называл их «добрыми христианами». Питая уважение к монашескому житию, богомильские иноки называли себя крестьянским чином, хотя по образу жизни они едва ли были иноками. Эти монахи считались проповедниками и наставниками боснийской веры. Их глава называл себя господином дедом боснийским, что соответствовало католическому папе; его избирали настоятели монастырей. Он жил в городе Крешеве; его окружали двенадцать лиц, называвшиеся «стройниками»; это были ministri альбигойские из священнослужителей; между ними старцы соответствовали диаконам епископа, а гости старшим и младшим сыновьям при особе епископа.
Богомильство до того охватило всю Боснию, что католический дубровницкий архиепископ посвящал в XIV и XV столетиях в епископы Боснии еретиков (92); тогда дед и официальный епископ совмещались в одно лицо. Вся династия боснийских Котроманичей (1273-1463 годы.) исповедовала богомильство, и казалось бы, только здесь могли найти приют и защиту гонимые альбигойцы. В действительности было не так; альбигойцы покорялись силе и не хотели менять своего прелестного Прованса на балканские ущелья.
Обыкновенно боснийские баны не крестились, и к этому обряду побуждало их только опасение крестовых нашествий. Зато когда баны поддавались внушениям из Рима, то теряли всю популярность в народе; их патриархальные связи с подданными становились натянуты и, наконец, совсем прерывались; против них начинался мятеж (93). Католические миссионеры, приносившие крест и крещение, встречали вооруженное противодействие, если не имели с собой внушительной силы. И в этой земле, как в Болгарии и Сербии, только турецкое завоевание могло уничтожить ересь; и православная, и католическая пропаганда в своих действиях встречала поддержку в мусульманах. В Крешеве, на том месте, где некогда красовался дворец богомильско-го деда, был сооружен францисканский монастырь, который и ныне с прежней силой пытается католизировать всю окрестность.
Боснийцы, потеряв свою особую веру, став мусульманами, католиками и православными, потеряли и свою национальность. Слабое воспоминание о крестьянском чине, может быть, сохранилось в звуке «крштяне», как называют себя католические босняки в отличие от «рштяне», босняков греческой веры. Не есть ли это признак католического торжества в истории уничтожения богомильства? Закоренелая ненависть к латинству, или, что то же самое, к потере самостоятельности, выразилась в том, что потомки еретиков скорее соглашались отурчиться, чем стать католиками.
В то время как катарство погибло в своей метрополии, оно не могло уже существовать в Западной Европе. Чем меньшую оппозицию встречал католицизм, тем с большей жестокостью он относился к дерзким и враждебным ему проявлениям. Он уже не жил внутренней жизнью и, казалось, сам клонился к падению или преобразованию.
Начинался XV век, богатый историческими событиями, но бесцветный для Рима. Католицизм был тогда в крайне деморализованном положении. Авиньонское пленение, схизма и анархия в курии, грязный разврат первосвященников и кардиналов — все это благоприятствовало протесту и как бы узаконивало его пред лицом общества.
Учение Яна Гуса и Иеронима гремело по всей Чехии и возбуждало внимание Запада и особенно Лангедока, где были распространены сочинения реформатора. Вдобавок чума и голод производили недовольство в народе и внушали недоверие к господству духовенства. Но инквизиция стояла на страже порядков. Потому всякое стремление католицизма внутренне переродиться парализовалось проявлением насилия.
Одним из таких моментов был Констанцский Собор. В осуждении Гуса папство следовало преданиям своей истории и всему направлению деятельности инквизиции, охранявшей существование папизма[77].
В то самое время, когда Европа была занята толками об ереси чехов, а Франция, потрясенная несчастной войной, готовилась к гибели[78], в благочестивом городе Монпелье, вдали от театра войны, 15 ноября 1416 года совершалось одно из таких католических торжеств, которые были вообще не редки. Громадный кортеж из духовенства и народа продвигался с пением церковных гимнов к женскому загородному монастырю. Морские консулы предводительствовали процессией. Впустив в обитель женщину под покрывалом, они заперли ее в келью; процессия пошла назад в том же порядке: народ разошелся в особенно набожном настроении. В добровольной заключенной рассчитывали увидеть впоследствии святую. Но скоро настало общее разочарование. О будущей святой стали ходить невыгодные слухи.
Ее звали Екатерина Сов (94). Она была родом из Лотарингии; городок Тон был местом ее рождения. Эта местность, пограничная с Шампанью, не лишена была еретических традиций. Читателям известно, какое вообще значение имела Шампань в истории альбигойцев. Как ни успешно старалась инквизиция искоренить следы ереси в этой области, она не могла даже через два века ручаться, что кое-где не проявятся прежние воспоминания и сим-патии.
Екатерина долго думала об этом темном, старом альбигойском учении. По прибытии в Монпелье она не могла встретить поддержки своим мечтаниям, но также не могла получить ответа на мучившие ее сомнения. В XV веке горожане Монпелье отличались вполне католическими чувствами и фанатизмом. Среди них постоянно жил викарий главного каркассонского инквизитора, отец Кабесс. Сам главный инквизитор навещал Монпелье, и тогда город принимал его с подобающим почетом. В 1409 году консулы поклялись перед ним, стоя на коленях, положа руку на Евангелие, изгонять еретиков и их покровителей из общины, если и другие окажутся в ней. Но уже давно не приходилось прибегать к подобной мере.
И вот до викария доходит почти невероятная новость, что схимница Екатерина, принимая у себя в келье своих почитателей, внушает им весьма странные учения: ни более ни менее как еретические выдумки. По ее словам, младенцы, умершие вскоре после крещения, не могут быть спасены, потому что не понимают догматов христианской веры. С тех пор как чудеса перестали посещать избранников на пер-восвященническом престоле, не стало истинных пап, кардиналов, епископов и священников. Католическая Церковь должна состоять только из лиц, ведущих достойную, апостольскую жизнь, которые были бы согласны скорее принять смерть, чем оскорбить божество. Все прочие не признаются христианами. Обряд Крещения, совершенный дурными священниками, не ведет к спасению; эти лица не способны совершать какое-либо таинство; в их руках хлеб остается хлебом, а не телом Христовым. Вообще, по ее словам, нет надобности исповедоваться у священника; всякий мирянин способен заменить его. Плотский грех всегда останется грехом; потому сожительствующие муж и жена не могут наследовать вечную жизнь. Чистилище не существует для людей умерших; настоящая земная жизнь есть сама по себе Чистилище.
В таких восьми положениях заключалась новизна учения монпельерской отшельницы. Легко узнаем в них старую догматику альбигойцев. Напрасно вальденсы считают Екатерину мученицей своей Церкви (95). Она восстает против крещения водой, ненавистного для катаров. Она требует высокой нравственной жизни от духовенства, готовности к самопожертвованию, — это идеал «совершенных». Если прочие положения делают ее учение родственным всякому рациональному протестантизму и дают некоторым историкам основание считать ее за предшественницу Лютера и Кальвина, то ее мнение о брачном сожительстве несет на себе все признаки крайнего катарства. Ее мысль о чистилище заподазривает знакомство с учением катаров о метемпсихозе.
Учение Екатерины вызвало внимание властей гражданских и духовных. Она договорилась до того, что в ее келью пожаловал отец Кабесс, вместе с магеллонским епископом, сопутствуемый консулами, ректором, профессорами и студентами университета. Начался допрос; подсудимая созналась (96). Она не думала отрекаться от своих убеждений, и потому была обречена на сожжение живой.
2 октября 1417 года ее привезли к эшафоту. Толпы наводняли площадь, открыто высказывая сожаление об еретичке. Чувство враждебности к инквизиции было унаследовано монпельерцами еще от прежних веков. Когда сожгли Екатерину и ее пепел развеяли по воздуху, то эта сцена подействовала на жителей иначе, чем ожидали. Во всех классах народа заговорили, что схимница погибла напрасно. Ропот дошел до того, что духовные власти должны были принять меры.
Через восемь дней после совершившейся казни тот же инквизитор, отслужив торжественную мессу, взошел на кафедру и убеждал католиков, что еретичка, она же и колдунья, погибла за великую ересь и неискупимые свои прегрешения. Неизвестно, как подействовали эти уверения на публику. Знаем только, что место казни мнимой колдуньи стало после с легкой руки инквизиции лобным местом Монпелье, а ближние ворота в народе прозвали «Въездом чародеек».
Так как документы по процессу Екатерины не дошли до нас, то мы не имеем данных для знакомства с характером судопроизводства провансальской инквизиции в XV столетии. Нельзя сказать, чтобы оно было аналогично с испанским, потому что один документ, правда несколько ранний (от 1357 года), но тоже относящийся к деятельности монпельерского трибунала, освещает более благоприятным светом способ действий местных судилищ.
Инквизиторский викарий не решился взять на себя одного осуждение памяти священника Петра Торнамира, подозревавшегося в бегинстве и тридцать лет тому назад умершего в тюрьме до суда, тотчас после предварительного следствия. Известно было только то, что покойный знавал еретиков и перед смертью не приобщался (97). Инквизиция пригласила для решения этого вопроса известных городских богословов, юристов, духовных и светских докторов и бакалавров из университета. Всего набралось таким образом двадцать семь человек. Магеллонский епископ отказался председательствовать, так как предложение сделал ему не сам инквизитор, а его наместник; он поручил заменить себя своему викарию. Трибунал, составленный таким образом, смотрел на свою задачу с чисто ученой точки; он не решился осудить память не осужденного судом. Почти все, начиная с председателя, высказались против осуждения, настроенные благородною речью профессора и легиста Троше. Оратор заявил, что он не рискует стать подозрительным в своем правоверии, если скажет, что симпатия к еретикам и самая ересь — вещи различные; что можно не гнушаться общества еретиков, но не разделять их убеждений. Покойный был истинным католиком, исповедовавшим символ веры, хотя ел и пил с ними.
Даже для той эпохи такие мысли были смелыми и прогрессивными. Замечательно, что члены трибунала отозвались на них сочувственно. Только два голоса оказались на противной стороне; они принадлежали доминиканцам, которые упорно следовали назиданиям своего ордена. Представители инквизиции не вмешивались в продолжение прений; они как бы отстранились от дела, предоставляя его решить воле призванных лиц.
Напрасно думать, что такие примеры повторялись часто; документально нам известны только еще два подобных случая, несколько ранних (98). Но так как в своем портфеле мы имеем целый ряд приговоров над бегинами без всякого ограничения верховных прав инквизиции, и притом современных упомянутому случаю, то можем не согласиться, чтобы указанные факты не были исключением. Для нас важно было показать только одно, что со временем епископская юрисдикция взяла верх над инквизиторской и во всяком случае уравнялась с нею и что инквизиция, вследствие крушения папского престола, потеряла большую долю прежнего могущества и прежней исключительности. Так было, по крайней мере, на Юге Франции. Бури Реформации снова пробудили энергию инквизиции, но не дали ей всевластия.
Деятельность инквизиции стала сосредоточиваться более на волшебстве, вопреки первоначальному ее назначению. Ей, видимо, хотелось и из еретиков сделать волшебников и магов, чтобы более очернить их. Так она относилась к еретикам северной Франции. Постепенно слово «альбигоец» исчезает, и всякие еретики называются вальденса-ми; их истребляют еще неистовее, потому что их мало и потому что они считаются колдунами. До нас дошло несколько подобных фактов, рассеянных в памятниках XV века.
Если вальденсы в своих недоступных альпийских лощинах сохранили независимость, то в северной Франции они, будучи единицами, должны были постоянно опасаться за свою жизнь. Они считались в народе друзьями дьявола. Согласно хроникам, они совершают ночные оргии с дьяволами и собираются на шабаш убивать детей. Стоило только назвать кого-либо вальденсом, чтобы завтра его осудили на более или менее жестокую казнь.
Еретики еще встречаются в Аррасе, и там их усердно ищет инквизиция. Доктор богословия Гильом д'Олив за сношения с дьяволом пожизненно осужден как вальденс в 1463 году. Трудно становится разобрать, с кем имела дело инквизиция Арраса. Некоторые намеки и характер народных легенд заставляют думать, что под именем вальденсов скрываются дуалисты. Они то не сознавались в ереси, то лишали себя языка, чтобы не отвечать. Их пыткой вынуждали давать письменные показания. Те, которых казнили, умирая, говорили о своей невинности. Многие действительно погибли по одному нелепому подозрению.
Изредка за осужденных вступались епископы; так, в Амьене и Туре они освободили арестованных. Дружественные и определенные отношения между инквизицией и церковной иерархией начинают колебаться. Верховная и государственная власть, чувствуя свою силу, вооружается, в свою очередь, против самовластия трибуналов и особенно против главного инквизитора Франции и Бургундии Жака Дюбуа. Парижский парламент и бургундский герцог Филипп Добрый иногда протестуют против его образа действий.
Но надо думать, что Дюбуа был исключением. Он умер, как полагают, отравленным; сами католики считали его мучительную смерть небесным возмездием. Время могущества инквизиции для Франции миновало. Сама Реформа не возродила его. Парижский парламент в 1491 году отказывается утверждать постановления трибуналов, а из конфискованных имуществ велел составлять капитал для поминовения их душ в кафедральных соборах. Внешние почести и декоративность остались за инквизицией. Трибунал Тулузы назывался по-прежнему (с 1331 года) королевским судом, а безумный Карл VII в 1442 году дал главному инквизитору титул королевского советника. Скоро инквизитор Тулузы стал называться инквизитором всей Франции. Но существенного значения трибуналы не имели. Королевская власть успела подчинить их себе.
В других странах общественное мнение и власти продолжали гораздо сочувственнее относиться в деятельности инквизиции. Нетерпимость имела своей союзницей всю Европу. Римский двор даже в эпоху реорганизационных попыток, как при Евгении IV, в 1441 году внушает нарбоннскому архиепископу покорность распоряжениям инквизитора Петра Тюрлюра и уничтожает все, что сделано местной иерархией против его желания. Папа заявляет, что инквизиция должна по-прежнему охранять католическую Церковь, расширять ее пределы, покорять ее врагов и уничтожать ересь (99).
В Германии вплоть до Реформации существовало мнение, что поголовное истребление таких врагов Церкви, как жидов, — занятие вполне благочестивое, а отсюда уже один шаг до подобной же расправы с еретиками. Там в 1462 году было заявлено маркграфом бранденбургским, что император при коронации должен во всех своих владениях отнять у жидов их имущество и убить их всех, оставив весьма немногих, и то лишь «для напоминания» о христианской ревности. Бамбергское уголовное уложение 1507 года в сто тридцатой статье удержало смертную казнь за ересь, постановив, что всякий, признанный духовным судьей, то есть инквизитором, за еретика и представленный светскому судилищу, должен погибнуть на эшафоте (100).
Великая Реформация далеко не принесла с собою терпимости; протестанты даже воспользовались оружием своих врагов, несмотря на уроки истории. Если Лютер сомневается, чтобы «палачи были самыми учеными богословами», то Кальвин рекомендует меч как вразумительней-шее средство для покорения тех, кого он считает еретиками; «суд мечом сдерживает еретиков» — стало лозунгом его последователей.
Между тем менее чем за полвека до его проповеди тех самых людей, которые были его предшественниками и которых он искренно называет своими братьями, истребляли как диких зверей, во имя той же искомой истины и тем же «судом мечом». Вальденсы Пиньероля, гонимые за свою веру жестокой Иоландой (Violente, «Свирепой», как ее прозвали), герцогиней савойской, достойной сестрой Людовика XI, дождались после ее смерти еще худших времен.
Папа Иннокентий VIII, отец восьмерых детей, исполняя просьбу ее сына герцога Карла I, приказал в 1486 году поголовно истребить вальденсов, их жен и детей, и с этою целью сделал облаву на их лощины. Широковещательной буллой он сзывал полчища крестоносцев и писал слово в слово, как его предшественник триста лет тому назад: для вечного Рима не существует разницы во времени. Он разрешал от обетов и грехов тех, кто ополчится, и тем более тех, кому удастся умертвить еретика; явные насилия и злодеяния переставали быть преступлениями. Все обязательства с вальденсами недействительны; их имуществами может овладеть всякий, кто пожелает (101).
Благодаря таким обещаниям восемнадцать тысяч французов и пьемонтцев окружили неприступные ущелья Пи-ньероля и Кавура, от савойской деревни Биолето до французской границы. Казалось, что при падении средневекового мира одним ударом хотели сокрушить слабые остатки и средневековых протестантов.
Таким образом, Новая история начинается крестовым походом на новых альбигойцев, во многом аналогичном с погромом Лангедока. Легата Арнольда заменял более свирепый, архидиакон кремонский, Альберт Каттанео, который послал перед собой доминиканских проповедников, конечно не достигших желаемой цели. Монфору соответствовал черный и страшный наемник де Мондови.
Крестоносцы в один день начали атаку со всех сторон. Положение несчастных вальденсов было критическим — у них не было ни пороха, ни ружей. Они молили, чтобы им сохранили жизнь и веру в этом единственном их приюте, но напрасно. Тогда они спрятали в недоступные трущобы бессильных стариков, женщин и детей, а сами заняли вершины родных гор, сосредоточившись на главном пункте. Страшный лес копий встретил врага, побуждаемого надеждой поживы. Мондови был впереди, он снял с себя шлем, как бы презирая ничтожных поселян. В это время стрела, пущенная одним молодым вальденсом, поразила его в лицо. Смерть вождя расстроила крестоносцев. Вальденсы спустились с гор и ударили на врага, бежавшего в смятении. Победители прозвали себя израильтянами Альп. Со стороны Ангронской горы вальденсам помогла самая местность. При первых попытках взобраться на вершину католики полетели с крутизны в пропасти и котловины. В долине Праджела вальденсы отбивались от нападающих камнями и гранитом, который они отрывали от скал и спускали на крестоносцев.
Короче, всюду Каттанео потерпел поражение. Удовольствовавшись немногими пленниками, он отправился на новые подвиги во Францию, в Бриансон.
Здесь ему посчастливилось. Со своими громадными силами в 1488 году он обложил деревню Фрейзиньер, пленил всех ее жителей и под ножом обращал их в католичество. Потом он направился на Вальдуизу, население которой в продолжение ста лет дошло до трех тысяч человек. Вальдуизцы собрали свои стада и ушли всеми семьями на один из альбигойских отрогов Пельву, который поднимался еще на шесть тысяч футов выше Вальдуизы. Тут они расположились на широкой скале, поместив женщин и детей в пещерах. Но крестоносцы обошли их и истребили после страшного побоища. Те, кто хотел спастись от меча, погибли в пещерах от пламени со своими женами и детьми.
К началу XVI века вальденсы, эти могикане средневекового протестантизма, были сокрушены. Среди развалин дымящихся селений гордо стоял только один Пиньероль, который стал центром погибающей оппозиции и ее твердыней. Казалось, что и эта последняя опора не устоит в море католицизма. Тайком пробирались в Пиньероль на совещания барбы вальденсов. Но герои Пиньероля, столько выстрадавшие за свои убеждения, скоро дождались, как высшей награды, более счастливых дней. В 1519 году до них дошла весть, что в соседнем Дофинэ, в Барселонете, явился проповедник, который учит тому, что они и их предки привыкли давно считать святым. Это был Форель, предшественник Кальвина. Они услышали, что его учение во всем населении встречает восторженный прием и что пред ним немеют самые смелые католические патеры.
Тогда последователи древнего учения вальденсов протянули братскую руку борцам нового протестантизма. Те и другие не видят существенной разницы в своих религиозных убеждениях. Если не последовало полного слияния, то более потому, что вальденсы имели основание гордиться своей чистой и старой историей. Первое время большинство гугенотских пасторов было из Пиньероля.
Реформация сменила в более благородной и живой форме разные виды средневековой церковной оппозиции. Альбигойство к тому времени в чистом виде жило только в преданиях. Его непосредственная история прерывается задолго до Реформации. Как незаметно слагалось оно, так незаметно и кончилось. Отголоски катарства редко слышатся на широком пространстве двух столетий, и в них едва можно подметить звуки старого учения катаров. Их собратья, не по идеям, а по борьбе, бегины, подобно вальденсам, имеют более правильную историю.
Тулузской инквизиции XVI века, вместе с лютеранами и кальвинистами, в то же время приходилось иметь дело с францисканцами. Один из них, Жан Ескалье, в 1554 году был осужден архиепископом нарбоннским и тулузским инквизитором на позорную и мучительную смерть. Его лишили сана, потом привязали к высокой повозке, обвязали шею веревкою, уцепились за нее и так таскали в сопровождении громадной толпы по всему городу, останавливаясь на площадях и перекрестках; потом приволокли его искалеченный труп на лобное место и сожгли |02. За что погиб этот монах — протокол умалчивает; он не уличает его в кальвинизме. Может быть, Ескалье был последним представителем лжеапостолов, может быть, он, следуя их убеж- дениям, оказал изменническую снисходительность протестантам. Во всяком случае, им прерывается связь нового протестантизма со средневековым. Его процессом заканчиваются тяжелые страницы протоколов тулузской инквизиции.
Духовные трибуналы в решительный момент оказались, как и следовало ожидать, бессильны удержать развитие протестантизма. Они были сокрушены в этом бурном пото¬ке. Вместе с собой они увлекали к гибели Римскую Церковь, которая некогда призвала их на помощь. Удар за ударом наносили ей великие проповедники нового учения. Каждый день она несла громадные потери. Чтобы устоять, она обратилась не к трибуналам, а к иным, не средневековым средствам.
Тогда все люди были в каком-то величаво-восторженном настроении. Казалось, весь мир готов был обновиться. С небывалым энтузиазмом кинулся Запад к источнику новых идей.
Оправдала ли Реформация всеобщие ожидания современников, постигли ли ее вожди тайну истинного успеха религиозных движений, прозрели ли они из горького примера католичества все зло нетерпимости, — это достаточно известно из ее истории.
Обзор источников и пособий для книги первой
Предметом этого обзора будет критическое рассмотрение источников, указаний и пособий, послуживших к составлению первого тома предлагаемого сочинения.
Нельзя сказать, чтобы источников к ознакомлению с альбигойскими вероучениями, крестовыми походами на Лангедок, а тем более с современной им эпохою, было недостаточно; каждая сторона нашего исследования имеет для себя собственный запас источников. С большей основательностью такой упрек можно отнести к пособиям: весь имеющийся по нашему предмету материал не был исчерпывающим. Так, достаточно подробно отображены источниками крестовые походы на альбигойцев. И тем более историк должен воспользоваться имеющимся по этому вопросу материалом, что характер его двоякий, так как эти источники исходят из враждебных между собой лагерей.
Основных, притом непосредственных, источников для изучения альбигойских крестовых походов при Иннокентии III и далее до 1218 года имеется два, из которых один противоположен другому по направлению, содержанию, характеру и изложению. Один принадлежит перу фанатичного католического монаха и написан на латыни в духе апологии Монфора; другой, написанный в форме поэмы, принадлежит трубадурам, питавшим сочувствие к несчастьям Прованса. Такая случайность особенно драгоценна для науки, когда сам вопрос такого свойства, что не может не быть извращен личными чувствами летописцев. Подсудимые той и другой стороны представляют своих адвокатов перед историческим трибуналом.
Относительно непосредственно исторического достоинства предпочтение надо отдать католической летописи. Petrus Sarnensis sou monachus coenobii Vallium Cernaii (Pierre de Vaux-Cernay, P. Cern, Петр Сернейский) был участником крестовых альбигойских походов, которые описал в восьмидесяти шести главах, под общим заглавием: Historia Albigensium et sacri belli in eos anno 1209 suscepti duce et principe Simone de-Monteforti— от легатства Петра де Кастельно до смерти Монфора (1203—1218 гг.)[79]. Главный герой его— Монфор, смертью которого (1218 г.) заканчивается летопись; вокруг этой личности сосредоточивается весь интерес изложения. Петр сопутствовал в походе своему дяде Гюи, аббату цискрцианского монастыря Во-Сернэ (в парижском диоцезе). Аббат Гои был одним из главных агитаторов крестовой идеи; он участвовал также в походе 1204 года на Царьград (P. Cern., с. 20). В альбигойскоы завоевании Гюи получил долю: в 1212 году он был избран в епископы Каркассона (P. Cern., с. 60); Гюи исполнял также обязанности лггата и не без успеха участвовал в военных предприятиях, как, напэимер, при завоевании Кассенеля (ad cxpugnationem et captionem castri instantissime atque efficacissime laborabat, с. 79). При нем-то всегда неотлучно находился и цистерцианец Петр (с. 62, 63, 78), имевший возможность обстоятельно изложить походы крестоносцев; об этом он упоминает очень часто, отмечая с точностью: видел ли он (напр., с. 20 о лаворском соборе, с. 43, 60, 63, 65, 72) или слышал описываемый факт (с. 7, 37, 41, 45, 53, 64, 71). В прологе он справедливо определяет фактическую достоверность своего труда: nihil unquam apposuerim, nisi quod viderim ocniis meis vel audierim a magnae auctoritatis personis et plenissima fide dignis. Из посвящения его труда Иннокентию 111 можно заключить, что Петр начал составление своей летописи еще при жизни этого папы; может быть, он вел ее в форме дневника, по крайней мере с 1212 года, с которого изложение значительно расширяется. Странно, что на это обстоятельство исследователи не обращали внимание. Хотя автор и обещает писать просто, наследуя одну истину (non studnerim superfluis verbis ornarc codicem, sed gimplicem exprimere simpliciter veritatem. prf), тем не менее его летопись может послужить образцом пристрастия и раздражения, воплощением тех свойств, которые не должны быть в сочинении исторического рода.
Католический фанатизм автора доходит порой до самозабвения. Со стороны католика и монаха понятно находить, что крестоносцы «освободили Прованс от пасти львиной и когтей звериных»; апологету Монфора может быть позволительно находить героя похода великим образцом человеческих достоинств, не только «атлетом веры», но и «героем добродетели» (с. 18), своеобразно понятой. С оригинальной точки зрения автора летописи, резня, совершенная крестоносцами в Лангедоке, может представляться святейшей войной (с. 20); подвиг Монфора, как думает его цистерцианец, уравнивает его в мученичестве с Христом, также пораженным пятью ранами и «в сообществе с которым этот храбрейший воитель, этот славнейший мученик, счастливо соприсутствует в жизни вечной» (с. 86).
Но увлечение и религиозная нетерпимость Петра идет далее: он во имя веры гласно признает всякое злодеяние, всякий обман. Рассказав, как легат искусно обманул альбигойцев, он (с. 78) в диком восторге восклицает: O legati fraus pia, o pietas fraudulentia. Для него эта fraus pia имеет особую прелесть и доставляет ему такое же наслаждение, как костры еретиков, которых везде «пилигримы сжигают с превеликой радостью».
Летопись сернейского монаха изобилует рассказами о чудесах, нарочно для крестоносцев совершаемых небом. Ему кажется чудом даже такое обстоятельство, что камни, пролетая мимо, не убивают его любимого героя, как случилось, например, при осаде замка Терма (с. 42). Видение, чудеса от мощей записываются даже и тогда, когда они не имеют отношения к предмету изложения (с. 38). Шапка крестоносца может гореть, но автор был свидетелем, что то место ее, на котором умещается крест, недоступно для огня (с. 53). Автор летописи слышал также от очевидцев, что над трупами мучеников-крестоносцев столбом стоит пламя, среди которого отражаются их просветленные лики (с. 53). С неба раздаются голоса, уверяющие, что Монфор будет принят в число праведников, и это так верно, что молитвы за него даже излишни (с. 57). Автор верит в историческое возмездие (с. 16, 30, 61) и сердечно восхищается, когда небо отмшает кровь католическую. Тогда у него вызывается из глубины сердца непритворное чувство радости: O justum judicium, o aequa divinae dispensationis mensura (с. 30). В случае неисполнения ожиданий, что случается очень часто, Петр заканчивает объяснение бранью, в подборе которой автор неистощим (напр., с. 46, 56): hominern apostasiae principern, crudelitatis artificem, perversitatis actorem! O hominem malignorum participern, o perversorum consortem, o hominem opprobrium hominum, o virtutis ignorum, o hominem diabolicum, imo totum diabolum. В таких случаях автор не избегает и игры слов (o virum, imo virus pessimum, — говорит он про изменника Савари де Молеона). Все это не мешает католическому историку полагать, что альбигойцы боятся больше пения священников, чем оружия крестоносцев (с. 52).
Летопись Петра переполнена риторическими фигурами речи; примером того может быть каждая глава. Но необходимо заметить, что автор прибегает к риторике и напыщенности только при заявлении своих чувств и заключений по поводу рассказанного события. Сам же факт он излагает с полной обстоятельностью и достаточной простотой. Он не считает нужным передавать факты изо дня в день, позволяет себе некоторые отступления, пояснения, чем значительно облегчает чтение своей летописи, про которую нельзя согласиться с Vaissete, слишком строго заключившим про Петра, что: il est difficile d'en soutenir pstiemment la lecture» (V, ау. 6). Взгляд Гизо потому гораздо справедливее: «I1 en est peu de plus partiales que la sienne et que doivent etre lues avec plus de mefiance; mais aucune peutetre n'est plus interressante, plus vive, et ne fait mieux connaitre le caractere du temps, des evenemens et du parti de l'historien» (Coll., XIV, not. 9).
Действительно, приемы изложения сернейского пилигрима при описании сражений, осад и тому подобных событий заслуживают наилучшего отзыва. Таким образом, выделив личные воззрения автора, его суждения, навеянные цистерцианской средой и фанатическим характером, можно прийти к заключению, что сочинение Петра Сернейского составляет не только единственный в своем роде, но и точнейший памятник для ознакомления с альбигойскими войнами второго десятилетия XIII века. Сам фанатизм автора, его сердечная ненависть к альбигойцам, этот апологетический тон, доходящий иногда до забвения обыкновенных понятий, — все это не без пользы служит для исследования истины.
Если, вследствие такого характера своей летописи, Петр скрывает или извращает все благоприятное для Раймонда Тулузского и его партии, то он же обнажает все бесчестные проделки легатов и местного католического духовенства, простодушно думая послужить тем интересам Церкви. Собрав все, что может компрометировать альбигойцев и лангедокских феодалов, он же, сам того не замечая, в порыве религиозного экстаза записал все, что опозорило Монфора, легатов и крестоносцев.
Имея рядом такого апологета, Монфор мог бы быть освещен совсем иным светом, если бы неизвестные трубадуры не оставили памятника, излагающего те же события с точки зрения провансальского патриотизма. Эта обширная стихотворная хроника в манускрипте названа («Вот поэма и т. д.»): Aiso es la cansos de la crozada contr els ereges dalbeges[80]. Она содержит в себе девять тысяч пятьсот семьдесят восемь стихов (сгруппированных позже в двести четырнадцать глав) и при всем своем объеме не закончена; изложение прекращается 16 июня 1219 года, прерываясь на самом интересном месте— на приготовлениях к отражению французской осады, породивших то патриотическое движение, то сознание южной особенности, которое составляет основной тон, живую струю всей поэмы.
Изложение, с обычными для эпопеи приемами, всегда особенно подробно и драматично. Время от 12 сентября 1213 года до апреля 1215 года пропущено — признак составного характера поэмы.
Исследование поэмы совершил Fаuriel, хотя последнее время Schmidt (H. des Cathares; II, 298-303), Du Mege (b Add. et notes de 1'hist. de Vaissete) h Mary-Lafon (предисловие к стихотворному переводу) несколько поколебали непреложность доводов знаменитого филолога, доводов, поддержанных Вильменом и Гибалем. Мы, ко всем упомянутым исследованиям, имеем от себя сделать только несколько замечаний. Опровержения Шмидтом (II, 301—302) доводов Фориеля относительно трубадура Вильгельма де Туделе, как автора поэмы, малоосновательны. Возражения Шмидта опираются только на текст первой части (кроме v. 7133), не задевая вторую, которую исследователь а рriori и совершенно некритически приписывает тому же Вильгельму. Но и Фориель натянуто объясняет раздвоенность поэмы (р. 158). Что Вильгельм не мог быть автором всей поэмы, это явствует уже из текста, где (v. 20) говорится, что Вильгельм сочинил книгу от начала до конца, тогда как она совершенно не окончена. Наконец, ранее чем на середине поэмы изменяется ее характер; во второй части она становится радикальнее и решительнее в проявлении патриотических чувств автора. Что автором первой части не мог быть упомянутый Вильгельм (v. 8), доказано Фориелем, в опровержение Ренуара. Кто бы ни был этот автор первой части, он достаточно сочувствует крестовому делу. Можно думать даже, что он был не чистый провансалец, хотя он мог писать ее в Монтобане в мае 1210 года (v. 205). Это выдает язык его стихов. Филологическое исследование предмета открывает в этих стихах много французского, и потому мысль Фориеля, упустившего из вида такое обстоятельство, теперь не может иметь права на исключительность. Так, в главе СХУП целый ряд французских рифм из infmitif: durcr, escaper, vendemier, denier, center, tuer, trier, blasmer. Подобным же образом составлен в главе С куплет из part, passe: fu, vertu, venu, vencu, perdu, retenu, cofondu, issu, descu, defendu. Слова в СХХ1Х: pris, rocus, mis, amis, pris, ris. Далее, французское: 3 pers. de passe defmi: fermerent (v. 2187), desrauberent (v. 2191), escrierent (v. 2192); французские формы и слова: dresser (v. 1172), cuir (v. 1790, вместо сиег), levera (у. 2093, вместо levara). Если последние формы и еще некоторые другие (заметим — по возможности исправленные Фориелем в его издании) можно было бы перетолковать в пользу провансализма, то в устах южного трубадура менее всего понятны слова: nostri baro frances (v. 2192), nostra gens de Fransa (v. 2253), наши крестоносцы (nostro Crozea, v. 2466). Слишком наивно было бы думать вместе с Фориелем, что это происходило из симпатии певца к делу завоевателей (chacune est un manifestation de sa sympathie pour eux,, р. 56), так как де в то время автор не видел еще прямой цели нашествия крестоносцев, а дышал вместе с ними католическою ненавистью к еретикам. Знаменитый филолог забывает, что тогда уже совершились страшные злодеяния Монфора и французских крестоносцев, что Бе-зьер лежал в развалинах, что пепел альбигойцев смешался с костями тех патриотов, которые боролись за дело графа де Фуа, что после поэма прославляет не только Раймонда, де Фуа и других гонимых феодалов Юга, соболезнуя о них, с искренним патриотическим чувством, и что, наконец, автор второй части был лично обязан сыну того самого графа де Фуа (Rotgiеrs Bernatz quern dsura e esclarzis, v. 7133). Потому из приведенных примеров мы решаемся заключить, что первая часть написана в северных пределах провансальской речи, что она создана под воздействием труверов. Лицо духовное, как думает Лафон (р. 31), не могло быть автором ее, потому что в то время оно высказалось бы о событиях иначе. Из того, что французское влияние проявляется кусками, можно вывести, что и сама эта часть состоит из отдельных песен. Рассказ о подвигах Гильома д'Энконтра, которым отделяется первая часть, — явная вставка; в нем много северных галлицизмов и нет прежней силы изложения. Историк катаров, сам противореча себе, приводит свидетельства из поэмы в пользу ее составности. Составитель первой части пользовался противоречивыми источниками, что не вяжется с приемами тогдашних трубадуров и ровностью их гражданского и личного чувства. Так, источниками послужили: поэмы же (v. 185, 974, 1579), книги (v. 1445, 1619), деяния (566, 806), поэт дон Изарн, приор из Мюрэ (v. 1887), какой-то большой друг автора, магистр Николай, очевидец (v. 2157), Понс де Мела (у. 112), наконец, одно должностное лицо из крестоносного лагеря (v. 2525—27, lo comte Baudois... aisi com o contet sos bailes el prebost). При таком воззрении на составность поэмы объясняется и упомянутый полуторагодичный пропуск в довольно обстоятельном пересказе событий, который должен был войти во вторую часть.
Трубадуров занимали более всего рыцарские подвиги, блеск и шум сражений вместе с излияниями личного чувства. Поэма блистательными красками изображает битву под Мюрэ, и с этого описания чувствуется влияние новой сферы, присутствие нового смелого духа. Чем далее, тем суждения автора или, лучше, авторов становятся смелее, ближе, понятнее нам, отдаленным от той великой драмы почти семью веками истории. Начинается вторая часть поэмы.
По объему она почти вдвое обширнее первой. По внутреннему содержанию она, в свою очередь, распадается на две части. В одной преобладают интересы феодализма, в другой — тулузской общины (см. разбор издания Лафона в Revue des deux mondes; 1868,1. ЬХХУШ). Начало второй части, очевидно, должно быть на сто тридцатом куплете поэмы (на р. 196 по изданию Фориеля), там, где похвалы крестоносцу Гильому д'Энконтру, «храбрее и лучше которого никого не было между бургундцами», внезапно сменяются рассказом о симпатичной автору личности дона Педро Арагонского. Стих 2739: «но я обращаюсь к прерванному повествованию» (a ma razo men torni que nos laise de la) может служить связкой составителя или компилятора, так же как и дальнейшие бессвязные стихи до 2746. Через несколько стихов в том же куплете читаем: «И мы, если проживем, увидим — кто победит, и запишем в этой истории все, чему будем свидетелями (qae nos membrara), и также все, что придет на память, постепенно, как дело будет продолжаться, и пока война окончится» (v. 2746-50). Из этих строк можно вывести два заключения: 1) автор прямо заявляет, что этим начинается его работа, и 2) автор записывал событие на походе, тогда же, с легкостью импровизации трубадура, перекладывая записанное в стихи.
Действительно, весь литературный талант автора долгое время сосредоточивается на живописном изображении военных сцен, в которых он всегда заявляет свои лангедокские и, быть может, альбигойские симпатии. Это говорит друг южных галантных баронов. Вдруг место действий внезапно изменяется (со 147 главы). Рыцарь-феодал превращается в буржуа и с точностью фотографа изображает внутреннее положение города Тулузы в период с 1216 по 1219 годы. Он говорит про родной город не только со стороны военной, но и изображая его внутреннюю жизнь. Смерть Монфора не вызывает лично со стороны поэта никаких лирических излияний: «Камень упал на его шлем и ударил так сильно, что глаза, мозг выскочили, а череп, лоб и челюсть разбились в куски; граф упал на землю мертвый, окровавленный и почерневший» (v. 8451-55). Крестоносцы оплакивают его, а тулузцы радуются; обе стороны высказывают свои чувства короткими фразами. «Граф был нечестивец и убийца, потому и умер без покаяния, пораженный камнем» (v. 8476); «его смерть была счастливой случайностью, из мрака соделавшей свет» (v. 8493), — вот взгляд певца Тулузы на вождя крестоносцев. Эта последняя часть поэмы и дала основание заключить, что героем эпопеи было не одно лицо, не Монфор, не Раймонд, а весь народ Юга, герой собирательный.
«Благородные усилия этого народа, — говорит Гибаль, — свергнуть чужеземное иго — воспеты и прославлены поэтом; это тот народ, который, сперва подавленный многочисленностью противника, впоследствии развернулся, чтобы отвоевать свою свободу и независимость, выказав при этом энергию, достойную удивления».
Народный эпос требует бесхитростного рассказа и верного изображения. Авторы разбираемой поэмы обладают тем и другим свойством, а особенно тот из них, на долю которого выпало воспеть борьбу тулузских граждан с Монфором и принцем Луи за свободу родного города. Литературные достоинства сводной провансальской поэмы положительно высоки. Они делают ее важнейшим памятником средневековой романской литературы вообще и в своем роде, то есть в группе стихотворных исторических хроник, первым. Особенно выигрывает этот памятник при сравнении с другими подобными произведениями. Так, французская литература имеет стихотворную хронику Кювелье о Бертране дю Геклене (издана Шарьером в 1839 году в тех же Dоcum. dе Guizot). Она не без замечательных достоинств; но эта хроника теряет всю свою силу при сопоставлении с провансальской, как со стороны исторической, так и художественной. Искусство одного автора естественно притупляется при обширности предмета; однообразие картин лишает его поэму жизни и интереса. Наконец, она часто становится утомительной, художественные силы автора истощаются. Тем большее удивление вызывает искусство авторов провансальской поэмы облечь в форму драмы и живого интереса исторически верный рассказ о критической поре существования Лангедока.
Вследствие самого строя поэмы, она должна облекать в образы исторические факты, чувства деятелей всех сословий, положений, партий, целого народа. События проходят перед нами блестящей панорамой. Так как этим процессом творчества занимались очевидцы и участники событий, то позднейшему историку следует особенно дорожить источником со свойствами, столь драгоценными. Мы потому при всяком случае обращались к образам этой поэмы, сопоставляя их с критикой предмета и прочих источников.
Так, например, происшедшее на четвертом латеранском соборе представлено нами согласно с изложением его в поэме; по словам испанского критика, одно это место поэмы могло бы обессмертить ее автора.
«Если бы этот драгоценный памятник, — замечает тот же критик, — выделялся только живостью рассказа, возвышенностью мыслей и той суровой истиной, с которой он судит людей и факты, то, несмотря на высоту свою в глазах науки, он не перешел бы пределов исторической хроники. Но никогда эпическая поэзия не блистала столь яркими красками...» (в перев. у Lafon; 39). Так судит романская критика, и мы нарочно привели это место, чтобы показать, с какой точки зрения глядят на этот памятник почти на месте действий.
Для южан, привыкших во всякой науке к живости и драматичности рассказа, Сапкой йе 1а сгозайа представляется не поэтическим произведением, весьма пригодным для истории, а, напротив, исторической хроникой, очень хорошо и поэтически написанной. Самая точная аналогия, самое тщательное сравнение с летописями не только поддерживают ее исторический авторитет, но заставляют отдать ей преимущество перед другими не за одну живость, но за более верное понимание происходившего и оценку значения совершавшихся событий. Синтетический взгляд — важное достоинство ее авторов.
Между тем при всех таких качествах этот памятник провансальской литературы оставался неизвестным в продолжение шести столетий. «Книги тоже имеют свою судьбу», — сказал по этому поводу Фориель на лекции в Сорбонне. Поэтому лучший историк альбигойских крестовых войн, бенедиктинец Вессэ, не мог пользоваться текстом поэмы, отчего его работа потеряла много в живости и интересе рассказа. Лишенный самого текста, он должен был довольствоваться прозаическим изложением поэмы, которое долгое время считали за отдельное произведение. Это: Chronique (cronica) provencale, написанная на нижнепровансальском наречии, которым еще и теперь говорят в окрестностях Тулузы. Она без заглавия, и французские издатели называют ее: Chronique romane sur la guerre des Albigeois. Долгое время знали только два манускрипта этой хроники, позднейший в Bibl.imper. № 9646 и ранний в Карпентра; оба они XVI века. Недавно в Тулузе, в Bibliotheque de la ville, du-Mege, открыл рукопись, письмо и даже язык которой древнее карпентраской; так, по крайней мере, думает сам du-Mege. В доказательство такого мнения он приводит деление своего манускрипта по книгам и главам. Но, не говоря о том, что это деление не всегда точное, оно-то и не служит доказательством ее l`avantage de l`anteriorite. Достоинство ее скорее заключается в полноте двух мест, не имевшихся в прежних манускриптах (существенное в главе об освобождении Тулузы от французов, стр 145—150, по изд. du-Mege в приложении к пятому тому Vaissete. Toul. 1842).
Так как эта хроника есть не что иное, как весьма удачное по отделке, хотя не полное в фактическом отношении прозаическое сокращение Cansos de la Crozada, то большая или меньшая полнота ее — дело условное и маловажное. Вессэ не знал основного источника своего «Апопуте», как он называет хронику, изданную им впервые в приложении к третьему тому «Истории Лангедока» в 1737 году. При новом выходе знаменитого труда бенедиктинцев это издание повторено (в томе пятом), и его мы цитируем в нашем сочинении.
Впоследствии она была издана в XIX томе сборника Bouquet. Катель уже знал, высоко ценил ее и приводил из нее отрывки, называя автора: I'historicn du cointe de Toulouse. Вессэ так отзывается о ней: «I1 renferme plasieurs choses qu'on ne trouve pas ailleurs, et qu'il paroit que cet Auteur, quoique posterieur, etoit bien informe, et qu'il a puise dans de bonnes sources». Составитель ее не был альбигойцем, так как еретиков он резко порицает, везде заявил свою ортодоксальность. Он был южанин, но не был особенно привязан к личностям своих государей; подвиги крестоносцев он разоблачает, потому что пришельцы часто бывали кровожадны, но короля их Филиппа II он называет Богом данным (р. 455). События излагаются у него в пределах большой поэмы, то есть от проповеди де Кастельно до 1219 года. Он снабжает рассказ введением о пользе истории, «которая служит поучением для злых и утешением для добрых». Свою работу, почти единственный источник которой составитель тщательно скрывает, он предпринял для прославления «величайшего, славнейшего и знаменитейшего города Тулузы».
Вессэ основательно полагал, что хроника принадлежит не современнику и составлена не ранее XIV столетия. Он приводил для подтверждения своей мысли три доказательства. В ней встречается слово «Лангедок» в смысле географического термина, что вошло в употребление только в начале XIV века; к хронике приложен парижский трактат 1229 года, в котором между прочим упоминается о великом магистре госпитальеров на Родосе, который мог быть там только после 1309 года; наконец, в хронике говорится о епископе Кастрской епархии, открытой только в 1317 году. Возражения Гизо (сделавшего перевод этой хроники в XV томе мемуаров) против доводов Вессэ были бы, может быть, убедительны сами по себе, если бы впоследствии не обнаружилось, что составитель хроники не мог быть современником событий, потому что он сократил уже готовые, лежавшие перед ним сказания очевидцев крестовых походов. Потому-то в его обработке и есть те свойства, которыми восхищался Гизо, не знавший тогда о поэме: le ton meme de 1'ouvrage, les details qu'il contient et que 1'auteur semble avoir vus en personne ou recueillis de temoins oculaires, enfin la vivacite de ses propres sentimens et la chaleur de son recit me portent a croire qu'il etait contemporain, ou du moins tresrapproche des evenemens qu'il raconte (Coll. des mem. notice; р. 9). Прибавим к доводам Вессэ, что сам язык хроники, обильный северными этимологическими и синтаксическими галлицизмами, обнаруживает ее составление в позднейшее время, когда после гонений на провансальскую национальность местный язык стал поддаваться влиянию языка победителей. Это же торжество Франции обнаружилось и в общем направлении письменности Прованса, в уничтожении ее национального характера и замене провансальского исторического языка языком латинским. Это был губительный шаг назад. Расцветшую народную хронику, обещавшую состязаться со знаменитыми испанскими и итальянскими образцами, сменяет безжизненный латинский рассказ.
Такому влиянию подчинился Guilelmus de Podio Laurentii Chro-nicon super historia negotii Francorum sive bellorum adversus Albigenses ab a. 1092—1271, sen historia Albigensium. Издание с древнейшего манускрипта Парижской Библиотеки (№ 261) у Catel (Hist, des comtes de Tolose, 1623, p. 49. app.), y Duchesne (Scrp. rer. franc.; V, 666—705) и позже у Bouquet, с поправками собственных имен, по обыкновению разбросано (XIX, 193-225, с 1230 года XX, 764-776). Автор жил в эпоху подавления провансальской национальности и потому, занимая обеспеченное место католического капеллана при несчастном и офранцуженном графе Раймонде VII, имел самое ничтожное понятие о старых гражданских интересах страны. Он весь на стороне французского правительства. Родом провансалец из города Пюи-Лоран, он жил в таких исторических условиях, что не мог писать иначе, как с французской точки зрения. Он был современником только последнего периода борьбы Прованса с Францией за независимость и потому послужил нам существеннейшим источником уже только для второго тома, когда мы будем анализировать его труд в связи с другими современными источниками. О крестовых походах он пишет по воспоминаниям других (с. 8, 9) и потому кратко, нефактично и довольно бессвязно. Так, например, об осаде Терма, описанной у Петра Сернейского в главах 40-42, у Вильгельма не рассказано. Привыкший к новым порядкам, он сохраняет в себе столько беспристрастия, чтобы видеть в альбигойских ересях наказание, заслуженно постигшее католическое духовенство за развращенность, о которой он говорит в первых главах. Насколько он дорожит интересами и самостоятельностью своей родины, видно из его рассказа о падении последнего графа де Фуа. Это событие было решительным сигналом уничтожения свободы Лангедока, и оно не только не вызывает у автора хотя бы капли сочувствия и сожаления, а, напротив, необычную радость.
«Король Филипп III, — рассказывает Вильгельм, — действовал с мудростью и предусмотрительностью, опасаясь, чтобы не стали его презирать, если он на первых порах не покажет смелости в подавлении восстания... Чтобы справедливый суд Божий мог обнаружиться, грешник пойман на месте своих преступлений» (с. 52). Желая придать некоторый прагматизм своей «истории», написанной, впрочем, языком довольно трудным, Вильгельм касается связи политических событий истории Прованса с событиями других стран, но в этом случае впадает в анахронизмы, ошибки в местностях и хронологии. В изложении нет живописности, и вообще было бы слишком дилетантски сказать вместе с Daunou (Letat des lettr. en Fr. 222), что его летопись дает полное понятие о Провансе XIII века. Тем не менее по непосредственной приложимости его труда к предмету нашей работы Вильгельм представляет собой ценность, намного превосходящую ту, которую имеют источники второстепенной важности: летописцы северной Франции, вскользь или даже специально трактующие о походах на Юг.
Несравненно большее значение, чем такого рода источники, о которых мы скажем несколько ниже, должны иметь государственные акты того времени. Registrum curiae Franciae, а также договоры мы имели в Preuves de I'hist, de Lang. Вессэ — и на них везде указываем в своем месте. Но в нашем распоряжении был материал более богатый. Так как та эпоха была временем господства над Западом папы Иннокентия III, то его буллы, распоряжения, письма приобретают смысл существенного источника и для нашего исследования. Действительно, Registrs Innocentii III были для нас драгоценным материалом. Эти письменные указы Иннокентия III имеют значение неоспоримых государственных актов. Часть сокровищ Ватикана — письма папы и ответы, получаемые на них, — приобретают проясняющий смысл для всей политической и государственной истории того времени. «Послания» Иннокентия III — это дипломатические и вообще архивные бумаги того времени. Все дипломатические сношения изложены нами по этим документам, количество коих вызывает удивление перед неутомимой деятельностью папы. Конечно, многие из них составлялись в его канцелярии. Они распределены по годам его нахождения у власти (1198—1216), по книге на каждый год; таким образом, всех книг должно бы быть девятнадцать, между тем мы имеем только шестнадцать. Слишком неровное количество документов в каждой книге, даже в последних изданиях (в первой, например, пятьсот восемьдесят три, в иных нет и ста), заставляет предполагать, что множество писем затерялось.
Первое издание Guilielmi Sirleti (Opera, 1543, Roma) смогло собрать документы только на две первые книги. Второе, в Кельне, Maternus Cholinus (1575); третье, в Венеции; четвертое и пятое — Bosquetus (1627, 1635); шестое— Baluzius в Париже (1682, 2 f.) — постепенно обогащали число документов. Последнее, тоже не полное, подало Гуртеру мысль написать его известный труд. В конце прошлого столетия французские издатели Brequigny и La-Porte du-Theil, имевшие случай сделать некоторые открытия, напечатали письма в той полноте, какую мы имеем теперь (Diplomata, Chartae, Epistolae et aliadocumentaad res Francicas spectantia. Pars altera, quae epistolas continet. Tomus primus Innocentii 111 papae epistolas anecdotas... exhibens; Par. apud Nyon, 1791, f. — довольно редко). Здесь впервые были помещены документы для 1203—1204 годов и пятьдесят сень писем III книги; прочие книги так же значительно пополнены. В последнее время известный издатель Патрологии Migne снова напечатал переписку Иннокентия без особых дополнений с вариантами в трех томах, предпослав Gesta Inn. (Baluzii), а в особом томе собрал все богословские сочинения Иннокентия и его проповеди (Patrologiae cursus completus, ser. secanda, Par. 1855, t. CCXIV—CXVП). Мы пользовались этим последним изданием. Материал прерывается на августе 1213 года. Таким образом, главнейшая заслуга по разбору переписки Иннокентия III принадлежит предшествовавшим французским издателям. Они же произвели беспристрастный суд над личностью папы, которого перед тем или славословили, или позорили.
Дю-Тейль, рационалист и республиканец, верными красками очертил характер Иннокентия. Его суждение практически верно; он замечает, что глазами строгого моралиста нельзя мерить историческую личность (II n'a pas ete celui, dont 1'ambition ait en le moins de palliatifs et d'excuses), что к суду призвано лицо, а не система.
«Имя Иннокентия III, — продолжает издатель, — всегда будет навевать воспоминание о человеке, который действовал на сцене мира с сильным блеском и в котором беспристрастная философия всегда сумеет различить добродетель и недостатки. Когда я говорю о недостатках, то думаю о тех, кто читал полемические и исторические сочинения, где этот папа так решительно обвиняется в преступлениях». Признавая, что лишь тенденциозность и радикализм могут держаться такого убеждения и что подобный прием не имеет права быть авторитетным в философских и исторических вопросах, Дю-Тейль дает справедливую оценку достоинствам папы (une fermete d'ame a 1'epreuve, une Constance inebranlable dans les projets, une zele infatigable pour la chose publique, une purete des moeurs sans reproches).
Новый издатель переписки Иннокентия III снабдил большую часть писем кропотливыми примечаниями и указаниями, а также поместил свои и Балузиевы ссылки при Gesta. Известно, что в трех кодексах содержатся папские жизнеописания. Древнейший принадлежит папскому архивариусу Анастасию, который дошел лишь до Николая I (Muratori. Scrp. rer. ital. Ill, pars I; 93-277), использование которого облегчают диссертации Ciampini и Blanchini, приложенные там же (id. 33-55, 55-93). Со Льва IX до Иоанна XXII довел жизнеописания кардинал Николай Арагонский (id. 277-685). Цельный кодекс другой редакции, но с той же узкой папской точки зрения свел из мелких биографий до Сикста IV включительно Amalricus Augcrius, что занимает особый фолиант у Муратори (Act. Pont. Rom.). Для Иннокентия III здесь имеются два списка: краткий Bernard Guidonis (Mur. t. Ill, pars II; 480-486), которым мы могли подтвердить один факт из битвы под Мюрэ, и обширный St. Baluzii (id. 486-568). Новейшее издание всех папских биографий сделано в Германии Ваттерихом (Pont. Rom. vitae; Leipz.1862); мы цитируем Балузия по тексту Патрологии (Migne), а Гвидона по Муратори. Нам пока не было надобности прибегать к Bullarium Romanum, так как настоящий том кончается Иннокентием III, для которого мы имели богатейшее издание документов.
Общей церковной историей для XIII столетия можно считать сочинение доминиканского приора и епископа Ptolomaei Lucensis (de Fiadonibus) Historiae ecclesiasticae I. XXIV a Chr. nato usque ad 1313 (Muratori; XI, 153-1242), богатого фактами и не без некоторой критики для конца XIII столетия. Он умер в 1327 году; для начала века он не представляет достоинства источника, так же как и церковные хроники Nicolai de Syghen (жил в конце XV века) и loh. Stellae (в XVI ст.). Chronicon ecclesiasticum Зигена издал Wegele в Иене (в 1855 г.); De vita ac moribus pontificum Romanorum, usque ad a. 1503 Стеллы, изданное в Венеции (1507 г.), представляет собой в отношении Иннокентия III повторение известных фактов. Подробное изложение церковной истории по ватиканским архивам предпринял в последние годы XVI века кардинал Baronius — Annales ecclesiastic a Chr. nato ad annum 1198 (лучшее отдельное издание в Майнце, 12 Г., 1605, просмотренное самим автором) по поручению римского правительства. Естественно, оно не может быть причислено к числу беспристрастных: тут есть и фактическое извращение, и фальшивые документы, и стихотворные повествования, а также саги, легенды, записанные с полной верой в них.
Те же свойства и у его продолжателей, поставленных в такие же условия, кардиналов Raynsldi (ум. 1670), дошедшего до 1565 г. (9 Г.), Laderchi, добавившего еще шесть лет, и Paghi, составившего несколько критических статей и указатель. Все вместе это составляет в лучшем лукском издании тридцать пять томов текста и три тома индекса (1738— 59). Составители помещали в извлечении и отрывках буллы и соборные постановления; в этом отношении их издание всегда будет довольно ценно, так как заменяет Bullarium и лучшую коллекцию соборов Mansi. Время Иннокентия III занимает две трети первого тома Райнальди (1747).
Те французские летописцы, которые не были современниками крестовых альбигойских войн, не могут быть рассматриваемы как основные источники, так как они черпали свои сведения из прежних летописей. Это надо сказать и про Praeclara Francorum facinora variaque ipsorum certaminapluribus in locis tarn contra orthodoxae fidei, quam ipsins Gallicae gentis hostes non impigre...gestas ab 1200-1311, ab ill.principe Montisque Fortis comite (Hsa. Gatel, comtes, p. Ill; Duchesne, scrp. V, 764—792 и отдельно, sine I. et a.). Часто эту анонимную летопись называют хроникой Симона Монфора, и уже по одному этому можно судить о ее характере, хотя она далеко не может служить чьей бы то ни было биографией. Ее известия кратки и сухи. Неизвестный составитель — сторонник самого кровавого фанатизма. Он апологет крестоносцев Лангедока, Монфора, атлета веры (а. 1211, 1214 етс.) и всех пап XIII столетия. Под 1250 годом он записывает известие об умерщвлении императора Фридриха II, его текст почти дословно сходен с текстом присяжного папского биографа. Не это ли место побуждает французских ученых считать автором хроники Бернара Гвидона (Bouquet. Recueil; XXI, 691). Катель приписывает ее Петру, епископу Лодевы. Во всяком случае, несомненно, что составителем было духовное лицо. Компилятор довольно бестактно пользуется Петром Сернейским, сокращая важное, останавливаясь на неважном и многое пропуская (а. 1209— Р. Сегп., с. 88, 60-63; а. 1210- Р., с. 98; а. 1213 -Р., с. 72); впоследствии он слишком усердно пользуется Guil. de Pod. Laur. (напр.: а. 1228 — Guil., с. 39; а. 1250 - Guil., с. 49). Там, где Петр Сернейский ошибется или просто совершит описку, анонимный летописец списывает не исправляя; так, принц Луи отправляется в крестовый поход в 1212 году, согласно с Р. Сегп., с. 68, вместо февраля 1213 года, что следует и из Петра Сернейского. Несмотря на такое плохое историческое значение, на сухость, краткость, ошибки, эта католическая летопись имела многих читателей. Она была издана в 1562 году в Тулузе, во французском переводе, отдельной книгой (Jean Former de Montauban. Hist, des guerres faites en plusieurs lieux de la France etc.); другой, более точный перевод сделан в собрании Гизо (Coll. des mem., t. XV, 1824). Мы могли пользоваться этой хроникой только для подкрепления чужих известий.
Тем реже нам приходилось цитировать французских летописцев, даже современных альбигойским войнам. Rigordus seu Rigotus (Gesta Philippi Augusti) не дошел до начала крестовых войн; он описал события французской государственной истории с 1179 до 1207 года включительно. Аббат святого Дионисия, историограф французского короля, не мог сколь-нибудь верно отнестись к религиозному и политическому движению, проявившемуся на Юге Франции к началу XIII столетия, хотя сам и был родом из Лангедока. Неизвестно, что побудило его покинуть родину и изменить ей, переселяясь в пышные палаты аббатства Сен-Дени (смотри о нем Lacurne de S. Palaye. — Mem. de I'Acad. des inscr.; VIII, 528—548). Во всяком случае, такое отступничество лишило Юг довольно способного, хотя и фанатичного историка. Он посвятил свой труд, который уже хотел было уничтожить, тому самому принцу Луи, с именем которого связано столько враждебных воспоминаний для Тулузы (Изд. Pithoeus; Hist. Franc, scrp. I. XI; Duchesne; V, 3-67; Bouquet; XVII, 1—62). Он сохраняет значение для событий конца XII века, хотя и не полное. О вере альбигойцев он имел смутные представления и как католический аббат дышал к еретикам искренней ненавистью. Смерть прервала его труд на самом интересном для альбигойства месте, в котором нельзя не видеть изуверства, обычного, впрочем, между тогдашними французскими монахами.
«Папа, — начал рассказывать Ригор, — писал к королю Филиппу и его вассалам, поручая им немедленно с многочисленным воинством истинных католиков и верных слуг Христовых идти опустошать Тулузу, Альби, Кагор, Нарбонну и Бигорр, чтобы там уничтожить всех еретиков, наполнявших страну. Если смерть застигнет крестоносцев в этом путешествии или в предстоящей войне с неверными, папа именем Господа и властью апостолов Петра и Павла, так же как и собственной, даст им отпущение всех грехов, совершенных ими со дня рождения, в которых они исповедуются, даже если бы они и не успели принести за них покаяния». Этим летопись Ригора обрывается. Ее продолжал Guilelmus Brito seu Armoricus, как он сам себя называет по месту происхождения. Он был капелланом Филиппа Августа, ходил вместе с королем в походы, вместе опустошал Фландрию в 1213 году и участвовал в битве под Бувином, подробно и талантливо им описанной. В Риме он в качестве королевского посла хлопотал о разводе Филиппа с Ингеборгой. Преданный своему государю, он не был честолюбив и не домогался высокого духовного сана, какого мог бы достигнуть, и умер уже при Людовике IX в звании простого священника. Его «Historiade vitaet gestis Philippi Augusti regis Galliae» доходит до 1219 года, с продолжением неизвестного монаха до 1223 года (издание Duchesne; scrp. V, 68-93. Bouquet; XVII, 62—116). Эти деяния предприняты с целью изложить в самом «бесхитростном рассказе все подвиги добродетельного и славного короля», так как без лжи, без украшательств они говорят сами за себя. Понятно, что если Вильгельм касается альбигойских войн, современником, но не участником которых он был, то весьма кратко и с патриотически-французским взглядом.
Тем менее нашим целям может служить латинская напыщенная эпопея «Philippidos» 1.ХП, тоже названная: gesta Philippi regis Franciae и доведенная до 1223 года. По отношению к Франции ее значение и сравнить нельзя со значением провансальской «Cansos». Как произведение в своем роде национальное, поэма Вильгельма выдержала много изданий (полное у Duchesne; V, 93—259; перевод Guizot; coll. t. XII). Здесь не место распространяться о достоинствах этого памятника, для альбигойства незначительного, так как он весь направлен к прославлению французского величия и важен как первое заявление французского национального чувства и единения. Заметим только, что по этому предмету существует обширное критическое исследование Гаспара Бартиуса (Zwickau, 1697), в котором со всей эрудицией уличены поэтические вольности поэмы сопоставлением их с хрониками того же времени.
Официальным продолжателем Вильгельма Бретонского можно считать его соименника Guilelmus de Nangiaco — Chronicon ab anno 1112 ad а. 1301. Монах аббатства святого Дионисия, он вел государственные анналы Франции обыкновенным способом средневековых хроникеров. Современник событий гораздо позднейших (умер в 1302 г.), Нанжис будет важен для нас своими специальными историями французских королей (Людовика IX, Филиппа III); упомянутая же хроника, начатая с сотворения мира, для альбигойских крестовых войн служит лишь третьестепенным источником и по краткости и по характеру изложения; весь ее смысл в официальности воззрений автора, который в фактическом отношении держался Ригора. Интерес к ней увеличивается разве с 1226 года (изд. d'Achery; Spicilegium, t. XI. Bouquer; XX, 725—763). По своей слабой приложимости к занимающему нас предмету она приравнивается к общим летописям по XIII столетию, составленным и поздно, и поверхностно, которые, касаясь всех исторических событий Запада, упоминают и об альбигой-стве, почему могут служить разве для синхронистского обзора эпохи.
Здесь мы имеем в виду, например, Родольфо де Дичето, декана лондонской церкви св. Павла (умер в 1210 г.). Его «Сокращенные хроники», охватывающие период между 598—1198 годами, и «Исторические образы» от 1148 до 1200 года (манускрипт XIII века в Кентербери, издан в отрывках, у Bouquet; XIII, 183-205; XVII, 616-660) отражают взгляд на дуалистическую ересь, известную также и в Англии. Как и все средневековые хроникеры, вначале он списывает своих предшественников, ручаясь лишь за те годы, которых он был очевидцем в Англии из стен своего аббатства. По отношению к той же Англии большую важность имеет начало летописи Matth. Par., принадлежащее собственно Роже Вендоверу, родом из Нормандии, хотя долгое время его труд и приписывали тому же Матфею Парижскому, под именем которого известна вся знаменитая «Historia major Angliae» (решение этого вопроса у Спохе в его издании Вендовера — English historical Society, 5v., 1841-44). Вендоверу принадлежит, собственно, начало этого обширного труда, от 1066 до 1235 г. Матфей подавил его своей известностью, и потому названную Мяопа цитируют обыкновенно под его именем (изд. Wats, L. 1684. Отрывок у Bouquet; XVII, 679-768). Для англии же мы иногда ссылались на Rogerus de Hoveden, продолжателя Беды Достопочтенного с 732 года, — Annalium Anglicanorum 1. До 1148 г. его хроника слишком поверхностна; с 1170 до 1192 г. он повторяет Magistrum Benedictum (аббат Петерборо); далее же он подробен и самостоятелен вплоть до 1201 года, которым кончается хроника (изд. Bouquet; XVII, 546-615; XVIII, 164-189). Его положение в придворной сфере (он долго был капелланом Генриха III) давало ему возможность пользоваться документами, которые он помещает в большом количестве, чем его летопись особенно драгоценна. Он служил источником для Вендовера.
Соответственное значение для Германии начала XIII столетия имеют Annales Colonienses Maximi (ab 576 usque ad a. 1237), преимущественно с 1198 года. Долго их ошибочно приписывали монаху Готфриду (S. Pantaleonis), поэтому летопись называлась chronica regia S. Pantaleonis. Ваттенбах думает, что часть анналов принадлежала Бурхарду, приближенному императора Фридриха I (Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 2 Ausg. Berl. 1866, S. 500). Имя продолжателя неизвестно; по своим политическим убеждениям он должен быть горожанином, приверженцем императорской партии; он на стороне то Оттона IV, то Фридриха II, преследуемых папами. Так как об альбигойских делах эти анналы не говорят, а для борьбы за германское престолонаследие мы имели в руках Reg. de neg. Imp. в переписке Иннокентия, то у нас не было надобности цитировать Ann. Colon. Несколько ссылок мы сделали на Albericus Trium Fontium (как обыкновенно, но неверно называют его по монастырю близ Шалона, тогда как он жил в другом монастыре — Neuf-Moustier), который много касается Германии (см. в отрывках у Bouquet; XVIII, 744-796; XXI, 594-630). Его Chronicon ab orbe c. usque аd а. 1241 написана не без сказок и путаницы в фактах. В двух-трех местах мы указали еще несколько специальных летописей, разбор которых был бы здесь еще более неуместен.
Переходим к источникам по другому вопросу, к материалу, служащему для знакомства собственно с альбигойскими вероучениями. В большей части этих свидетельств вальденсы смешаны с альбигойцами. Имея в руках издание Гретсера (t. XII, pars. II h Ratisb. 1738) и Монету Кремонского, мы пользовались всем известным материалом. У иезуита Гретсера, полемизировавшего с протестантизмом и потому ошибочно приписывавшего все вальденсам, помещены с примечаниями в последовательном порядке, после его собственной статьи (Prolegomenain scriptores contrasectam Waldensium): Reinerii, ord.Praedic. liber contra Waldenses haereticos (р. 25—48) с вариантами по Ламбахскому манускрипту. Издание Гретсера не из точных, и это издание отличается от французского (Msrt. et Dur. Thes. nov. anecd.; V, 1759. D'Argentre. Coll. ne nov. err.; 1, 48 и в рукописной коллекции Doat. Par, Bibl. imp.). По Мартеню, Райнер Саккони писал в XIII столетии, по Экхарду (Scrp. ord. praedic. I, 154), позже 1300 года. Можно принять вместе с Гизелером, сделавшим самое лучшее издание (Rainerii Sacchoni Sumirm de Catharis et Leonistis, Gott. 1834), что подлинный текст был дополнен в Германии (как у Гретсера) неизвестным лицом (Kircheng.; II. II, 613-614). Следующие обличения служат источниками для вальденсов. Petri de Pilichdorf tractatus contra haeresim Waldensium (р. 50-81) и его же Contrа Pauperes de Lugduno (р. 82-87) имеют полемическое значение по отношению к лангедокским реформатам и не представляют данных для дуалистической религии. Ebrardus Contra Waldenses (р. 118), собственно же — Liber antihaeresis, направлено против тех же последователей де Брюи и Вальдо. Bernardus, abbas Fontis-Galidi — adversus Waldensium sectam (р. 198—221), позже нарбоннский архиепископ, близко знакомый с вальденсами, населявшими его епархию. Он имеет целью в двенадцати главах опровергнуть новаторские воззрения вальденсов, защищая права папы, прелатов, нападая на светскую проповедь, в особенности женскую, на их учение об Апостолах, о молитвах и поминовениях усопших, о чистилище. Памятник, заслуживающий внимания, почему-то упущенный Шмидтом. Ermengardus, contra Wald., собственно же— Opusculum contra haereticos, qui dicunt et credunt mundum istum, et omnia visibilia non esse a Deo facta, seda diabolo (р. 223-241), направлен против альбигойцев-катаров. Оставляя в стороне сочинения монахов: Luca Tudensis (Adversus Albigensium errores. Ing. 1613), Bonacursus (d'Achery.; Spicil. I, 208 — Manifestatio haer. Cath.), Alanus (Bibl. scrp. Cist. Col.) и Isarn (фр. пep. y Millot. Hist. litt. des troub.; II, 43 etc.), из которых последнее замечательно разве только тем, что написано на провансальском языке, но против альбигойцев, остановимся на главном источнике для дуалистического вероучения. Это — Ven. patr. Monetae Cremonensis ord. Praedic. Summa adversus Cathsros et Valdenses; I. V. Подробности его биографии неизвестны; ее отсутствие не соответствует значению его замечательного труда. Неизвестно даже, откуда он родом, а между тем его труд оказал великую услугу католической вере. Один из первых доминиканцев (с 1219 г. Gаlv. Fiamma), друг и собеседник св. Доминика (Ant. Flaminius. Vita S. Dom.; I. III), Монета был главным пропагандистом его идей в Италии. В ней он положил начало доминиканским монастырям. В 1228 г. он поселился в Кремоне и основал доминиканскую конгрегацию; в 1233 году он тем же делом занят в Мантуе. В эти же годы он принялся за составление своего громадного обличения против катаров. Болонские источники полагают, что он умер в 1235 году, но два места из его сочинения убеждают, что обличение закончено не ранее 1240 года (I. III, с. 3, §2; I. V, с. 1, § 4). Труд его отличается блистательным знанием богословия, Библии и канонических книг; аргументы автора убедительны. После Боссюэ Монета — самый опасный враг протестантизма вообще. Тем более замечательно, что современные католические писатели, хором прославляющие его, не оставили подробностей об его жизни. Гальвано Фламма называет его «super omnes Msgistros Mundi f3mosissimus» (Chr.). L. Albertus говорит о его труде: «Contrа quos (hsereticos), et praecipue Cstharos et Valdenses, volumen maximum confecit, quod Summa Monetae Cremonensis vocstur contra haereticos, cujus archetypus adhuc in nostra Bibliotheca cernitur, quo Viri peritiam et eruditionem lacile quisquis intueri potest. Fuit hie Vir venerandus, magni consilii, Fidei pugil egregius, maximis fulgens miraculis». «Прежде, — продолжает он же, — Монета считался в нашем ордене великим философом, потом сделался славным богословом» (I, V, histor. in Mon.). Упомянутый нами Гретсер в своем издании обличений замечает и о Монете, которого он не мог напечатать по причине громадности его труда, — «volumеn grande contra Valdenses in quinqus Libros distinctum, quod cum his jam foras extrusissem, nisi Operis prolixitas et magnitude me absteruisset; sed alia dabitur, ut spero, Auctoris hujus e tenebris in lucern vindicandi occasio» (Proleg. contra Wald.; с IX). Манера изложения автора часто становится диалогической; иногда он ведет полемику в вопросах и ответах, предлагая в заключении статьи свои выводы. Этот оживленный способ не только облегчает понимание книги, трудной по самому предмету, но делает ее кодексом столь же альбигойской и вальденской догматики (они отчетливо различаются Монетой), сколь и католического богословия. Строгая система обличителя дает его аргументике логичность и обстоятельность. Он, не стесняясь, приводит самые щекотливые верования еретиков, за них же выставляет тексты Библии, ими перетолковываемые, и опровергает эти тексты на основании других. Манускрипты его находятся в Регенсбурге (в мои. S. Emmeromi), в Париже, Болонье, Неаполе и Ватикане (из Нарбонны, где он служил главным и действительным орудием борьбы). По трем последним рукописям итальянский доминиканец Тh. Aug. Ricchini издал Монету в Риме в 1743 г. (f. p. XLVIII, 560), думая послужить тем католицизму против лютеран. Риччини предпослал тексту две свои диссертации, о катарах и о вальденсах, которые служили для нас полезным пособием. В них ясно говорится о происхождении катаров, их распространении, ответвлениях, догматах (в виде конспекта, р. ХХ1-ХХШ), нравах, обрядах, Церкви и соборах против ереси. Такой же стройный порядок и в диссертации о вальденсах, имя которых он принимает общим названием всех протестантских сект до Лютера (р. XXXII). Указания, имеющиеся на страницах ХХ1-ХХШ и XL-XLIII Риччини, избавляли нас от частой выписки и сличения ссылок (тщательно сведенных Риччини) при нашем изложении догматики ересей. Для вальденсов, впрочем, мы имели их собственные богословские сочинения, помещенные в книге Jean Leger (Histoire generale des Eglises evangeliques des vallees de Piemont ou Vauldoises, divisee en deux livres; Leyde, 1669) и в извлечении у Jean Paul Perrin (Hist, des Albigeois), уже указанных нами в тексте. Эти провансальские сочинения надо предпочесть Пилихдорфу, Эрменгарду, Эбрарду, Бернару, Райнеру, даже Монете. Пособия и монографии собственно для вальденсов здесь не могут быть указаны, потому что истории последних мы еще не касались и ограничились пока вероучениями. Для альбигойцев же в наших руках была большая часть литературы предмета, но, имея источники, мы по возможности старались избегать постоянных указаний на пособия, что без надобности утяжеляло бы книгу.
За немногими замечательными исключениями, вся эта литература в ученом отношении слаба. Никто из немецких ученых не занялся специальной историей альбигойцев; воззрения немецкой науки надо искать в обших сочинениях по церковной истории. Мы только тогда указывали то или другое пособие, когда оно поднимало вопрос, заслуживавший внимания, разбора, возбуждавший сомнения или касавшийся факта, не встреченного в источниках. Такой же системы мы держались и по отношению к сочинениям более общего характера и объема. Литература нашего предмета исходит из двух противоположных лагерей, католического и протестантского. Не вдаваясь в разбор и подробную оценку каждого пособия порознь, укажем полные заглавия монографий по истории альбигойцев в хронологическом порядке их появления.
I) Jean du Tillet. Sommaire de la guerre faite centre les heretiques slbigeois (Pаr. 1590). Автор, регистратор парижского парламента, пользовался документами королевских архивов. Он посвятил свой труд Екатерине Медичи, с мыслью указать ей, как следует поступать с протестантами. Труд его важен благодаря текстам документов (например, памьерских постановлений). Лат. пер. Н. Albert был послан папе и издан уже в 1845 г. в Берлине Дресселем: Hist, belli contra Albigenses initi compendium.
II) Jean Chassanion. Hist, des Albigeois, touchant leur doctrine et religion, centre les fsux bruits qui ont este semes d'eux, et les ecris dont on less 3 tort diffsmes; et de Is cruelle et longue guerre qui leur 3 este faite, pour ravir les terres et seigneuries d'autrui, sous couleur de vouloir extirper 1'heresie, en 4 livres (Par. 1595, in 16). Посвящено принцессе Екатерине Наваррской, сестре Карла IX. Автор был протестантским проповедником из Монистроля. Сам вальденс, он с понятным энтузиазмом относится к еретикам Прованса, которых считает за мучеников истины. Цель похода для него была чисто политической. Факты часто заменяются поэтическими сентенциями. Книжка составляет библиографическую редкость.
III) Jean Paul Perrin. Hist, des chrestiens albigeois, contenant les longues guerres, persecutions qu'ils ont souffert a cause de la doctrine de 1'Evsngile; le tout fidelement recueilli des historiens qui en ont escrit, et des memoires, qui nous ont este fournies psr personnes dignes de foy (Gen. 1618, in 16). Посвящено Генриху де Фуа, герцогу Кандалю, наместнику Лемузена, потомку альбигойского героя. «Jesus souscrivant а leur doctrine seule, — говорится в посвящении, — vous аves encor dequoy vous glorifier en Dieu, de ce que vos ayculs Paternels et Maternels ont soustenu votre croyance il y а plus de quatre cens аns». Автор родом из Лиона, гугенот по вере, был пастором в Нионе (в Дофинэ). Для него не существовало разницы между катарами и реформаторами; те и другие казались ему вальденсами. Но книга его, составленная довольно тщательно, тепло написанная, в отношении знакомства с источниками оставляет далеко позади памфлет Шассаниона. Перрен пользовался Р. Cern., Guil. de Pod, и особенно: Holagaray (Hist, de Foix). Свои источники он отмечает на полях книги. Наконец, у него были рукописи, которые в иных случаях поднимают его работу до степени источника.
IV) Benoist. Hist, des Albigeois et des Vaudois ou Barbels (2 v. in 12, 1691, Par.). Посвящено Людовику XIV, преследовавшему протестантов после отмены нантского эдикта. Автор, доминиканский проповедник, полагал своим сочинением оправдать жестокие меры короля, которого он простодушно ставит выше самого Монфора, употребившего годы на завоевание и истребление, тогда как христианнейшему королю удалось все это устроить гораздо скорее. Источники указаны не везде. Важность книги заключается в большом количестве документов, приложенных в конце каждого тома. Так, заслуживают внимания: письмо арагонского короля (I, 269), допрос инквизиции (I, 271), отрывок из подложного дуалистического евангелия, приписываемого святому Иоанну (1, 283), присяги, документы на передачу владений, генеалогии местных владетельных домов. Многие документы в переводе, но ограниченное количество их не может идти в сравнение с богатыми приложениями при истории Вессэ. Автор видит в альбигойстве столько же политическое движение, сколько религиозное.
V) J. Bapt. Langlois. Hist, des croisades centre les Albigeois, divisee en VIII livres (Par. in 12. 1703). Автор, иезуит, писатель старательный, но далеко не талантливый. Он восхищается всякой коварной политикой, если она пригодна для торжества католицизма; он говорит, что в Риме: «scait si bien convsincre ceux svec qui Ton traite» (р. 327), но по возможности избегает всяких личных заявлений. После смерти Монфора его изложение значительно сокращается.
VI) Blair. History of the Waldenses and Albigenses (Ed. 1833,2v. in 8). Это был первый ученый, который положил начало выяснению вопроса об отношении альбигойцев к вальденсам и тем поставил исследование по этому предмету на настоящую дорогу.
VII) G. de Parctelaine. Hist, de la guerre centre les Albigeois (Par. 1833, in 8). Либерального направления, но неверное по отношению к вероучениям и их истории, что разбирается весьма поверхностно; зато щедро рассыпаны политические фразы.
VIII) las. De Waldensium secta ab Albigensibus bene distinguenda. (Leyde. 1834, in. 4). Это исследование амстердамского ученого блистательно разрешило вопрос об истинных отношениях альбигойцев к вальденсам. Богатое эрудицией и тонкой критикой, незаслуженно забытое, оно было самым ценным вкладом в науку. Им пользовался Шмидт.
IX) J. Barrau et B. Darragon. Hist, des croisades centre les Albigeois (Par. 2 v. in 8, 1843) представляет собой расширенное сочинение тех же авторов, вышедшее тремя годами раньше и также в 2 томах (Montfort et les Albigeois. Par. 1840). Барро — поборник провансальской национальности; Даррагон — профессор в Париже. Сочинение может служить пособием для крестовых походов, оно быстро заканчивается после смерти Раймонда VII. Предназначенное непосредственно для публики, оно достигает своей цели, хотя фантазия часто перевешивает истину. О вероучениях и различии сект почти ничего не говорится. Драматическое изложение, сила воображения и художественных красок (впрочем, весьма резких) блистательно угождают вкусу французских читателей. Поэма Cansos de la crozada вошла в это сочинение, но без должного уважения к ее тексту. Авторам вообще знакомы средние века, и наиболее удачными их красками мы пользовались в двух-трех местах. Но ученого значения книга иметь не может. Как бы в противоположность Риччини, авторы под словом «альбигойцы» подразумевают вальденсов. Для них нисколько не знаком Монета или кто другой из католических обличителей; дуалистов они называют чистыми манихейцами; о богомилах молчат. «Si le manicheisme pur, — замечают они,— s'eclipsa, 1'albigeisme (?) se transmit dans les families, et, epure par le temps et par les msximes toutes libersles de Luther et de Cslvin, il repsrut au XVI siecle sous la denomination qu'on lui connait maintenant» (II, 480). Взгляд на политическое значение альбигойства верен. Кроме Cansos, авторы не хотят знать никаких источников; вся католическая литература ограничивается для них историей Вессэ, которой они пользуются слишком усердно, доходя до простого перефразирования, а иногда до списывания, как, например, I, 206. Там, где ошибается бенедиктинский историк (что, впрочем, случается весьма редко), авторам приходится повторять его промахи (I, 189, 388), они списывают иногда то, чего не понимают (I, 193). То, что авторы не читали даже Петра Сернейского, видно из I; 42, 174, 189.
X) Maitland. Facts and documents, illustrative of the history, doctrine and rites of the ancient Albigenses and Waldenses (L. 1838, in 8). Солидный труд по церковной истории, но не без одностороннего понимания павликианства. Документы заимствованы из обличений. Автор усвоил разницу между двумя направлениями тогдашних провансальских сектантов.
XI) Stanley Faber. An inquiry into the history and the theology of the ancient Valdenses and Albigenses (L. 1838, in 8). Автор уклонился от истинного пути, указанного голландцем Ясом, и, делая из альбигойцев реформаторов, стал на манер устарелых Шассаниона, Перрена, Лежера защищать первых от обвинений в дуализме. Этим трактат его лишился научного значения.
XII) C. Schmidt. Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois (2 v. in 8, Par. 1849). Первый том содержит обзор общей истории катаров; второй — их учение. Помимо множества пособий, у автора была рукописная коллекция ОоаТ. Это капитальное сочинение по значению его в литературе предмета превосходит все предыдущие. Автор — профессор страсбургской протестантской семинарии — относится к делу с невозмутимым философским взглядом. Работу Шмидта облегчали английские сочинения и ученая диссертация Яса, но ему принадлежит предвзятая мысль об особом зарождении катарства в славянских пределах. Взгляд его на историческое значение альбигойцев формулируется в словах: «Pour nous le catharisme est line erreur, tant sous le rapport philosophique, que sous le rapport religieux; mais nous le respectons comme line proteststion de la raison et du sentiment individuels centre 1'autorite exterieure en matiere de foi, comme un effort hardi de resoudre un des problemes les plus difficiles qui pesent sur 1'esprit de 1'homme, et de ramener la vie a une purete plus parfaite au milieu des desordres du moyen age» (IX, срв. I, 362; II, 154, 171, 179, 270). Автора можно упрекнуть за недостаточно серьезное отношение к личности и деятельности Иннокентия III и за пренебрежение тогдашними дипломатическими документами. Для нас был полезен второй том его труда.
Не перечисляя всех специальных и общих пособий, чем-либо послуживших нам по разным вопросам излагаемого предмета, остановимся на двух замечательных сочинениях— Вессэ и Гуртсра. Первый был для нас главным пособием. Обширная «История Лангедока», составленная бенедиктинцами, в ученой французской литературе занимает бесспорно одно из первых мест. Она не отличается привлекательным изложением и потому во Франции имела только два издания; мы пользовались последним из них, вышедшим с дополнениями и с редакцией провансальского ученого дю-Меже (Histoire generale de Languedoc, avec des notes et les pieces justificatives: composee sur les auteurs et les titres originaux, en enrichie de divers monumens, par Dom Claude de Vie et Dom Vaissete, 1730—45, 5 f; commentee et continuee jusqu'en 1830, et augmentee d'un grand nombre de chsrtes et de documens inedits, par. Al. du-Mege, Toul. Paya, 1840 etc. 10 v. in 4). Труднейшие вопросы феодальной истории Лангедока распутаны в этом массивном труде, на который положено было тридцать лучших лет жизни вместе с удивительным терпением и огромными знаниями двух талантливых монахов.
Тщательнейшее изучение источников, печатных и множества рукописных, с кропотливсйшим анализом места и времени событий, с особенным блеском обнаруживается в том отделе, где исследуются альбигойские крестовые войны и который выпал на долю Вессэ. Была особенная причина, которая побуждала Вессэ к тщательному изучению этих событий. Он сам был родом из той местности, которая преимущественно была ареной погромов и кровопролития. Всякое место несчастного Лангедока было дорого ему, и под официальными строками католического монаха он едва скрывает горькое чувство озлобления на Монфора и крестоносцев. Его дед был генеральным прокурором в области Альбижуа. Жозеф Вессэ предназначался к тому же званию. Но он предоставил свои права и значительное состояние сестре, а сам отказался от света и пошел в бенедиктинцы ученой конгрегации св. Мавра. К историческим трудам он был подготовлен занятиями в тулузском университете. Он посвятил себя с двадцать шестого года жизни написанию истории своего отечества. С первого же года монастырской жизни он стал работать над прошлым своей родины. За тридцатилетний труд свой он поплатился здоровьем. Он работал без отдыха, то за подробной историей, то за Abrege (6 v. in 8) ее, которое предназначал для публики, то за Geographic historique, то за Description de Languedoc.Он скончался в Париже 10 апреля 1756 года.
По принятому авторами плану, Hist. gen. состоит из трех отделов: текста, notes и preuves. Огромное количество последних в оригинале всегда будет, помимо текста, придавать важность сочинению. Взгляд автора беспристрастный, но уже одно такое чувство способно было вызвать недовольство клерикальной критики (Journal deS TreVOUX. август 1740 г.). Новый продолжатель «Истории Лангедока», католик же, должен был еще далее развить патриотический взгляд, неблагоприятный завоевателям. Заявлия, что он порицает за ересь и альбигойцев, и графа тулузского, который им покровительствовал, du-Muge продолжает: «Mais nous nous sommes eleve aussi centre les fanatiques, qui, sans pitie, ont porte la desolation, le ravage et la mort dans ces contrees, sous le fallacieux pretexte d'y poursuivre les fauteurs de I'heresie: nous avons rappele tous les crimes de ces hommes qui, infideles au mandat qu 'Ms avaient recu, et meconnaissant les ordres du Saint Siege, parurent ignorer que le Pere commun des fideles ne voulait ni 1'exheredation de la noble dynastie de Toulouse, ni la mort de ceux qui s'etaient involontairement engages dans les sentiers de 1'erreur» (avert, t. V. p. 14. I. V. р. 14). Вессэ не знал поэмы Cansos de la Crozada. О религии альбигойцев он говорит весьма мало; отличая манихейский элемент ереси (I. XXI, с. 2) от реформатского, он довольствуется P. Cern. и Guil. de Pod. Laur. и, ограничиваясь несколькими фразами, не имеет в виду никаких других источников. Значение труда Вессэ — для чисто политической истории. Он первый верно определил то положение, какое занимал папа в альбигойской борьбе. Тот же взгляд на Иннокентия III, какой проводил Вессэ и какой после поддержал другой провансалец, развил Fr. Hurter в известной: Geschichte Papst Innocenz des Dritten und seiner Zeitgenossen (Hamb. 4 v. 1834—42; собственно биография заключается в двух первых томах, а последние могут назваться особым сочинением — Kirchliche Zustande zu Papst Innocenz des Dritten Zeiten).
Этот труд протестантского пастора неотрывно связан с историографией папства; по обширной эрудиции, знанию эпохи, по ученым достоинствам он занимает в ней самое видное место. Но личность Иннокентия III подкупила историка; Гуртер сделался апологетом знаменитого папы. Он даже не ограничился этим. Готовясь к избранному труду с юношеских лет, весь занятый той эпохой, он сжился с ней и, до фанатизма увлеченный своим героем, смешал человека с системой. Пораженный величием излагаемых явлений, Церковью в ее апофеозе, предводимой даровитым вождем, Гуртер сделался верным учеником папства; идеализация облекла предмет особым ореолом. Католицизм, изучаемый автором в его истории, увлек пастора до того, что сам он сделался католиком, когда завершал свою книгу летом 1841 года. Но он не представляется в «Истории Иннокентия» таким рьяным клерикалом, каким сделался в своих дальнейших трудах. Для истории XIII столетия эта книга замечательнейшая и весьма полезная. Автор пока не становится защитником теократии. Но если Гуртер серьезно понимает обязанности историка, то, безусловно преклоняясь перед Иннокентием, он не отделяет гения папы от тех средств, к каким прибегал тот в пылу борьбы. Понятно, впрочем, что религиозная вражда была существенной причиной нападок немецкой критики на Гуртера.
Шафгаузенский пастор, обратившийся в католичество, должен был восстановить против себя протестантских немецких историков, хотя подобного рода антипатия не должна бы была доходить с их стороны до отрицания всякой талантливости в авторе одного из ученейших сочинений по средним векам, как делает, напр., Helbig в статье о Гуртере (Sybel's Historische Zeitschrift; 1860, № 4). Он отзывается о Гуртере как о писателе вполне бездарном, лишенном всяких ученых качеств, и все это из религиозных принципов и вражды к клерикально-австрийской партии. Зато католики превозносят Гуртера даже за последние его труды, которые приняли совершенно полемической характер. Мы можем не обращать внимания на немецкие вопли, и иначе отнестись к работе Гуртера, и отделить достоинства его труда от тех или других религиозных убеждений. Его сочинение, хотя и тяжело написанное, будет всегда руководящей книгой для той эпохи и одним из лучших сочинений по истории католических средневековых институтов.
Из общих сочинений мы обращались ко всему литературному материалу, касавшемуся нашего предмета, как, например, к трудам по истории Франции — Sismondi, Michelet и Henri Martin и другим. Двое последних по избранному вопросу не имеют значения, зато изложение альбигойских войн у Сисмонди (I, VI) самое спокойное, подробное и обстоятельное; оно было отдельной книгой переведено на немецкий язык (Leipz. 1829). Общие церковные истории были для нас весьма важным пособием при изложении догматической части — такие, как известное сочинение Неандера, труды Дамбергера (Synchronistische Geschichte der Kirche im Mittelalter, Regensb. В. IX) и, особенно по своим цитатам, Гизелера (2 Aufl.).
Мы не будем приводить список разнообразных исторических сочинений, общих и частных, которыми мы пользовались и которые не служили непосредственными пособиями. Все такие книги указывались нами по необходимости. Та часть летописного материала и пособий, которая касается эпохи, следующей за 1216 годом, будет исследована в приложении ко второму тому этого сочинения.
Обзор источников и пособий для книги второй
В приложении к первому тому нашего труда был рассмотрен весь летописный материал, непосредственно касающийся истории альбигойцев. Такие источники, как хроника P. Cern., Guil. de Pod. Laur., Cansos de la Crozada, Chron. prov., были исследованы в целостном виде, и на основании их существенным образом построена первая глава предлагаемой книги. Потому для критики этих памятников отсылаем желающих к первому тому нашей истории.
Критика же отдельных мест сопровождала всегда наш текст, когда того требовало дело. Guil. Brito, летописец Филиппа II Августа, как и Guil. de Nangiaco (Chron.), не могут быть здесь специально разбираемы, что можно сказать и про жизнеописания Людовика IX, составленные тем же Нанжисом, Буалье и Жуанвилем.
Мы, впрочем, остановимся на Нанжисе, чтобы оценить точку зрения французских источников. Каков характер политических и религиозных воззрений Нанжиса, каковы его взгляды на факт завоевания, ясно из его хроники, в которой под 1215 годом, говоря об известном Латеранском Соборе, он самоуверенно считает Раймондов VI и VII еретиками и признает их вполне достойными «меча анафемы», а под 1218 годом прославляет личность Симона Монфора, «героя, как в вере, так и в битвах, достойного вечной славы». Все это вполне понятно со стороны бенедиктинца, приора Святого Дионисия, который проникнут монархическим идеалом: графа Тибо он называет мятежником за восстание 122Т года и полагает, что Людовик IX только законно принял Юг под свою власть, как вассальную землю.
Конечно, о нашем предмеге Нанжис даже и в своих специальных трудах говорит мельком; вообще от французских летописей мы и не могли ждать каких-либо полезных сведений. Известно, что для первой половины правления Филиппа IV Красивого Вильгельм Нанжис — единственный и главный источник; потому эпоха 1285—1300 годов у него рассказана обстоятельнее по отношению, конечно, к чисто французской истории; ранее он просто компилирует факты из сочинений Ригора, Сигберта Гембмургского и других.
Совершенно иное следует сказать о значении Gesta Ludovici VIII regis. Имя автора неизвестно, но он был француз, вероятно монах, и писал, несомненно, в конце XIII века, что мы заключаем как из названия сочинения, так и из других данных. Этот источник не столько рассказ, сколько сборник документов. Ввиду того значения, какое имеют походы Людовика VIII в истории завоевания Лангедока, эти Gesta были для нас почти единственно существенным материалом из ряда печатных исторических памятников французского лагеря. Анонимный автор может верить в басню о происхождении франков из Трои, считать признаком падения страны оскудение церковных приношений и тому подобное, но ему пришла прекрасная мысль поместить в своем небольшом труде целиком акты, относящиеся к истории до Людовика VIII. Даже официальные французские летописцы, такие как хроникеры Святого Дионисия, у которых одинаково напрасно стали бы мы искать сведений касательно водворения новой гражданственности в Лангедоке, пренебрегают государственными актами.
Chronique de S. Denys, которая считается продолжением труда Нанжиса, более предпочитает нанизывать свои философские измышления, чем излагать факты. Впрочем, монашеская ряса не мешает автору быть противником папских притязаний на французское золото; официальный хроникер — сторонник галликанской Церкви, насколько это согласно с его правоверием и насколько требуется «безопасностью королевства». Все это не позволяет ему относиться к провансальцам иначе как к мятежникам, а к альбигойцам — как к нечестивцам. Он и по положению своему — апологет французского королевского дома. Даже Карл Валуа, который имеет такую печальную известность в итальянской истории и который заклеймен презрением и проклятием Данте, обрисован в розовом свете: он был призван искоренять врагов в своем законном тосканском наследии. Хроникер не любит тамплиеров, хотя полагает, что суд необходим для исследования нечестивых деяний ордена. О характерном повелении Филиппа IV— об одновременном изгнании евреев из государства — сообщается мимоходом одной фразой рядом с записью о большом наводнении 1306 года; неизвестно, какое событие больше потрясло автора. Так как мы не имели в виду касаться истории Филиппа Красивого, то и не цитировали хронику Святого Дионисия. Только в одном месте мы обращались к ней для пояснения ереси Дольчино, суть которой схвачена в ней очень удачно. Касательно действий инквизиции хроника записывает немногие процессы обращенных евреев, чего мы избегали в нашем сочинении, сосредоточившись на альбигойцах. Тем не менее два факта 1307 года довольно характерны.
Из хроники мы узнаем, что в трибунал приглашали ученых и что верили тем показаниям, которые отягчали участь подсудимого. Доносчик, брат подсудимого, отрекается от своего обвинения и говорит, что был побужден к тому корыстью, неполучением долга, но трибунал тем не менее судит его как отпавшего; но когда заключенный выразился в тюрьме, что он не хочет быть христианином, а остается иудеем Самуилом и что христиане едят своего Бога, то по решению ученых докторов был обречен на смертную казнь. С другим, также отрекавшимся от христианства, поступили гораздо снисходительнее. Его приговорили только к епитимье, когда он сослался на душевное расстройство и легкомыслие. Второй рассказ малодостоверен, а первый показывает в хроникере недостаточное знакомство с уголовным кодексом трибуналов, — чем он лишает себя веры в вопросах этого рода, если бы даже ему вздумалось распространиться о гонениях на альбигойцев, чего, впрочем, в рукописи не находим. Хронист полагает, что отпавших осуждали только на пожизненное заточение. Этому противоречат протоколы инквизиции, к которым мы перейдем сейчас.
Если мы остановились на официальной хронике, то чтобы показать, какой ничтожный и недостоверный материал мы имели бы на руках по избранному предмету, если бы ограничились летописным запасом. Если уж хроникер Святого Дионисия не обращает внимания на процессы альбигойцев и вообще на еретиков, то тем бесполезнее были бы заметки других летописцев.
Настоящий том не появился бы на свет, если бы нам не представилось возможности воспользоваться рукописной коллекцией протоколов лангедокской инквизиции Тулузы, Фуа и Каркассона и вообще разнообразными актами, хранящимися в Париже в Национальной библиотеке и в Государственном архиве Франции.
Описание последнего, этой «Сокровищницы Хартий», можно читать у Мишле в его приложении к третьему тому Histoire de France; историю накопления документов и актов у Du-Puy (Droits du roy. 1655) и Вопату. В архиве собирались из разных провинций по мере их завоевания все местные хартии; особенно ценились те, которыми закреплялись владения короны над провинциями. Сокровищница ведет свою историю с самого Филиппа Августа, первого собирателя галльской земли. При Филиппе Красивом уже имелся инвентарь грамот; Дю-Тилле, Дю-Пюи, Годефруа работали над приведением архива в порядок. Дону суждено было достойно завершить громадный труд; одно время парижский государственный архив был действительно бумажным некрополем западного континента.
Только здесь можно изучать действительную историю Франции. С водворением критико-дипломатической школы во Франции наука будет черпать из этих бесчисленных манускриптов интересные сокровища. Уже теперь Boutaric показал, сколько нового света можно пролить вообще на средние века, работая на улице Marais. Великолепная монография этого ученого (S. Louis et Alfonse de Poitiers), вышедшая одновременно с нашими занятиями в Париже и служащая одним из образцов работы по архивным грамотам, избавила нас от необходимости отдельной разработки политической части нашей задачи, бьша нашим руководителем по изучению административного вопроса (начало III главы этого тома) и дала возможность сосредоточиться на самостоятельном изучении протоколов инквизиции, на занятиях в другой сокровищнице исторической науки — Национальной (а тогда императорской) библиотеке. В этом разделе нашего труда мы не имели ни предшественников, ни руководителей. Фолианты громадной коллекции Доа, ради их самих, почти не изучали; Шмидт проглядел их мельком, так как писал историю катаров, оставляя деяния инквизиции на втором плане.
Ни одна библиотека в мире не представляет такого богатства манускриптов для изучения средних веков, как парижская Национальная. Со времен короля Карла V копился в ее стенах этот бесценный запас памятников всемирной цивилизации по всем отраслям знания. Восток и Запад снесли сюда свои сокровища в том самом девственном виде, в каком они просвещали человечество; станок отпечатал главнейшие памятники, более или менее имеющие общий интерес, но большая часть не может быть издана и в силу своей узкой специальности и по своему исключительно научному значению. Материалы, интересовавшие нас, имеют характер только что упомянутый. Мы обращались к так называемой Collections, fonds latin, fonds italien.
Коллекции, то есть многотомные фолианты переплетенных рукописей на разных языках, составляют шестой отдел гигантской секции манускриптов. Рукописи в них имеются преимущественно в старых копиях. Коллекции озаглавлены то по провинциям, то по именам редакторов сводов. Некоторые поражают громадностью (Clairambault: тысяча двести томов королевских грамот; Могеаи: тысяча восемьсот тридцать четыре тома правительственных документов; Colbert: девятьсот двадцать три тома и так далее), одолеть которую тем труднее, что иные сведения и мелочи попадаются в той коллекции и в том фолианте, где менее всего ожидаешь их встретить.
Мы сосредоточились на коллекции Ооаг для Лангедока в двухстах пятидесяти восьми томах, собственно на томах XXI—XXXVII, содержащих копии с протоколов провансальских трибуналов, переданные то в латинских подлинниках, то во французских извлечениях, сделанных по распоряжению Кольбера и с разрешения Людовика XIV. Доа и отправленные с ним агенты списали все, что захватили, что не успело погибнуть в доминиканских монастырях. Поэтому почти все то, что не было известно этим копиистам, останется навсегда пробелом в истории первой инквизиции. Немногое после них можно найти в отдельных протоколах, попавших в Национальную библиотеку иным путем, или в старых печатных изданиях (а именно, Processus insignis contra Bern. Del. № 4270, f. 1. и Liber sent. inq. Тоl. из Limborch).
Процессы переписывались не в хронологическом порядке; вообще у Доа нет никакой системы. Он пользовался тем, что попадалось под руки, списывая целиком тот сверток, который был в его распоряжении, не согласуясь ни с предыдущим, ни с последующим материалом. Оттого так трудно пользование его коллекцией.
XXI том начинается отрывочными приговорами, не имеющими отношения к делу буллами, позднейшими декретами соборов, и только со сто сорок третьего листа исключительно переходит к сентенциям, отмечая первую из них Vil Kal. jun. 1227 и продолжая их с перерывами сообразно имевшемуся материалу и без всякой хронологической последовательности в следующих томах. Тома ХХП-ХХ1У — сентенции тулузской инквизиции за 1243-47 годы, но также без соблюдения точной последовательности. Том XXV— свиток протоколов инквизиции Фуа за 1273—78 годы. Том XXVI — за позднейшее время до 1289 года. На последнем листе скопированы печати нотариусов и пометка: списано в Альби шестнадцатого октября 1669 года под редакцией Grat. Capot. С XXVII тома крутой переход к процессам в Фуа над альбигойцами и бегинами, взятым из архива каркассонской инквизиции за 1318—29 года. Доа смешивает альбигойцев и бегинов. Последний протокол помечен первым марта 1326 года, хотя ранее встречаются процессы 1329 года. XXIX и следующие тома посвящены документам по истории судопроизводства в каркассонских трибуналах против еретиков и евреев; тут папские буллы, бланки всякого рода, инструкции инквизиторам. Затем идет трактат о ереси лжеапостолов и наставления для допроса еретиков разных учений. С XXX тома начинаются так называемые мелкие документы, полезные для изучения истории крестовых походов на альбигойцев, и за ними — основательный сборник папских булл по делам ереси (двадцать пять — Иннокентия IV, двадцать семь — Александра IV, два — Урбана IV и четырнадцать — Климента IV), затем следуют донации Альфонса, письма французских королей до Филиппа IV включительно, буллы Бонифация VIII и Иоанна XXII. В последних томах XXXV-XXXVII позднейшие документы инквизиции до второй половины XVI века, а в иных вопросах даже до XVIII столетия.
Кроме коллекции Dоа: мы могли располагать еще сборником Decamps (Collection pour l`histoire de France, 127 v.), часть которого посвящена документам к подтверждению прав королевской власти на Лангедок. Существенные акты по этому предмету находятся в латинском отделе, № 9042, 9813, 10932, 12810, 13868, 17057, 17700, 18345; там же рукописные приобретения, сделанные Д'Агессо и Будоном в Каркассоне в 1869 году (№ 4270, по списку XVII века и факсимиле с манускрипта XIII века, — Registre, de l`inq. de Carc. de 1249 а 1257, в копии у Доа, f. 1. nouv. acq. № 139), еще не рассортированные, между которыми оригинальные хартии для Гиенни и Лангедока XIII—XVI века.
Итальянский отдел познакомил нас с Paulo Servita. Historia della sacra inquisizione (№ 137, т 4, 120 Г.), который писал по поручению дожа, обращая главное внимание на венецианские духовные трибуналы. Манускрипт важен в том отношении, что показывает итальянский взгляд на инквизиторов, воспитанный италийской историей. Автор не допускает их вмешательства в светскую юрисдикцию (§ 20, 2) и устраняет от подсудности им колдунов и последователей других христианских исповеданий (§ 25, р. 9). Гражданские депутаты должны присутствовать даже в процессах против духовных лиц. Почти все тридцать девять положений книги направлены против злоупотреблений, могущих быть со стороны инквизиторов. По возможности стесняя их юрисдикцию, Сервита отстраняет от них дела о двоеженстве (§ 22), о ростах (§ 23), о кощунстве иноверцев, о чем инквизитор должен делать предложения светскому суду (§ 24).
Необходимо заметить, что в Венеции «консилии» немногим уступали трибуналам. Впрочем, автор одушевлен гуманными идеями, он советует лучше пропустить виновного, чем казнить невинного. Причиной появления ереси он признает падение нравов духовенства (р. 18) и политические обстоятельства, а потому странно, что в видах отстранения ее оправдывает введение инквизиции. Он полагает, что в греческой Церкви инквизиция раньше существовала, «так как в ней издавна исполнялись императорские декреты», всегда поддерживавшие права духовенства. Фридрих II повторял их в истории Римской Церкви: он принял инквизицию под свою защиту, он виновник введения жестокого наказания за ересь.
Обращаясь к печатному материалу, к пособиям, мы должны отметить, что во всей европейской литературе нет ни особого сочинения по истории провансальской инквизиции, ни специального исследования о начале трибуналов, вытекших как естественное последствие нетерпимости. Общие работы по инквизиции, из которых имеют серьезное значение только труды Лимборха и Льоренте, для наших целей стояли на втором плане. Старая и весьма поверхностная статейка De l`inquisition en France (помещенная у Leber. Coll. des meilleurs dissert. 1838, III, 286—307) и дилетантское сочинение Lamothe-Langon (Hist. de l`inq. en France) — вот все, что прететавляет литература по нашей специальности, да и тут началу инквизиции уделено ничтожное место.
Вообще в трудах по инквизиции всегда обращалось, да и теперь все внимание обращается, на энергичное повествование об ужасах, происходивших в трибуналах, что передается протестантскими, иногда и католическими историками, не без сентиментальности, — а научные вопросы игнорируются. Доминиканские и иезуитские патеры останавливаются на юридической и апологетической стороне. Оттого собственно историческая часть оставалась неразработанной, а без изучения протоколов провансальской инквизиции никакое исследование немыслимо. Старые историки предпринимали такие попытки; они были знакомы с протоколами; Limborch (Hist. inq. Amst. 1692) даже издал часть протоколов (394р.).
Но их воззрения, как современников учреждения, продолжавшего долгую жизнь, никогда не отличались объективностью — католики считали инквизицию заветом Господним, протестанты преувеличивали жестокость судопроизводства. Книга реформата Лимборха посвящена архиепископу Кентерберийскому; высказываясь с благородным негодованием против злоупотреблений христианства, замечая, что «учение Иисуса Христа возражает против любых религиозных преследований», автор своим крайне пристрастным отзывом о Доминике лишает свой труд истинно научного значения, как ни богата его эрудиция. Он не становится выше мнений толпы и не думает отнестись к началу инквизиции сколько-нибудь критически. Лимборху знакомы: N. Eymericus, Fr. Pegna, Lucerna inquisitionis (R. 1584). I. a Royas Zanchini Ugolini, Conradus Brunus, L. de Parano, Anth. de Sousa, Caes. Caerena (оба последних сочинения, вышедших в 1669. Lugd., посвящены наставлению инквизиторам), Р. Servita etc., — печатные и рукописные пособия для инквизиции, все произведения католические. Следом за ними его внимание обращено главным образом на позднейшую инквизицию. Все же его книга бесконечно превосходит католические труды XVI века, которыми он пользовался.
Приступая к изучению нашего предмета, необходимо было прежде всего отрешиться от старого католического хлама. Только Percin (Monumenta conventus Tolosani, ТЫ. 1693) заслуживает исключения, да и то потому лишь, что он пользовался актами своего монастыря, которые поместил в извлечении. Так, только у него находим важное ломбардское бреве, первый исторический памятник трибуналов. Но из его трудов имеет значение только история доминиканского тулузского монастыря и статья о первых деятелях инквизиции (de primus martyribus etc.). Происхождение инквизиции для него совпадает с происхождением доминиканского ордена.
Из всех историков инквизиции для нас полезнейшим был знаменитый Liorente (Hist. critique de l`inq. d`Espagne, I. 1-2, 1818), хотя о нашем предмете он не говорит специально; в массе его рукописных источников напрасно будем искать тулузские протоколы. Но все же только у него одного из прежних писателей была идея о разнице между первой и второй инквизицией[81].
Приведенный нами в первом томе обзор пособий мы можем пополнить весьма немногим. Нам хотелось бы передать в извлечении интересную и малодоступную рецензию на известную книгу Шмидта, рецензию замечательную не по важности, а оригинальности мыслей. Это статья Cucheval-Glarigny, помещенная в 1832 году в Bibl.de l`Ecole des Chartes (3 serie, III, 80-90).
В приливе патриотического чувства рецензент крайне заблуждается в понимании и характеристике северной и южной Галлии в средние века. Первую ему угодно ставить выше, потому что там действовал Святой Бонифаций и что она была-де духовным очагом Европы, что она будто оказывала влияние на скудный Юг и даже на Италию (!). Но дело не в этих фантазиях, за которые ответственна разве только редакция почтенного издания; у рецензента рядом с невежеством есть оригинальные мысли. Он пытается доказать, вопреки Шмидту, что северная Франция была источником катарства, ибо в ней ересь проявляется еще в 991 году в Реймсе, а в двадцатых годах XI века — в Орлеане, Аррасе, Суассоне, тогда как в Болгарии только в 1015-м, а в Италии в 1016 году. Север жил религиозной идеей и старался развить ее, из чего и вышла реформа.
На основании легенды о Фортунате автор делает Шампань источником ереси; там стоял замок Монтвимер, из которого, по преданию, сильно распространенному между еретиками XII столетия, ересь распространилась во все концы света. Катарство и манихейство для Шмидта, как известно, не имеют связи и часто противоположны: в катарстве он не видит участия гностицизма. Все это дает рецензенту оружие восстать против восточного происхождения альбигойцев, ибо богомилы, мотивирует он, были тесно связаны с христианами, а альбигойские катары заимствовали много языческого. «Le catharisme ne serait-il pas plus vieux que ne l`a fait M.Schmidt?» — спрашивает он и выводит, согласно с нашей теорией, что альбигойство было результатом взаимодействия всех сект. Катарство создавалось в эпоху невежества, когда само христианское учение еще не сформировалось в богословие. Ариане, манихеи, присциллиане, павликиане действовали в Галлии и оставили следы своего учения. Таким образом, все ереси имели там своих представителей.
Конечно, оговаривается рецензент, западное происхождение катарства не исключает восточного влияния. Греческая Церковь была в общении с Римской до IX века. В высшем духовенстве Германии и Англии попадаются греки. Наконец, вера в Чернобога не была принадлежностью одних славянских воззрений; она видна в старых католических преданиях. По теории, или, лучше, гипотезе рецензента, очень просто и легко ересь могла обнаружиться на берегах Рейна, ранее, чем где-нибудь. В V веке процветали школы в Трире, Кельне, Меце, Туле. Нашествие варваров уничтожило их, что повлекло упадок христианской образованности. В VII—VIII веках было сильное гонение на христиан в Тюрингии и Фрисландии. Дело обращения приходилось начинать сызнова, но уже с гораздо более скудными средствами богословского знания. Святой Колумбан нашел много язычников в Австразии. Вот причина извращенного и неумелого толкования христианских истин и начало ереси. Несчастья и великие бедствия галльских и германских христиан поселили между ними веру в дьявола. Язычество варваров-победителей смешалось с изуродованным христианским богословием. Святой Бонифаций в VIII столетии знал манихеев на Рейне; он пишет об еретиках, которые питаются молоком, зеленью и воздерживаются от мясных яств. Непросвещенные священники легко забывали истинную веру.
Но странно, что наряду с этим рецензент допускает образование смягченного толка ереси под непосредственно греческим влиянием. Богомилы-де выработали его, а пленники, отпущенные в Венгрию, принесли с собой это верование с Дуная на Запад, а к XII веку оно охватывает громадное пространство от Болгарии до океана.
Приведенная теория, крайне смелая и оригинальная, иногда и опрометчивая, тем не менее подрывает некоторые основы сочинения Шмидта, потому что в своей гипотезе рецензент исходит из преемственной связи ересей, начиная с их первого появления в истории. Гипотеза, во всяком случае, заслуживает внимания, и, сожалея, что мы поздно узнали о ней, рекомендуем дополнить ею наши замечания в первом томе.
Считаем также нелишним дополнить наши заметки о Вессэ указанием на специальное исследование о написании его Hist. gen. de Lang., появившемся в 1853 году в Publications de la Societe archeol. de Montpellier, № 21.
После выхода нашего первого тома во французской литературе появились два сочинения, относящиеся к предмету нашего изложения. Мы говорим о трудах Бутарика и Пейра. Имя первого пользуется прочной известностью во французской исторической науке. Читатель видел, что в III главе мы масто обращались к его монографии об Альфонсе (S. Louis et Alfonse de Poitiers. 1870), разработанной по неизданным документам французского государственного архива. Свежесть материала, ясная группировка фактов, точные и новые выводы — делают эту книгу одним из замечательнейших явлений в ряду исторических трудов последнего времени. Автор не чужд некоторого пристрастия к Альфонсу; он даже идеализирует его, как и самого Людовика IX, которого основательно считает образцом для графа Тулузского. Он требует слишком немногого от средневековых централизаторов, чтобы увенчать их именем покровителей либеральных учреждений. Он делает даже бездоказательный вывод, говоря, что Альфонс более покровительствовал среднему сословию, чем аристократии, желая в идеальном свете представить первые дни государственной централизации. Мы, как видел читатель, во многом не соглашались с Бутариком в статье о политическом положении Юга после завоевания и, со своей стороны, отчасти пересмотрели документы, которыми он пользовался, отчасти дополнили его материалы.
Гораздо меньшее научное значение имеет сочинение N. Peyrat (Histoire des Albigeois, t. I—II, Р. 1870), неоконченное и по настоящее время. Мы получили его, когда наш труд был близок к окончанию, и если бы мы даже вовсе не пользовались им, то не думаем, чтобы потеряли от этого. Пейра начинает свою работу смертью Симона Монфора, и доходит до падения Монсегюра, следовательно рамки его труда близки к нашей работе. Он также сопоставляет инквизицию с историей Юга, но он не ставит перед собой задачи заниматься историей первой инквизиции специально. Его труд предназначен непосредственно для публики, и автор часто злоупотребляет внешностью в ущерб истине. Его изложение было бы блестяще, если бы не впадало в риторику и пафос. Автор разбивает книгу на отдельные рассказы, в которых играет красками с полным произволом. Он сравнивает Раймонда V с Периклом, Гильберта де Кастра с Иоанном Богословом и тому подобное. Протестантский пастор, он восторгается смелостью учения катаров и верит в несуществующую связь между альбигойцами и бегинами; подобно Барро и Даррагону, с которыми Пейра имеет много общего по литературному таланту и по задачам, он не выделяет вальденсов из среды еретиков того времени. Он довольно поверхностно знаком с протоколами коллекции Доа, хотя неоднократно пользуется ими. Факты он часто дополняет воображением, особенно там, где прибегает к диалогу. Он очень редко указывает на источники, чуждается всякой критики и гонится только за эффектным рассказом и образными сценами.
Все это лишает сочинение Пейра ученого значения; оно может быть полезно для исследователя только в одном: автору хорошо известна топография страны до всех мелочей, так же как и феодальная история. Если у него нет ученых приемов, то ему нельзя иногда отказать в удачных и полных вдохновения характеристиках. Так, он смотрит на Доминика взглядом, весьма снисходительным для протестантского писателя. Он верно понимает его историческое значение и его личность. Он категорически различает первых доминиканцев от тех, которые посвятили себя служению инквизиции; с учениками Доминика стало то же, что с детьми Лойолы — они изменили своему первоначальному назначению и этим обязаны Риму, фатально порабощающему своих слуг. Сам же Доминик был не кто иной, как «ортодоксальный альбигоец»; его проповедь требовала нищеты, воздержания и целомудрия, а его последователи жили в огне, подобно саламандре. Но, как часто у Пейра, и этот взгляд не выдержан вполне. Автор, подчиняясь вдохновению минуты, считает Доминика не только инквизитором по природе, но даже основателем инквизиции, что утверждает довольно решительно. Он ненавидит дух папства.
Мы не считаем необходимым делать разбор тех разнообразных монографий, исследований и специальных статей, которыми мы пользовались и на которые указывали в своем месте.
Указатель важнейших персонажей
д'Аббевиль, Николай — инквизитор Каркассона. Отличался неимоверной жестокостью и цинизмом, вызывавшими смущение даже у его коллег по ремеслу. Был заменен Готфридом Аблузием.
Абеляр, Пьер (1079—1142) — один из представителей ранней городской культуры. Как философ и магистр свободных искусстн приобрел всеевропейскую славу, но вызвал враждебное отношение со стороны католической церкви. В 1119 году поступил в монастырь. Оставил большое количество философских и богословских сочинений, в которых высказал взгляды, подвергшиеся церковному осуждению. Сторонник так называемого концептуализма в центральном для средневековой интеллектуальной культуры вопросе об универсалиях.
Абу-Юсуф Якуб аль-Мансур — халиф альмохадов. Разбил кастильскую армию в битве при Аларкосе в 1195 году.
Август (44 год до нашей эры — 14 год нашей эры) — римский император с 27 года до нашей эры. Внучатый племянник Юлия Цезаря. Вел многочисленные войны. Был основателем политического режима, называемого принципатом. В его руках была сосредоточена вся реальная власть. Его материальной опорой являлась армия. Правление Августа совпало с расцветом римской культуры в целом.
Августин Блаженный (354-430) — епископ Гиппона, богослои, один из крупнейших представителей патристики на Западе. Система взглядов Августина сложилась в борьбе с манихейством, до-натизмом, пслагианством и язычеством. Выступал защитником аскетизма, презрения к плоти. Своим учением о предопределении и о благодати оказал влияние на Уиклифа и Лютера. Важнейшие его сочинения— «Исповедь» и «О граде Божьем».
Авсоний (310—395)— знаменитый поэт и политический деятель позднего периода Римской империи.
Аделаида — жена Роже II (смотри). Во время инквизиционного процесса проявила удивительное мужество и стойкость. Отлучена от церкви.
Адемар Иордан— рыцарь, еретик, комендант Сен-Антонина. Пленен Симоном де Монфором.
Адольф — граф Монса, участник похода против альбигойцев.
Адриан (76—138)— римский император с 117 года. Преемник Траяна. Занимался централизацией государственных учреждений; при нем была укреплена императорская власть. На границах империи создал систему мощных оборонительных сооружений, так называемые адриановы валы.
Адриан II— римский папа в 867—878 годах. Небезуспешно боролся с Лотарем II и Карлом Лысым за упрочение папской власти.
Адриан IV (1100-1159) — римский папа с 1154 года. Сторонник папской теократии. При поддержке Фридриха Барбароссы вел борьбу с республиканским движением в Риме, которое возглавлял Арнольд Брешианский. За выдачу последнего короновал Фридриха императорской короной.
Аймерик — альбигойский проповедник.
Александр II— король Шотландии в 1214—1249 годах.
Александр II — римский папа в 1061—1073 годах. Первый папа, выбранный коллегией кардиналов без вмешательства немецких императоров. Его канцлером и преемником был Григорий VII Гильдебранд.
Александр III (умер в 1181 году) — римский папа с 1159 года. Стремился утвердить папскую теократию. Вел борьбу против Фридриха I Барбароссы и Генриха II Английского. Добился признания пап верховными сюзеренами английских королей.
Александр IV— римский папа в 1254—1261 годах. Не смог закрепить положения пап относительно Гогенштауфенов, занятого его предшественниками. Изгнанный из Рима, умер в Витербо.
Алексей I Комнин (1048-1118)— византийский император с 1081 года, основатель династии Комнинов. Крупный полководец, захвативший путем переворота трон императора. Подавил многочисленные мятежи крупных феодалов, стремился подчинить Церковь императорской власти. Его жизнь описана его дочерью Анной в «Алексиаде».
Альбароньер, Вильгельм — отшельник, еретик, считавшийся лангедокцами святым за свое подвижничество.
Альберик— кардинал остийский. Легат папы Евгения III в южной Франции.
Альберт [фон Аппельдерн— епископ Ливонии (1199—1229), при котором совершилось завоевание ливонскими рыцарями Прибалтики.
Альберт Великий (около 1193-1280) — граф фон Больштедт, немецкий теолог и философ-схоластик, доминиканец. Преподавал в Кельне и Парижском университете. Его учеником и продолжателем был Фома Аквинский.
д'Альгэ, Мартин — комендант замка Бирон. Воевал сначала на стороне Монфора, а затем альбигойцев. Впоследствии крестоносцами взят в плен и повешен.
д'Альфар, Гуго— комендант замка Пеннь. Родственник Раймонда VI.
Альфаро, Раймонд — приближенный Раймонда VII, бальи Ави-ньонета.
Альфонс — сын Бланки Кастильской. Впоследствии граф Ту-лузский. Жестоко преследовал еретиков и евреев на Юге Франции.
Альфонс I Воитель (Батальядор) — король Арагона и Наварры в 1104-1134 годах. Предпринимал ряд походов против мавров, а также в Андалусию и на Юг Франции. В 1118 году отвоевал у арабов Сарагосу.
Альфонс II — король Арагона в 1162-1196 годах. В 1180-1181 годах вел войну с Раймондом V Тулузским.
Альфонс VIII — в 1185—1214 годах король Кастилии. В 1195 году разбит мусульманскими войсками.
Альфонс IX (1188—1230) — король Леона и Астурии. Пытался объединить христианские государства на Пиренеях. Установил свой сюзеренитет над Фуа, Коммингом, Монпелье.
Альфонс X Мудрый (1221—1284) — король Кастилии и Леона. В союзе с Арагоном вел успешную войну с арабами. В 1257 году, будучи сыном Филиппа Швабского, пытался быть выбранным в императоры. В 1282 году под давлением феодальной знати был низложен кортесами. Умер в разгар борьбы за престол.
Альфонс Иордан (1112—1148)— сын Раймонда IV, тулузский герцог, погиб в крестовом походе.
Андрей 11 Венгерский (умер в 1235 году) — венгерский король с 1205 года из династии Арпадовичей. Принимал участие в V крестовом походе.
де Апольда, Теодорик — ученик Доминика.
Арий (умер в 336 году) — александрийский сьященник, по имени которого названо течение в христианстве в IV—VI веках, основные положения которого были сформулированы Арием и 318 году.
Аркадий — император Византии в 395—408 годах, издавший двенадцать постановлений против ересей.
д'Арканьяго, Петр — инквизитор. Удушен патаренами в Милане.
Арнальди, Вильгельм — современник Доминика. Получил полномочия инквизитора вместе с Петром Челлани. Отличался жестокостью и непримиримостью по отношению к еретикам.
Арнольд— настоятель главного цистерцианского монастыря, папский легат с 1204 года. Пользовался огромной славой как ученый и искусный проповедник.
Арнольд Брешианский— знаменитый средневековый проповедник, возглавлявший республиканское движение в Риме. Был выдан римскому папе германским императором и в 1155 году казнен.
Арнольд Каталонский — инквизитор, доминиканец. В 1234 году вместе с инквизиторами доминиканцами Вильгельмом Пелли-сом и магистром Вильгельмом из Ломбера безуспешно пытался открыть трибунал в Альби.
Арнольд Роже — альбигоец, защитник Монсегюра.
Артур— владетель Бретани, племянник Иоанна Безземельного, убит в 1203 году.
д Астуад, Понс — провансалец, наблюдавший в Парижском совете Альфонса Тулузского за юстицией.
де Баймиак, Раймонд — еретик, преданный анафеме.
Болдуин — брат Раймонда VI Тулузского. Обороняя замок Монферран, заключил союз с Симоном де Монфором и перешел на сторону последнего. Пленен альбигойцами, не простившими ему предательства, и повешен.
Болдуин II — император Латинской империи в 1238—1261 годах, свидетель на объявлении невестой Раймонда VII Беатриче Провансальской.
Бон Кулич — боснийский государь. В конце XI века открыто принял сторону богомилов.
Бар— граф, предводитель крестоносцев из Лотарингии.
Барро, Иоанн— францисканец. Объявлен нераскаянным еретиком, осужден на низложение сана и сожжен.
Бартоломей Тридентский — ученик Святого Доминика.
Бата — епископ, посланник папского легата Петра в Альбижуа (1178).
Беренгария— жена Альфонса VIII Кастильского.
Бернар Клервоский (1090—1153)— теолог-мистик, с двадцати трех лет монах цистерцианского ордена. С 1115 года настоятель основанного им монастыря в Клерво. Участвовал в создании ордена тамплиеров, был вдохновителем II крестового похода. Активно боролся с еретическими течениями.
Бернар Сладостный — францисканец, вступил в братство бе-гинов, проповедовал нетерпимость к злоупотреблениям властью со стороны духовенства, к ее роскоши и разврату. Заключен в тюрьму по приговору инквизиционного трибунала. Умер в 1320 году.
Бернард — в 865—875 годах в качестве государя Тулузы — граф, как наместник марки Септимании — маркиз, как владетель части Аквитании, то есть Альбижуа и Керси, — герцог; один из крупнейших южнофранцузских феодалов второй половины IX века.
Бернард — инквизитор, автор произведений, обличающих еретиков.
Бернард IV Коммингский — граф, вассал Раймонда VI, воевавший против северофранцузских крестоносцев.
Бернард Раймонд— еретик, преданный анафеме.
Бернард Сикар — провансальский трубадур начала XIII века.
Бертран — епископ Лериды. По его распоряжению совместно с архиепископом арагонским доном Эспарраго был устроен первый инквизиционный трибунал.
Бертран— инквизитор, свирепствовавший в Аженуа.
Бертран — сын Раймонда IV, тулузский герцог, умер во время крестового похода.
Бертран Мартен— альбигойский епископ, пребывавший в Монсегюре во время его осады.
Бланка Кастильская (1188—1252)— королева Франции, жена Людовика VIII, регентша при несовершеннолетнем короле Людовике IX (1226—1236 годах). Управляла Францией и во время его пребывания в VII крестовом походе. В 1229 году заключила завершающий Альбигойские войны Парижский договор.
де Бо, Бараль — трибун Арля и Авиньона после самопровозглашения последних республиками.
Богомил (Богоумил) — болгарский монах, основатель богомильства, религиозного движения X—XIV веков в Болгарии, Сербии и Боснии, испытавшего влияние павликианства и манихейства.
Бозо — родственник итальянского короля Гуго (IX век). Король Бургундии, пользовался поддержкой папы и симпатией вассалов и епископов.
Бонавентура (Джованни Фиданца) (1221—1274)— кардинал, биограф и ученик святого Франциска, глава францисканского ордена, преподавал в Парижском университете.
Бонифаций VIII (1235—1303) — римский папа с 1294 года, один из наиболее крупных представителей папской теократии. В столкновении с Филиппом Красивым потерпел поражение, приведшее впоследствии к Авиньонскому пленению пап.
Бонпиан, Жерар — монах из тулузского братства Святого Креста. Обвинен в связях с еретиками.
де Борн, Бертран (около 1140 — около 1215) — знаменитый ак-витанский трубадур. Все его стихотворения были написаны между 1181 —1194 годами.
Боэций, Аниций Манлин Северин (около 480—524) — знаменитый теолог и философ, автор «Утешения философией», переводил на латинский язык сочинения Аристотеля и Евклида. Приближенный остготского короля Теодориха; был обвинен в подготовке заговора и казнен.
Брус, Бернард— еретик и отшельник, один из ересиархов.
де Брюи, Пьер— альбигойский ересиарх, начал действовать около 1105 года, сожжен в 1125 году в Сен-Жилле.
Бугр, Роберт— неистовый инквизитор, доминиканец. Отличался бессмысленной ненавистью и жестокостью по отношению ко всем подсудимым. За свое изуверство папским распоряжением посажен в тюрьму, в которой и умер.
Бурбон (Бельвиль), Стефан — доминиканец, инквизитор около 1250-1260 годов.
Бэкон, Роджер (1214—1292) — английский философ и ученый, францисканец, профессор в Оксфорде, один из представителей средневекового натурализма.
Валентиниан I (321—375) — последний государь единой Римской империи, правил с 364 года. После него произошло раздробление державы на Византийскую и Западно-Римскую империи.
Валентиниан III— император Западно-Римской империи в 425—455 годах. Именно при нем удалось остановить нашествие гуннов (в сражении на Каталунских полях в 452 году). Преследовал еретиков (издал три постановления против ереси).
Вальдо, Петр — знаменитый проповедник, основатель учения вальденсов, широко распространившегося на юге Европы. Подвергся вместе со своими многочисленными последователями репрессиям и гонениям. Его судьба после 1197 года неизвестна.
Василий — во времена византийского императора Алексея Ком-нина выдавал себя за Христа; являлся проповедником богомильства. Виктор— североафриканский епископ, автор книги о жес-токостях короля вандалов Гундериха (V век).
Виктор II— римский папа в 1055—1057 годах. Возведен на папский престол Генрихом III. Боролся против симонии и браков духовенства.
де Виламур, Арнольд— провансалец, находился в составе свиты графа Тулузского Раймонда VI на четвертом Латеранском Соборе, один из основных обвинителей Монфора.
де Билль, Флоран — крестоносец.
Вильгельм I Благочестивый — представитель овернского дома, получивший владения Райнульфа П.
Вильгельм I Завоеватель (около 1027—1087) — английский король с 1066 года. Разбил в битве при Гастингсе войска короля Гарольда и стал английским королем. Опирался на нормандских рыцарей и церковь. Установил прямую вассальную зависимость всех феодалов от короля.
Вильгельм II Юный — представитель овернского дома, сын Вильгельма I Благочестивого.
Вильгельм III— граф Тулузский (950—968). Воевал с Гуго Великим, королем Франции, но был побежден.
Вильгельм IV Благочестивый— граф Тулузский (1060—1088). Умер, не оставив наследников.
Вильгельм V— граф Тулузский (996—1030), прозванный Великим. Сын Вильгельма IV. Удачливый воин, правитель и политик; закончил свою жизнь в монастыре.
Вильгельм VI— сын Вильгельма V, граф Тулузский (1030— 1037). Неудачно воевал с графом анжуйским Жоффруа. Был взят в плен последним и выкуплен своей женой Евстахией за церковные сокровища.
Вильгельм VII— граф Тулузский в 1040—1056 годах. Вел безуспешную войну с Жоффруа Анжуйским.
Вильгельм VIII— герцог Аквитании (1058—1086).
Вильгельм IX Старый— герцог Аквитании (1086—1127).
Вильгельм X Юный — герцог Аквитании (1127—1137).
Вильгельм Бретонский — автор эпопеи «Филиппиада», посвященной Филиппу Августу.
Вильгельм Красивый — принц оранский, друг Монфора. Был послан на Авиньон, признавший власть Раймонда Тулузского. Потерпел поражение и попал в плен. Авиньонцы содрали с него живого кожу, а тело изрубили в куски.
Вильгельм, архидиакон Парижский — крестоносец, отличившийся при осаде Терма.
Вильнев, Журдан — представитель знатного рыцарского дома графства Ларагуэ. Осужден на вечное заключение за поддержку еретиков.
Вильневы, Арнольд и Стефан — еретики, братья. Осуждены на покаяние, пилигримство с посохом в руках и постройку темниц для осужденных.
Винье, Петр делла — канцлер Фридриха II.
Всеволод — двинский князь. В 1209 году попал в плен к рыцарям и стал их наместником в Герсике. В 1215 году восстал и был убит.
Галазна, Антоний — францисканец, четырнадцать лет принадлежавший обществу бегинов. Осужден на смертную казнь как отпавший.
де Галиако, Райнульф— председатель трибунала, главный инквизитор Лангедока (XIII век).
Гастон VI Беарнский — виконт, вассал Раймонда VI, воевавший против северофранцузских крестоносцев.
Гвиберт — аббат (начало XII века), автор истории города Лаона. Гвидон— цистерцианский монах, проповедовавший в Лангедоке в девяностые годы XII века. Папский легат, получивший неограниченные полномочия в борьбе против еретиков Юга.
Гвидон, Бернард — доминиканец, великий инквизитор (1307— 1322).
Гейзерих (умер в 477году) — король вандалов. В 429 году, вторгшись из Испании в северную Африку, основал свое королевство. В 455 году совершил поход на Рим и разграбил его. При нем и при короле Гундерихе (правил в 477—484 годах) арианство проводило активные гонения на православных, умерщвляя сотни людей. дю Геклен, Бертран — знаменитый французский рыцарь, полководец (XIV век). Отвоевал у англичан большую часть их приобретений во время первого периода Столетней войны. Его подвиги воспеты во многих художественных произведениях европейских авторов.
Геласий I — римский папа в 492—496 годах. Энергично и успешно проводил политику укрепления главенства Римской Церкви. Продолжал борьбу с Константинополем, начавшуюся при его предшественнике Феликсе III. Впервые перечислил запрещенные книги, установил строгое различие между книгами каноническими и апокрифическими.
Гельмгольд— немецкий католический священник, в X веке путешествовавший среди поморских славян и оставивший подробное описание их религии и быта.
Генрих— кардинал, бывший аббат Клерво, папский легат (1180). Призывал к беспощадной войне с альбигойцами. Организатор первого крестового похода на Юг.
Генрих— проповедник, ересиарх, последователь Петра де Брюи. В 1148 году на Соборе в Реймсе осужден на пожизненное заключение.
Генрих 1(1068—1135) — король Англии с 1100 года. Младший сын Вильгельма I Завоевателя. Захватил власть в обход законного наследника Роберта Нормандского, склонив на свою сторону английских баронов тем, что даровал им первую в Англии Хартию Вольностей. Вступил в конфликт с папой по вопросу о праве назначения английских епископов.
Генрих II Плантагенет (1133—1189) — король Англии с 1154 года. До этого — граф Анжуйский. Значительную часть царствования провел на материке. Проводил политику укрепления централизованного государства.
Генрих III (1017—1056) — германский король и император Священной Римской империи с 1039 года. В 1046—1047 годах, во время похода в Италию, низложил соперничавших пап, позднее неоднократно выдвигал претендентов на папский престол.
Генрих III (1207-1272) — король Англии с 1216 г. Сын Иоанна Безземельного. Пытался управлять страной, опираясь на иностранных феодалов и союз с римской курией. Был побежден в гражданской войне и взят в плен Симоном де Монфором в 1265 году. Даже последующая победа над последним и взятие его в плен не стали переломным в борьбе королевской власти с баронами и городами. Был вынужден созвать первый английский парламент.
Генрих VI (1165—1197) — германский король с 1190 года, император Священной Римской империи с 1191 года. Стремился сделать власть императоров в Германии наследственной, но потерпел поражение от германских князей и папы Целестина III.
Георгий — арианский епископ, наряду с Севером и Луцием — вдохновитель жестоких и кровавых гонений на православных (V век).
Герар — глава еретиков Оксфорда (вторая половина XII века); одержал победу над католическими ораторами на Оксфордском Соборе.
Герар — епископ Камбрэ. В 1015 году кроткой проповедью подавил ересь в своей епархии.
Гериберт — заведовал церковной школой в Орлеане (десятые годы XI века); вместе с Лизоем — духовное лицо, руководитель катарской ереси, близкий к королевскому двору. Публично отрекся от католичества, сожжен.
Герман — магистр Тевтонского ордена в двадцатые годы XIII века. Проводил политику экспансии против славян и прибалтийцев.
Гильдебранд— смотри: Григорий VII.
Годефруа— аббат Кастра. Безуспешно пытался заключить в тюрьму отлученных еретиков. Своими действиями вызвал яростное сопротивление народа (1115).
Гозберт — капеллан Амори Монфора.
Гонорий (384—423) — император Западно-Римской империи с 395 года. В его правление было издано восемнадцать постановлений против ереси.
Гонорий III — римский папа в 1216—1227 годах. Утвердил устав ордена доминиканцев в 1216 году.
Гонорий IV— римский папа в 1285—1288 годах.
Гормизд — римский папа в 524—523 годах. Помешал попыткам Византийского императора Анастасия устранить разногласия между восточной и западной ветвями христианства.
Госелин — альбигойский архиерей.
Гослар, Генрих— приор, нераскаявшийся катар. Сожжен Конрадом Марбургским в 1222 году.
Готфрид— аббат, впервые применивший в 1181 году термин «альбигойцы».
Готфрид — альбигойский проповедник.
Готшалк — священник. На Соборе в Керси на Уазе в 849 году отлучен как упорный еретик. Постановлением Агдского Собора наказан сотней ударов плетьми и заключен в темнице аббатства Отвилльер. Французский король Карл Лысый приказал сжечь его сочинения.
Грандсельв — аббат, представитель Раймонда Юного на перс-говорах о мире с Францией.
Грациан, Флавий (359—383) — император Западно-Римской империи с 367 года, соправитель отца Валентиниана и затем Фео- досия. Решительный защитник христианства. Первым отказался от языческого титула великого понтифика. Конфисковывал земли и доходы языческих храмов и предоставлял ряд финансовых привилегий христианскому духовенству. Издал эдикты против еретиков— донатистов, ариан, манихеев. Убит взбунтовавшимися солдатами.
Григорий I Великий (540—604) — римский папа с 590 года. Активно боролся за укрепление папской власти. Заметно расширил сферу влияния Римской Церкви. Объявил о своем исключительном праве выступать верховной апелляционной инстанцией для всей Западной Церкви.
Григорий II — римский папа в 715—731 годах. Отказался подчиниться иконоборческому эдикту Льва Исавра, осуждал вмешательство светской власти в дела церкви. Объявил иконоборчество ересью. Расширил церковное влияние в Германии.
Григорий VII (Гильдебранд) (около 1020—1085)— римский папа с 1073 года, выдающийся представитель (и зачинатель) теократии. Боролся с германским императором Генрихом IV и прославился тем, что заставил того претерпеть унижения ради снятия с него отлучения.
Григорий VIII— римский папа в 1187 году. Григорий IX(1145—1241) — римский папа с 1227 года. В борьбе с императором Фридрихом II продолжал теократическую политику Иннокентия III. Жестоко преследовал еретиков. Превратил инквизицию в постоянный орган церкви (1232) и передал ее в ведение доминиканцев. Учредил инквизицию в ряде стран.
Гримоальд— король лангобардский в 662—671 годах, первоначально — герцог Беневенто.
Гундульф — еретический миссионер из Арраса (начало XI века). Был арестован инквизицией, подвергся пытке, после которой отрекся от ереси и был отпущен и объявлен раскаявшимся.
Гус, Ян (1371—1415) — национальный герой Чехии. Проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации. Ректор Пражского университета. Сожжен в Констанце по приговору церковного суда.
Данте, Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, провозвестник Возрождения. Автор «Божественной комедии».
Деций (200—251) — римский император с 249 года. В 250 году впервые организовал повсеместное преследование христиан на территории империи.
Джерардо — проповедник воззрений альбигойских дуалистов. Проповедовал, укрываясь в замке Монтефорте, близ Турина.
Диоклетиан (243 — между 313 и 316) — римский император в 284—305 годах. Провел реформы, временно стабилизировавшие положение империи. Для укрепления централизованной власти в 286 году назначил своим соправителем Максимиана. В 303—304 годах предпринял самые знаменитые гонения на христиан.
Дольчино, Петр— ученик Герарда Сегарелли, предводитель восстания на севере Италии, подавленного с необычайной жестокостью. Казнен в 1307 году вместе со своей женой Маргаритой.
Доминик (Доменико де Гусман) (1170—1221) — основатель нищенствующего ордена доминиканцев. Принимал участие в подавлении движения альбигойцев. При поддержке французских феодалов и высшего духовенства основал в 1215 году Пруллианский монастырь, заложив основы ордена, утвержденного папой Гоно-рием III в 1216 году. После смерти канонизирован католической церковью в 1234 году.
Дюбуа, Жак — в Совете графа Альфонса отвечал за фискальные дела инквизиции, обогащая казну графа конфискованным имуществом еретиков и евреев.
Евгений III— римский папа в 1145—1153 годах.
Евгений IV (1383—1447) — римский папа с 1431 года. После долгих переговоров в 1439 году заключил на выгодных для католичества условиях формальную унию с православной церковью, которая не была принята ни на Руси, ни в Византии.
Еврар— инквизитор, автор произведений, обличающих еретиков.
Екатерина Медичи (1519—1589) — французская королева, жена Генриха II. В период правления своих сыновей Франциска II, Карла IX, Генриха III активно вмешивалась в управление государством. Участвовала в организации Варфоломеевской ночи.
Жеральд — епископ альбийский. Один из представителей католической церкви на состязании с альбигойскими проповедниками в Ломбере (конец XII века).
Жеральд IV Арманьяк — граф, вассал Раймонда VI, воевавший против северофранцузских крестоносцев.
Жильберт — граф Гаводана (XI—XII века).
Жиро — владетельница Лавора, еретичка. Убита по приказу Монфора.
Жоселин — епископ, один из представителей католической церкви на состязании в Ломбере.
Жоффруа — граф Анжуйский (1040—1060), прозван Молотом. Предок английских Плантагенетов.
Заморра — доминиканский монах, иерарх. В 1285 году написал устав доминиканского ордена.
Иаков I Арагонский (Хайме Завоеватель) (1208—1276) — сын Педро II, король Арагона с 1213 года. Отвоевал значительные территории у мавров. В 1258 году добился отказа французского короля Людовика IX от суверенных прав на Руссильон и Барселону в пользу арагонских королей, а сам отказался от притязаний на южнофранцузские территории, кроме Монпелье. Отказался принести вассальную присягу римскому папе.
Иван Асень II — болгарский царь периода Второго болгарского царства (1218—1241). Воевал с Латинской империей, создав огромное государство, охватывавшее большую часть Балкан. По политическим расчетам временно примкнул к Риму.
Иероним Пражский (около 1380—1416) — чешский реформатор, друг и сподвижник Яна Гуса, ученый, оратор. В проповедях и выступлениях обличал злоупотребления католического духовенства и призывал к выступлению против монахов и прелатов. Боролся с немецким засильем в Чехии. Был схвачен и под нажимом Констанцского Собора подписал отречение, от которого впоследствии отказался, и был сожжен как нераскаявшийся еретик.
Илера — казначей графа Альфонса и его капеллан.
Ингеборга — супруга Филиппа Августа, сестра датского короля Кнута IV, дочъ Вальдемара I. Умерла бездетной в 1226 году.
Иннокентий II (умер в 1143 году) — римский папа с 1130 года.
Иннокентий III (1160—1216)— римский папа с 1198 года. В 1208 году выступил инициатором крестового похода против альбигойцев в южной Франции. Выдающийся представитель теократии.
Иннокентий IV(1195—1254) — римский папа с 1243 года. Ярый приверженец теории папской теократии, продолжал разгоревшуюся при Григории IX ожесточенную борьбу с германским императором Фридрихом II. В 1245 году на лионском вселенском Соборе низложил Фридриха II и призвал к крестовому походу против него. Стремясь расширить влияние папства на востоке, активно поддерживал агрессию немецких феодалов против славян и прибалтийских народов.
Иоанн I— римский папа в 523—526 годах. При нем начался закат могущества остготов.
Иоанн I Цимисхий (около 925—976) — император Византии с 969 года. Захватил престол в результате дворцового переворота. Пошел на ряд уступок византийской церкви, в том числе отменил антицерковное законодательство Никифора II Фоки. Иоанн III— римский папа в 561—574 годах. Иоанн VIII — римский папа в 872—882 годах. Иоанн Безземельный (1167—1216)— английский король с 1199 года. Проводил политику фискального и политического нажима на крупных феодалов. Вел неудачные войны во Франции. Вступив в конфликт с папой Иннокентием III, был вынужден ему покориться. В 1215 году под давлением баронов и городских общин подписал Хартию Вольностей.
Иоанн Златоуст (около 350—407) — один из виднейших идеологов восточно-христианской церкви, в 398—404 годах — константинопольский патриарх. Получил образование в школе языческого ритора Либания. Призывал к благотворительности. Даже умеренная критика престола вызвала недовольство византийского правительства. Иоанн Златоуст был низложен и отправлен в ссылку. Причислен церковью к лику святых.
Иоанна — сестра Ричарда Львиное Сердце, жена Раймонда VI. Иоанна Константинопольская — графиня Фландрии (XIII век). Иоланда Свирепая — герцогиня савойская, сестра Людовика XI. Иордан — второй генерал ордена доминиканцев. Составил жизнеописание Доминика.
де Казаль, Убертин — мистик, глава бегинов. Кальвин, Жан (1509—1564) — деятель Реформации, основатель кальвинизма. В 1533 году отрекся от католической церкви. Главное его сочинение— «Наставление в христианской вере» (1536), в котором дано систематическое изложение нового учения.
да Канту, Эриберто — миланский архиепископ. Призвал итальянских баронов разрушить замок Монтефорте — прибежище итальянских еретиков.
де Каннио, Бернард— инквизитор с 1243 года, фанатичный и суровый аскет, во время своей деятельности подписавший несколько сотен приговоров.
Карвеас— пророк и вождь павликиан (VIII век). Кардиналь, Пьер — знаменитый поэт южной Франции XIII века. Выразитель настроений высшего общества.
Карл II Лысый (840—877)— король Франции, с 875 года — император Священной Римской империи.
Карл V Мудрый (1337—1380)— король Франции из династии Валуа с 1364 года. Стал регентом Франции после пленения англичанами его отца короля Иоанна Доброго в битве при Пуатье в 1356 году. Опираясь на мелких и средних феодалов и зажиточные слои горожан, провел ряд мероприятий, направленных на укрепление королевской власти. Успешно воевал против Англии, упорядочил налоговую систему, произвел военную реформу.
Карл VI Безумный (1368—1422) — король Франции с 1380 года из династии Валуа. Правление психически больного короля охарактеризовалось временным упадком централизованной власти, новыми феодальными смутами, многочисленными народными восстаниями. В 1420 году англичане добились от Карла VI, захваченного в плен их союзниками — бургундцами, подписания договора в Труа, согласно которому дофин (будущий Карл VII) лишался после смерти отца престола в пользу английского короля Генриха V.
Карл Великий (742—814) — франкский король с 768 года. По его имени стала называться династия Каролингов. Старший сын Пипина Короткого. До 771 года правил совместно со своим братом Карломаном. Значительно расширил границы своего королевства благодаря многочисленным победоносным войнам. В 800 году короновался в Риме как император Священной Римской империи. Стремился к укреплению централизованной власти в империи, провел военную и судебную реформы. Поддерживал союз как с папой, так и с.местной церковной иерархией.
Карл Глупый (879-929) — король Франции в 898-923 годах. В 923 году был взял в плен феодалами и умер после шести лет заточения.
Карл Мартелл (около 688—741) — майордом Франкского государства Меровингов. Восстановил политическое единство Франкского королевства. Обеспечил переход королевской власти к Каролингам в лице своего сына Пипина Короткого. В 732 году в битве при Пуатье разбил арабов, остановив их продвижение в Европу.
Кассиан — раннесредневековый автор, один из латинских отцов церкви.
де Кассинак, Бернард— рыцарь-разбойник в Ажснуа. Лишен своих владений Симоном де Монфором.
Кастанет, Бернард— епископ, инквизитор. Отличался особой жестокостью в Альби.
де Кастельно, Петр — цистерцианский монах из аббатства Фонфруа Нарбоннской епархии. С 1203 года— папский легат в Лангедоке. Подвергал еретиков жестоким преследованиям. Его убийство послужило поводом к началу крестовых походов против альбигойцев.
де Кастр, Гильберт — альбигойский епископ, пребывавший в Монсегюре во время его осады.
Кирилл (827-869) и Мефодий (815-885) — братья, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники хри¬стианства. Первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык.
Климент III— римский папа в 1187—1191 годах, дядя Инно¬кентия III.
Климент V (около 1264-1314)— римский папа с 1305 года. Выбран папой под нажимом Филиппа IV Красивого. В 1309 году перенес папскую резиденцию в Авиньон, положив начало Авиньонскому пленению пап. В интересах французского короля передал ему на пять лет сбор церковной десятины, был вынужден согласиться на обвинение ордена тамплиеров в ереси и на его роспуск в 1312 году. Поддерживал Францию в борьбе с императором Генрихом VII.
Климентий — еретик, сожжен в Суассоне (XII век).
Кнут IV— король Дании, брат жены Филиппа II Французского Ингеборги.
дель Комет, Эмерик— еретический епископ в Альби (1270).
Конрад IV— император Священной Римской империи в 1250— 1254 годах, сын Фридриха II.
Конрад Марбургский — знаменитый немецкий инквизитор. Принадлежал к первым последователям Доминика. Необычайно жестокий по отношению к еретикам, был убит последними в 1233 году.
Константин — павликианский проповедник VIII века. Его преемники — Симеон, Павел, Иосиф.
Константин Великий (около 285—337) — римский император с 306 года. Сын Констанция Хлора. При Константине завершилось превращение империи в военно-бюрократическое государство. В 324—330 годах столица была перенесена в Константинополь. Проводил политику веротерпимости, предоставив свободу христианскому вероисповеданию (Миланский эдикт, 313 года). Вмешивался в дела христианской церкви, поддерживал церковь в борьбе с донатистами. Лишь перед самой смертью принял христианство.
Константин Сильван— армянин, основатель движения павликиан (VII век).
Константин Хризомат (XII век) — последний из великих богомильских проповедников. Его сочинения сожжены по определению Константинопольского Собора в 1140 году.
Констанции II (317—361)— римский император с 337 года. В годы его правления арианство первое из христианских направлений подало пример гонений на православных. Он закрыл языческие храмы, запретил жертвоприношения.
Констанций Хлор (264-306) — римский император с 305 года. Выдвинулся в качестве военачальника при Диоклетиане, после отречения которого стал императором. Умер после победы над пиктами.
Констанция — жена графа Раймонда V Тулузского.
Крешенци — префект Рима, после смерти Отгона I был фактическим главой Рима. Возвел на папский престол пап Бонифация VII и Бенедикта VII. Боролся с Оттоном II, умер в 984 году. Его сын и внук также претендовали на власгь в Риме.
Кромвель, Оливер (1599-1658) — деягель английской буржуазной революции XVII века. Вождь индепенденгов. Лорд-прогекгор Англии с 1653 года. Один из главных организаторов парламентской армии, во время гражданских войн разгромившей королевские войска. В 1649 году содействовал казни короля Карла I и провозглашению республики.
де Крюн, Амори — граф, крестоносец, участник осады Тулузы.
де Курсон, Роберт — кардинал, папский легат во Франции. Бич еретиков.
де Куртенэ, Роберт — участник похода против альбигойцев.
де Куси, Энгерран — знаменитый рыцарь-крестоносец, участво¬вавший в крестовом походе против альбигойцев.
де Ла Гарда, Понс — провансальский трубадур (XIII века).
Лангтон, Стефан (1150-1228)— архиепископ Кентерберий-ский с 1207 года, друг папы Иннокентия III. Кардинал с 1213 года. В том же году признан Иоанном Безземельным примасом английской церкви.
Лев — царь Киликийской Армении Левой I в 1187—1219 годах.
Лев I Великий (умер в 461 году) — римский папа с 440 года. Боролся за признание верховной власти римского папы над всей христианской Церковью. В 445 году добился от императора Валентиниана III рескрипта, по которому папа получал право церковной юрисдикции в провинциях Западно-Римской империи. Первый папа, принявший титул «великий понтифик».
Лев IX (1002-1054)— римский папа с 1049 года. Ставленник императора Генриха III, встал на путь самостоятельной политики. Стремясь к централизации католической церкви, активно добивался подчинения независимого епископата западной Европы. Его политика способствовала возвышению папства. При Льве IX произошло окончательное разделение западной и восточной Церквей. Содействовал Клюнийской реформе.
деЛекко, Погано — инквизитор в Вальтелине. Убит еретиками.
Леопольд V— австрийский герцог, в 1192 года державший в плену возвращавшегося из крестового похода Ричарда Львиное Сердце.
Лили из Венессена— обвинен в ереси, но освобожден от пожизненного заключения по указанию римских пап.
Ллевелин-ап-Иорверт (умер в 1240году) — правитель Северного Уэльса в 1194—1238 годах. Поддерживал баронов в борьбе против своего тестя, английского короля Иоанна Безземельного. Заставил последнего признать права Уэльса в Хартии Вольностей.
Лотарь I — внук Карла Великого, король Италии с 840 года, в 843-849 годах— император.
де Луджио, Иоанн— еретик, развивавший учение о постоянной взаимной борьбе двух начал, доброго и злого.
Лука Тюиский — испанский инквизитор в Галисии.
Лукапетр — вероучитель у эвхитов (мессалиан), ветви павли-киан.
Луций III— римский папа в 1181—1185 годах.
Людовик I Благочестивый — франкский император из династии Каролингов (814-840).
Людовик II Косноязычный — сын Карла Лысого, в 877—879 годах король Франции.
Людовик VI Толстый (1081—1137) — французский король, женил своего сына на дочери Вильгельма X Элеоноре Аквитанской.
Людовик VIII (1187~ 1226) — французский король с 1223 года. Женатый на дочери Генриха II Английского, претендовал на английскую корону, отвоевал у англичан Пуату, Перигор и ряд других территорий. В 1226 году начал войну против альбигойцев. Окончательно присоединил к Франции Тулузское графство и весь Лангедок.
Людовик IX Святой (1214—1270) — король Франции с 1226 года. Провел ряд реформ, способствовавших централизации государства. В 1248 году возглавил VII крестовый поход, во время которого был пленен египетским султаном. Умер от чумы во время VIII крестового похода в Тунисе.
Людовик XI (1423-1483) — король Франции из династии Ва-луа с 1461 года. Дофином участвовал в мятежах против своего отца Карла VII, но, вступив на престол, сам жестоко подавлял феодальные мятежи, проводя последовательную политику укрепления королевской власти, централизации и территориального объединения Франции.
Людовик XIV (1638-1715)— король Франции с 1643 года. До 1651 года регентшей при нем была Анна Австрийская, фактическим правителем до 1661 года являлся кардинал Мазарини. Период самостоятельного правления явился апогеем в развитии французского абсолютизма.
Людовик Баварский — император Италии с 855 года, не имевший реальной власти.
Людовик Немецкий — император Восточно-Франкского государства в 843—876 годах.
де Люс, Гюи — крестоносец, продавший захваченный северофранцузскими рыцарями замок его прежнему владельцу. Повешен крестоносцами за измену.
Лютер, Мартин (1483—1546)— величайший вождь Реформации в Германии. Основатель немецкого протестантизма (лютеранства). Тридцать первого октября 1517 года в Виттенберге выступил с девяносто пятью тезисами по поводу индульгенций, содержавшими основные положения его нового религиозного учения. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив этим нормы общенемецкого языка.
Мани (216-276) — персиянин, около 230 года основал религиозное учение, впоследствии названное его именем (манихейство). Проповедовал в Средней Азии, Индии, Ближнем Востоке. В 273 году вернулся из прозелетических путешествий в Иран, где был взят под стражу и три года спустя казнен.
Манфред Гогенштауфен — король Сицилийского королевства, сын Фридриха II и брат наследника последнего Конрада. Продолжал борьбу с папой до 1266 года, когда был побежден Карлом Анжуйским и взят в плен.
де Марзак, Мария — уличен в близости с еретиками, судим инквизиционным трибуналом и присужден к церковному покаянию.
Мариньи, Энгерран — министр короля Филиппа IV Французского.
Мария — жена короля Педро II Арагонского.
Маркион— христианский еретик первой половины II века, сын епископа синопского. За противный церковному учению образ мыслей отлучен отцом от Церкви. Со 130 года стал открыто проповедовать свою доктрину и объединил своих последователей. По его имени ересь получила название маркионитства (основной ее тезис — в признании двух богов: Бога любви и злого творца мира).
де Марли, Букхард — друг и любимец Симона Монфора. Был взят альбигойцами в плен и шестнадцать месяцев провел в заточении.
Мартин Турский (316-397) — епископ Тура с 372 года. Прославился своими добродетелями, экзорцист. Подвергался преследованиям со стороны ариан. Строил церкви и монастыри, обращал в христианство язычников. Канонизирован. Считается покровителем Франции.
Марцеллин — римский папа в 296-304 годах (при императоре Диоклетиане). Обвинялся в отступничестве во времена гонений на христиан, в выдаче священных книг и в участии в языческих жертвоприношениях. Был замучен за веру.
Матвей Парижский (около 1200 — после 1259) — английский хронист, монах монастыря Сент-Олбанс. Главный труд Матвея Парижского, «Большая хроника», охватывает период с 1066 по 1259 годы.
де Мафери, Бернард — барон, был отлучен за бегинство в 1322 году и позже уличен вторично.
де Меран, Агнесса — дочь тирольского князя. Морганатическая жена Филиппа Августа.
Мефодий — смотри: Кирилл и Мефодий.
Меценат, Гай Цильний (между 74 и 64—8до нашей эры) — приближенный императора Августа. Никогда не занимая государственных должностей, исполнял для Августа важные политические и дипломатические миссии. Известен своим покровительством литературной жизни Рима.
Милан— папский легат, принявший в 1209 году отречение графа Раймонда VI Тулузского.
Милутин, Стефан Урош II (умер в 1321 году) — сербский король из династии Неманичей с 1282 года. Благодаря поддержке Церкви, которой он раздавал большие земельные пожалования, ему удалось существенным образом укрепить центральную власть. После успешной войны с Византией женился на дочери византийского императора и присоединил к Сербии ряд земель.
Мирепуа, Петр Роже— барон, глава клана Мирепуа, владелец Монсегюра, ставшего последним оплотом альбигойства.
Михаелис — францисканец. Объявлен нераскаянным еретиком, осужден на низложение сана и сожжен.
Михаил — папский легат. Созвал Собор в Монпелье в декабре 1195 года.
Михаил И Косноязычный — византийский император в 820-829 годах. Возведен на престол прямо из тюрьмы. С трудом отбивался от набегов славян и арабов, в результате чего потерял ряд земель империи. К религиозным вопросам проявлял индифферентность, однако подтвердил прежние законы против почитания икон.
де Мовуазен, Роберт — крестоносец, посол Симона де Мон-фора в Риме.
де Молеон, Савари — сенешаль, английский вассал, приведший на помощь Раймонду VI двухтысячный отряд басков. Монморанси, Алиса — жена Симона де Монфора. Монфор, Амори — сын Симона де Монфора. Активный участник Альбигойских войн. Позже воевал в Палестине. Под Газой был взят мусульманами в плен, сидел в заключении в Вавилоне. Был выкуплен и, возвращаясь во Францию, умер в Отранто в 1240 году, оставив сына Жана, дочь которого позднее породнилась с домом Дре.
Монфор, Гюи — брат Симона де Монфора. Убит при осаде замка Варейль.
Монфор, Гюи — граф Бигоррский, второй сын Симона де Монфора. Умер при осаде Кастельнодарри вскоре после смерти отца. И он, и старший сын Симона, Роберт, не оставили мужского потомства.
де Монфор, Симон (1150-1218)— граф, предводитель крестоносцев во время Альбигойских войн. Добился от папы закрепления за ним завоеванных земель. Отличался жестокостью и непримиримостью к еретикам. Погиб при осаде Тулузы.
де Монфор, Симон (1208-1265) — граф Лейчестерский, младший сын Симона де Монфора. Один из руководителей баронской оппозиции Генриху III Английскому. Став лордом-протектором Англии, в 1265 году созвал первый парламент. Был разбит королевскими войсками в битве при Ившеме и погиб.
Моран, Петр — еретик. Раскаялся и был подвергнут штрафу, бичеванию и высылке из Тулузы.
Моссабрак, Адальгиза — дочь одного из баронов Мирепуа, еретичка. Во время инквизиционного процесса обвиняла свою мать в том, что альбигойство у них в роду передавалось из поколения в поколение.
Мухаммед ан-Насир— халиф альмохадов в 1199—1214 гг.
Мюнцер, Томас (1490—1525) — немецкий революционер, идеолог народного течения в Реформации, один из главных вождей восставшего крестьянства и городского плебса в Крестьянской войне 1524—1526 годах. В религиозной форме проповедовал идеи насильственного свержения феодального строя, передачи власти народу и установления общества без эксплуатации и частной собственности. Пятнадцатого мая 1525 года в битве у Франкенхаузе-на взят в плен и после жестоких пыток казнен.
Нерон (37—68) — римский император с 54 года. Первые годы правил в согласии с сенатом, затем перешел к политике репрессий и конфискаций, восстановившей против него не только сенаторскую власть, но и другие слои римских граждан. Покинутый даже преторианцами, покончил с собой.
Николай I— римский папа в 858-867 годах. Избран под влиянием Людовика II. Отличался твердой волей и независимым характером. Направлял все силы на установление господства папы над церковью и духовной власти над светской.
де Ниорт, Нэро — барон, был заподозрен в ереси. Осужден к покаянию через пятнадцать дней после приговора трибунала под страхом отлучения и конфискации имущества.
Ногарэ, Гильом — первый советник Филиппа Красивого, доктор права, бывший священник. Во время конфликта с Римом в 1303 году захватил в замке Ананьи и избил папу Бонифация VIII.
Одон — граф Парижский, одно время — претендент на французский престол.
Одон I (середина X века) — основатель династии альбийских феодалов.
Олив, Бернард— еретический епископ Тулузы в 1270 году.
д'Олив, Гильом — доктор богословия. В 1463 году как вальденс осужден на пожизненное заключение.
Олива, Петр Иоанн (умер в 1297 году) — провансалец, францисканский учитель, богослов. В 1259 году поступил в Безьерский монастырь. Его учение легло в основу бегинства. Перед смертью отрекся от большинства своих идей.
Оливье— архиерей катаров, проповедовавший в Альби в 1165 году.
Ориген (около 185—253 или 254) — христианский теолог, философ, ученый, представитель ранней патристики. Оказал большое влияние на формирование христианской догматики. Однако спустя много лет после смерти, в 543 году, его сочинения были признаны еретическими. Во время антихристианских репрессий был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам, от которых и умер.
Ото, Бернард — барон де Корт, осужден инквизицией за поддержку еретиков.
Ото, Вильгельм — один из осужденных за помощь еретикам.
Оттон IV (1175 или 1182 — 1218)— король Германии с 1198 года, император Священной Римской империи с 1209 года. Был выдвинут Вельфами в противовес Филиппу Швабскому. Отлучен от церкви.
Оттокар II — чешский король в 1253—1278 годах. Вел войны с Венгрией, укрепил могущество чешского королевства. В 1275 году имперский сейм лишил его всех земель и достоинств. Погиб в битве против Рудольфа Габсбургского. Открыл страну немецкой колонизации.
де Паев, Антоний — монах, погибший от рук вальденсов.
Пандольфо— легат папы Иннокентия III, которого заменял при торжественном сложении короны Иоанном Безземельным в Дуврском Соборе пятнадцатого мая 1213 года,
Парайра, Гуго — еретик, сожжен тулузским инквизитором Рене де Шартром.
де Пегвилъя, Аймери — провансальский трубадур, чье творчество падает на 1195—1230 годы.
Педро II (умер в 1213 году) — король Арагона, отец Иакова Завоевателя, внук Раймонда Беренгария IV. Отказался принести вассальную присягу римскому папе. Союзник Раймонда VI Ту-лузского в борьбе с Симоном де Монфором.
Пейрпертюз, Вильгельм — южнофранцузский феодал. Был заподозрен в ереси. Осужден к покаянию через пятнадцать дней после приговора трибунала под страхом отлучения и конфискации имущества.
де Пеньяфорте, Раймонд — доминиканец, любимец папы Григория IX, друг Доминика.
Пенье, Герар де — крестоносец, перешедший позднее к альбигойцам. Отвоевал у крестоносцев замок Пюисергье.
Петр— граф Осера, участник похода против альбигойцев. Петр — кардинал с 1178 года, папский легат в южной Франции. Петр— монах-доминиканец, инквизитор в Ургеле (Каталония). Убит в 1235 году возмущенными горожанами.
Петр Амелий — епископ нарбоннский. В 1244 году приговорил к сожжению двести альбигойцев, в том числе Бертрана Мартена. Петр Беневентский — кардинал-диакон, папский легат в Лангедоке и Провансе (1213).
Петр Веронский — фанатичный доминиканец, инквизитор Милана. В молодые годы был альбигойцем, однако впоследствии отрекся от ереси. Убит по приказу миланских вельмож Альлате и Онтроне.
Петр Капуанский — кардинал, пребывавший в Париже в 1198 году.
Петр Сернейский — участник и историк альбигойских войн, апологет политики Симона де Монфора.
Пий III— римский папа в 1503 году. Выбран после Александра VI. Дряхлый и болезненный, он несколько месяцев удачно боролся с Борджиа и намеревался созвать собор для реформирования церкви. Смерть помешала ему осуществить задуманное.
Пипин III— сын Людовика Благочестивого, передавшего ему в управление Юг своей империи.
Пипин Короткий (714—768)— франкский король с 751 года. Сверг последнего короля династии Меровингов. Подчинил Аквитанию. Положил начало Папской области.
Пирр (319-273 до нашей эры) — царь Эпира в 307-303 и 296-273 годах до нашей эры. Крупнейший полководец эллинистической эпохи. Воевал против Рима. В 273 до нашей эры году убит в уличной схватке с македонянами в Аргосе.
Писсаки, Вильгельм— барон, крестоносец.
Платон (428 или 427—348 или 347) — древнегреческий философ. Один из центральных моментов философии Платона — его этическое учение, в основе которого лежит представление о душе, состоящей из трех начал: разумного, волевого и чувственного. С этическим учением Платона связан проект идеального политического устройства, который он дал в «Государстве» и «Законах».
Пенс— маркиз прованский в 1037—1060 годах.
де Пресль, Рауль — генеральный адвокат, министр Филиппа IV.
Присциллиан — последователь Мани, аквитанский епископ.
Пуатье, Адемар де — граф Валентинуа, друг Раймонда Юного. После Альбигойских войн получил в лен от римского папы мар-кизатство Прованс.
Пьер Достопочтенный — католический историк, аббат (XII века). Изложил учение Пьера де Брюи в пяти пунктах.
де Рабастен, Раймонд — епископ Тулузы (около 1200 года).
Раймонд — барон Термский, альбигоец. Был взят в плен Симоном де Монфором. Умер в заточении.
Раймонд I— граф Тулузский (852-865), сын Фределона Ту-лузского.
Раймонд II — граф Тулузский, с Вильгельмом Овернским в 923 году уничтожил в большом сражении силы норманнов, которых погибло до двенадцати тысяч человек; тут же пал и сам победитель.
Раймонд III Тулузский — после поражения Эбла в 932 году стал государем Пенни, Оверни и собственно Лангедока. Последний титулярный герцог Ахвитании. Умер в 950 году.
Раймонд IV(1041 или 1042-1105) — в 1088-1105 годах первый герцог нарбоннский, с 1093 года— граф Тулузский, брат бездетного Вильгельма IV Благоо заключить с Людовиком IX в 1229 году договор, который закрепил переход большей части его владений французскому королю.
Раймонд Беренгарий — граф Прованса. Брат арагонского короля Альфонса II. Был взят в плен и убит одним из католических тулузских баронов.
Раймонд Беренгарий IV — граф барселонский (первая половина XII века), присоединил брачным союзом Арагон к Каталонии, обручившись.в племянницей Альфонсо Воителя, отец которой, Рамиро II, отказался от престола и ушел в монастырь. Предок Иакова Завоевателя.
Раймонд Бернард— владыка Альби с 1062 года. Браком и наследством прибавил к землям Альби и Нима графства Каркассон и Разес с виконтством Безьер.
Раймонд Капуанский — двадцать второй магистр ордена святого Доминика.
Раймонд Луллий (1235—1315) — францисканец, логик и философ, автор первой «логической машины». Его сочинения преследовались инквизиционной цензурой.
Раймонд Роже— граф де Фуа, вассал Раймонда VI, альбигойский военачальник.
Раймонд Роже— сын Роже II, виконта Безьера, Альби, Кар-кассона и Разеса.
Райнер — цистерцианский монах, проповедовавший в Лангедоке в девяностые годы ХП века.
Райнульф II— герцог Аквитанский (XI век). Отравлен Одо-ном Парижским, опасавшимся его дальнейшего усиления. Земли его были переданы послушному овернскому дому (Вильгельм I Благочестивый, Вильгельм II Юный).
Рамиро II— король Арагона и Наварры. Его племянница Пет-ронилья обручилась с Раймондом Беренгарием IV, графом Барселонским. В 1137 году отказался от престола и ушел в монастырь. Рауль — цистерцианский монах из той же епархии, что и Петр де Кастельно, имел степень доктора. Папский легат в Лангедоке и Провансе с 1203 года.
Рауль Авеский — монах, оставивший подробное описание учения катаров (XI век).
Рауль Арденнский — капеллан Вильгельма IX Аквитанского (начало XII века).
Рауль Бургундский — король Франции, сын Карла Глупого. Умер в 936 году.
де Рекальд, Раймонд — сенешаль Раймонда VI.
Ричард I Львиное Сердце (1157-1199)— король Англии с 1189 года. Большую часть жизни провел вне Англии, управление которой передал наместнику. Вел беспрерывные войны, участвовал в III крестовом походе, при возвращении из которого попал в плен к австрийскому герцогу Леопольду V и выпущен был за огромный выкуп. Воевал с Филиппом Августом и был убит во время этой войны.
Ричард II— герцог нормандский (двадцатые годы XI века).
Ричард II (1367-1400) — король Англии с 1377 года. Последний представитель династии Плантагенетов. Принял участие в подавлении восстания Уота Тайлера в 1381 году. Установил единоличное правление, что вызвало мятеж крупных феодалов. В 1399 году был низложен и год спустя убит.
Ричард Корнуэльский — знаменитый авантюрист XIII столетия. Получил от римского папы Александра IV приглашение занять вакантный германский престол. Из немецких князей его никто не знал и не признавал.
Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — французский государственный деятель, кардинал. С 1624 года первый министр Людовика XIII и фактический правитель Франции. Стремился к укреплению абсолютизма, уничтожил политическую организацию гугенотов.
Роберт I Благочестивый — король Франции в 996—1031 годах.
Роже II— виконт Безьера, Альби, Каркассона и Разеса; в начале Альбигойских войн вынужденный противник своего сюзерена, графа Тулузского.
Роча, Понс — францисканец. Объявлен нераскаянным еретиком, осужден на низложение сана и сожжен.
де Роже, Бертран— обвинен в ереси, но освобожден от пожизненного заключения по указанию римских пап.
де Руси, Ален — крестоносец, убивший в сражении Педро Арагонского. Был назначен комендантом замка Монреаль. Убит графом де Фуа во время штурма замка альбигойцами.
де Савильяно, Антоний — инквизитор (XIV век).
Савонарола, Джироламо (1452—1498) — флорентийский религиозно-политический деятель. В 1475 году вступил в монастырь ордена доминиканцев. Требовал глубокой реформации католической церкви в духе возврата к апостольскому идеалу. В 1497 году отлучен от Церкви. По приговору флорентийской синьории повешен.
Салах-ад-Дин (1138-1193)— египетский султан с 1171 года. Возглавлял борьбу мусульманских сил против европейских рыцарей во время III крестового похода.
де Сальваньяк, Раймонд— кагорский купец, банкир Симона де Монфора, получивший от него титул барона.
Самуил — царь Западно-Болгарского царства в 997—1014 годы, вел многочисленные войны.
да Сан-Рафаелло, Галозна — священник в Пиньероле. Был заподозрен в ереси и, испугавшись пытки, стал доносчиком на горожан (XIV век).
Сантон, Вильгельм — францисканец. Объявлен нераскаянным еретиком, осужден на низложение сана и сожжен.
Санчо I Земледелец — король Португалии в 1185—1211 годы.
Сегарелли, Герард (умер в 1300 году) — францисканец, известнейший бегинский проповедник, по приговору инквизиции сожжен.
Сегюрэ— барон. После поражения французов под Басьежем был повешен по распоряжению Раймонда Юного.
де Сейсак, Бертран — опекун Раймонда Роже.
Селлерье— архиерей катаров, проповедовавший в Альби в 1165 году.
де Сен-Пьер, Гуго— предводитель альбигойцев общины Ве-зелэ.
Сен-Тибери, Стефан— минорит, получивший место инквизитора Тулузы после избрания Петра Челлани приором доминиканского монастыря в Тулузе.
Сидоний, Аполлинарий (430—485) — раннекатолический поэт и писатель, с 471 года епископ Клермона.
Сикард— архиерей катаров, проповедовавший в Альби в 1165 году.
Сикард— виконт Лотрека (вторая половина XII века).
Сикард— епископ Альби. Безуспешно пытался заключить в тюрьму отлученных еретиков. Своими действиями в 1115 году вызвал яростное сопротивление народа.
Сикст V (1520—1590)— римский папа с 1585 года. В своей деятельности по управлению папским государством не останавливался перед применением самых жестоких мер. Добиваясь усиления влияния католической церкви, активно вмешивался в политику европейских государств. Финансировал экспедицию Непобедимой армады.
Сильвестр I — римский папа в 314—335 годах. Крестил императора Константина. Причислен к лику святых.
Симеон (864 или 865—927) — болгарский князь с 893 года и царь с 919 года. В результате удачных войн с Византией последняя обязалась платить дань. При Симеоне берет свое начало богомильство.
Симмах (между 345—405) — древнеримский писатель и политический деятель. В 391 году — консул.
Сисси, Пьер де — был поставлен Симоном де Монфором комендантом в Пюжоле. После осады замок был захвачен альбигойцами, Пьер де Сисси убит.
Сов, Екатерина — считалась у вальденсов мученицей их Церкви.
Солье, Вильгельм — некогда альбигойский священник, отступившийся и раскаявшийся. Активно участвовал в процессах над альбигойцами в качестве свидетеля.
де Стелла, Эон — еретик, проповедовавший в первой половине XII века в северной Франции и Нидерландах. Излагал свое, видимо дуалистическое, учение в символических формах. Был арестован и осужден на пожизненное заключение.
Стефан — духовник французского короля Роберта I Благочестивого. Объявлен еретиком и сожжен.
Стефан III— римский папа в 752—757 годах. Отстоял папскую область от лангобардов. Повторил помазание на царство Пи-пина и двух его сыновей, за что получил мощную поддержку от франков.
Стефан V— римский папа в 885—889 годах. Его торопливые выборы без согласия Карла Толстого вызвали раздражение последнего, а позже вынужденное согласие. Олицетворял победу папской власти над слабеющей светской.
Сугерий (около 1081—1151) — аббат, французский государственный и церковный деятель, советник Людовика VI и Людовика VII, регент во время участия последнего в крестовом походе.
Танхелин— еретик, проповедовавший в то же время, что и Эон де Стелла, в северной Галлии и в Бретани.
Таррага, Раймонд— доминиканец, обратившийся из иудейства и занимавшийся толкованиями о вызове духов. Преследовался инквизицией Ломбардии.
Тацит, Публий Корнелий (около 58 — около 117)— римский историк, проконсул Азии (112—113), автор знаменитых произведений «История» и «Анналы».
Теодорих Великий (около 454—526) — остготский король. Завоевал Италию и в 493 году основал свое королевство.
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (около 160 — после 220) -^ христианский теолог и писатель. По оригинальности и страстности мысли, по богатству языка занимает в истории церковной литературы исключительное место. Он является одним из основателей христианского богословия. Около 200 года примкнул к ереси монтанистов, в защиту которых написал треть своих сочинений.
Тиберий (42 год до нашей эры — 37 год нашей эры) — римский император с 14 года нашей эры, проводил автократичную политику, опираясь на преторианцев.
Тибо— граф Шампани, участник и вдохновитель восстания французской знати против королевы Бланки Кастильской. Позднее перешел в лагерь противника.
Томислав— хорватский князь (около 910 — около 925) и король (около 925 — около 928) из династии Трпимировичей. Значительно расширил границы Хорватии, являлся союзником Византии. В церковной политике ориентировался на католическую церковь. В период его правления в городе Сплит состоялись Соборы, которые значительно ограничили возможности богослужения на славянском языке.
Торнамир, Петр — священник, подозревавшийся в бегинстве.
Тренкавель, Раймонд — виконт Альби, Безьера и Каркассона (XIII век).
Тюрлюр, Петр — нарбоннский инквизитор (XV век).
Уиклиф, Джон (между 1320 и 1330 - 1384) — английский реформатор, идеолог бюргерской ереси. Доктор богословия. Автор многих богословских трактатов и памфлетов. Главные из них — «Трактат о власти бога» (1375—1376 годы), «О гражданской власти», «О должности короля», «О слугах и господах», «О богохульстве». Переводчик Библии на английский язык. Констанцский Собор объявил в 1415 году Уиклифа еретиком, и по его повелению останки Уиклифа были сожжены в 1428 году.
де Фанткод, Бернард — аббат, представлявший католическое духовенство на диспуте с вальденсами в 1190 году в Нарбоннской епархии.
Федерико II — король сицилийский в 1296—1337 годах, покровитель бегинов.
Феодосии I Великий (около 346—395) — римский император с 379 года. Энергичный военачальник и ловкий дипломат. Окончательно утвердил господство ортодоксального христианства, активно преследовал сторонников арианства и приверженцев язычества. При нем было разрушено множество языческих храмов, сожжена Александрийская библиотека. В 394 году были отменены Олимпийские игры. Христианская церковь признала его «Великим».
Феодосии II (около 401—450) — император Византии с 408 года. До 428 года правил под опекой сестры Пульхерии, способствовавшей укреплению православия. Созвал Эфесские Соборы 431 и 449 годах. На первом было осуждено несторианство, на втором временную победу одержали монофизиты.
Ферабоски — архиепископ флорентийский. Основал инквизиционный трибунал в монастыре Санта-Мария-Новелла, где первым инквизитором стал Руджеро де Калканьи.
Фердинанд III — король Кастилии, объединивший Кастилию и Леон. Вел успешные войны против мусульман в союзе с Иаковом Арагонским.
Фигвейрас, Вильгельм — знаменитый южнофранцузский поэт (XIII век). Выразитель настроений плебейской среды.
Филиберт, Иоанн— бургундский священник. Получив прощение, снова стал последователем вальденсов. Был передан в руки светской власти и сожжен.
Филипп — крестоносец, брат Роберта Дре. Прославился своими рыцарскими подвигами в Палестине.
Филипп II Август (1165—1223) — король Франции с 1180 года из династии Капетингов. В его правление было положено начало присоединения к королевскому домену областей южной Франции. В 1214 году выиграл битву при Бувине. Один из предводителей III крестового похода.
Филипп III Смелый — король Франции в 1270—1285 годах.
Филипп IV Красивый (1268—1314) — король Франции с 1285 года. Нуждаясь для ведения войн и активной внутренней политики в деньгах, прибегал к принудительным займам. Обложение налогами духовенства вызвало конфликт с папой Бонифацием VIII, положивший начало Авиньонскому пленению пап. Ликвидировал орден тамплиеров. В 1302 году созвал первые Генеральные штаты.
Филипп Швабский— брат императора Генриха VI, король Германии в 1197—1208 годах. Убит в Бамберге баварским пфальцграфом Отгоном Виттельсбахом.
фон дер Фогельвейде, Вальтер (около 1170 ~ около 1230) — знаменитый средневековый миннезингер.
Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) — теолог, философ, средневековый схоласт, доминиканец. Вел борьбу против сторонников светской образованности, требуя подчинения разума религиозной вере, божественному откровению. Боролся с номиналистическими тенденциями в схоластике, призывал к борьбе с еретиками, обосновывал идею всеобщего главенства папы как божьего наместника на земле. Умер в пути на лионский вселенский Собор. В 1323 году был канонизирован.
Франциск Ассизский (Джованни ди Бернадоне) (1181 или 1182— 1226) — итальянский религиозный деятель и писатель. Под влиянием ереси вальденсов отказался от богатства и с 1206 года посвятил себя проповеди евангельской бедности, при этом сохраняя лояльность по отношению к католической церкви. В 1207— 1209 годах основал братство миноритов, утвержденное папой с 1216 года как орден францисканцев. Автор религиозных стихотворений. В 1228 году канонизирован.
Фределон— наместник города Тулузы при Людовике Благочестивом. Основатель Тулузского графства.
Фридрих I Барбаросса (1125—1190)•— германский король с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 года, из династии Гогенштауфенов. В Германии стремился укрепить власть над князьями, проводил агрессивную политику в Италии, но в битве под Леньяно в 1176 году потерпел поражение от объединенных войск Ломбардии. Погиб во время III крестового похода.
Фридрих II Гогенштауфен (1194—1250) — германский король с 1212 года, император Священной Римской империи с 1220 года, сицилийский король с 1197 года, король Иерусалимского королевства в 1229—1239 годах. На германском престоле утвердился, получив поддержку французского короля Филиппа II Августа и папы Иннокентия III. В 1229 году отвоевал Иерусалим. В конце жизни — принципиальный враг Рима, был отлучен.
Фулькон — епископ Тулузы (первая половина XIII века). Прежде — трубадур, друг и поклонник графа Раймонда V. После смерти последнего пошел в цистерцианцы. Впоследствии — епископ Тулузы, смертельный враг альбигойцев, инквизитор.
Хариберт— один из франкских королей, правивший в VII веке «третью» франкских земель.
Цезарь, Гай Юлий (102 или 100 — 44годы до нашей эры) — римский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Опору своей власти искал в разных слоях общества. Деятельность Цезаря вызвала сильную оппозицию представителей староримской, республикански настроенной знати и части его бывших сторонников. Против него был организован заговор. Во время заседания сената Цезарь был убит.
Целестин III (умер в 1198 году)— римский папа с 1191 года, предпринимал попытки организовать крестовый поход против альбигойцев.
Челлани, Петр — тулузский купец, одно время являлся пажом при дворе Раймонда VI. Увлекшись проповедями Доминика, оставил богатства, подарил свой дом новому братству, сам же ушел в монахи. Был первым инквизитором в Тулузе.
де Червере, Бартоломей — монах, погибший от рук вальденсов.
Эбл— сын Райнульфа II, рожденный вне брака. Временно соединил под своей властью не только родовые владения, но и земли соперника: Овернь и Велэ (928). Был побежден в войне с коалицией северофранцузских феодалов и бежал.
Эд— внук Фределона Тулузского, сын Раймонда I, брат своего предшественника Бернарда. В 878 году присоединил к Тулузе альбигойскую землю.
Эд — герцог аквитанский, помогал Карлу Мартеллу в войне с мусульманами (VIII век).
Эд — граф Тулузский (1037—1040), сын Вильгельма V. Воевал против графа анжуйского Жоффруа. Вступил в обладание герцогством Гасконь и графством Бордо.
Эдуард I (1239~1307)— король Англии с 1272 года из династии Плантагенетов. При нем окончательно сложилась практика регулярного созыва парламента. Во внутренней политике стремился сохранить равновесие среди господствующего класса. Законы Эдуарда отражали курс на укрепление союза королевской власти с рыцарством и верхушкой горожан при осторожном наступлении на светскую и духовную аристократию. Умер во время очередного похода на Шотландию.
Эдуард Исповедник (1003—1066) — король англосаксов с 1042 года. С 1053 года фактически отстранен от управления. Основал Вестминстерское аббатство (освящено в 1065 году).
Экберт — немецкий писатель, хронист XII века.
Элеонора Аквитанская — жена Людовика VII, после развода с которым стала женой Генриха Анжу, будущего английского короля. Этим браком она принесла английской короне герцогство Аквитанское.
Эмпедокл (около 490—430 годов до нашей эры) — древнегреческий философ из Агригента в Сицилии. Принадлежал к так называемым «младшим натурфилософам». Помимо натурфилософской поэмы «О природе» оставил также религиозную, орфическую по духу, поэму «Очищения» (дошла во фрагментах), оказавшую значительное влияние на древние эзотерические учения.
д'Энконтр, Верль — крестоносец.
Эрменгард— инквизитор, автор произведений, обличающих еретиков.
Эрменгарда — вдова рыцаря-разбойника Фуко, владетельница Пюи-Лорана, взятого войсками Раймонда Юного.
д'Эспира, Понс— инквизитор в городе Ургеле. Отравлен еретиками в 1242 году.
Юлий — граф Майенна, участник похода против альбигойцев.
Примечания
К главе первой книги второй
1 J. J. Percin. Monumenta conventus Tolosani ordinis ff. Tol. 1693. Opusculum de haeresi Albigensium, de inquisitione etc. p. I, 84; р. III, 109. Автор с замечательной ревностью старается удержать за доми¬никанцами славу первых инквизиторов; сразу после вынесения святым папой Гонорием III буллы против альбигойцев (от 1218 г.) он пишет: «Наши братья исправили многое из того, что ослабляло курию».
2 См.: F. Macedo. Schema congregationis Sancti Officii romani. Pad. 1676.
3 Источники для биографии св. Доминика занимают половину первого тома в Acta Sanctorum (curante J. Carnandet. Par. 1867), p. 339—654. Обстоятельный разбор этого материала и обширное критическое введение по всем частным вопросам биографии Доминика (р. 359—545) предпосланы тексту первых житий: auctore B. Jordano synchrono ex ordine Praedicatorum, et secundo ejusdem Ordinis Magistro generali (p. 541—558); Vita altera quam F. Bartholomaeus Tridentinus exord. Praed.ante medium seculi XIII breviter conscripsit; Acta ampliora quae F. Theodoricus de Appoldia, suppar Ordinis Praedicatorum scriptor, exvariis antiquioribus monumentis collegit. Теодорик, немецкий доминиканец из Эрфурта, писал в 1290 г. Далее следуют акты относящиеся к частностям жизни и к чудесам святого (628-641 е1с). В период между Иорданом и Теодори-ком писали еще другие биографы, работы которых частью помещены у Quetif et Echard (scriptores ord. praed.), частью не изданы.
4 См.: Barthol. Tridentinus, c. 1—2; Appoldia, c. 12; lordanus, c. 6, 11.
5 Barthol. Tridentinus, c. 5; p. 556.
6 Acta Sanct; p. 647.
7 См.: Acta Sanct; p. 643, 652.
8 Epist. auth; p. 641—643. Доминику приписывают молитву за грехи всех людей: «"Господь, смилостивись над людьми! На чьем челе нет греха?!" И, терзаемый бессонницей, он плакал и рыдал над людскими грехами» (р. 642).
9 См.: Registra Innocentii III; I. VI, ер. 106, 197, 199; I. XII, ер. 17, 66—69 и др.
10 См.: Gerardus de Fracheto. Vitae fratrum; Acta Sаnct, р. 441.
" Первым биографом св. Франциска был его ученик Bonaventura; к последующим принадлежат Th. Celsno, I. de Ceperano. B Acta Sanctorum (oct. t. II, 1866) помещено кроме соч. Бонавентуры (742—798) краткое дополнение к житию, приписываемое трем друзьям Франциска. Из пособий, которые почти все принадлежат к клерикальному источнику, лучшие — Ed. Vogt. Der heilige Franciscus von Assisi, biographischer Versuch. Tub. 1840; и протестантское — Carl Hase. Franz von Assisi, ein Heiligenbild. Lpz. 1856.
12 Acta Sanct; aug. 1.1, 447.
13 Bullarium Romanum, ed. 1857, Turin; III, 309.
14 Cansos; CLIII.
15 Cansos; CLIV.
16 P. Cern., c. 83; Guil. de Pod. Laur., c. 28; Cansos, CLIX.
17 Об этом упоминает только Р. Сегп.; с. 83 (Migne. Patrologia; t. ССХШ, р. 701).
18 «При подходе графа к Тулузе его передовые воины были вероломно схвачены горожанами... и заключены...» См. Р. Сегп.; с. 83. Этому противоречит Chron. prov., 138 (Megc); Cansos, CLX.
19 Chron. prov.; 139.
20 Chron. prov.; 139.
21 Cansos; v. 5048 etc.
22 Там же; v. 5635-46.
23 Petr. Cern.; c. 84, p. 705.
24 P. Cern.; c. 84.
25 Preuves de 1'hist. de Languedoc; t. V, N 85, a. 1217-1219.
26 Cansos; CLXXXII.
27 Cansos; v. 5952-56.
28 Cansos; v. 6241-53. Срв.: Chron. prov.; р. 144. Петр Сернейский делает такой отзыв о легате Бертране: «О, сколь часто приказ кардинала требовал предания смерти...»
29 См.: P. Cern.; p. 709.
30 Elh baro de la vila — Cansos; v. 6441.
31 Chron. prov.; 145. — Cpв. Cansos; СХСI, особенно v. 6820.
32 Cansos; v. 6915-47. См. . Langlois. Croisades centre les Alb.; р. 383. На этом месте обрывается провансальская прозаическая хроника. В обоих манускриптах пропуск простирается на 12 листов. Пропущены, таким образом, события осады в продолжение полугода, от начала 1218 года до смерти Симона Монфора. В поэме начало пропуска соответствует 6911 стиху.
33 Cansos; v. 7054-55; 7288-94.
34 Р. Сегп.; с. 85.
35 Cansos; v. 8230-33.
36 Сведения о военных действиях см. в Cansos; CXCVII—CCV.
37 Р. Сегп.; с. 86.
38 Петр Сернейский, со своей точки зрения, уподобляет смерть Монфора кончине первомученика Стефана, также побитого камнями, и доходит в своих порывах даже до уподобления героя альбигойских походов самому Спасителю (р. 712). Предание о том, что женщина убила камнем Монфора, основывается, вероятно, на том стихе Cansos, где говорится, что камнеметная машина была своевременно притащена на укрепления «женщинами, девицами и замужними» (v. 8450)[82].
39 Guil. de Pod. Laur.; c. 30.
40 Cansos, CCV1I; Chron. prov., 146.
41 Cansos, CCVII; Chron. prov., 147.
42 Chron. prov.; 147.
43 Raynaldi. Annales eccles. a. 1216; p. 393.
44 Raynaldi, ot 25 HHBapn 1217 r.; p. 418.
45 Percin. Monumenta conventus Tolosani, p. 20; § 47.
46 См.: Duchesne. Francorum Scriptores; V, 851. Это издание весьма редко, так как экземпляры были сожжены правительством во время Французской революции. См. у Raynaldi; под 1218 р. 447
47 Cansos; v. 9242.
48 Chron. prov., 152; Cansos, CCXI.
49 О походе Людовика 1219 г. и об осаде Марманда в летописях: Guil. Armoricus. De gestis Phil. Aug. a. 1219; Albericus. Trium Fontium. chron. a. 1219; Guil. de Pod., c. 32; cм. также: Cansos, CCXII и Chron. prov., 152-153.
50 Guil. de Pod. Laur., c. 32; Chron. prov., Finis; Praecl. fee. a. 1219.
51 Guil. de Pod. Laur.; c. 33.
52 Preuves de 1'hist. de Lang., V, 609; a. 1220.
53 Preuves de 1'hist. de Lang; V, 611.
54 Compayre. Etudes histor. et docum. sur 1'Albigeois, Albi, 1842; p. 371,390 etc.
55 Raynaldi; p. 497, a. 1221.
56 Duchesne. Francorum historiae scriptores; V, 457.
57 Raynaldi; p. 509-510, a. 1222.
58 Preuves de 1'hist. de Lang.; V, 615.
59 Из Монпелье, 16 июля 1222 г. Там же; V, 614.
60 Inquisitio de Raymundo comite Tolosano apud Percin. Monumenta, 76—82, из подлинного манускрипта; hist, conv., р. 53, № 10. Допросные пункты служат существенным материалом для нашего рассказа. Дом Гюи Дежана по догадке du Mege находился на углу улиц des Banquets и du Taur; его следы сохранились. См.: Notes et 3dd. V; 96.
61 Aymsrus de Peyraci, из арий Vаissete; I. XXIII, с. 63.
62 Bertrandus. De gest. Tol., там же.
63 Bаrrau et Darragon; II, 281, из хроники Olhsgsrai.
64 Guil. de Pod. Laur.; с. 34.
65 Завещание составлено в Saint-Germain-en-Laie, в сентябре 1222 г. Оно приложено к хронике Guil. Breton, apud Bouquet. H. Martin; IV, 113.
66 См.: Raynaldi. Annales; p. 524, a. 1223.
67 См.: Preuves; V, 621.
68 Matth. Par., a. 1223. Это послание из Planium — местность неизвестная. Raynaldi; р. 323.
69 Preuves; V, 625.
70 Preuves; V, 626.
71 Gesta Ludovici VIII, a. 1234.
72 Raynaldi; 542. — Собор в Монпелье был последним делом Арнольда. Он умер в след. году. — Praecl. Franc, fac. а. 1225 и Guil. de Pod. Laur., с. 35.
73 Raynaldi; 552.
74 Gesta Ludov. VIII, а. 1225.
75 В 1225 году, 14 авг. См. Rymers. Acta publica; I, 241.
76 Matth. Par., а. 1226. Эта слова могут быть приписаны и Роже Вендоверу, который, как известно, был автором Большой истории Англии до 1235 года. Но Вендовер изобилует фрагментами Матвея Парижского в общих местах.
77 Preuves; V, 637.
78 Это послание шло от духовных и светских вельмож Франции за 20 печатями, из которых одна принадлежит Амори Монфору. № 133.
79 Coll. de Colbert.
80 Preuves: V. 632, 641; N 125, 136.
81 Mаtth. Psr. a. 1226.
82 Guil. de Pod. Lаur.; с. 35. Об участии Фридриха II см. КаупаЫ!; р. 573.
83 Guil.de Pod. Laur.;c. 36.
84 Joinville. Vie de S. Louis, c. 404; Matth. Par., a. 1228.
85 Tiilemont. Vie de S. Louis; I, 529.
86 Guil. dePod. Laur.;c 37.
87 Mansi. Concilia; XXIII, 19. - Hefele. Concilien-geschichte; V, 838.
88 Guil. de Nangiaco. Chronicon, а. 1227. Эта кампания остается самой темной. Вильгельм Нанжис преувеличивает успехи французов; Матвей Парижский — успехи Раймонда; хроника Пюи-Лорана дает смутные сведения.
89 Matth. Par., а. 1228. Цифра (500) пленных французских рыцарей, видимо, преувеличена, а тем более преувеличено число пехотинцев (2000).
90 Guil.de Pod. Laur.;c. 38.
91 Preuves: V, 650; N 145.
92 Трактат помечен тем же днем 1228 года по тогдашнему счету: а. 1228 pridie idus Aprilis (12 апреля). Новый год начинался с Пасхи, а тогда Пасха падала на 15 апреля. Preuves; V, 651—655 из Thresor des chartes de roi.
93 Fantoni. Histoire d'Avignon; II, c. 1.
94 M Catel. Histoire des comtes de Toulouse; 338. — Guil. de Pod. Laur.; c. 40.
95 Du-Tillet. Historia belli contra Albigenses (Ber. 1845); p. 63-66. — Benoist. Hist, des Albigeois; II, 325-330.
96 Preuves; V, 659-661.
97 Мы пользовались статутом Тулузского Собора в сборнике Doat. Copies faites etc.; XXI, 78-88. Cps.: Mansi. Concilia; XXIII, 191-204.
98 См.: Guil. de Pod. Laur.; с. 40. Постановление о подсудимых в статуте: канон 34.
К главе второй книги второй
1 Percin. Monumenta cotiventus Tolosani; opusculum de inquis. exerc.; р. 83: «Инквизиция — не новость в Церкви, ибо в древнем Законе Моисеевом встречается это имя...»
2 Второзаконие VII; 2—6, 16.
3 «Если найдутся среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Господа, Бога твоего, преступит Завет Его — и пойдет и станет служить иным богам и поклонится им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел; — и тебе возвещено будет, и ты услышишь; то ты хорошо разыщи (audiensque inquisieris diligenter), и если это точная правда, если сделана мерзость сия во Израиле — то выведи мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». Второзаконие XVII, 2—5. См. Percin, там же; р. 83.
4 Законы 315 и 339 года. В 312 г. был издан закон о конфискации против донатистов.
5 Этот знаменитый закон был повторен при Констанции, в 342 и 353 г.
6 Известный церковный историк Евсевий Кесарийский, присутствовавший на Никейском Соборе, почему-то стесняется говорить об его постановлениях, что можно читать у Сократа-схоластика (I. I, с. 9). Об эдикте против книг см.: Eusebius. Vita Const.;1. III, с. 65.
7 Ев. от Матфея; XVIII, 22. Посл. к Титу; III, 10. Второе посл. к Фессал. III, 14—15. К Римл.; XVI, 17. Та же терпимость предписывается в след, местах: Ев. Матфея; X, 13. Ев. Марка; VI, 2. Ев. Луки; IX, 56; X, 2; XIII, 8. Деяния; XXI.
8 По 22-му канону этого Собора: «Впавшего в ересь и возвратившегося после в лоно Церкви следует принять потому, что он признает грех свой; он должен каяться в течение 10 лет и затем может быть допущен к причащению. Если кто в детстве еще уловлен в ересь, то, обращаясь к Церкви, будет принят в нее без покаяния». По 72-му канону: «Если верный станет доносчиком в церковном деле и кто-либо будет казнен смертью или изгнан вследствие его доноса, то да будет отказано ему в причащении даже перед смертью. Но в случае, если последствия его доноса не будут так тяжелы и сам доносчик покается, то через 5 лет он может быть допущен к причащению». См.: Mansi. Concilia.
9 Таким образом, в Codex Theodosianus вошло всего 64 таких закона, со включением трех Валентиниана II; см.: Gothofredi comm., VI, I, 116-122.
10 Ammianus Marcellinus. Historia; XXII, 5.
11 См. об инквизиторах, совершающих изыскания вины и объявляющих наказания: Cod. Theod. VI; 137, 1ех 9. Те же инквизиторы разумеются в законах 13, 15, 31, 35 и 52 этого кодекса.
12 См.: Cod. Theod.; VI, 177, 1ех. 32, 34, 40, 46, 53, 54, 65.
13 Прочие цитаты во множестве приводит Льоренте.
14 См.: Neander. Gesch. der christi. Religion und Kirche; II, 190.
15 Подстрекателями императора были епископы Магнус и Руфус.
16 Все приведенные и многие другие места из Отцов и Писания собраны у Неандера, УтЬотсН (Н181. 1гщ., с. 5) и особенно Liorente. Histoire de 1'inquisition d'Espagne; IV, 178—241. Вся 45 глава его знаменитого сочинения служит полемикой с апологетами инквизиции и вместе с тем красноречивой защитой терпимости.
17 См.: Migne. Patrologia; XXXII, 632.
18 Льоренте пытается, но неудачно, защитить и оправдать Августина; IV, 235. Известно, как дико ратовал Кальвин за идею Августина в «Защите православного учения» (I. II, с. 5) и в «Наставлениях в христианской вере» (I. IV, с. 12), называя нечестивыми тех, кто осмеливается утверждать, будто апостолы не требовали у властей преследования еретиков.
19 Aug. epistolae, 127, ad Donatum. — В поел. 50 и 68 Августин рассказывает о жестокости донатистов против православных.
20 Leonis Magni epistolae; 15, 29. — Migne. Patrologia; ЬГУ, 678— 695, 783 — против присциллиан и евхитов.
21 См.: Цезарь. Галльская война; VI, 13: «Кто отлучен друидом, тот считается безбожником и преступником, все его сторонятся, избегают встреч и разговоров с ним, словно с заразным...».
22 Pertz. Monumenta Germaniae (Leges; 1); III, 53—67.
23 Baronius. Annales ecclesiastici, a. 849.
24 Nithardus. Historiarum; I. IV, apud Pertz. Monumenta Germaniae; II, 672.
25 Liutprandus. Liber de reb. gest. Ottonis Magni; c. 4 (Pertz; V, 340).
26 См.: Fulberti epist. 74 (V Bouquet, scrp. rer. Gall., X, 479); Lambertus Heisfeldensis, Annales, a. 1071, 1075 (Pertz, VII, 184, 236); Ratherius Verunensis, Itinerarium Romanum (y Migne. Patr.; CXXXVI. 579-599).
27 Mansi. Concilia; XVIII, 527; XIX, 345.
28 Так торговал папским престолом Бенедикт IX. Купившего он лично посвятил, а сам оставил дворец; нобили выбрали третьего; тогда вернулся и Бенедикт. Спокойно все они разделили между собой доходы Церкви и стали править втроем[83]. Это было в 1045 г. Император Генрих III низложил всех троих.
29 Ademari Chronicon. cm. Bouquet; X, 159. Pertz; VI, 143.
30 Martene et Durand.Veterum scriptorum collectio; IV, 898. O Basouc cm.: Hist, litteraire de France; VII, 388.
31 Mansi. Concilia; XIX, 423-425.
32 Petrus Damiani. Epist. 20.
33 Mansi. Concilia; XXI, 843.
34 Ughclli. Italia sacra; IV, 156. 3xo Sbuio b 1173 r. cm.: Acta Sanct; apr. II.595(Galdinus).
35 Muratori. Antiquitates italicae; III, 143. Muratori. Scrp. rer. ital.; I, 903 (Istoria di Chiusi). Acta Sanct.; Majus, V, 86 (Parentins).
36 Mansi. Concilia; XXII, 231,-cap. 27.
37 Обе копии хранились в Екатерининском доминиканском монастыре, в Барселоне; обе середины XIV века. Оттуда они перешли в исторические сочинения и были скопированы в Doat XXXI, 2.
38 Об этом говорится в Vita Catharinae; c. 8. cm.: Michele Pio. Delia nobil. progen. de Dom.
39 Raynaldi; a. 1220, p. 475. Richardus di S. Germane. Chronicon. Muratori; VII, 992.
40 Из этого сопоставления инквизиторов и частных лиц видно, что под первыми следует разуметь тех почтенных граждан, или, проще, сыщиков, которые должны были с епископом обходить приход, по постановлению Латеранского Собора 1215 года, и что формальных трибуналов тогда еще не существовало.
41 Bullarium Romanum в приложении к итальянской энциклике Иннокентия IV 1243 г. (из Перуджи, 31 окт.), в которой он рекомендует властям и инквизиторам законы эти к исполнению; III, 503-507.
42 Insatialites sanguisues. Huillard-Breholles. Hist, diplom.; Ill, 48-50.
43 Matth. Par., а. 1229. Подтверждается и арабскими известиями. См.: Wilken. Gesch. der Kreuzzugen; VI, 474.
44 Raynaldi, a. 1231; II, 38.
45 Catholicos viros civitatis et diocesis earumdem, — сыщики и понятые при епископах из почтенных граждан.
46 Raynaldi, a. 1231; II, 39.
47 Huillard-Breholles. Hist, diplom.; II, I.
48 Percin. Monumenta conv. Tolos. Inquisitio; р. 92, без указания числа.
49 Нигде, кроме Percin (там же), мы не нашли этой буллы, и то в извлечении. Она помечена апрельскими идами (13-е число). В рукописях из тулузского архива мы нашли подобную буллу к французским прелатам об оказании содействия и о покровительстве доминиканцам. Но числа не сходятся на неделю; она 20 апреля 1234 г. (XXXI, 21—25). Если даже она, как и остальные послания, адресованные во Францию, была подделана доминиканцами, так как содержание ее было слишком важно и лестно для них, то действительность ломбардского бреве не подлежит сомнению, хотя и нет его подлинника.
50 Fr. Diago. Hist, de los predicsdores de la provincia Aragon; 1.1, с. 3.
51 См. о нем две специальные монографии: Henke. Konrad von Msrburg. Marb. 1861 и P. Hausrath. Der Ketzermeistcr K. von Marb. Heidelb. 1861.
52 Bullarium Romanum; III, 483.
53 Matth. Par., a. 1238.
54 Raynaldi, a. 1251; p. 448.
55 Acta Sanctorum, 29 аpr., III, 686—727 (две биографии: вторая — Th. Lenlinus). «Глашатай лежит, боец кулачный Христа, народов, благочестия — Здесь молчит, здесь сокрыт, здесь лежит несправедливо...» Фра Томассо, автор этих стихов, в панегирике Петру Веронскому говорил, что св. Франциск получил печать святости от Бога мертвого, а св. Петр — от Бога живого. Это вызвало полемику и раздражение между францисканцами и доминиканцами и неодобрение Николая IV.
56 В первом заседании 29 июня папа произнес речь на текст: «О вы, которые преходят...» В ней он, между прочим, сравнивал свои пять скорбей с пятью ранами Иисуса Христа. Первая скорбь причинена ему бесчеловечными татарами, которые опустошают с таким зверством христианский мир[84]; вторая — расколом, т. е. православными церквями восточной Европы, которые давно уже горделиво отделились от груди своей матери, как бы от груди мачехи; третья — успехами новых ересей, которые запятнали много городов, особенно в Ломбардии; четвертая — св. Землей, в которой гнусные мусульмане разрушили и срыли почти все, проливая потоки христианской крови; наконец, пятая скорбь причинена владыкой мира, т. е. императором, который вместо того, чтобы быть защитником Церкви, стал домашним врагом ее, сильным противником и явным гонителем наместников Божиих. Ручьи слез текли из глаз папы, и стоны прерывали его речь. См.: Matth. Par., а. 1245.
57 Raynaldi, а. 1247, II, 370; а. 1248, II, 396, 399.
58 Об этом кроме Матвея Парижского свидетельствует и сам Фридрих (Huill. Breh.; VI, 705-707, 708-709) в двух своих письмах. Петр Винейский приблизился к императору с 1221 г. Его рекомендовал как способного юриста архиепископ палермский. Он был назначен одним из судей императорского суда; скоро сделался нотарием, а потом протонотарием, что соответствовало обязанностям канцлера. Он вышел, вероятно, из народа и уже по тому одному был по сердцу Фридриху. Он подавал мысль к новым реформам, и все государственные акты времени Фридриха II отредактированы им. Он был заклятым врагом Рима, и потому неестественно, чтобы он вступил в секретную переписку с папою и подкупил доктора отравить императора. Жестокость в деле Петра дурно рекомендует Фридриха. Не разобрав дела, он велел пытать его и, ослепив, возил за собою по итальянским городам, — «среди оскорблений и пыток, пока над изменником не будет исполнена последняя казнь»[85]. Все три документальных сведения о дальнейшей участи Петра сходятся в том, что он окончил свои дни самоубийством.
59 Raynaldi, a. 1251; II, 436-438.
60 Albertus Stadensis. Chronicon. — Pertz; XVI, 371-2.
61 Bullarium Romanum; III, 551. Булла довольно сбивчива; между пунктами 24 и 31 противоречие.
62 Bullarium Romanum; III, 583, § 4.
63 Percin. Monum. conv.; p. 96.
64 Bullarium Romanum; III, 646.
65 Bullarium Romanum; III, 663, от 27 сент. 1258 г. Позднейшая инквизиция вопреки 4-му пункту этой буллы главным образом сосредоточилась на волшебниках и ведьмах, что строго возбранялось всеми руководствами инквизиторов.
66 Lucas Tudensis. De altera vita adv. Albig. ed. Msriana, 190.
67 Ев. от Матфея; XIII, 28-30.
68 Guil. Par. Opera (1672). De legibus; I, 82.
69 Summa totius Theol. (Col. 1640); II, 46-50.
70 Farlati. Italia sacra; IV, 257.
71 Etаbl. de S. Louis; I. I, с. 85. Подробный разбор этого замечательного памятника средневекового права у Sismondi. Hist, des Francais; VIII, 62-97.
72 Guil. de Nangiaco. Chron., a. 1259.
73 Guil Bardinus. Historia chronologica parlamentorum Occitaniae apud Vaissete; VI, 586.
74 Percin, р. 106 и рук. сборник Doat, XXXV, 214.
75 Такой факт приводит Lamothe — Langon. Hist, de 1'inq. en France; II, 67. Место это в графстве Каркассонском, около Ла-Грассе, и названо в народе Холмом жертвоприношений. Народ перенес на самого Доминика свирепость его последователей.
76 Eym.; III, 47-53.
77 См. две буллы Александра IV в протоколах Doat, XXXI, 206, 281, во Францию и в Лангедок 1257 г.
78 Этим делом открываются протоколы тулузской инквизиции (Doat. Collection; XXI, 34—50). Кроме архиепископа Петра было еще 6 духовных свидетелей и 90 других. Обвинения были по большей части голословны.
79 Цитаты у Schmidt: Hist, des Cathares; II, 183.
80 Reg. Inn., XI, 46; XIV, 138.
81 Нотариус и секретарь, выбранные из священников или мелкого духовенства в силу буллы от 9 дек. 1256 г., отнимали всякий характер правосудия и самостоятельности от трибунала. В булле не скрывали цели. Но впоследствии во Франции появились широкие гарантии для нотариусов, ставших агентами королевского прокурора; об этом у Doat; XXXI, 15.
82 Ivonetus. Tract, de haer. paup. de Lugduno; Mart. Dur., V, 1789.
83 Mem. cone. 1'inq.; р. 27. Подробнее — Liorente для позднейшего времени.
84 В сборнике Doat — распоряжение Климента IV в 1268 г. о буржуа Альмарике де Кастро, по делу которого были посланы два кардинала (XXXII, 46). В деле убитого Петра Веронского папа сделал собственное распоряжение (XXXI, 201). В 1266 г. Климент IV простил де Лили из Венессена и освободил его от пожизненного заточения (XXXII, 30). Иннокентий IV освободил Бертрана де Роэкса (XXXII, 69).
85 В 1234г. Mansi. Cone.; XXIII, 266.
86 Preuves de 1'hist. de Lang. y Bcccs; VI, 104. Taioxe y Doat. XXI, 174, 168.
87 Hefele. Conciliengesch.; V, 979 по 2-му канону. В док. Ооа1.; XXI, 104.
88 «Дуют нечистоты на (такие) убежища», — писал еще Иннокентий III. Reg. Inn.; X, 130.
89 Документы и все подробности у Doat; XXXI, 16 и далее.
90 Traite sur les privileges de 1'inq. — Doat; XXX, 24.
91 Doat; XXIX, 208-210. 93 Reg. Inn.; III.
93 Примep y Percin. Hist. conv. Tol.; 51.
94 Doat; XXIX, 183-186, 200, 249, 255.
95 Petrus Cantor. Verbum abbreviatum. cm.: Migne. Patr.; CCV.
96 Собор в Альби 1254 г., кан. 30. Doat; XXI, 103.
97 В 14-м каноне Собора 1229 г.: «Воздерживаться также от того, чтобы иметь Ветхий и Новый Заветы...» Через 5 лет в Таррагоне во 2-м каноне поставлена оговорка о том, что имеются в виду Заветы на романском языке (Mansi; XXIII, 329). Но Тулузский Собор был гораздо важнее, а приговоры его обязательнее таррагонского.
98 Percin. Conv.; 48.
99 Из архива каркассонской инквизиции. Doat; XXXI, 29—32.
100 Percin. Conv.; 48. В протоколах нет этого дела, может быть, потому, что оно не носило инквизиционного характера.
101 Bern. Guido. Hist. conv. Tol. (Mart. VI, 640); автор писал в начале XIV века; им пользовался Percin. Martyres Avignoneti; 199—202.
102 Catel. Comtes de Toulouse; 358.
103 Rayn.; II, 149.
104 Doat; XXI, 163-166.
105 Percin. Conv., 51; Mart. Av., 200.
106 Liorente; I, 74.
107 Мы опираемся на даты протоколов Doat (там же, Г. 146 — 149), где говорится о предварительной сентенции об осуждении Роэкса. У Вессэ по Персену приводится другое число и предполагается особое дело о 6 сожженных (1. XXV, с. 14).
108 Doat; г. 179.
109 Там же.
110 Doat; XXII, 250-276.
111 Bibl.des Charles; II, 371-379.
112 Doat; XXI, 185-312.
113 Например, в отдельном приговоре от 8 дек., 153—185.
114 Preuves de 1'hist. de Lang.; VI, 430 — M 31.
115 См.: Percin. Martyres Avenioneti; с. 4, р. 202. Показания пред трибуналом свидетелей в Preuves y Вессэ; VI, 450.
116 Guil. de Pod. Laur.; c. 45.
117 Mart. Avign.; с. 5. Предание связывает со снятием интердикта чудо; колокола в одной загородной церкви сами зазвонили, когда в Риме папа подписывал разрешение. Это обстоятельство сделалось предметом эксплуатации. Пий III в 1537 г. ввел в индульгенции посещение этой чудотворной церкви.
118 Matth. Par., a. 1242.
119 Hist. gen. de Lang.; I. XXV, c. 62.
120 Preuves; VI, 435 — № 37. Здесь он был готов признать собственное бесчестие и рабство.
121 См.: Gallia Christiana; VI, 155.
122 Matth. Par., a. 1242.
123 Doat; XXII, 154-172 — донос Gathard del Congost.
124 См.: Ооа1; ХХП1 и XIV.
125 Doat; XXII, 288—296. — Этот рассказ в некоторых подробностях, которые приводить здесь излишне, отличается от официального рассказа Персена. Сам Альфаро представляется вовсе не бальи, а придворным Раймонда VII.
126 Doat; XXII, 108.
127 Guil. de Pod. Laur.; с. 46. — Согласно с нами объясняет дело в своем одушевленном рассказе Peyrat (Hist, des Albigeois; II, 363), который мы прочли после составления предлагаемого труда.
128 На барельефах, снятых с аббатства Сен-Волизьен и перенесенных теперь в городскую библиотеку, в Фуа, видна фигура священнослужителя в митре, поддерживаемая двумя воинами с веревкой на шее. Эти барельефы изображают сцены из взятия Монсегюра, а в лице прелата ученый Де Меже, а за ним Пейра (II, 370), хотят видеть Б. Мартена, забывая, что альбигойские духовные презирали церковные украшения. Гораздо проще принять эту сцену за казнь католического духовного как заложника.
129 Рыцарь де Сегье каялся, что говорил и ел вместе со своею матерью, которая стала еретичкой, а подсудимая Сегьервиль обвинила всех своих близких за один раз. См.: Боа1; XXIV, 8, 9.
130 См. там же; XXII, 201-237; XXIII, 309.
131 Там же; XXXI, 60-75.
132 Reinerius Sacchoni. Summa de Catharis et Leonistis — из Doat et Gretser.
Guil. de Pod. Laur.; c. 47.
134 Du-Mege. Add. et no.; I. XXV, № 6—7. У него же далее приведен по возможности полный список альбигойских архиереев, диаконов и диаконис, составленный по упоминаниям в протоколах.
135 Doat; XXXI, 101, 105 — non. febr. a. IV, 2 non. febr. a. V.
136 Doat; XXIV, 244, 250, 253, 264, 265, 281, 278.
137 Doat; XXII, 90.
138 Bсe это дело см.: Doat; XXII, 89-108.
139 Doat; XXIV, 261, 1247 год.
140 Guil. de Pod. Laur.; c. 47 в конце.
141 Guil. de Pod. Laur.; с. 48.
К главе третьей книги второй
1 Рукописный сборник Парижской библиотеки: в конце; LIX, 226.
2 Tresor des Charles, J. 890. Помещено в Bibl. de 1'Ecole des Ch. 1 s.; I, 389 etc.
3 Из архивов у Lafon. Midi; III, 51.
4 Delisle. Fragments de 1'hist. de Gonesse. cm.: Bibl. de 1Ecole des Charles. 4 s.; V, 116.
5 Докум. 1254 г. в Preuves; VI, 495. Ord. des reformateurs envoyes par Alfonse etc. Посланная для ознакомления со страной, комиссия дала наставления относительно еретиков и администрации.
6 Подобная гуманность проявилась и при дворе английского короля. У Matth. Par. под 1258 г. читаем: «В эти дни от короля было разослано бреве в каждое графство, к четырем рыцарям, которые были избраны в каждом графстве. Эти рыцари должны были основательно разыскать, сколько притеснений и какие именно вымогательства делали сильные над простыми людьми, сделать тщательное дознание о всех жалобах, предъявленных кем бы то ни было с самых ранних лет, и все результаты своих исканий, скрепленные печатями, представить в указанный срок баронам». Это послужило началом участия рыцарей в парламентских собраниях, так что грамота 1264 г. подтвердила уже готовый факт.
7 Рукопись Нац. библ. fond latin, Ns 9019, f. 15, 18, 24 (дела в Пуату в Вознесение 1259 г.); там же, Г. 22 (в Сентонже 1261). В госуд. архиве I, 192, № 52 (Пуату 1237 г.) и Suppl.. I, 1034.
8 Рук. Нац. Библ.; Г. 1, №10918, Г. 14.
9 Doat; XXXII, Г. 4-13, а. 1267.
10 Doat; XXXI, 250.
11 Suppl. du Tr. des Ch., .1. 1024, № 7.
12 См. обо всех этих фактах: Doat; XXXI, 171 — в июне 1251 г.; XXXII, 57- январь 1269 года, а также 237, 254, 281, 292.
13 См. Doat; XXXII, 46, 53-60, 64-69, 72-85.
14 Там же; 67.
15 Doat; XXXI, 256.
16 Arch, de la Fr. apud Boutaric; 456.
17 Liber sent. inq. Tol. apud Limborch; 246.
18 Док. Нац. библ. № 9019, посвященный «Господину Годфриду де Кароль», уплатившему 20 ливров. Также в 1268 г. вместо доказательств на дворянство уплачено 200 ливров (Г. 34).
19 Этого ордонанса св. Людовика не сохранилось, но намек на него в Olim; I, 626.
20 Сессия тулузского парламента 1270 г. в архиве 1. 1131, № 11 — «Насчет петиции баронов Аженуа...».
21 Из красной книги монтобанского городского архива у Mary-Lafon; II, 320.
22 Mary-Lafon; II, 322.
23 Ms. de 1'Arsenal — «Oimais viuron Praensals a dolor» apud Diez. Leben und Werke; 443 и Mary-Lafon; III, 43.
24 «A la Gleiza falh non saber», также с рук. Аре. Там же; 44.
24 B. Sicard: «Ab greu cossire», — Rayn.; IV, 191.
25 Durand de Paernas, apud Millot (Hist litt. des troub.; II, 226) — из разных сирвент. Он не надолго пережил падение независимости.
26 Paulet de Marseille из манускрипта Национальной библиотеки. К сожалению, оригинал не полон. См. Lafon; III, 46—47 и Diez; 584. Кроме того, 7 сирвент. Такая же ненависть к французскому владычеству дышит в протоколах инквизиции. См. Doat; XXV, 38.
27 Arnaud Daniel (de Bibeyraci; II, 370). Он был замечательнейшим певцом любви; ему удивлялся Данте (Baret; 90, 169).
28 Raynouard. Choix des poesies; IV, 335. Sismondi. Litt. du Midi de 1'Europe.
29 P. Cardinal. Choix; IV, 357, 439.
30 См.: Fauriel. Hist, de la poesie prov.; II, 217.
31 Fauriel; II, 219. Rayn. Choix.; V, 306. «Mas jacopi».
32 Rayn.; IV, 309.
33 Его звали Пердийон из Лесперона; он был вассалом графа тулузского. О нем Fauriel; II, 218.
34 Guil. dc Pod. Laur.; c. 51. Praecl. Franc, fac.; a. 1271.
35 Caffari. Ann. genuenses; I. IX (Muratori. Scrp.; VI, 553).
36 Mary-Lafon; III, 61.
37 Акт принятия владений с поименным перечнем присягавших вассалов и городов: «Registrum dc saisimento civitatis Tholosae et Comitatus» etc., помещен в приложении к первому тому Lafaille (Annales dc Toulouse). De juramento notariorum, p. 50.
38 Guil. dc Pod. Laur.; с. 52. Этим фактом кончается его летопись; автор доволен французским владычеством и королем, что показывает, как французы успели повлиять на национальное чувство провансальцев. Даже у поэтов граф де Фуа не нашел сочувствия. В ответ на его попытку раздались стихи: «Король наш, который по храбрости не имеет равного себе, скоро распустит свою хоругвь. Теперь, на земле и на море, мы увидим развевающиеся лилии, а это так приятно мне».
39 Этим открываются дела в Фуа: Doat; XXV, 2. Подобные же мысли другой раз высказали монахи того же ордена: там же; Г. 241.
40 Doat, XXV, 15-7; там же, jul. 1273.
41 Doat; XXV, 20.
42 Doat; XXV, 27, 24. Так проповедовал Р. Виталь.
43 Особенно полно исповедание одного сучильщика, там же, 54—61. Он ясно сознавал все, чему учили его; в его устах был весь альбигойский кодекс.
44 Doat; XXV, 38-54.
45 Там же, 62; там же, 3, febr. 1273. К счастью для нее, это оказалось вымыслом (срв.: Г. 164); доносчица, допрошенная 14 июня, отперлась от своих показаний и признала все клеветой. Но тем не менее и такой пустой факт остановил на себе подозрительность трибунала.
46 Там же; 216.
47 Такое показание относится к 1275 г. Там же; XXV, 225.
48 В 1276 г. по доносу одного священника на Понса де Гарда, Г. 226. Это первый положительный факт, имеющий прямую связь с историей новой Реформации.
49 См.: Doat; XXXII, 134, 136-139, 141, 254, 164-240.
50 Chron. Parmense, apud Muratori
51 Doat; XXXII, 266-270, scrp. IX.
52 Preuves de Phist. de Lang.; t. VI, p. 648, nq CCXI.
53 Preuves; VI, 649.
54 Percin; р. 67.
55 Для всех подробностей о Бернаре и о состоянии инквизиции в Лангедоке в 1319г. сохранился большой процесс в 307 листов т 4, в Нац. библ. Г. I. № 4270: Processus insignis contra fratrem Bernardum Delitiosj ordinis minorum qui contra inq. officium, inq. ipsos et fr. praed.etc.Он передан из Каркассона и представляет собой позднейшую копию, засвидетельствованную нотариусом.
56 Doat; XXXIV, 21.
57 О путешествии короля см.: Ргос.; I. 13, 137, 158, 166, 269, 278.
58 Processus ins.; f. 21, 139.
59 Proc. ins.; f. 112. 611 Proc. ins.; f. 26.
61 Doat; XXXIV, 12.
62 Proc. ins.; f. 81.
63 Р. Гайтальди; дело в марте 1284 г. Doat; XXVI, 80.
64 Там же; XXVI, 217.
65 In Sexto Decretalium; tit. XII, c. 3.
66 Wadding. Ann. franc, а. 1302.
67 Протокол осмотра и следствия от 13 мая 1306 г. Ооа1; XXXIV, 45 е1с.
68 См. для Дольчино католические источники у Muratori. Scrip, rer.ital.; IX, 425-460.
69 Hist. Dulcini haeresiarchae. См.: Muratori; IX, 440—442.
70 Clementin; I. V, Ш. II.
71 См.: Doat; XXXVII, 6.
72 Baluzius. Vitae pap. Avign.; II, 342.
73 Doat; XXXVII, 76.
74 Proc. ins.; f. 167, 188, 262. cm.: Baluz. Vitae; II, 248.
75 Proc. ins.; f. 35.
76 Lafaille. Annales de Toulouse; I, 49. Preuvcs des Annalcs; 61.
77 Proc. ins.; f. II, 51, 86, 60.
78 Позднейшие бегины также постоянно обвинялись в чтении и почитании Оливы, который для них «свеча и свет, коими Бог изъявляет жалость...» (Doat; XXX, 252). Его сочинения были переведены на провансальский язык.
79 Baluzius. Vitae pap. Av.; I, 324.
80 Guil. de Nangiaco. Continuatio.
81 Liber sent. inq. Thol.; 208—268. Имена прочих подсудимых и привлеченных вместе с ними от 1307—23 года там же в приложении на стр. 397, где содержится общий список еретиков разных учений. После крупных дел можно поименовать процессы Эмония, его брата Гелия, Гильома де Боско и его сына Раймонда, Гильома де Бессьена (из Монтобана), Стефана де Виньи и его жены: Иоганны, супруги Петра Арагонца, Пейронеллы, жены Гелия Гарини, и ее мужа; П. Р. Доминика и его жены; Арнольда Изарна из Вельмура (из еретической фамилии), П. де Гандоне, П. Эмония и его жены; Стефана Гарини и его жены и пр. Далее попадается много бургундцев, судимых как вальденсы. Бегины судились преимущественно в 1322 и 1323 гг.: П. Домитлик из Нарбонны и Гильом Руф из Мирепуа. Последним решением Гвидона было схватить барона Бернарда де Мафери, который был отлучен за бегинство в 1322 г. и уличен вторично.
82 См.: Doat; XXX, 238, 242, 253, 257.
83 Он помещен в Archivio storico italiano b 1865 r. serie terza, t. 1, parte 1—2 под редакцией С. Аглай.
84 Это сознавал сам инквизитор. В начале протокола говорится: «Сподвигнемся против всех еретиков... Вальденсов, бедняков из Луджано или остальных еретиков...» Arch. st. it.; I. 16.
85 См.: Processus; I, 18, 21, 23.
86 См.: там же; I, 23, 28-29, 38.
87 См.: Processus; II, 4, 9.
88 Чистое альбигойство продолжает проявляться во второй части документов процесса: 12—14, 15, 17; видоизмененное под влиянием бегинов в деле 21 июня. Processus; II, 30.
89 Processus; II, 51-52, 59-60.
911 Processus; II, 57. Все это место вообще темно; видимо, следствие приобрело смутные сведения; сомнительно, чтобы посвящавший мог пользоваться собственностью, когда он сам был из числа confessores. Показаниями Иакова Бека, данными в туринском доминиканском монастыре, кончается следственное дело 1387 г. Участь этого главного подсудимого неизвестна.
91 Петранович. Богомили Црькви Босаньска и крестяни (1867, Задер); стр. 135—168. Упомянем о прекрасном труде Рачки, посвященном истории богомильства, помещ. в издаваемом им jugosl. Ak., извлечение из которого составил L. Leger (Revue des questions histor. 1870, april).
92 Еретиками считались епископы Мирослав, Радингост, Радослав, Радомир, Милоэ (1446). Петранович, 167.
93 Такова была участь Нинослава, который в первой четверти XIII века колебался между католиками и богомилами, а также из Котроманичей Стефана (1310—58 гг.) и последних королей: Твердко Твердковича, Томаша и Стефана Томашевича (1463).
94 Crespin. Hist, des Martyrs. Gen. 1570, f. 42.
95 См.: Leger. Hist, des Egl. de Piemonte; II, 332.
96 Местная летопись Petit Thalamus, изд. археол. общ. Монпелье в 1840г., которой мы обязаны сообщением содержания учения Екатерины (р. 463), умалчивает о подробностях следствия и казни. Отрывки из нее, касающиеся описываемого дела, приведены в статье Жермена.
97 Показания двух доминиканцев о его смерти мы нашли у Doat,; XXXV, 10-18.
98 Raynaldi. Annales, а. 1322, п. 53. — Суд 1321 г. над неизвестным нарбоннским бегином; а также процесс Петра Еглейзы, нарбоннского священника, в мае 1324 г. у Doat; XXVIII, 96, в котором участвовало до 20 гражданских лиц и докторов прав.
99 См.: Doat; XXXV, 182-187.
100 Hеrzog. Real-Encycl. fur protest. Theologic und Kirchc; III, 839. Duldung von Jacobson.
101 Булла целиком приведена у Leger. Hist, des Egl. valdoises; II, 8-21.
102 Doat; XXXV, 204.
Приложение
Из «Руководства инквизитора» за 1323 год
«Что представляют собой колдуны, прорицатели и заклинатели демонов? Зло и греховные заблуждения колдунов, прорицателей и заклинателей демонов принимают в различных провинциях и областях многочисленные и разнообразные формы, будучи связаны с бесчисленными вымыслами и ложными, пустыми фантазиями суеверных людей, верящих духам заблуждения и демоническим учениям.
Каким должен быть допрос колдунов, прорицателей и заклинателей демонов? Подвергнутого обвинению колдуна, прорицателя и заклинателя демонов следует допросить о том, сколько и какого рода ему известно способов колдовства, гадания и вызывания духов и кто его им обучил.
Так же следует углубиться в подробности, учитывая личность и положение допрашиваемого, ибо допрос не должен быть одинаковым для всех. Одним будет допрос мужчины, другим — женщины. Обвиняемому могут быть заданы следующие вопросы: что он знает, чему он научился, какие он приемы применил в отношении детей, чтобы снять насланную на них порчу?
Так же в отношении пропавших и проклятых душ. То же в отношении воров, подлежащих заключению под стражу; так же для достижения согласия или несогласия между супругами; так же для избавления от бесплодия; так же в отношении снадобий, которые колдуны дают принимать внутрь; то же в отношении фей, приносящих счастье или, как говорят, исчезающих ночью; то же в отношении чар и заклинаний с помощью заговоров, плодов, растений, веревок и тому подобное. Далее: кого он этому научил? От кого наследовал? Кто учил его самого?
Так же, что он знает об исцелении больных с помощью заговоров и заклинаний? Что ему известно о собирании трав на коленях, с лицом, обращенным на восток, и с воскресной молитвой на устах?
Далее, что это за паломничества, мессы, приношение свечей и раздача милостыни по указанию колдунов?
Так же каким образом они обнаруживают украденное и узнают покрытое тайной?
Далее дознание перейдет к действиям, отдающим каким-либо суеверием, к несоблюдению и оскорблению таинств Церкви, в особенности таинства Святого Причастия, а также почитания Бога и святых мест...
Далее — об обычае крестить фигуры из воска или другого материала. Надобно расспросить о том, как производится крещение, для чего используются эти фигуры и какую пользу они приносят.
Так же задержанного следует спросить о фигурах из свинца, которые делают колдуны, о способе изготовления и использовании...
Так же верил ли он в реальность того, чему его учили другие? Какие благодеяния, подарки, награды он получал за свои услуги?..»
Примечания
1
Примечания автора имеют сквозную нумерацию в пределах главы и приведены в конце тома.
(обратно)2
См. Деяния апостолов V, 1 — 10. Анания и жена его Сапфира, вступая в первоначальную христианскую общину, утаили часть денег от проданного имущества. Обличенные ап. Петром, оба они в тот же миг умерли.
(обратно)3
См. том 1, глава 3.
(обратно)4
Разделение направлений внутри ордена началось уже в 30-х годах XIII столетия. Спиритуалы и босоногие призывали к отказу от какого-либо имущества, конвентуалы считали, что данное положение необходимо смягчить. Орден капуцинов (название — от латинского слова cappucio, «капюшон») основан в 1525 году как ветвь францисканцев и наряду с конвентуалами и миноритами. Первоначально основной их целью была антиреформаторская проповедь.
(обратно)5
Одной из ветвей кельтского племени вольков.
(обратно)6
Нуманция — кельтиберийский город на реке Дуэро, который сопротивлялся римлянам в течение десяти лет (143—133 гг. до н. э.).
(обратно)7
Герои «Песни о Роланде»— Роланд, граф бретонский, и его друг граф Оливье. См. строки 1723—1737, где Оливье обвиняет Роланда в том, что его гордость погубила французов.
(обратно)8
Евангелие от Матфея XIX, 12.
(обратно)9
Имеется в виду орден меченосцев, официально именовавшийся «Братьями Христова воинства», основанный еще в 1202 году и освященный Гонорием именем Доминика (что, впрочем, особенно не отразилось на его истории).
(обратно)10
В это время Филипп воевал с Генрихом III, за несколько лет перед этим одолевшим, как мы помним, его сына Людовика.
(обратно)11
Титулярным, то есть номинальным, иерусалимским королем во время составления завещания был Жан де Бриенн.
(обратно)12
До настоящего момента все короли из династии Капетингов обязазательно (пусть чисто формально) избирались на престол высшими феодалами государства.
(обратно)13
Районов, все еще занятых англичанами.
(обратно)14
Ибо земли на другом берегу Роны входили во владения германских императоров.
(обратно)15
То есть высших светских, духовных феодалов и мэров городов. В отличие от Штатов, его участники не избирались, но приглашались самим королем.
(обратно)16
На самом деле Авиньонское пленение пап продолжалось 68 лет: с марта 1309 года по январь 1377 года.
(обратно)17
Регентша до 1236 года. В последние годы жизни управляла Францией, пока ее сын Людовик IX участвовал в VII крестовом походе (1248—1252 гг.). Умерла в ноябре 1252 г.
(обратно)18
Людовик IX был канонизирован как святой в 1297 г.
(обратно)19
После сражения при Бувине, где они были его врагами.
(обратно)20
Пантеон (букв. — «храм всех богов») — храм, в котором осуществлялось поклонение божествам рода Юлиев. После перестройки его Адрианом включал в себя изображения большинства богов империи. Поклониться идолу Пантеона— в данном случае означает выражение почтения по отношению к божественному императору.
(обратно)21
См. «Анналы», книга XV, 44.
(обратно)22
Константин Великий.
(обратно)23
Имеется в виду правление Юлиана Отступника (361—363 гг.).
(обратно)24
В реальности настоящие гонения против православных происходили при короле Гундерихе (477—484 гг.). При последующих королях вандалы ищут компромиссы с православными.
(обратно)25
См. Евангелие от Луки XIV, 23.
(обратно)26
Хильдерику III (743-751 гг.).
(обратно)27
В 1143 году в Риме была установлена республика неимущих. В 1145 году во время междоусобной брани был убит папа Луций II. В период правления Евгения III (1145—1153) и Анастасия IV (1153-1154) Рим был фактически независим, управляясь нововыбранным сенатом, находившимся под влиянием Арнольда. В 1154 году новый папа Адриан IV был изгнан и вернулся в Вечный город вместе с войсками Фридриха Барбароссы.
(обратно)28
Это происходило при папе Александре III (1159—1181). В то время патаренов и гибеллинов (сторонников императорской власти) действительно часто отождествляли ввиду их оппозиции Риму.
(обратно)29
В 1226 году, после переговоров в Сан-Джермано, Фридрих II обязался следующим летом отплыть в Сирию. Однако, когда летом 1227 года в Бриндизи собралось несколько десятков тысяч крестоносцев, флот был готов еще не полностью и к тому же открылась чума. Заболел и сам Фридрих, вынужденный покинуть лагерь.
(обратно)30
Христианам был возвращен Иерусалим с выходом к морю.
(обратно)31
Штедингеры (букв, «береговые жители») — фризские свободные крестьяне, жившие в нижнем течении реки Везер и в начале XIII столетия вышедшие из-под власти феодалов (в частности — бременского епископа, которого они разбили в 1229 году). Имели собственную организацию— «Сообщество штедингов»; возможно, склонялись к учению, подобному учениям вальденсов. В 1230 году Григорий IX объявил их еретиками и призвал к крестовому походу. Поход начался в 1232 году и лишь спустя два года сопротивление фризов было сломлено.
(обратно)32
«Бугр» то есть «болгарин» стало позорным прозвищем как синоним имени «богомил». См. I том, глава 2.
(обратно)33
Имеется в виду император Латинской империи Балдуин II (1238-1261).
(обратно)34
Конрад умер в 1254 году, однако его брат Манфред, король Сицилийского королевства, продолжал борьбу с папой до 1266 года (когда был побежден Карлом Анжуйским и взят в плен). Конрадин — внук Фридриха II.
(обратно)35
Преемник Иннокентия IV.
(обратно)36
При Тальякоццо в 1268 году Карл подавил последнее сопротивление Гогенштауфенов. В 1282 году на Сицилии поднялось восстание против власти Карла, и этот остров отошел под власть Арагона.
(обратно)37
Во время VII крестового походя (1249—1250 гг.).
(обратно)38
Так называемую «боснийскую церковь».
(обратно)39
Во время последнего, VIII крестового похода в 1270 г.
(обратно)40
То есть розгу.
(обратно)41
Автор называет твердыни французских гугенотов, за стенами которых они укрывались от католических войск.
(обратно)42
Английского короля Генриха III.
(обратно)43
Вместе с Людовиком Святым он участвовал в VI крестовом походе.
(обратно)44
В 1216 году, когда Людовик VIII, как мы видели, претендовал на английскую корону.
(обратно)45
После смерти Людовика Святого во время крестового похода в Тунисе престол перешел к Филиппу III (Смелому).
(обратно)46
Людовик X действительно пошел навстречу желанию сословий вернуть свои вольности. Однако он правил очень недолго (1314-1316 годы).
(обратно)47
Речь идет о походе Карла Анжуйского против Манфреда Гогенштауфена в 1266 году, о котором мы уже упоминали.
(обратно)48
Будущий король Эдуард I.
(обратно)49
Эдуард участвовал в защите последних крепостей, принадлежавших крестоносцам в Палестине, и в войне отца против коалиции баронов, возглавляемых, как мы видели, Симоном Лейчестером, сыном Монфора.
(обратно)50
Столетняя война.
(обратно)51
Арманьяки и бургиньоны — противоборствующие группировки во Франции начала XV столетия, во время правления безумного Карла VI. Арманьяки — сторонники герцога орлеанского (названы по титулу графа Бернара, владыки графства Арманьяк). Бургиньоны — сторонники бургундских герцогов Иоанна Бесстрашного и Филиппа Доброго. Во время новой вспышки англо-французской войны бургиньоны пошли на соглашение с англичанами, арманьяки же отстаивали суверенитет Франции.
(обратно)52
Карл V Мудрый уже в конце своего правления (1364-1380) должен был подавлять народные движения в городских центрах Севера и Юга королевства.
(обратно)53
Литературный перевод данного произведения, воспроизводящим сложную систему рифм и строфики см. на стр. 444.
(обратно)54
Имеется в виду Иоанн Безземельный.
(обратно)55
Имеется в виду захват крестоносцами Константинополя.
(обратно)56
В 1219 году крестоносцы взяли Дамиетту — город в дельте Нила. Однако папский легат кардинал Пелагий рассорился со многими вождями крестоносцев и к тому же отклонил выгодные предложения египетского султана, готового обменять Дамиетту на Иерусалим, что вскоре привело к катастроф.
(обратно)57
Доминиканские монахи сообщали Людовику Святому, что султан Туниса аль-Мостансир готов перейти в христианство, что стало решающим основанием для выбора направления последнего крестового похода.
(обратно)58
Фридриху II.
(обратно)59
Эциелин (Аццо) VII д'Эсте (умер в 1264 году) был подестой Феррары и возглавлял североитальянских гвельфов.
(обратно)60
Смотри: Деяния VI, 13.
(обратно)61
Что, к слову, укладывается в Ветхозаветную символику.
(обратно)62
Над воротами вывешивали обычно головы убитых врагов, казненных преступников и тому подобное.
(обратно)63
Бегины — члены полумонашеских мужских общин, впервые возникших в Нидерландах, чья идеология была близка миноритам, а главным в ней была оппозиция Церкви.
(обратно)64
После «Сицилийской вечери» 1282 года, когда местные сицилийские бароны свергли власть анжуйских феодалов, королем Сицилии был провозглашен Педро 111. После его смерти в 1285 году его сын и преемник на Сицилии Джакомо передал остров в непосредственное владение папы. Однако в 1296 году сицилийцами был провозглашен королем брат Джакомо Федерико II, который много лет воевал против папы и анжуйского дома. Права арагонской династии (младшей ветви королей Арагона) на Сицилию были признаны папой в 1302 году.
(обратно)65
Папу Бонифация, как мы помним, сверг французский король Филипп Красивый.
(обратно)66
Смотри: Откровение от Иоанна XVI, 12: «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы был готов путь царям от восхода солнечного...»
(обратно)67
Гора на границе долины реки Сезии, фактически захваченной восставшими, где Дольчино и его последователи в 1305 году выдержали осаду крестоносцев и даже нанесли им поражение. Но новый крестовый поход против них в 1307 году закончился падением общины на горе Цебелло.
(обратно)68
В течение двух лет, вплоть до избрания Иоанна XXII в 1316 году, папский престол был свободен.
(обратно)69
На монастыри «умеренных» францисканцев.
(обратно)70
В 1314 году.
(обратно)71
Людовику X (правил в 1314-16 годах).
(обратно)72
После 1316 года.
(обратно)73
Перечисляются направления внутри францисканства, в различной степени оппозиционные папству.
(обратно)74
Джон Уиклиф (1320-1384)— профессор Оксфордского университета, доктор богословия, плодовитый автор, переводчик Библии на английский язык. Реформаторское учение Уиклифа заключалось в рассмотрении всех живущих как должностных лиц и воинов армии Бога, причем каждая из душ владеет чем-либо лишь до тех пор, пока она служит своему сюзерену— Богу. Папа — лишь духовный глава духовенства, король же имеет куда больше власти и значения. Лишь в 1382 году собор английских епископов обвинил его учение как еретическое, а на Констанцском Соборе 1415 года он был посмертно объявлен еретиком.
(обратно)75
После смерти в 1378 году авиньонского папы Григория XI в Риме был избран Урбан VI. Одновременно часть кардиналов избрала Климента VII, сторонника французского короля. «Двоепапство» (и даже «троенапство») продолжалось в течение сорока лет (до 1417 года).
(обратно)76
При Иване Асене II (середина XIII века) Болгария была самым крупным государством на Балканах, затем она постепенно начинает терять отдельные территории. В частности, к Венгрии отходит принадлежавшая ем часть Валахии, где и разворачивается деятельность францисканцев.
(обратно)77
В 1414 году Ян Гус был вызван на Констанцский Собор, где его вначале арестовали (несмотря на охранную грамоту императора Сигизмунда), а затем после семимесячного заключения осудили и сожгли. Тот же собор осудил на сожжение и Иеронима Пражского, друга Гуса.
(обратно)78
В 1415 году англичане победили французскую армию при Азенкуре. после чего их войска начали занимать территорию за территорией в северной Франции.
(обратно)79
Два манускрипта т 4. в библиотеках Реймса и Сен-Омера. — Летопись Петра Сернейского впервые появилась в свет во французском переводе в 1568 году. Латинский оригинал ее был издан только в 1615 г.: Hist. Albigensium etc.... Simone a Monte-Forti, dein Tolosano comite, rebus strenue gestis, auctore clarissirno Petro coenobii Vallis — Sarnensis ord. Cisterciensis monacho, cruceatae hujus militiae teste oculato. Это издание было сделано в Труа т 8. городским каноником Nicolas Camusat. Второе — N. Rouset в 1617 г. с франц. переводом в Труа 2 V. т 8. Третье — Du-Chesne в 1649 г. в «Historiae Francorum scriptores coaetanei; V, 554-665.Четвертое — В. Tissier в 1669 г. в Bibl. Cisterc.; VII, 1—72. Пятое — у Bouquet. Recueil des historiens des Gaules et de la France; XIX, 1 — 113. Шестое — Migne в 1855 г. в Patrologiae cursus completus, CCXIII, 543—712. — Кроме двух последних изданий, тексты неудовлетворительны. Мы цитируем по изданию Migne.
(обратно)80
Манускрипт этой поэмы — в Париже, в Bibliotheque imperiale; № 91. Он написан во второй половине XIII столетия. Отрывки поэмы были пропущены в Lexique Remain Ренуара (I. 1). Первое и образцовое во всех отношениях издание ее сделал Fauriel для Collection de Documents medils (Р. 1857, и отдельно в 1852) с французским прозаическим переводом, которым мы пользовались. Это же предисловие вошло в третий том его Hist. de la poesie prov. В 1868 г. вышел франц. вольный перевод в стихах, занявших 20 лет труда переводчика: Mary-Lafon. La croisade centre Ics Albigeois, epopee nationale. Par. in 8.
(обратно)81
Эта книга издавалась на русском языке: Льоренте X. А. Критическая история испанской инквизиции. В двух томах. М., 1936. Из современных изданий укажем па исследование, посвященное именно «первой инквизиции»: Dossat I. Les crises de l`inquisition toulousiane au XIII-e ciecle. Bordeaux, 1959.
(обратно)82
Мы можем отметить, что в качестве распространенного эпического мотива здесь могло присутствовать воспоминание о схожей смерти царя Пирра в Аргосе от рук женщины, метнувшей в него черепицу.
(обратно)83
Сильвестр III, Бенедикт IX, Григорий VI.
(обратно)84
Именно в 1240-1243 годах татаро-монгольские войска совершили поход на восточную и центральную Европу.
(обратно)85
«Набожный вид у такого рода злодеев следует исправлять грубой сажей», — говорил Фридрих.
(обратно)

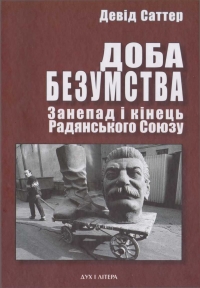
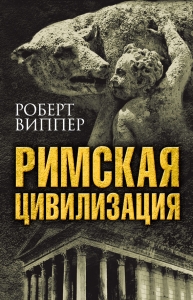


Комментарии к книге «История альбигойцев и их времени (часть вторая)», Николай Алексеевич Осокин
Всего 0 комментариев