Серийное оформление
Сергея ЛЮБАЕВА
Замечания относительно ссылок в данном документе fb2
Бумажное издание книги содержит большое количество разнообразных примечаний и комментариев, часть из которых приведены внизу страниц, а часть выделена в отдельные разделы. Подстраничные примечания оформлены стандартным образов линками в квадратных скобках. Раздел "Примечания" содержит главным образом список цитируемой литературы. В бумажном оригинале ссылки на нее отмечены цифрами. В данном fb2 документе они даны в виде линков с цифрами в круглых скобках (как, например здесь), те кто не интересуются самими литературными источниками могут спокойно пропустить эти линки, кроме, пожалуй, тех случаев, когда цифры в круглых скобках дополнительно взяты в кавычки (как, например здесь), такие примечания содержат еще и текстовый комментарий, который может оказаться интересным. Объединять их с подстраничными примечаниями не стал из-за сложности выделения многочисленных сокращенных цитат (в виде "Ibid", "там же") из общего списка, а так же потому, что при обычном чтении они, кроме дополнительно отмеченных, не несут никакой непосредственной информации и будут лишь отвлекать от чтения лишними переходами. Комментарии из раздела "Комментарии" как представляющие интерес при чтения были объединены вместе с подстраничными примечаниями и так же обозначены стандартным образом линками в квадратных скобках, без их дополнительного выделения и общего списка, чтобы не увеличивать без необходимости и без того большое количество видов ссылок), сам раздел "Комментарии" из документа .fb2 удален, так как его содержание фактически продублировано в примечаниях, а его самостоятельное чтение интерес вряд ли представляет, так как его текст, не имеет, другой привязки к тексту книги, кроме номеров страниц "бумажного оригинала", не соответствующих номерам страниц документа fb2.
«Старая добрая Англия» Элизабет Бартон
Книга Элизабет Бартон, впервые увидевшая свет в 1958 году, представляет собой своеобразный памятник исторической мысли послевоенной эпохи, на первый взгляд еще достаточно близкой современному читателю, но уже относящейся к тому, что принято называть «уходящей натурой». К началу шестидесятых годов «уходящей натурой» стала и сама Э. Бартон, принадлежавшая к поколению авторов, чье мировоззрение сформировалось в первой половине XX века под сильным влиянием традиционных викторианских ценностей и политических идеалов. К их числу относились патриотизм и неизменная гордость британцев достижениями нации, сумевшей распространить свое влияние без преувеличения на весь мир, высокая оценка «цивилизаторской» миссии Британской империи в Азии и Африке (пусть даже с либеральными оговорками относительно издержек имперской политики), представление о том, что именно Англия даровала миру принципы современного парламентаризма, понятие политических свобод личности и, будучи передовой в экономическом отношении державой, познакомила остальных с новейшими достижениями индустриальной революции. Поколение Бартон с молоком матери впитало представления об уникальности и достоинствах английской нации, прославившейся выдающимися литераторами и харизматичными политиками, оригинальными религиозными мыслителями и эксцентричными филантропами, денди и героями, морскими волками и финансовыми гениями. Давняя и весьма лестная оценка Монтескье, утверждавшего, что «англичане превосходят всех в набожности, свободе и торговле», по-прежнему была способна затронуть чувствительные струны английской души.
Вторая мировая война стала для островной нации проверкой на прочность, и англичане с блеском доказали, что они способны отстоять свою независимость, древние свободы и политические ценности. В первые послевоенные десятилетия на волне победной эйфории появилось множество исторических сочинений, как вполне профессиональных, так и дилетантских, в которых апелляция к прошлому была неразрывно связана с осмыслением недавнего триумфа. Будь то Столетняя война и битва при Азенкуре или разгром Непобедимой армады, эти события неизменно провоцировали упоминания о кампаниях прошедшей войны. Привлекательными в национальной истории оказывались периоды, порождающие ассоциации и параллели с современностью и позволяющие разглядеть некие извечные качества, присущие английскому народу.
С этой точки зрения эпоха Елизаветы и Шекспира была чрезвычайно притягательной: по сути, именно в этот период и сформировалась самобытная «физиономия» английской нации. Во второй половине XVI века она окончательно встала на стезю протестантизма, совершив важный шаг не только в обретении независимости от Рима в церковных делах, но и в становлении суверенного государства в современном его понимании. При Елизавете началась беспрецедентная глобальная экспансия Англии, подданных которой можно было встретить на огромных пространствах от Московии до Северной Африки, от Флориды до Персии и Ост-Индии. Это была пора авантюристов, «морских волков», которые царили в Атлантике и с легкостью огибали земной шар, но также и серьезных испытаний, когда Англии пришлось столкнуться с попыткой иностранного вторжения в 1588 году. Победа над Великой армадой была одним из тех вдохновляющих историко-политических мифов, в которых англичане находили моральную поддержку в годы Второй мировой войны. Однако достижения елизаветинской эпохи несводимы лишь к военным или коммерческим успехам, не случайно вторую половину XVI столетия именуют «золотым веком» английской ренессансной культуры, временем становления национальной литературы, в которой царили Шекспир и Марло, Спенсер и Сидни, Джонсон и Донн[108], способствовавшие триумфу английского языка, покорившего мир в XX веке. Пожалуй, никакой другой период истории не был столь мил национальным чувствам англичан послевоенной поры и не позволял столь явственно разглядеть в образе Англии былых времен прообраз ее будущей и бесконечно любоваться ею как особым малым миром, меняющимся и в то же время неизменным. Не случайно одним из самых успешных и авторитетных историков послевоенного десятилетия был А. Л. Роуз, постоянно обращавшийся к мифологизированному образу елизаветинской Англии в полемике со все менее устраивавшей его политической действительностью[1]. В той далекой эпохе он и многие его коллеги искали примеры вдохновляющего лидерства, энергии и безграничных возможностей, открывавшиеся для незаурядной личности, которых, как им казалось, не хватало в современном мире.
Э. Бартон принадлежала к числу таких историков. Она преисполнена ностальгической любви к «старой доброй Англии», на которую переносит и пристрастия, и представления своего времени. Елизаветинцы предстают у нее «фанатично приверженными свободе» и пожинающими плоды широких социальных возможностей, открывающихся перед ними. В ее Англии царят мир и социальная гармония, а королева даже не собирает налогов со своих подданных — труднообъяснимое заблуждение нашего автора. Наивные преувеличения, подчас встречающиеся в тексте ее книги, есть также плод безоглядной влюбленности Э. Бартон в темпераментных современников Шекспира. Только в ее фантазии иноземцы были способны восхищаться английской кухней и обилием потребляемых здесь продуктов. (Симптоматична при этом оговорка о том, что даже арестанты в тюрьмах XVI века ели лучше, чем англичане в эпоху немецкой блокады и продовольственных карточек.) И только ее стойкому патриотизму можно приписать утверждение о том, что елизаветинские дворцы были украшены полотнами «лучших мастеров» (следует признать, что королеве Елизавете так и не удалось заманить к своему двору кого-нибудь из действительно первоклассных европейских художников). Э. Бартон снисходительна к своим соотечественникам, даже когда они проявляют далеко не лучшие свои качества — склонность к мошенничеству и воровству, жестокость или невежество, — поскольку уверена, что все это будет переплавлено в горниле истории и ляжет в основу английского национального характера.
Собственно поиски истоков «английскости»[2] и являются основной задачей работы Элизабет Бартон, по мнению которой, национальная самобытность выкристаллизовалась из смеси «ревностного патриотизма, крайнего индивидуализма и благородной, а порой и надменной сдержанности». Как и ее более маститые современники — Дж. Нил и А. Л. Роуз.
Э. Бартон стремилась создать на страницах своей книги целостный образ ушедшей эпохи, обращаясь при этом к «молчаливому большинству» англичан, которые не оставили после себя пространных мемуаров, дневников или иных письменных свидетельств. Она пыталась проникнуть в их внутренний мир, анализируя детали внешнего быта. Пристрастия и предрассудки елизаветинцев, их почти научные или совершенно фантастические представления, формы времяпрепровождения, еда, гигиена, болезни и смерть, облик поселений и интерьеры жилищ, архитектура, прикладные искусства — все это попадает в поле зрения автора. Однако и по своему замыслу, и по структуре работа Бартон — это не столько история повседневности в ее современном понимании, сколько традиционная для историко-культурной школы XIX — первой половины XX века попытка воссоздать трудноуловимый «национальный дух», через изучение «народного быта». Такая постановка задачи позволяет автору говорить о самых разных сторонах жизни елизаветинцев, не слишком заботясь об отборе тем и иерархии значимости сюжетов — чем больше красок, тем ярче общая палитра. Поэтому на страницах книги рассуждения о роли королевы Елизаветы в национальной истории соседствуют с рассказами о лондонских развлечениях и изобретателе ватерклозета, а глава об устройстве частных домов изобилует сведениями о любви англичан к публичному театру.
Так писали в конце пятидесятых годов, однако уже вскоре появление книг, написанных в подобной манере, стало практически невозможным. В 60—70-х годах весь ландшафт британской исторической науки изменился до неузнаваемости. Университетские реформы и появление множества новых научных центров, где стали углубленно заниматься локальной историей и историей труда, технологиями и тендерными отношениями, широкие дискуссии о социально-экономических проблемах XVI века, переоценка идеологических ценностей и, в частности, отказ от наивного патриотизма и мифологизации национальной истории — все это делало повествование в стиле Э. Бартон устаревшими.
Теперь, вслед за своими французскими коллегами англичане обратились к изучению извечных «структур» повседневной жизни, существующих вне хронологических рамок искусственно выделенных исторических эпох. С подчеркнутым вниманием стали относиться к климату, историческому ландшафту, среде обитания людей, к таким важным параметрам развития цивилизации, как ее техническая вооруженность, источники энергии и двигатели, системы коммуникации. Объектом современного исследования повседневности сделались демографические процессы и ролевые взаимоотношения полов, структура питания и шире — потребления вообще, феномен моды как показатель динамичности общества и его способности к обновлению. Материал подобного рода перестал играть роль лишь вспомогательного, иллюстративного при создании «портрета» той или иной эпохи. Напротив, формы повседневности стали тем стержнем, который помогал скрепить разные типы истории — экономической, социальной, культурной, политической.
Однако новые методологические подходы и прогрессирующая научная специализация имели и определенные негативные последствия, с точки зрения интересов широкой читающей публики. Теперь едва ли кто бы то ни было решился написать обобщающую историю повседневной жизни Англии в XVI веке, не избежав упреков в непрофессионализме и поверхностности. Отдельные ее стороны стали предметом тщательного изучения. Дорожная инфраструктура и почтовая служба, развитие транспорта и картографирование страны, техника и технологии, строительство и архитектура, текстиль, печатная продукция и круг чтения, система образования и воспитания, грамотность среди мужчин и среди женщин, индивидуальное благочестие и народные развлечения, символический язык в быту, семейных отношениях, играх — попытка на новом витке знания свести все эти сюжеты воедино выглядела бы по меньшей мере самонадеянно. Но читатель, не слишком озабоченный методологическими увлечениями профессионалов, и планками, которые они ставят перед собой, по-прежнему хочет знать, «как жили люди в эпоху Шекспира и Елизаветы I». И для него некогда вышедшая из моды книга Э. Бартон может неожиданно вновь оказаться увлекательным и полезным чтением. При ближайшем рассмотрении оказывается, что она дает ответы на целый ряд вопросов, сформулированных современной наукой о повседневности. Бартон инстинктивно уделяет много места роли королевского двора, который активно вторгался в повседневную жизнь подданных английской короны, по-новому организуя ее (привлекая их к участию в официальных церемониях в столице или водворяясь на постой в их домах во время летних поездок королевы по стране). Она дает представление о разнообразии и богатстве форм народной культуры, в которой, выражаясь современным языком, «соучаствовали» представители всех слоев общества, вне зависимости от их социального статуса (ибо и аристократ, и простолюдин с одинаковым энтузиазмом воспринимали театральные спектакли и медвежьи бои, собачьи травли и игру в мяч, предавались азартным играм, курению табака, играли в теннис или футбол). Автор подмечает важные сдвиги в рационе англичан, порожденные Великими географическими открытиями и заимствованием новых культур из Америки, и многие другие явления, отражающие глубинные экономические сдвиги, происходившие в XVI веке.
Но главным достоинством этой книги, безусловно, остается богатство фактического материала, почерпнутого из разнообразных источников: голос современника, пытающегося осмыслить перемены в окружающей жизни, колоритные детали и эпизоды, фантастические рецепты (подобные знаменитому маслу из собаки с рыжей шерстью, позволяющему сохранить вечную молодость), несгибаемые характеры (чего стоит только неутомимая строительница Бэсс Хардвикская, верившая в то, что она будет жить, пока в ее поместьях работают каменщики, и умершая в период их вынужденного простоя в холода). Современный читатель, без сомнения, сможет простить Э. Бартон некоторую хаотичность ее повествования за одно лишь удовольствие узнать, что македонские драконы, по мнению елизаветинцев, были самыми доброжелательными и любили играть с детьми. И, быть может, прочитав эту книгу, он согласится с английским алхимиком в том, что душа хорошего автора (а значит, и ностальгирующей по славному прошлому елизаветинской Англии Элизабет Бартон) должна непременно источать приятный аромат.
О.В.ДмитриеваГлава первая. Елизаветинская Англия
Однажды она уже побывала в Тауэре. Четыре с половиной года назад, утром в Вербное воскресенье баркас высадил ее у ворот. Рябая от дождя вода Темзы, казавшаяся еще более мрачной под свинцовым небом, поднялась высоко и затопила нижнюю часть пристани. Может быть, она поскользнулась на влажном камне или самообладание на мгновение оставило ее, как бы то ни было, она упала на колени и заплакала. Одной только мысли, что тебе могут отрубить голову, было достаточно, чтобы умереть от ужаса. Но ее мать умерла вовсе не от страха. Облаченная в парчу, Анна Болейн подставила свою шею с родимым пятном в форме клубники — знак ведьмы — под топор палача. Королевский титул не спас ей жизнь, а титул принцессы не помешал юной Елизавете разрыдаться и намочить свое платье в грязной воде Темзы.
Но сегодня, 28 ноября 1558 года, в одеянии из пурпурного бархата, Елизавета прибыла в Тауэр с триумфом. Она проехала по районам Криплгейт и Барбикан: по грязным узким улочкам, заполненным людьми, мимо домов с развевающимися флагами и знаменами, украшенных пестрыми тканями, шелками и гобеленами, которые колыхались на ветру подобно шатрам выступившей в поход армии. Во главе процессии ехали лорд-мэр и герольдмейстер ордена Подвязки со скипетром в руках. За ними следовали лейб-гвардейцы — в роскошных камзолах из красной парчи и со сверкающими позолоченными секирами. Затем шли глашатаи, жизнерадостные и веселые, как фигуры на картах, и лакеи, одетые в малиновые с серебром костюмы. Прямо перед ней лорд Пемброк нес государственный меч, а сразу за ней следовал новый королевский конюший и бывший собрат по тюрьме, Роберт Дадли, остававшийся ее верным спутником до конца своих дней. Как только она прибыла в Тауэр, некогда бывший ее тюрьмой, а теперь на несколько недель до переезда в дворец Уайтхолл ставший королевской резиденцией, в ее честь раздался артиллерийский залп и «все люди в Сити возликовали».
Нам неизвестно, о чем думала Елизавета, вступая во второй раз в крепость. Но, обернувшись к окружавшим ее спутникам, она произнесла: «Некоторым пришлось низринуться от правителей этой земли до заключенных этого места, я же поднялась от пленницы этого места до правителя этой земли. Первое было следствием божественной справедливости, второе — Божьей милости...»
Возможно, она действительно была в этом убеждена, хотя ей часто приходилось говорить то, во что сама не верила. Однако, умышленно или бессознательно, она сказала правду: ее восшествие на трон оказалось Божьей милостью и для нее, и для исчерпавшего свои запасы государства, в котором, откровенно говоря, в то время царила полная неразбериха. В наследство от своей сводной сестры[4] новая королева получила страну, которая за двенадцать лет, прошедших со дня смерти ее отца, превратилась в третьесортную державу, придаток Испании. Пережившая унижения и в мире и на войне, Англия, которой управляли «дураки и авантюристы, чужеземцы и фанатики»(1), испытывала недостаток во всем — в деньгах, оружии, людях и правителях.
Испанский король Филипп II, лишившись несчастной и нежеланной жены и страстно желаемого королевства, поспешил заверить в своей любви новую королеву. Однако до него дошли слухи, что в Англии приобретает все больший вес хитрый политик сэр Уильям Сесил — представитель набирающего силу среднего класса, состоящего из мелкопоместного дворянства. Во Франции Генрих II бестактно провозгласил жену своего сына, Марию Стюарт, королевой Англии и призвал на ее защиту королевскую армию. Но на родине люди в надежде, близкой к отчаянию, повернулись в поисках спасения к третьему и последнему потомку Генриха VIII — Елизавете.
И если в королевстве еще были те, кто, подобно Марии Тюдор, верил — или притворялся, что верил, — в то, что Елизавета не принадлежала к династии Тюдоров, а была незаконным отпрыском королевского музыканта Марка Смитона, то молодая женщина двадцати пяти лет, в пурпурном бархатном одеянии с горностаевой пелериной, вскоре заставила их забыть об этих нелепых слухах. Хотя ее мать и получила прозвище «потаскухи», Елизавета слишком напоминала своего отца и деда, чтобы быть внебрачным ребенком от придворного музыканта.
От Генриха VIII она унаследовала рыжие волосы, властный характер, любовь к роскоши, музыкальный талант, удивительный подход к людям и большую часть той энергии и ловкости, которыми отличался ее отец до того, как болезнь поразила его блестящий ум и отменное тело. От матери, о которой она ни разу в своей жизни ни с кем не говорила, ей достались темные глаза и, возможно, часть того темперамента, что сделал Анну Болейн самой известной кокеткой королевства. А от своего деда, скупого и жадного Генриха VII (столь прочно заложившего фундамент династии Тюдоров, что ни расточительное сумасбродство его сына, ни фанатизм внучки-полуиспанки — хотя они и разрушили само здание — не смогли его поколебать), она унаследовала осторожность, расчетливость, целеустремленность, тонкое искусство лицемерия и нос с горбинкой.
Находившаяся на грани полного банкротства, Англия достигла одного из тех поворотных пунктов истории, когда кризис, как и при некоторых болезнях, не может длиться долго — пациент либо пойдет на поправку, либо умрет. В тот момент, казавшийся отчаянным, уже произошли три важных и существенных изменения. Наконец-то утихло сжигавшее страну в течение пяти веков желание завоевать Францию. Ужасные муки антиклерикального мятежа почти закончились, и Генрих VIII не только разогнал епископов, преданных папе, но и разграбил монастыри. Таким образом, впервые после завоевания Англии норманнами она была полностью свободна от Европы. Возможно, она была и без гроша, но зато принадлежала только самой себе.
Елизавета либо сумела это понять, либо почувствовала интуитивно, но была решительно настроена следовать этому курсу и остаться на троне. Для этого ей были необходимы две вещи: мир и время. И в соответствии с этим она тщательно выбирала министров — самым дальновидным ее выбором оказался У. Сесил. Принимая корону, она назвала себя «абсолютной англичанкой». И это была правда. В ее венах текло больше английской крови, чем в любом другом правителе со времен Гарольда[5]. Как и ее страна, Елизавета была свободна от чужеземной крови и иностранного влияния. В этом великом высказывании было одновременно и самовосхваление и обещание.
К счастью для нее и для Англии, две великие римско-католические державы, Франция и Испания, были беспощадными соперницами, и Елизавета много лет использовала это противоборство с истинно женским коварством, постоянно натравливая их друг на друга. Когда Мария Стюарт и Франция становились слишком опасными, она внушала надежду на брак с одним из кузенов Филиппа II из австрийских Габсбургов. Когда Филипп, однажды уже предлагавший ей вступить в брак, наконец разгадал ее хитрость, она немедленно стала поощрять французских поклонников. Ни один мужчина-монарх не смог бы выбраться из подобной ситуации, не вступив в войну, но так уж сложилось, что женщине удалось выиграть время, в котором она и ее страна так отчаянно нуждались, пока наконец маленький остров не стал достаточно сильным для того, чтобы ни один проклятый иностранец не мог его завоевать.
Конечно, все это было сделано не за одну ночь, хотя начало было положено практически сразу — Актом, доказавшим, что королева унаследовала от своего деда уважение к деньгам. Сторонники Генриха VII называли его осторожным, а недруги — скупердяем, но как бы то ни было, после своей смерти он оставил большое состояние. Крайне расточительный сын промотал его за рекордный срок и не колеблясь девальвировал монету. Мария Тюдор безуспешно пыталась совладать с неразберихой в экономике с помощью новой денежной системы, но поскольку собственная бедность мешала ей изъять из обращения обесценившуюся монету, ей удалось только доказать правильность закона Грешема[6]: «Плохие деньги вытесняют хорошие».
Елизавета не повторила этих ошибок. Несмотря на постоянную нехватку средств, она знала, что отчаянная ситуация требует отчаянных мер. Она изъяла из обращения все девальвированные деньги, выпустила новые согласно старому безукоризненному стандарту содержания серебра и стабилизировала по их текущей стоимости. Доверие было восстановлено, и — нам это может показаться маловероятным — правительство заработало на этом 14 тысяч фунтов стерлингов.
Однако Елизавета походила и на своего отца, и не только рыжими волосами и упрямством. Несмотря на все свои промахи — по крайней мере в отношении его матримониальных планов, — Генрих VIII был выдающимся человеком. Возможно, он был слишком невоздержан, но одним из его безусловных достижений стало создание и поддержание королевского флота. Он возвел королевские верфи в Вулидже и Дептфорде, построил военные корабли, а также основал корпорацию лоцманов «Тринити Хауз». Под управлением больного и жалкого мальчика Эдуарда VI[7] и его неблагоразумной сестры Марии флот Генриха VIII оказался под угрозой разорения и краха. Филипп II не был заинтересован в поддержании сильного английского флота. По его замыслу владычицей морей должна была быть Испания. Елизавета думала иначе и принялась за восстановление флота, насчитывавшего в начале ее правления только двадцать два корабля, большинство из которых были непригодны для плавания. В молодости Генрих VIII сам вставал к штурвалу спускаемого на воду судна, одетый в парадные дублет и штаны, с золотой цепью с надписью «Dieu et Mon Droit»[8] и свистком, в который дул, как в трубу. И хотя у нас нет свидетельств, что Елизавета следовала в этом примеру отца, она любила свой флот и осознавала, как и Генрих, его значение для Англии.
На создание королевского флота — торговых и военных кораблей — Елизавете потребовалось намного больше времени, чем на восстановление валюты, но она этого добилась. Терпеливо, шаг за шагом, она строила один-два корабля в год, и наконец через двадцать четыре года ее правления, за шесть лет до Армады[9], летописец того времени сказал: «У нее есть также три замечательные галеры: "Спидвел", "Трай Райт" и "Черная галера", и невозможно передать, какое удовольствие Ее Светлость испытывает при взгляде на них и на остальной королевский флот, и не без причины, скажу я, поскольку благодаря им покой ее берегов никто не нарушает и чужестранные враги обходят нас стороной, в других же обстоятельствах они не преминули бы завоевать нас»(2).
Один из кораблей королевского флота был назван «Елизавета Иона». Это имя придумала сама королева «в память о своем собственном избавлении от яростных врагов, которое было не менее чудесным, чем спасение пророка Ионы из чрева кита». В этих словах есть некая загадка. Хотелось бы знать, что было на уме у королевы, когда она называла величественный королевский корабль именем «Елизавета Иона». Но мы никогда не узнаем, кого или что она подразумевала под китом, впрочем, как и многое другое об этой великолепной и в то же время необычной и таинственной женщине.
Реконструкция затронула еще одну сферу: в 1559 году Елизавета восстановила Реформацию в ее англиканском варианте с помощью «Акта о супрематии» и «Акта о единообразии». Первый документ отменял власть папы римского, опереться на которую так рассчитывала в свое время Мария Тюдор. Второй вновь ввел в употребление единый служебник — «Книгу общих молитв». Примечательно то, что Елизавета сумела обуздать рвение палаты общин, отказавшись принять титул верховного главы церкви, хотя она и стала ее верховным правителем, и, среди прочих постановлений, наложила штраф в двенадцать пенсов на тех, кто не посещал церковь по воскресеньям. Это предписание касалось каждого независимо от его убеждений — будь это приверженец римской католической церкви, пуританин, кальвинист или анабаптист. Некий житель Корнуолла, католик, предпочитавший посещать церковь, нежели платить штраф, мог стойко переносить чтение отрывков из Священного Писания и «женевскую джигу» (так пренебрежительно называли пение псалмов, переведенных на английский язык Стернхолдом и Хопкинсом). Но когда дело доходило до проповеди, его терпение иссякало, и он неизменно выходил из церкви, громко выкрикивая проповеднику: «Когда ты скажешь, что собирался сказать, приходи ко мне обедать!»(3) Тем не менее англиканская реформа уже начала выполнять свою задачу. К концу правления Елизаветы «новая религия» стала старой, семейной религией, и впереди уже замаячили скучные пуританские воскресенья следующего столетия.
Впереди были также преследования католиков, которые развернулись в смутные 1580-е годы. Но, по правде говоря, от них пострадало намного меньше людей, чем во время гонений на протестантов при Марии Тюдор. С помощью «Акта о супрематии» и «Акта о единообразии» Елизавета сумела найти via media[10] для своего народа. Не Риму, не Женеве, а Кентербери суждено было стать английским путем. Джон Нокс[11], ненавидевший женщин вообще и Елизавету в частности, говорил, что ее нельзя назвать «ни добрым протестантом, ни непоколебимым папистом». Но сама Елизавета высказалась так: «Я не хочу открывать окна в человеческие души» — необычайно снисходительное высказывание для правителя того времени.
Действия Елизаветы были продиктованы необходимостью, а не религиозными или личными мотивами, ею двигали только национальные и политические нужды. За сорок пять лет ее правления на папском троне побывало девять понтификов, и все они, — исключая, пожалуй, Сикста V и трех живших совсем недолго Урбана VII, Григория XIV и Иннокентия IX, — выступали против нее. Даже Сикст V, который ею восторгался, поддерживал Армаду. Это он однажды заявил: «Как жаль, что мы с Елизаветой не можем пожениться, — наши дети владели бы всем миром»(4).
Павел IV, занимавший папский престол, когда Елизавета взошла на трон, рассматривал Англию как вассальное государство и, когда права королевы были поставлены под сомнение, потребовал, чтобы она предъявила ему свои притязания на корону. Едва ли можно было найти лучший способ, чтобы навсегда отвратить Англию от лона Рима. Пий IV смотрел на вещи более реально и понимал, что Англия и Германия потеряны для папства, а Франция находится на грани гражданской войны. В этой ситуации он делал то, что и должен был: поддерживал Испанию.
Однако Пий V издал знаменитую буллу от 1570 года, в которой отлучил Елизавету от церкви и объявил узурпатором.
Это поставило английских католиков в безвыходное положение — верность своей королеве означала предательство собственной веры и наоборот. Таким образом, их запросто могли обвинить в измене. Папская булла, что не удивительно, дала пуританам в руки кнут, ведь когда сталкиваются столь явные противоположности, конфликт неизбежен. Григорий XIII не улучшил положения, строя козни против Елизаветы и подстрекая Испанию к нападению на Англию через Ирландию. И хотя Климент VIII, великий миротворец, надеялся — используя Якова I — вновь вернуть Англию под свою опеку после смерти Елизаветы (он пережил ее на два года), он, тем не менее, опоздал на полвека.
Не стоит забывать, что и кальвинисты были настроены против англиканского компромисса и полагали, что новый молитвенник был «выброшен и подобран в куче папистского дерьма»(5). (Большинство выражений, которые они употребляли в этой связи, слишком оскорбительны, чтобы их можно было здесь повторить.) Они отрицали возможность спасения через веру или благодать и верили, что Бог предопределил всем человеческим существам или вечное спасение, или вечные муки. Кальвинисты считали себя хранителями истины и, убежденные в собственной «избранности», пытались уговорить или заставить других встать на их путь. Так что католиков обвиняли в измене, а кальвинистов — в ереси. И те и другие подверглись гонениям. Но именно отсюда берет свое начало сегодняшнее разделение английских христиан на три главных течения: англиканство, нонконформизм и католицизм.
* * *
Впервые за всю свою историю Англия встала на ноги — она находилась пока в безопасности под защитой флота, обладала стабильной валютой и была свободна от страха перед иноземным завоеванием. И именно тогда впервые достаточно ясно проявилось то своеобразное явление, которое можно было назвать только «английскостью». «Английскость» в ее самом широком и наиболее общем смысле складывалась из ревностного патриотизма, крайнего индивидуализма и благородной, а порой и надменной сдержанности. Эти качества, от которых современная Англия болезненно пытается избавиться, взрастили ее величие, стали ее изюминкой и добавили яркости, но при этом, что естественно, не добавили популярности за рубежом. Правители других государств не доверяли, завидовали, боялись и ненавидели Елизавету. Однако англичане, совершенно свободные от зависти, были польщены внушаемым ими страхом, нисколько не боялись чужой ненависти и страстно ненавидели в ответ, а также считали иностранцев еще менее заслуживающими доверия, чем те их.
По словам Пауля Хенцнера[12], посетившего в те дни Англию, англичане были «хорошими моряками и еще лучшими пиратами, коварными, вероломными и вороватыми. Они хорошие бойцы, искусно справляются с противником, не выносят рабства, чрезвычайно любят громкие звуки, ружейную канонаду, барабанный бой и колокольный звон... Если им встречается хорошо сложенный или привлекательный иностранец, они говорят: "Жаль, что он не англичанин"»(6). Эта довольно неприятная характеристика англичан того времени показывает, что они были слишком деятельны и активны, чтобы забивать себе голову тем, что о них думают другие.
А еще они были крайне занятыми людьми. Благодаря своей энергии и энтузиазму им удалось стать — и это было совершеннейшей правдой — первоклассными моряками, пиратами, флибустьерами и авантюристами. Им удалось заложить основы современной капиталистической экономики. В то время на торговлю не смотрели свысока, как в XVIII веке, тогда ее считали опасным и увлекательным приключением, стоящим и даже романтичным. Можно сказать, что торговля была своего рода триединой богиней войны, путешествий и богатства.
Никогда прежде английские корабли не бывали в водах Каспия, а ее представители — при дворах персидского шаха и турецкого султана. Английские консулы и доверенные лица появились в Триполи, Алеппо, Вавилоне, Басре и Гоа. Корабли англичан — среди которых было несколько быстроходных судов, совсем недавно сконструированных Хоукинсом[13], — становились на якорь в устье Ла-Платы и пересекали труднопреодолимые воды Магелланова пролива, чтобы обследовать берега Чили, Перу и «все закоулки Новой Испании»(7), вызывая гнев и удивление испанцев. Поначалу те просто не могли понять, как английские корабли смогли оказаться у берегов Южной Америки.
Но для англичан мир был, в конце концов, просто круглым. А значит, его можно было обогнуть. Запад и Восток соединялись не только в воображении, но и на деле, а значит, их нужно было исследовать и использовать: как Россию, так и обе Америки, Китай и Левант, а также холодные берега Ньюфаундленда. Риск был огромным, но это того стоило.
В 1553 году Ричард Ченселлор, пытаясь найти северовосточный проход, по ошибке вместо Индии открыл англичанам Россию и был хорошо принят Иваном, в то время еще совсем не «грозным». Так появилась «Московская компания», по примеру которой создавались другие великие торговые компании. Как ни странно, в начале отношения с Россией складывались настолько хорошо, что Иван IV даже захотел жениться на Елизавете. Но та отвергла это любезное предложение — что было так же мудро, как и остальные ее решения, поскольку все семь жен Ивана IV умерли при загадочных обстоятельствах. Отношения между двумя странами оставались достаточно дружественными, несмотря на то, что Иван, раздраженный отказом, написал королеве письмо, в котором осуждал ее незамужнее состояние.
Отношения Англии и Испании складывались менее удачно. Англичане нападали на испанские корабли и грабили их в открытом море, как правило, Карибском, или к югу от экватора, хотя Филипп II был на стороне Елизаветы во время ее вступления на трон и продолжал поддерживать ее в течение многих лет. Однако на испанских кораблях было чем поживиться. В 1585 году торговец из Ульма отправил домой сенсационное сообщение о том, что только что были получены новости об испанском корабле, захваченном Дрейком[14]: награбленное добро составило два миллиона нечеканного золота и серебра в слитках, пятьдесят тысяч крон в реалах, семь тысяч шкур, четыре ящика с жемчугом — по два бушеля[15] каждый — и несколько мешков с кошенилью(8). Вся добыча оценивалась в 25 баррелей золота, и утверждалось, что это была дань, выплаченная Перу за полтора года. Отчет был преувеличен, но ненамного. Елизавета не грабила своих людей, и ее подданные по праву гордились самыми низкими в мире налогами. Она считала более выгодным позволять им грабить врагов, что в итоге оказалось верным, поскольку полученная от захваченного добра доля пополняла ее скудный доход.
«Дрейк! — воскликнула она, когда Уолсингем убеждал ее тайно войти в долю кругосветной экспедиции Дрейка — пиратский набег, не имевший аналогов в истории. — Дрейк! Так я буду отомщена за все оскорбления, нанесенные королем Испании». Она нашла для этой работы подходящего человека, а он — идеальную госпожу.
На земле люди были заняты не меньше, чем на море. В английском обществе появилось новое дворянство, которому было суждено заменить старое и составить сильный средний класс. Тюдоры сами были скорее выскочками и побаивались старой аристократии. Все выдающиеся служители Тюдоров — даже Уолси[16], сын ипсвичского мясника, — были скромного происхождения. У. Сесил происходил из семьи фермеров (его враги поговаривали, что его отец был хозяином таверны). Таким образом, классовые различия перестали быть строгими и даже наследственными. Теперь можно было свободно перемещаться внутри класса и даже перейти из одного класса в другой. Это означало, что частные предприятия и личная инициатива, вне зависимости от происхождения, были ключом, способным открыть любые двери.
В то время величие значило совсем не то, что мы понимаем под этим словом сегодня. Оно не имело никакого отношения ни к характеру, ни к дарованию, а также не было связано с внешностью или моральным обликом. Величие основывалось только на материальном состоянии. «Великий человек» означало «богатый человек», демонстрирующий свое величие стилем и образом жизни. Это вовсе не предполагало жить в согласии с законом, а быть нуворишем не значило быть презираемым. Это был желанный статус — цель, которая в то время могла быть достигнута практически любым сообразительным, решительным, энергичным и удачливым человеком.
Итак, новое дворянство, сквайры и землевладельцы отдавали своих сыновей в торговлю и коммерцию или посылали в плавание, чтобы те попытали счастья на корабле, что вызывало ужас у иноземных дворян, считавших, впрочем, как всегда ошибочно, это доказательством отсутствия семейного чувства или привязанности. Но ничего подобного. Это было следствием понимания того факта, что торговля — что означает «путь» — была прямой дорогой к богатству и «величию». Подъем торгового класса в то время был феноменальным. Англию стали называть страной торговцев, точно так же, как позднее она прославилась как нация лавочников.
Подданные Елизаветы были заняты тем, что зарабатывали деньги. Те, кому удавалось в этом преуспеть, сколачивали себе состояние — и в этом им никто не препятствовал. Результатом стал резкий подъем деловой активности — и инфляция. Как и всегда, с началом бума англичане потянулись к роскоши. Все больше и больше людей покупали землю, строили и обставляли дома, огромные и совсем небольшие, обзаводились семьями и рожали детей. Но эти предприимчивые англичане, жаждущие богатства и материального благополучия, проявили себя и в других сферах. Они создали великолепную музыку и поэзию, прозу и живопись. Они вкусно ели и фантастически одевались. У них даже был «Закон о помощи бедным», имевший, конечно, свои недостатки, но намного опережавший все, что существовало в тогдашней Европе. Англичане также фанатично относились к свободе. Они приветствовали иммигрантов, приезжавших в поисках убежища из Франции и Нидерландов, в то время как сами сожгли четырех еретиков, мучили иезуитов, отвратительно вели себя по отношению к ирландцам и участвовали в работорговле — сама королева имела долю прибыли с корабля, торговавшего рабами, на борту которого красовалось имя «Иисус».
Англичане твердо верили в Бога, но еще в магию, астрологию, алхимию, предсказания, ведьм и колдунов. Королева даже настаивала, чтобы доктор Ди, ее придворный астролог и алхимик, выбрал благоприятный день для ее коронации. Таким днем стало 15 января.
Глядя на ту эпоху с безопасного расстояния, нам может показаться, что это был блестящий век, заполненный великими именами и великими делами, хотя бы на мгновение превративший тусклое строгое убранство истории в золотую парчу. На самом деле это был также век нищеты и страданий, предательства и внезапных смертей. Век попрошаек, бродяг, разбойников и воров, нищих оборванцев и безработных. Это был век господства Елизаветы и горстки людей, окружавших ее и составлявших ее двор. Но в тот век Англия по-прежнему была преимущественно аграрной страной. Однако так или иначе блеск двора и дух времени проникали в почти девственные леса, окружавшие плодородные поля, фермы, города и деревни, где проживали четыре из пяти миллионов англичан. И если королева была Елизаветой Английской, то Англия в такой же степени была елизаветинской — и та Англия одновременно была изумительно похожа и не похожа на Англию Елизаветы II.[17]
* * *
Одному неудачливому иноземному гостю Англия показалась «сплошным нескончаемым лесом»(9), сквозь который пролегали отвратительные, немногим лучше следов от телеги, дороги. Там были огромные участки незанесенных на карту болотистых земель и поросшие вереском пустынные холмы. Однако на расчищенных от леса землях находились деревни и фермы, особняки и поместья, ухоженные поля и недавно огороженные забором или изгородью парки, где королевским указом разрешалось разводить животных для охоты. Именно здесь, в зоне пахотных земель, протянувшейся через все центральные графства Англии от залива Уош до Бристоля, производили «золотое руно» Англии и «избытки хозяйственной деятельности». В те дни Англия была способна себя прокормить — и довольно хорошо. Не считая разных добавок вроде специй, тростникового сахара, вин, тропических фруктов и оливкового масла, которые ей приходилось ввозить из-за границы, она производила столько продуктов, что могла быть крупным экспортером.
По причине хорошего обеспечения продуктами питания почти каждый иностранец, достаточно храбрый, чтобы вообще осмелиться путешествовать по английским дорогам, завидовал англичанам. Если он во время своей поездки придерживался одной из крупных старых римских дорог и их ответвлений — по-прежнему лучших в стране, — то мог остаться цел. Но если же он отправлялся по английской дороге, то часто не добирался до места назначения или прибывал туда с пустыми карманами, поскольку на дорогах было полно разбойников.
Фактически дороги никто не строил — они просто появлялись. В то время никто не путешествовал ради удовольствия. В путь людей толкала либо торговля, либо крайняя необходимость попасть из одного места в другое. Плохое состояние дорог — довольно хороших в Средние века — было обусловлено распадом манориальной системы и разрывом с Римом. Поместья перестали следить за состоянием путей и дорог вокруг их территории, в то время как пилигримы больше не посещали храмы и святые места в таком количестве, как раньше, чтобы основательно протоптать дорогу из одного конца страны в другой. Как значилось в законе от 1555 года по улучшению больших дорог, елизаветинские дороги были очень «шумными и утомительными для передвижения и опасными для всех пассажиров и повозок». Полвека спустя жалобы были все те же, и отсутствие хороших дорог было «нескончаемой каждодневной бедой и несчастьем для людей и животных; с множеством преград, износов, колдобин и барьеров, порой представляющих большую и неизбежную угрозу их жизням».
У елизаветинцев XVI века не было ни карт, ни дорожных указателей, и порой даже членам королевской семьи случалось заблудиться[18].
Когда Мария Кровавая отправила Елизавету из Тауэра в менее утомительное заключение в Вудсток, то ей пришлось проделать путь от Лондона до Оксфордшира на старой потрепанной повозке вместе с сэром Генри Беддинфилдом в качестве ее тюремщика и под охраной сотни мужчин в голубой униформе, вооруженных пиками, пистолетами и луками. Как и следовало ожидать, это путешествие без всяких видимых усилий превратилось в почти королевскую процессию. В Итоне мальчики толпились, чтобы поглазеть на нее, и по всему пути сельчане спешили взглянуть на «госпожу Елизавету» и преподнести ей дары в виде хлеба, пирогов, меда и собранных в саду цветов — это было в мае. Добравшись до Вобурна в Букингемшире, процессия остановилась, поскольку выяснилось, что никто из сопровождающих не знает, как отсюда попасть в Вудсток. К счастью, недалеко от города нашелся фермер, пришедший посмотреть на эту «общительную, щедрую даму, ничуть не похожую на свою неблагодарную сестру»(10), который отправился с ними дальше и указывал дорогу. Мы не знаем, как он добрался домой, но если предположить, что все закончилось благополучно, то по возвращении он мог жить за счет этой истории до конца своих дней, оставаясь объектом восхищения и почитания соседей.
В 1592 году напыщенный герцог Вюртембергский путешествовал из Оксфорда в Кембридж (болота тогда занимали площадь в 75 тысяч акров, а в паводок вода иногда достигала Кембриджа) и оставил нам поразительное описание трудностей своей поездки. «Мы проехали, — сообщал он, или, вернее, его секретарь Якоб Ратгеб, — по отвратительной, болотистой и дикой стране и несколько раз сбивались с пути, потому что близлежащие районы были очень мало заселены и пустынны, и, в частности, было одно место, где трясина была такой глубокой, что по нему было бы страшно проехать на повозке зимой или в дождливую погоду».
Действительно, зимой деревни, если только они не стояли на берегах судоходных рек, были практически изолированы, и их жители вынуждены были просто отсиживаться дома, как сурки в норах, ожидая улучшения погоды, что случалось редко. Но для нас, имеющих всевозможные и почти мгновенные средства связи, удивительнее всего то, как тогда доставлялись новости. Каким образом новости — и слухи — умудрялись так быстро достигать всех уголков страны, имеющей столь плохие дороги, плотно покрытой лесами и так мало населенной? Однако же это происходило. Каждый путешественник мог рассказать что-то либо о своем родном уголке, либо о мире далеко за его пределами. Так распространились новости о том, что колокольня Святого Павла сгорела дотла 4 июня 1560 года, а в Лондоне случилось землетрясение, причиной которого, по мнению некоторых, были колдовство и магия. Или новость о последнем захваченном у испанцев трофее, о последнем нанесенном ими оскорблении. Это были и слухи о том, что королева собралась выйти замуж за свое «создание» Роберта Дадли. Эта идея была не слишком популярна в народе, поскольку многие считали его виновным в убийстве своей жены Эмми Робсат, хотя коронер и не нашел никаких доказательств злого умысла. Рассказывали о странных происшествиях и чудесах, имевших место в отдаленных районах страны. Доходили новости о нападениях на границе, о краже скота разбойниками и сообщение о том, что герцог Норфолкский, единственный английский герцог и кузен королевы, был обвинен в сговоре с Марией Стюарт и заключен в Тауэр.
Новостями, мнениями, слухами и сплетнями обменивались в базарные дни на рынках и сельских ярмарках, куда странствующие торговцы приносили свои товары вместе с последними листовками и популярными балладами. Тогда в ходу были сотни таких листов с напечатанным на одной стороне текстом с гравюрами, стоивших полпенни или пенни. Многие из них сообщали явную клевету и даже пошлости, но в век, когда не было ни журналов, ни газет, ни бульварного чтива, они шли нарасхват. Характеристика продавца баллад — «капля остроумия, смешанная с хорошей выпивкой, может быть по-своему притягательна»(11) — довольно точна. А что уж говорить про его работу! «Наиболее часто повторяющиеся сочинения выпускают на одном листе и распевают на рынках в разных городах под отвратительную музыку и ужасным голосом, в то время как бедные сельские девушки тают как масло, желая их послушать; и там есть истории о людях из Тайберна[19] или о странном уроде из Германии; или, сидя в публичном доме, он (автор) пишет Закон Божий...»(12) Трудно не узнать в этом описании знакомую картину пристрастий и интересов толпы.
С помощью такой системы передачи сообщений новости распространялись через рынки и ярмарки по всей стране... и довольно быстро. Возможно, при пересказе некоторые детали преувеличивались — например, число трофеев, захваченных Дрейком, — но, как правило, они основывались на фактах, даже если эти факты искажались. Новости о событиях в Англии и в окружающем ее мире тем или иным образом преодолевали леса, пустоши, болота и торфяники, путешествовали вверх и вниз по известковым обрывам от Линкольншира до Уилтшира, населенным одинокими пастухами и их стадами, и достигали столовых в поместьях норфолкских сквайров или кухонь в мазанках на пустынной границе Уэльса.
* * *
Лондон, население которого перевалило за 100 тысяч человек, уже тогда стал одним из величайших городов Европы, хотя и не в смысле архитектуры. Но его стремительный рост постоянно вызывал озабоченность властей, ломавших голову, как накормить и дать крышу над головой всем его жителям, поддерживать порядок и сдерживать эпидемии, которые часто уравнивали число умерших с количеством появившихся на свет. В то время река была одним из основных путей, обеспечивающих город. Большинство улиц были такими грязными, узкими, кривыми, плохо вымощенными и столь опасными по ночам, что жители больших домов — Норфолк, Эрандел, Эссекс-хауз, Бейнардс Кастл и Дарэм-плейс, — построенных на Темзе, предпочитали перемещаться исключительно по реке. Однако Роберт Дадли, граф Лейстер, построил свой новый дом в поле на окраине, где в настоящее время находится Лейстер-сквер. Впрочем, Дадли всегда был человеком необычным и безрассудным.
Темза была также и главной королевской дорогой, ведь на ее берегах находились почти все королевские резиденции: Гринвич, место рождения королевы и ее любимый дворец (см.илл.), Уайтхолл, о котором нам известно совсем немного, поскольку он был разрушен в последующем столетии, Сион-хауз, где приняла корону леди Джейн Грей[20], Хэмптон Корт, начатый Уолси и достроенный Генрихом VIII, Ричмонд, построенный Генрихом VII, и Виндзорский замок. Тауэр, Монетный двор, королевский арсенал, здание парламента также располагались на Темзе. Когда двор находился в Лондоне, ярко украшенные баркасы путешествовали вверх и вниз по Темзе, а под лондонским мостом раздавались залпы в честь королевы.
На реке часто можно было увидеть и саму Елизавету. Нам известно, что одно из ее ранних появлений, уже в качестве королевы, состоялось в День святого Георгия в 1559 году, когда она отправилась по воде в Бейнардс Кастл, чтобы поужинать с графом Пемброком. После ужина «она села в лодку и прокатилась вверх и вниз по Темзе, за ней следовали сотни лодок, и тысячи людей столпились на берегу, чтобы взглянуть на Ее Величество, ликуя от радости и наслаждаясь музыкой и зрелищем, при каждом передвижении королевы трубили трубы, били барабаны, играли флейты, раздавались залпы орудий и взрывались петарды. И все это продолжалось до десяти вечера, пока королева не отправилась домой. Королева явилась так открыто и снизошла до своего народа, что заставила людей принять и полюбить себя(1З).
Но река была также и местом отдыха. Здесь проводились водные фестивали и пышные зрелища, на которых искусно построенные лодки вспугивали тысячи лебедей, тоже считавших реку своей. По другим случаям небо над рекой озарялось вспышками фейерверков, на краткий миг затмевавших звезды и отражавшихся во всем своем сиянии и мимолетном блеске в темной сверкающей полоске внизу. Музыка плыла над водой и услаждала слух жителей страны, известных за своими пределами как одна из самых музыкальных наций в мире. И один или два раза за царствование Елизаветы во время знаменитых морозов проводились ледовые карнавалы с угощениями, музыкой, танцами и фейерверками.
Сейчас нам трудно представить, как сильно преображался Лондон во время пребывания там королевского двора. Несмотря на многочисленность жителей, большую часть времени Лондон во всем походил на провинциальный город, не слишком удачно породнившийся с портом. Но с приездом Елизаветы он наполнялся особой магией и величием и озарялся тем же ослепительным сиянием, что и при сверкающих над Темзой фейерверках. Этот блеск охватывал Сити, Вестминстер и пригороды.
И это было связано не только с личностью самой королевы и ее тягой к известности, но и с широко распространившейся идеей королевской власти. Наши мнения о Елизавете могут расходиться — все зависит от того, каких биографов и какие рассказы мы читали. Но факт остается фактом: какой бы она ни была — и при любых обстоятельствах, — Елизавета завладела воображением людей и полностью соответствовала их представлениям о том, какими должны быть королевская власть и достоинство. Как сказал один из ее министров, упрекая тех, кто противоречил ее воле: «Она наш Бог на земле». И это было не лестью, а выражением искренней веры.
Нам это может показаться идолопоклонством, но помазанный на царство правитель был одновременно человеком и богом. Этот идеал Тюдоры сочли весьма полезным и всячески поддерживали. Он оказался той объединяющей силой, которая смогла обратить верность своему краю в верность государству. Отныне человек был уверен, что его преданность в первую очередь принадлежит не лорду, не городу, не гильдии, а его королеве — и нации. В исторических пьесах Шекспира можно найти множество мест, где короля признают Божьим избранником, а значит, его личность священна. Король Ричард восклицает, желая заглушить обвинения в свой адрес матери и невестки:
Трубите в трубы! Бейте в барабаны, Чтоб не слыхало небо глупых баб, Шумящих на помазанника Божья![21]Ричард II после возвращения из Ирландии заявляет еще более решительно:
Не смыть всем водам яростного моря Святой елей с монаршего чела. И не страшны тому людские козни, Кого Господь наместником поставил[22].Однако Болингброк свергает его, и в своей речи после этого события Карлейль указывает на то, насколько «черным и отвратительным» было это дело:
Так можно ли судить вам государя, Носителя небесного величья, Избранника, наместника Господня, Венчанного, помазанного Богом, И приговор заочно выносить?[23]Карлейль, или Шекспир, озвучил отношение времени к королям. Драматург обращался к елизаветинцам и выражал стратегию Тюдоров.
О человеческих качествах правящей полубогини нам поведал сэр Джон Хейворд[24], в описании которого она предстала одновременно волнующей и прекрасной. «Все ее способности, — писал он, — были в движении, и каждое движение было тщательно продумано. Она смотрела на одного, слушала другого, выносила суждение на счет третьего, к четвертому обращалась с речью, казалось, что ее дух проникает всюду и одновременно столь целостен в ней самой, что невозможно представить, чтобы он был где-то еще. Одним она сочувствует, других хвалит, некоторых благодарит, над четвертыми мило и остроумно подтрунивает, никого не осуждает и не пренебрегает услугами, она раздает улыбки, взгляды и милости так безупречно, что вследствие этого люди удваивают выражение своих радостей; и после возвеличивают все до высшей черты, не уставая на все лады расхваливать своего Повелителя»(14). Тем не менее Елизавета терпеть не могла, когда ей противоречили, открыто сквернословила, частенько поднимала руку на приближенных и однажды во время спора швырнула туфлей в Уолсингема с криком «Point de guerre! Point de guerre!»[25] Стоит ли удивляться, что этот дух, присутствующий, похоже, повсюду и полностью в самом себе, оживлял Лондон и любое другое место, где пребывала королева.
А рядом с королевой всегда был двор. Он не только состоял из смертных домочадцев этой полубогини — он был также центром практически всей важной деятельности страны. Те, кто управлял домашними делами королевы, руководил и жизнью королевства: поодиночке, когда дело касалось монарха, и как Тайный совет, когда вопрос затрагивал интересы государства. С их помощью королева определяла и осуществляла свою политику и, что поразительно, все сорок пять лет своего правления сама была своим премьер-министром, без сна и отдыха. Ее государственный казначей, являвшийся также главным политическим «министром», камергер, вице-камергер, адмирал и масса других чиновников были ее придворными. И всегда они были там, где была она.
Но величие двора заключалось не только в его деятельности. Елизавета, возможно, была дитя Реформации, но, как и ее отец, она была монархом эпохи Возрождения. А в те времена правителю следовало быть блистательным, образованным, изысканным и величественным. И Елизавета не была исключением, так что двор стремился быть достойным своей королевы.
Мужчины при дворе не были ни картонными фигурами, призванными выполнять лишь роль декораций, ни узкими специалистами, ослепленными своей сферой деятельности. Придворный должен был обладать умом — и остроумием, — но, кроме того, ему следовало быть спортсменом, поэтом, солдатом, лингвистом, искусным танцором и уметь играть на струнном инструменте. Королева не была ни солдатом, ни тем более поэтом, но она с избытком обладала всеми остальными качествами. Елизавета была необыкновенно способна к языкам и сообщила французскому послу, что к моменту своего восшествия на престол говорила на шести языках лучше, чем на родном. Когда посол заметил, что это большое достоинство для принцессы, она ответила, что «нет ничего удивительного в том, чтобы научить женщину говорить, гораздо труднее научить ее держать язык за зубами»(15). Возможно, именно по этой причине не поощрялось, чтобы жены придворных жили при дворе. Однако присутствие нескольких женщин, чтобы прислуживать королеве, было необходимо. Они были образцом женского совершенства — совершенства, которому стремились подражать все женщины в стране. Камеристки королевы были начитанны, знали как современные языки, так и греческий, и латынь. Каждая из них владела рецептами нескольких изысканных блюд собственного изобретения, была равно искусна в готовке и знании основ врачебного дела. Молодые и здоровые, так же, как и мужчины, они увлекались спортом и все должны были уметь сносно шить, вышивать и музицировать. Молодые женщины, в частности, «когда не прислуживали королеве, играли на лютнях, лирах и пели по нотам».
А королева, зная о пристрастии Сатаны к лентяям, постоянно находила занятия для своих слуг и камеристок. Она не выносила никакого вздора. Вот как об этом говорилось в одной из баллад, написанных, чтобы оплакать ее смерть:
Еще не было королевы мудрее И характером сильней. Если что-то ее раздражало, Она всем тумаки раздавала.Ее подданные гордились своей королевой. Она понимала их, а они понимали ее, хотя и не переставали восхищаться и удивляться, что женщина — пусть и полубогиня — смогла сделать то, что удалось ей. Ее слова и поступки расходились лучами от золотого круга ее двора, где она была солнцем, освещая и обогревая всю страну.
Хотя Лондон был самым большим городом, в Англии существовали и другие важные центры, и Елизавета посещала их все, несмотря на ужасные дороги. Йорк, столица севера; Норидж, центр торговли шерстью; Бристоль — центр как внутренней, так и международной торговли. В каждом из них проживало около 20 тысяч человек, тогда как в более мелких провинциальных городах было не более 5 тысяч населения("16"). Рано или поздно мода, нравы и привычки двора «лично» или другими способами достигали этих центров, где их перенимали, им подражали и откуда они распространялись дальше, оказывая влияние на повседневную домашнюю жизнь среднего англичанина того времени.
И здесь перед нами возникает одна проблема. Нам довольно много известно о королеве и о великих людях того времени, что же касается остальных — менее великих и известных — сведений совсем немного. Какими они были, подданные Елизаветы, простые люди той эпохи? Они не ели мясо павлина. Не строили огромных домов из кирпича или импортного камня. Они не были придворными, как непредсказуемый Лейстер, адмиралами, как Дрейк, финансовыми гениями, как Грешем, политиками, как Сесил, драматургами, как Шекспир, поэтами, как Спенсер, учеными, как Бэкон, музыкантами, как Джон Булл, или портретистами, как Николас Хил-лиард. Они действительно жили в тот же золотой век, что и прославившие его величайшие умы и мошенники. Но было ли это время золотым и для них?
К сожалению, о том времени нам известно меньше, чем о жизни людей в последующие века. Мы не знаем, что думали те люди и кем они были. Елизаветинцы почти не вели дневников. Некоторые из них оставили после себя лишь бухгалтерские записи, откуда мы можем узнать цены на апельсины и сельдь, детские туфли и о том, что бобровая шапка персикового цвета, украшенная серебряной тесьмой, стоила 2 фунта стерлингов, но они не оставили заметок о себе и о своей повседневной жизни.
Личных штрихов осталось совсем немного — даже в редких дневниках того времени. Возможно, они вели слишком активную жизнь, чтобы делать записи о каких-то деталях, как это делал Сэм Пипс[26] в следующем столетии, — хотя и он тоже был занятым человеком. Что касается писем, то, кажется, в то время не было никого сравнимого с Маргарет Пастон, писавшей мужу за сто лет до правления Елизаветы: «Прошу тебя от всего сердца выслать мне как можно скорее горшочек патоки». Письма сэра Генри Уоттона[27] были скучными, напыщенными и холодными, ничуть не похожими на век, в который были написаны. Френсис Бэкон был великолепен в общении, но чересчур официален — только государственные дела и никаких слухов, и в письмах Джона Донна[108] нет и следа настоящего, героя его стихов и метафизических речей.
Однако обыденная жизнь людей той эпохи, несомненно, испытывала на себе влияние необыкновенного духа времени — хотя и небывалое становится привычным, если вы достаточно долго с этим живете, — а Елизавета правила почти полстолетия. Так что мелкие сквайры, зажиточный средний класс и сельские жители, пусть и с опозданием, должны были следовать примеру, который подавал странствующий двор.
Тем не менее подданные Елизаветы молчат как о мелочах, так и важном. Мы не знаем, что чувствовали или говорили обычные мужчины и женщины той эпохи. Так что они совершенно ускользают от нас, как и их королева. И неважно, как много мы о ней знаем, — она все равно остается загадкой. У нас слишком мало записей ее современников, чтобы раскрыть или скрыть их мысли. Они не оставили никаких замечаний о жизни, смерти, мокрых ботинках или настроении повара.
Все, что мы можем сделать, если захотим узнать о них побольше, — это попытаться разглядеть их в тех вещах, что их окружали, в домах, мебели, украшениях и утвари, которой они пользовались. Так египтологи восстанавливали историю египетской цивилизации по найденным в гробницах артефактам.
Мы можем лучше понять елизаветинцев по той еде, которую они ели, по играм, в которые играли, болезням, от которых страдали, по всему, что им нравилось или не нравилось. Эта книга как раз о таких вещах. Она о мелких деталях и подробностях домашней жизни. И Елизавета I, благодаря своей любви к подданным и их обожанию, играла большую роль в повседневной жизни людей того времени.
Глава вторая. «Чудо-дома» как отражение духа времени
Уильям Харрисон был всего на год младше королевы. Елизавета родилась в одной из палат Гринвичского дворца, названной впоследствии палатой Святой Девы, в канун Рождества Девы Марии в 1533 году[28]. Он — в доме рядом со «Святым ягненком» на Кордвэйнер-стрит, которую иначе называли Боу-лейн, утром 18 апреля 1534 года. В течение неспокойных двадцати пяти лет, пока ее готовили — и в большей мере она готовила себя сама — к великой непредсказуемой судьбе, он посещал школу Святого Павла[29], потом Вестминстерскую и впоследствии Оксфорд, собираясь стать магистром свободных наук. В год ее коронации, когда она взошла на престол, он переехал в Редвинтер в Эссекс, где жил за счет своего покровителя сэра Уильяма Брука, лорда Кобэма — друга новой королевы. И пока Елизавета и ее двор создавали новую эпоху, символами которой они стали, он наблюдал и записывал то, что происходило вокруг.
Харрисона не интересовала высокая политика или крупные исторические события, он собирал факты, которые сообщали об изменениях, происходящих в его родной Англии. Сведения о природных ресурсах, птицах и зверях, почве и воздухе, оружии и кораблях, людях и законах, домах и дворцах — гигантский компендиум «Описание Англии», опубликованный как введение к «Хроникам» Холиншеда[30]. Харрисон был одним из немногих людей елизаветинской эпохи, кто оставил свои комментарии. И отступления этого упорного кокни часто могут поведать нам столько же, если не больше, чем информация, которую он собирал с таким усердием. Именно из его комментариев мы узнаем, что он считал всех юристов мошенниками, коллекционировал римские монеты, был страстным садоводом, держал мастифа, был женат на полуфранцуженке, варившей пиво, имел троих или больше детей и восторгался королевой.
Это было искреннее и неподдельное восхищение, без всякой лести и подхалимства, свойственного той эпохе. Возможно, он впервые увидел ее и проникся восхищением во время ее первой королевской процессии, состоявшейся в июле 1559 года, когда она отправилась с визитом к его патрону, лорду Кобэму, в поместье Кобэм в Кенте.
Так или иначе, годы спустя он написал об этих поездках: «Когда летом у нее возникало желание отдохнуть вне дома и ознакомиться с положением дел в стране, и услышать жалобы простого населения, обиженного ее нечестными чиновниками или их заместителями, каждый благородный дом был рад стать ее дворцом, и она пребывала там, сколько ей хотелось, прежде чем вернуться в один из своих собственных, где она оставалась, пока ей было это угодно». Так Харрисон поведал нам об истинной причине возникновения большинства выдающихся домов того времени.
С самого начала своего правления королева — когда верхом на лошади, когда в паланкине, позднее в новомодном экипаже, хотя она жаловалась, что путешествие в экипаже оставляет на ней синяки, — каждый год совершала поездку по одной из частей королевства. И хотя она, без сомнения, выслушивала жалобы своих подданных и ей, безусловно, удавалось немного развеяться, но все же было два главных мотива, побуждавших королеву отправляться в эти поездки. Первый — постоянно демонстрируя себя своему народу, она подняла собственную популярность до невообразимых высот. Второй — она экономила деньги.
Мы знаем о бережливости Елизаветы в отношении государственной казны и о ее личной прижимистости, но при этом забываем о том, что, зная, что ее народ не выдержит бремя поборов, она не взимала с него налогов[31]. В год после Армады ее общий доход насчитывал менее 400 тысяч фунтов. Помимо обычных текущих расходов ей нужно было содержать флот из постоянных источников королевских доходов (налоги, таможенные подати, государственные земли). Сумма, собранная за все время ее царствования из экстраординарных[32] парламентских налогов — и ключевым словом здесь является «экстраординарный», — составила около трех с половиной миллионов фунтов более чем за сорок лет. В таком случае не стоит удивляться, что во время своих путешествий Елизавета останавливалась в тех домах, где рассчитывала встретить — и встречала — щедрый и более чем королевский прием. Хозяину ее визит стоил целого состояния, а порой мог даже разорить.
Но те, кто оказывал гостеприимство королеве, делали на ней, или, точнее, с ее помощью, деньги, поскольку сама она не могла с ними расплатиться. Они получали из ее рук награды, титулы, земли, а также некоторые монополии[33], которые были весьма обременительны, поскольку к проблемам сбыта и потребительским издержкам добавлялись еще и комиссионные. Роберт Дадли сколотил целое состояние, получив разрешение облагать налогом клепаные бочки, сладкое вино, масло, смородину и бархат. Тем не менее он умер в долгах. Только на Кенилворт он истратил 60 тысяч фунтов, чтобы превратить его из маленького невзрачного дома в великолепный особняк; кроме того, у него были дома в Денби, Лондоне и Уонстеде. Все строилось так, чтобы быть достойным королевы, если она вдруг проедет по этому пути, — как это обычно и происходило. Однако те, кто возводил «чудо-дома», делали это не только ради будущего визита королевы, но и в память о ее посещении.
Хозяин, естественно, должен был принять не только королеву с парой камеристок. Ему приходилось размещать и кормить весь ее кортеж, придворных и слуг. Ему также было необходимо позаботиться о конюшнях и корме для ее лошадей. Несмотря на ужасное состояние дорог, Елизавета обычно путешествовала со свитой из трехсот повозок, в каждую из которых были запряжены пять или шесть лошадей (Харрисон называет 400 двухколесных повозок и 2400 лошадей), так что вместить их всех мог только огромный особняк — «чудо-дом».
Давно исчезнувший Теобальдс в Хартфордшире был, или к тому времени стал, таким домом. Он принадлежал Уильяму Сесилу, который позднее получил титул лорда Берли. Его строительство началось в 1566 году в «скромном стиле». В письме к неизвестному другу от 14 августа 1585 года Сесил объяснял, как его дом превратился в нечто совершенно иное, чем изначально задумывалось: «Мой дом в Теобальдсе был начат мной по средним меркам, но разросся из-за частых визитов королевы. Чтобы угодить ей, я потратил больше, чем на его строительство. И при этом не обошлось без нескольких особых указаний Ее Величества. Из-за того, что ее спальня (которая для меня была вполне подходящей) показалась ей маленькой, мне пришлось увеличить комнату до больших размеров...»
Интересно было бы узнать, что сказала королева о маленькой убогой комнате, которую ей предоставили вначале, комнате, которая была вполне подходящей для Сесила — или, по крайней мере, так он говорил, возможно, с некоторой ноткой лицемерия. Но после ряда изменений, превративших этот дом в одну из достопримечательностей того времени, королева, должно быть, одобрила его, потому что посетила своего государственного казначея не менее дюжины раз за время своего правления, и каждый визит обходился ему примерно в 3 тысячи фунтов стерлингов.
Сэр Томас Грешем, финансовый волшебник, также не избежал критики со стороны Елизаветы, но по прямо противоположной причине. Королева пожаловала ему Остерли-парк, некогда принадлежавший аббатисе Сиона. Здесь Грешем выстроил великолепный дом, и в 1577 году, когда он был закончен, королева явилась, чтобы взглянуть на него. Дом заслужил ее одобрение, однако внутренний двор показался ей слишком большим, и она посчитала, что было бы лучше разделить его стеной. Высказав свои пожелания, она отправилась ужинать и спать.
Что же сделал сэр Томас? «Ночью он послал за рабочими в Лондон, которые быстро и тихо сделали свое дело, так что на следующее утро внутренний двор был поделен надвое, хотя еще прошлым вечером он был одним целым»(17). Так, по словам комментатора, «деньгам подвластно все». Елизавета, вероятно, спала очень крепко или дом был столь огромным, что королевские покои находились за мили от двора. В противном случае трудно поверить, чтобы она не услышала рабочих — и не обругала бы их на чем свет стоит. Но королеве понравились дом и разделенный стеной двор, так что она осталась на несколько дней.
Грешем организовал для нее роскошные развлечения. В их числе были верховые прогулки по новому парку, который появился в результате огораживания Хаунслоу-Хит. Там были гнездовье цапель и декоративные пруды. Перед королевой разыграли представление и устроили пир горой. Но произошел один несчастный случай: кто-то из местных жителей, возмущенный огораживанием, поджег изгородь нового парка. Это вызвало столь сильное раздражение королевы, что она упекла за решетку четырех человек. Она могла позволить себе высказывать недовольство, но никто другой не смел этого делать — и выйти сухим из воды.
Примеру лорда Берли и сэра Грешема последовали и другие люди и наперебой начали возводить огромные, замысловатые и причудливые дома; владельцы многих из них могли заявить, и часто справедливо, что «здесь останавливалась королева Елизавета». (По этой же причине некоторые деревенские кузнецы выставляли на продажу, хотя, возможно, не имея при этом веских доказательств, подковы, потерянные одной из многочисленных лошадей ее кортежа.)
* * *
Дома строили не только представители аристократии и богачи. Во все времена для строительства были необходимы две вещи — земля и деньги, а в елизаветинскую эпоху земля и богатство перестали быть достоянием узкого круга. Свободная земля появлялась в результате упадка и разложения феодального строя, а также конфискации монастырских земель. Первое происходило постепенно, второе — внезапно, но и то и другое случилось до 1558 года. Что касается денег, то некоторые подданные Елизаветы получили их в наследство, некоторые украли, а многие — заработали.
Однако строительство церквей и соборов было не для них. И дело не только в том, что средневековый период обеспечил их сполна этими сооружениями, но, вполне вероятно, и в том, что они не были уверены, как должен выглядеть некатолический храм. Они также не строили крепостей, укрепленных замков и обнесенных крепостной стеной поместий. Дома у них воцарился мир, и, кроме того, черный порох в полную силу проявил свои способности. Стены, на которые было так трудно взобраться, теперь легко можно было разнести из пушки, так что они — с бойницами и башнями — больше не гарантировали безопасность. Они были столь же бесполезны, как и украшения, поэтому подданные Елизаветы строили дома — огромное количество домов. И чем больше они богатели, тем более роскошными, витиеватыми, причудливыми и даже эксцентричными становились их жилища. Основанные на совершенно простом и ничем не сдерживаемом желании поразить глаз великолепием, «чудо-дома» часто были выражением неудержимого бахвальства своих владельцев, которые стремились показать собственное величие с помощью кирпича и камня.
Новое дворянство, мелкие сквайры и богатые торговцы отдавали предпочтение большим особнякам или поместьям, тогда как мелкие землевладельцы и йомены строили фермерские дома и коттеджи. Торговля шерстью перестала быть столь доходной, как прежде, поэтому королева мудро побуждала их перейти с разведения овец на пахотное земледелие. Это означало, что в поле требовалось все больше рабочей силы, и — как следствие — появлялось все больше небольших домиков и коттеджей. И хотя в середине столетия фермеры получали наличными не больше нескольких шиллингов, к концу века, несмотря на возросшую ренту, они начали процветать и могли позволить себе строить и обставлять новые дома.
Однако при Елизавете не возникло нового архитектурного стиля. Это был плод мезальянса между низкокачественной готикой, ранним стилем «Тюдор» и плохо понятым и грубым классическим стилем, который пришел из Италии, где Ренессанс уже вступил в стадию упадка, через Францию и Нидерланды, значительно при этом пострадав. В результате порой появлялись совершенно ужасные в архитектурном и декоративном плане отпрыски. Более того, строительство — особенно больших домов — часто происходило настолько неспешно, что в процессе возведения дом несколько раз менял свой облик, и если даже это не касалось планировки, то по крайней мере затрагивало детали. Понадобилось 30 лет, чтобы построить Лонглит[34], в то время как Кайр-парк, относительно небольшой дом, начали строить в 1588 году и еще не закончили, когда его владелец сэр Эдвард Питтс умер в 1б17-м, оставив по завещанию 2 тысячи фунтов на его завершение.
Конечно, тогда уже знали и использовали масштабные планы, но архитекторов в современном смысле этого слова не было. Иногда план дома покупали у придворного топографа, но еще чаще его составлял бригадир каменщиков. Он вместе со своими рабочими строил каркас дома и получал за это в среднем по 7 пенсов в день. Внутренней отделкой, потолками, стенами и лестницами занимался старший плотник со своей бригадой. Пока шло строительство, главный каменщик и плотник, как и хозяин дома, вносили новые идеи. Уильям Сесил и Эдвард Питтс лично выполнили несколько набросков для своих домов, чтобы сделать их более примечательными и выдающимися, если не сказать экзотическими. Все это действительно впечатляло людей того времени, однако для современных любителей архитектуры, пытающихся датировать тот или иной дом эпохи Елизаветы, создает значительные проблемы.
Возьмем, например, Лонглит в Уилтшире и Хардвик-холл в Дербишире. Эти дома совершенно не похожи, хотя оба были построены при Елизавете. Лонглит (см.илл.) был начат в 1554-м и завершен в 1567 году, и в тот же год сильно пострадал от пожара. Работы над ним снова начались в 15б8-м, а в 1575 году там останавливалась Елизавета, несмотря на то что верхний этаж особняка был, вероятно, еще недостроен. Лонглит, наверно, самый прекрасный образчик тюдоровской архитектуры очень короткого периода ее высокого Возрождения. Этот дом обладает уравновешенностью зрелости, в нем нет юношеской чрезмерности и старческой эксцентричности. Ему также не свойственны грубый эксгибиционизм прошлого и будущий декаданс. Он симметричный, гармоничный и сдержанный. Это четырехсторонний дворец без выпирающих углов, а игра света и тени на плоском фасаде достигается благодаря предусмотрительно расположенным пролетам. Он весь словно состоит из окон и сверкает роскошью. И в то же время ничто не нарушает спокойствия его внешнего облика, так как все лестничные башни и дымоходы находятся в двух внутренних дворах. Пожалуй, только эти два двора и уцелели после пожара в 1567 году. Благодаря своей сдержанной красоте Лонглит считается одним из самых выдающихся особняков елизаветинской эпохи.
На строительство Хардвик-холла ушло всего семь лет (1590—1597) (см.илл.). И он был построен женщиной, Бэсс Хардвикской, которая родилась на пятнадцать лет раньше Елизаветы и пережила ее на пять лет. Но более существенно то, что она пережила четырех своих мужей и, возможно, именно по этой причине могла позволить себе расходы на строительство.
Четыре раза супружеское ложе она согревала И каждый раз столь искусно, Что, когда смерть забирала мужа к себе, Он все свои деньги оставлял вдове.Бэсс обладала неспокойным характером. Говорят, что она была довольно отталкивающей, «гордой, неистовой, эгоистичной и жестокой; она строила, покупала и продавала имения, занималась ростовщичеством, сельским хозяйством, торговала свинцом, углем и лесом». Ее доход составлял около 66 тысяч фунтов в год — и в то время не было ни подоходных налогов, ни добавочных сборов, которые могли бы съесть какую-то часть ее прибыли.
Бэсс была неутомимым строителем: она построила Олдскот, Уорксоп, Болсовер и ранний Чатсворт (он был снесен в 1688 году), но Хардвик-холл остается величайшим из уцелевших памятников этой пожилой женщине, неприятной и властной, равнодушной и злой, вздорной, раздражительной и жестокой, но в то же время в каком-то смысле великолепной. Хардвик-холл был необычным, как и его хозяйка. В нем было много окон — как и в Лонглите, — но такого размера и в таком количестве, что поговорка «Hardwick Hall more glass than wall» («В Хардвик-холле больше окон, чем стен») выражает на первый взгляд все, что можно сказать об этом доме. На самом деле стены этого романтического и невероятного дома построены из великолепного золотого камня с прожилками. В отличие от Лонглита он не был похож на дворец. Квадратные башни, которые фактически представляют собой чрезмерно увеличенные эркеры, возвышают этажи здания, так что внешне дом напоминает скорее замок. Замок, которому расхотелось быть унылой крепостью, и он решил стать утонченным и элегантным, с налетом высокомерия, соответствующего его новому виду.
Здесь не было внутреннего двора. На самом деле дом был узким и длинным, скорее прямоугольным, чем квадратным, и его внутреннее убранство, как в большинстве роскошных особняков того времени, плохо соотносилось с внешним видом.
* * *
Тем не менее, если говорить очень обобщенно, главной чертой елизаветинской архитектуры была определенная симметрия фасада. Отказавшись от укрепленных стен, здания стали строить с большим количеством углов, что привело к появлению знакомых планов в виде букв Е и Н; хотя, конечно, наиболее ярые консерваторы продолжали строить дома с внутренним двором в стиле «Тюдор».
Выбор участка для дома был не менее важен, чем сам дом. Эндрю Бурд, врач, которого пастор Харрисон крайне не любил, дал несколько разумных указаний касательно выбора места для дома. Он решительно советовал отказаться от строительства возле зловонных прудов, рвов и каналов. Дом должен иметь четырехугольный двор, в котором будут размещаться жилища слуг и конюшни для верховых лошадей. Ворота должны располагаться напротив главного входа, но не строго на одной линии. Конюшни для рабочих лошадей, скотобойня, хлева и пивоварня должны находиться в полумиле от дома. Ров — если таковой имеется — следует наполнять свежей водой, регулярно чистить и не сбрасывать в него отходы с кухни и нечистоты. В поместье также должны быть огороды, фруктовый сад, парк, пара стрельбищ и площадка для игры в шары.
Большое поместье было почти самостоятельной деревней или городом в миниатюре, но оно вовсе не собиралось подражать Лондону обилием мусора и грязи. Френсис Бэкон, которого в большей мере интересовала природа человека, чем гигиена, однажды мудро сказал: «Тот, кто строит прекрасный дом на дурном месте, заключает себя в тюрьму». На взгляд Бэкона, дурное место — это место с нездоровым воздухом, труднодоступное, с плохой торговлей, плохими соседями, недостатком леса, воды, тени, укрытий и неплодородной почвой. Слишком близко или слишком далеко от больших городов, отсутствие условий для охоты и скачек — все это способствовало тому, чтобы место было признано дурным. Ведь в таких условиях человек мог бы точно так же находиться на корабле или сидеть в тюрьме, куда бедный Эндрю Бурд и в самом деле был заточен на некоторое время за колдовство.
Уильям Харрисон был не таким придирчивым. Он удивлялся тому, как много было построено новых домов, но был слишком сдержан, чтобы сокрушаться по поводу их качества. Эти современные дома, по его мнению, были несравнимы с теми, что строили во времена правления Генриха VIII, которого он называл довольно таинственно: «единственным Фениксом своего времени за качественную и надежную каменную кладку». Вспоминая старые добрые дни, когда строили крепко и на века, и глядя на непрочные постройки елизаветинского времени, Харрисон грустно заметил: «Хотя и сейчас есть много внушительных домов, возведенных в разных частях нашего острова, однако они скорее поражают необычным видом, словно бумажные постройки, но не отличаются надежностью и прочностью; тогда как, например, его (Генриха) здания превосходили их во всем, и поэтому им справедливо следует отдать предпочтение перед всеми остальными».
Во многих из этих новых «бумажных домов» должно было быть чертовски холодно, так как они были повернуты к северо-востоку. В то время люди твердо верили, что «южный ветер вредоносен и несет опасные испарения»(18). Однако те, кто строил коттеджи и фермерские дома, не были охвачены этими новомодными гигиеническими идеями и по-прежнему грелись на южной стороне. Но ренессансные черты, проявившись сначала в крупных особняках, постепенно проникли в более мелкие поместья, а затем в дома фермеров и даже коттеджи.
Небольшие особняки, усадьбы зажиточных городских торговцев, дома местных сквайров, новые дома йоменов — многие йомены были более состоятельны, чем мелкие дворяне того времени, — строили люди, которым вряд ли суждено было принимать у себя королеву, но они, вероятно, имели большие семьи и часто приглашали гостей. Именно им сельская Англия обязана большей частью своей типичной архитектуры. Однако размеры и внешний вид этих домов также удивительно разнились. Честлтон-хауз в Оксфордшире — почти совершенный пример позднего елизаветинского стиля, переходящего в якобитский. Эту миниатюрную копию большого поместья с внутренним двором построил преуспевающий фермер. Не так далеко от этого дома находится его полная противоположность — крохотный серый Оулпен в Глостершире. Маленький уединенный домик, окруженный гигантскими тисами, был построен намного раньше. Комптон Виниатс, сразу за границей Уорикшира, не был похож ни на один из двух предыдущих, разве что расположен приблизительно в том же районе. Он беспорядочно разросся в разные стороны, так как почти не имел никакого плана. Его постоянно достраивали то тут, то там, начиная с 1525 года. К счастью, Англия просто усыпана, или скорее украшена, мелкими особняками и домами. Многие из них теперь известны и знамениты, но есть еще множество других, спрятанных в небольших деревеньках, вдалеке от больших дорог и туристических маршрутов. А к некоторым из них ведет столь узкая, извилистая, изрытая и топкая зимой тропа, что житель того времени и даже сама Елизавета, окажись она в современной Англии, без всякого колебания с первого взгляда узнали бы и дорогу, и дом.
Конечно, никто не мог быть застрахован от внезапного появления королевы. Однажды субботним вечером 1572 года миссис Томас Фишер, живущая возле Кенилворта, села ужинать, когда к ней, совершенно неожиданно, прибыла Елизавета. Она решила заглянуть по-соседски, под влиянием минуты, на пути из Кенилворта в Уорик. Королева и ее свита присоединились к миссис Фишер за ужином, и затем Елизавета отправилась навестить бедного мистера Фишера, который «сильно мучился от подагры»(19). Мистера Фишера вывели в галерею, и он готов был опуститься на колени, или скорее «рухнуть на пол», но королева ему не позволила и «успокоила его самыми любезными словами». Королевская милость или шок от внезапного появления Ее Величества столь удивительным образом подействовали на подагру мистера Фишера, что в понедельник он сел в седло, присоединился к королеве и прискакал обратно вместе с ней, когда она возвращалась из Уорика в Кенилворт. Нам известно, что позже он раскаивался в этом своем поступке, но неизвестно почему. Это раскаяние никак не было связано с повторением приступа подагры, поскольку наш комментатор туманно заметил, что «характер мистера Фишера не был ни для кого секретом»(20), и на этом умолк. Совершенно очевидно, что у миссис Фишер был большой дом. На это указывают наличие галереи и тот факт, что все сопровождавшие королеву люди были сразу накормлены, так что мистер Фишер был, без сомнения, «великим» человеком по меркам той эпохи.
* * *
Фермеры занимались строительством сами или заказывали для себя дом. Не связанные больше манориальной системой, которая обязывала их поставлять продукты только для своего лорда и собственной семьи — и именно в такой очередности, — они вели активную торговлю в крупных городах и процветали. Сельское хозяйство стало индустрией, и в удачные годы наступал настоящий бум в строительстве фермерских домов. В неурожайные годы строительство прекращалось и, хуже того, тысячи людей голодали.
Сложность и особенность фермерских домов того времени — по крайней мере, для нас — объясняется местными материалами, которые использовались при строительстве. Крупные особняки, где бы их ни возводили, строили из обработанного камня, который привозили из-за границы, или из кирпича. Но фермерские дома и, в меньшей степени, коттеджи сообщают нам не только о богатстве владельца, но и о природе того края, где он жил. В восточных графствах, богатых лесом, кремнем и известковым песчаником, дома строили из дерева, промазанного глиной или цементом. Иногда дома снаружи оставляли деревянными, а иногда целиком штукатурили. Внешняя штукатурка, появившаяся только в XVI веке, предохраняла дом от воздействия плохой погоды и улучшала его внешний вид. Старые мазанки стали усиленно покрывать известковой штукатуркой — долговечным и прочным раствором с добавлением щетины и коровьего навоза. Однако эти фермерские дома северо-восточных и восточных графств столь же мало походили на «черно-белые» дома Честера, как каменные дома Норфолка на дома из известняка, построенные в горах северных графств. В Суссексе дома строили в основном из кирпича или камня, а затем обшивали деревом. В некоторых частях Эссекса, Мидлсекса и Херефордшира дома облицовывали деревянными досками. Позднее английские колонисты привезли эту идею в Новую Англию и построили там прекрасные дома и церкви, сумевшие выстоять несколько столетий.
В местах, где было мало леса, но достаточно камня, жилые дома, сельскохозяйственные постройки и ограждения на ферме почти целиком сооружали из камня. Черный гранит, такой мрачный и трудный для обработки, придал Корнуоллу его угрюмый таинственный вид. Замечательные дома Котсволдса (Глостершир) построены из золотого, серого и розового известняка. Однако в Девоне положение было сложнее. Там не было ни достаточно леса, ни камня, поэтому для строительства использовали смесь глины, гравия и соломы. Дома возводили на каменном фундаменте и покрывали соломой, нависавшей над домом, как нахмуренные брови. Эти постройки послужили не одному поколению.
Фермерские дома в эпоху Елизаветы строили из множества различных материалов, но их планировка не слишком различалась. В них была только одна комната в центре, что объясняло узкие пролеты высоких и крутых крыш, особенно в Котсволдсе. Нижний этаж здания был разделен на две, возможно, на три комнаты, тогда как фермер и его жена занимали спальню, стратегически расположенную наверху лестницы. Одна половина предназначалась для дочерей и служанок, а другая — для сыновей и слуг мужского пола. Перегородки были деревянными, и все комнаты сообщались между собой. Если в доме был чердак, где спал наемный рабочий, то снаружи туда часто вела отдельная лестница.
В городе, где пространство ценится слишком дорого, домов того времени осталось намного меньше. В Лондоне не сохранилось ни одного дома, целиком принадлежащего той эпохе. Особняк в одном веке, в следующем веке он становился магазином, а затем просто жилым домом, пока его в конце концов не разрушали пожар, бомбы или команда подрывников. Если же он сумел избежать всех этих опасностей и время вернуло ему былую «важность», им можно полюбоваться за небольшую плату.
При Елизавете население Лондона меньше чем за полстолетия увеличилось в два раза. За время ее правления Лондон превратился из старого города-крепости в оплот королевы и коммерческий и гражданский центр. Однако внутри городских стен по-прежнему были небольшие открытые пространства с садами, деревьями, внутренними дворами и конюшнями. Эти неровные серповидные участки, окруженные стенами, тянулись от Тауэра на востоке до грязной Флитривер на западе. Лодки энергично курсировали вверх и вниз по реке, так как в то время существовал только один каменный мост, соединявший восточную и западную части города. Кроме Лондонского моста было еще девятнадцать арочных мостов, — но когда вода поднималась высоко, ни одна лодка не могла проплыть под ними, — а также разводной мост и шлюз на юге реки, над которым выставляли насаженные на пики головы казненных преступников.
Сити с его мэром, гражданами и милицией в сущности был государством в государстве. Ни Елизавета, ни аристократия не имели здесь никакой власти, хотя они частенько занимали деньги у его граждан. Даже сегодня королева не может войти в Сити без разрешения лорд-мэра. После Войны Алой и Белой розы[35] Сити с облегчением приветствовал первого представителя династии Тюдоров. Он помогал Марии Кровавой во время бунта Уайатта и поддерживал Елизавету. Лондонский Сити и Тюдоры на самом деле хорошо ладили.
В Сити находились рынки Вест- и Ист-Чипа, Поултри, Ньюгейт-стрит, Корнхилл, Лиденхолл и Грейсчерч-стрит и в его северной части размещался промышленный квартал. Между Ист- и Вест-Чипом располагались дома знати и торговцев. Правда, еще до правления Елизаветы дворянство стало переезжать из средневекового города, оставляя его торговцам и промышленникам, и строило новые особняки возле королевского двора и Вестминстера и на окружавших его полях. Лондон простирался на узкой полосе вдоль реки от Шедвелла на востоке до Вестминстерского аббатства на западе. Он разрастался и на север, выходя за стены Сити на те земли, что когда-то были монастырскими, и на юг, параллельно реке. Челси, Баттерси и Бромптон были тогда окружены пашнями, деревушками, так же, как и Мериле-бон, Паддингтон, Ислингтон и Хокстон.
Сэр Томас Грешем предпочел построить свой новый дом внутри стен Сити, в Бишопсгейте, где однажды вечером в 1579 году с ним на кухне случился удар, и вскоре после этого он умер. Граф Лейстер возвел свой городской дом возле Уайтхолла, на Лейстерских полях, а Уильям Сесил выбрал место возле реки на северной стороне Стрэнда. Там он построил «прекрасный кирпичный дом, пропорционально увенчанный башенками, внутри его украшали любопытные и редкие устройства». Оба дома были очень похожи по планировке на загородные усадьбы того времени, только меньшего размера.
Однако жилище среднего лондонца было совсем другим — оно подчинялось простому плану, который сохранился еще со Средневековья. Перед домом был узкий палисадник, комнаты на каждом этаже выходили на улицу и во двор или в сад, находившийся позади дома. Эти постройки не слишком отличались от многих современных лондонских домов. В большинстве таких домов на первом этаже располагались погреб, лавка и кухня, затем шли еще два или три этажа и чердак. Многие дома были ужасно переполнены, там было темно, полно блох и крыс. В узких переулках между домами ночью прятались бродяги и воры, а днем, среди кухонных отбросов и экскрементов, играли дети.
Из-за нехватки пространства для строительства новым домам тоже приходилось следовать этой модели. Зажиточные торговцы среднего класса — в отличие от крупных магнатов — строили жилища, внешне ничем не отличавшиеся от этих узких домов. Снаружи такой дом можно было принять за два или три дома, хотя на самом деле он был один, несмотря на наличие двух или трех фронтонов и передних дверей. Похожие на «двойню» или «тройню» дома внутри были просторными, а позади них хозяева разбивали прекрасные сады. Трудно сказать, чем объяснялась приверженность такому плану строительства: то ли отсутствием воображения, то ли тайным нежеланием выделяться, то ли практичным опасением показаться слишком богатым.
Прекрасным образцом здания такого типа, относящегося к елизаветинской эпохе, является жилой дом Шерар Мэншн в Шрусбери. Снаружи он выглядит как три. В нем три этажа и все три яруса заканчиваются фронтонами, а верхние этажи нависают над улицей — чем выше, тем дальше, тогда как мелкие эркеры еще больше выдвигают их вперед. В подобных домах с выступающими этажами верхняя комната всегда самая большая и, как правило, ее отводят под гостиную. В целом дом построен в готическом стиле, но консоли, которые поддерживают — хотя на самом деле это только видимость — выдвигающиеся этажи, выполнены в ренессансной манере. Так что в Шрусбери можно увидеть настоящие елизаветинские дома.
Тюдоры установили законы и навели порядок на границе Уэльса, что принесло Шрусбери и окружающим его районам процветание. Местные жители торговали шерстью и льном с Уэльсом и, благодаря тому, что река Северн была судоходной на протяжении сорока миль, они также вели множество дел с Глостером и Бристолем. В разбогатевшем Шрусбери было построено прекрасное здание для торговцев мануфактурными товарами, каменное здание рынка и большое количество деревянно-кирпичных домов. Они могут рассказать нам намного больше о том, каким был город времен Елизаветы, чем великий и могущественный Лондон.
* * *
Вид загородных домов, независимо от их величины и важности, значительно изменился за эти полвека. Большой холл — отличительная черта Средневековья и стиля «Тюдор» — утратил свое значение как главной столовой и гостиной. Теперь его иногда обшивали панелями, и он превращался в парадный холл, из которого на верхние этажи вела большая лестница с резной балюстрадой и колоннами, часто выкрашенная в какой-нибудь цвет. Здесь, на верхнем этаже, находилась длинная галерея, которая стала главным пространством дома. Освещенная, как правило, только с одной стороны, она стала характерной чертой елизаветинских домов второй половины XVI столетия. Генрих VIII построил галерею с одиннадцатью окнами вдоль восточной стены во дворце Хэмптон Корт. В окна было вставлено стекло, расписанное геральдическими символами, а сверху шли лепной бордюр и расписной и золоченый карниз, который соединялся с богатым рельефным потолком, украшенным «1256 блестящими золотыми шариками и позолоченными листьями»(21). Возможно, что именно здесь Генрих — одетый во все желтое с белым пером в головном уборе — отплясывал на следующий день после смерти Екатерины Арагонской[36]. По его словам, он надел желтое в знак траура — и, танцуя, держал на руках рыжеволосую девчонку, Елизавету, а та хохотала от удовольствия.
В любом случае, во время правления Генриха галереи еще не были распространены, и венецианский посол при его дворе счел их заслуживающим внимания новшеством, поэтому и описал в официальном донесении правителям Синьории, а венецианцы были очень внимательны к деталям. «Галерея, — сообщал он, — представляет собой длинный портик или коридор без комнат, с окнами на каждой стороне, выходящими на сады или реку, ее потолки чудесно украшены камнем и золотом; и на внутренней обшивке резного дерева изображены тысячи прекрасных фигур». Под фигурами здесь понимается не человеческий облик, а различные узоры.
Новая деталь дома — длинная галерея — дала елизаветинцам возможность щедро продемонстрировать свои богатства. Но, несмотря на богатство и великолепие потолка, стен и окон, галерею было очень трудно отапливать, так что помимо одного или нескольких каминов зимой для этой цели использовали переносные жаровни. В дождливую погоду галерея превращалась в то, что американцы называют «комнатой для игр и развлечений». Там часто устраивали маскарады, играли в игры, танцевали и слушали музыку, фехтовали на рапирах или даже на палашах. Там прогуливались зимой, когда в окна бился дождь, порывистый ветер завывал в дымоходах и недостаточно мощные печки давали больше сажи, чем тепла. Большой холл и галерея были публичными комнатами, поскольку великие елизаветинцы вели активную общественную жизнь и получали от этого удовольствие. Но комнаты для членов семьи и гостей, столовые и кабинеты тоже стали привычной частью домашней планировки.
«Размещай свой кабинет над холлом», — советовал Эндрю Бурд еще до 1558 года(22). Он рекомендовал размещать кладовую для продуктов в глубине дома, рядом с ней кухню, а также кладовые для кондитерских продуктов и мяса. Так кабинет превращался в уединенное и относительно спокойное место. Конец холла, где располагалась кухня, был отгорожен ширмой, которая скрывала двери, ведущие на кухню и в кладовые. Что касается личных помещений — таковыми были спальня и приемная, — то дом нужно было строить действительно просторным, чтобы обеспечить ими всю семью, в которую входила также и челядь. Личные комнаты обычно строили вокруг внутреннего двора.
В Теобальдсе жили тридцать человек, каждый из которых, по-видимому, имел свою комнату. Там также был холл примерно в 60 футов длиной и 30 футов шириной, в котором «находилась очень высокая гора, сложенная из натуральных камней разного цвета, и из нее изливался великолепный фонтан; вода из него стекала в большую круглую чашу, или бассейн, который поддерживали фигуры двух дикарей»(23). Каждую сторону холла украшали шесть искусственных деревьев с листвой, натуральной корой, птицами и фруктами, выполненных так искусно, что их было «невозможно отличить от настоящих деревьев».
Теобальдс был одной из величайших построек Англии, от которой, к сожалению, ничего не осталось. Нам известно, что там были башни и пять внутренних дворов, которые необходимо было миновать, чтобы попасть с Лондонской дороги в дом. Последним был закончен внутренний двор с фонтаном. В зданиях, окружавших остальные дворы, было достаточно комнат, чтобы разместить там королевский двор. Дело в том, что в Теобальдсе, или Тиббалсе, как его называла Елизавета, она принимала послов. И везде, куда бы она ни отправлялась, на ее пути были толпы просителей. Говорят, что хотя она часто плохо обращалась со своими придворными, раздавала им тумаки, теряла самообладание и впадала в гнев, к простым людям, кем бы они ни были и где бы ни находились, относилась с величайшей добротой и мягкостью. Она улыбалась им, слушала, успокаивала — и похищала их сердца.
Сохранилось описание Теобальдса, приведенное в отчете королевского землемера в 1650 году — во время протектората, когда он и был разрушен. Теобальдс сменил владельца за много лет до того, как сын Сесила, граф Солсбери, передал его Якову I в обмен на Хэтфилд-хауз и поместье, бывшие собственностью короны. К тому времени, возможно, здание уже претерпело значительные изменения, однако в отчете говорится о двух главных четырехугольных дворах, окруженных строениями, часовом дворе, о дворе для провианта и голубятне. В отчете сообщается, что площадь двора с фонтаном составляла 86 квадратных футов и на его восточной стороне была построена крытая галерея. На нижнем этаже здания находился Большой холл со сводчатой деревянной крышей и «необычной резьбой». На том же этаже размещались главные комнаты, гостиная и приемная. Этажом выше находилась королевская комната и к ней примыкали гостиная, уборная, королевская спальня и галерея длиной в 123 фута. На третьем этаже располагались комнаты с террасами и галереями на крыше. В других дворах тоже были похожие апартаменты и отделенные от них богатые комнаты. И в дополнение к четырем башням там, по-видимому, была еще одна большая башня, располагавшаяся «посередине и над остальными», выполненная «в форме фонаря, каждый угол которой увенчивали разные башенки; там были подвешены двенадцать колокольчиков для перезвона и часы с курантами и всякой всячиной». Этот отчет был составлен спустя девяносто лет после постройки дома и теперь уже невозможно судить, насколько его описание соответствует Теобальдсу, построенному лордом Берли.
Сесил значительно перестроил Берли-хауз в Нортгемптоншире, но, как написал в письме другу, «возвел стены» на старом фундаменте, сохранившемся с одной стороны: ведь «это оставил мне мой отец». По сравнению с Теобальдсом этот дом с большим передним фасадом и башнями по обе стороны казался более консервативным и традиционным. Там была еще одна большая башня, которая заканчивалась украшенной обелисками площадкой для часов, увенчанной опять же обелиском.
Обелиски использовались очень часто не только как архитектурное украшение, но и для отделки не менее красивых, но значительно уступающих в размере сооружений, построенных, чтобы принять великих — и не очень — подданных Елизаветы, после того как смерть отделит их душу от тела.
Сесил, как полагали некоторые, предпочел Берли-хауз другим своим домам, потому что надеялся, что впоследствии его сын Роберт «сможет его содержать, учитывая, что в этом графстве найдется дюжина домов большего размера, которые принадлежат людям, находящимся ниже меня по рангу и положению». Берли-хауз был великолепным особняком, и заявление, что в то время в Нортгемптоншире можно было увидеть дюжину еще более выдающихся домов, является для нас свидетельством того, какого размера и в каком количестве тогда возводили подобные здания — причем люди менее великие, чем государственный казначей.
Архиецископ Кентерберийский был не так богат и обладал более скромным жилищем, поэтому когда в 1574 году Елизавета нанесла ему визит в его летнем дворце в Кройдоне, казалось, что до ее приезда там царил полный хаос, так как его слуги просто сбились с ног, пытаясь пристроить ее длинный кортеж. К списку блистательных гостей прилагалась сердитая записка, в которой говорилось о возникшей проблеме с размещением. Она была подписана Дж. Бауером, одним из придворных королевы. «Для королевских слуг, — писал он, — я не могу найти ни одной подходящей комнаты, чтобы их разместить, но я сделаю все возможное, чтобы куда-нибудь их пристроить». Там была такая неразбериха, что пока не были произведены некоторые перестановки, личные камердинеры и мистер Драри могли попасть к себе только через комнаты леди Оксфорд. Что касается мистера Хэттона (того Кристофера Хэттона, о котором говорили, что ему потребовалось двадцать лет, чтобы танцами добиться расположения королевы), Дж. Бауер вообще не знал, куда его пристроить. Для несчастной леди Кэрави не нашлось комнаты с камином, поэтому ей пришлось ночевать не во дворце, а «рядом с миссис Пэрри и остальными служанками». Что до миссис Шелтон, одному Богу известно, где ей пришлось спать. Мистер Бауер решил попытаться найти для нее место где-нибудь в Кройдоне. «Это все, что я способен сделать в этом доме», — на этой полной безысходности фразе записка заканчивается.
Кроме комнат для гостей, в особняке должны были быть апартаменты для королевы. В начале ее правления — и до того, как началось строительство соперничающих между собой по богатству домов, — эти комнаты были небольшими и скудно обставленными (иногда обходились Большим холлом), но к концу правления королевские апартаменты стали просторными, роскошными и порой даже слишком богато обставленными.
Несмотря на все это показное величие, водопровод и канализация того времени оставляли желать лучшего. Воду брали из водоемов и колодцев, а в больших особняках — из фонтанов. Но в деревне водоснабжение было не такой большой проблемой, как в городе. В Лондоне и других крупных городах для доставки воды использовали узкие вверху и широкие у основания деревянные ведра, скрепленные железными обручами. В то время была весьма распространена профессия водоноса. Те, кто мог себе позволить заплатить, нанимали водоносов, чтобы они обеспечивали их дом водой, те, кому это было не по карману, сами таскали тяжелые ведра.
Сложнее, чем с водоснабжением, была ситуация с санитарией. В старых, обнесенных рвами замках, поместьях и в расположенных у ручьев или рек домах все эти водоемы использовались как открытая канализация. Те ужасные маленькие комнаты в башнях с дырой в полу, откуда нечистоты падали в ров или соединенную с ним канаву, были средневековым вариантом туалетов. Правда, в новых постройках того времени снова стали использовать ведра и для них выделяли отдельную комнату или комнаты. Слуги в больших домах пользовались общей уборной.
Кент, обращаясь к Освальду в «Короле Лире», говорит: «Милорд, позвольте, я сотру его в порошок и выкрашу им стены нужника»[37]. Для обозначения нужника тогда использовали слово «jakes», а слуги, которые следили за ведрами, были известны как люди свалки или отходов. Свалка была общей навозной кучей, куда обычно выливали содержимое этих ведер, если до этого не выплескивали его перед дверью, как это часто случалось, несмотря на многочисленные запреты.
Любопытно, что ватерклозет был изобретен в 1596 году и не кем иным, как сэром Джоном Харрингтоном[38], этим «дерзким поэтом, моим крестником», как называла его королева.
Харрингтон известил всех о своем изобретении с помощью произведения, которое чопорные викторианцы окрестили «неописуемо клоачной сатирой». В действительности эта сатира называлась «Метаморфозы Аякса», кроме того, были еще и некоторые памфлеты, например «Улисс против Аякса». В этом просматривался остроумный намек на jakes. Харрингтон был весьма обаятельным и остроумным человеком и, хотя часто навлекал на себя недовольство королевы, обожал свою крестную мать, а она — его. Его идеи санитарии намного опередили время.
Недовольство примитивными приспособлениями той эпохи заставило Харрингтона начертить схему своего изобретения и даже рассчитать стоимость! Чтобы показать, что в верхнем бачке должна быть вода, он нарисовал там нескольких рыб. Харрингтон тщательно просчитал затраты: бак из кирпича или из камня — 8 шиллингов[39] и 6 пенсов; труба, выходящая из бака «с пробкой для смыва», — 3 шиллинга и 6 пенсов; сливная труба — 1 шиллинг; «рукоятка большой пробки с рычагом» — шиллинг и 6 пенсов. Каменное «сиденье для туалета» стоило столько же, сколько и бак, а самым дорогим был большой медный водовод — сливной шлюз, «через который поток в три дюйма устремляется в туалет». Он стоил 10 шиллингов. Как нам известно, сиденье было снабжено «возвышениями для локтей». Общая стоимость устройства составляла 33 шиллинга — но секретарь изобретателя сообщает, что «каменщику моего хозяина предложили за подобное устройство 30 фунтов».
К счастью, королеву не оскорбила эта «сатира клоаки», и модернизированный туалет установили в Ричмондском дворце.
Тем не менее это революционное изобретение не вошло в общее пользование, и о нем вспомнили только 182 года спустя[40]. Так что уже к XVI веку успела сформироваться типичная английская подозрительность к нововведениям, особенно в том, что касалось водопроводов и отопления. (Честно говоря, французы в этом отношении были еще более отсталыми. Сухой туалет внутри здания стал известен во Франции только в XVIII веке, когда он появился в качестве «английского новшества».) Но еще более поразительно, что мужчин предупреждали не мочиться в камин, но не потому, что считали это дурным тоном, а чтобы избежать неприятного запаха. Для отправления естественных потребностей в спальнях держали ночные горшки — Jordan. Горшки большого размера изготавливали из сплава олова со свинцом.
* * *
По-разному решались и проблемы отопления домов. Несмотря на то что Эндрю Бурд настоятельно советовал обогревать спальные комнаты, во многих из них, вероятно, было очень сыро, так как он предостерегал об опасностях, поджидавших тех, кто спал в старых комнатах, населенных крысами, мышами и улитками. Для обогрева помещений богатые люди начали устанавливать в своих домах печи (в Виндзорском замке было две печи). Комнаты с печным отоплением были предназначены не для того, чтобы там «работать или питаться, а чтобы потеть», сообщает нам Уильям Харрисон. Но тем не менее именно в XVI веке родился один из вариантов парового отопления. Сэр Хью Платт[41] придумал проводить тепло с помощью труб, отходящих от кухонного бойлера. Тепло — опять же это могло прийти в голову только англичанам — было предназначено не для отопления дома, а подводилось к разного рода растениям, чтобы они могли цвести вне зависимости от погоды.
Недостаток отопления в известной степени компенсировался летними и зимними гостиными. Первые строились так, чтобы там всегда были тень и прохлада, а вторые — на солнечной стороне. Френсис Бэкон даже советовал иметь «комнаты, согреваемые солнцем, для первой и второй половины дня»(24). В представлениях Бэкона об идеальном дворце — предназначенном, чтобы развлекать правителя, — перемешались идеи римлян, ренессансные и восточные традиции: одна сторона для праздников и торжеств, другая — для жилья; впереди «величавая башня», галерея высотой в сорок футов, погреб, внутренние дворы, холл, комнаты и спальни с прихожими и соединенными с ними кабинетами, и даже лазарет на тот случай, если «суверен или какая-то важная особа вдруг заболеет». Он также советовал построить две маленькие комнаты с «роскошными куполами», которые следовало «изысканно вымостить и богато украсить коврами и прозрачным стеклом».
Стекло к тому времени настолько подешевело, что полностью вытеснило масляные холсты, картины, украшения из рога или решетки, по замечанию Харрисона, «выполненные из лучших или худших сортов дуба в виде шахматной доски». Окна вследствие этого становились все больше и больше, и хотя в домах раннеелизаветинского периода не так уж редко можно было встретить готические окна, типичной для того времени была простая решетка — вертикальные фрамуги, горизонтальные средники с квадратными или в форме бриллианта свинцовыми переплетами между ними. Такие окна прямоугольной формы с готическими карнизами или классическими лепными украшениями добавляли внешнему облику дома симметрию, а интерьеру — освещение.
Применение угля для хозяйственных и промышленных целей также повлияло на внешний и внутренний облик дома. Каминные трубы, которые прежде казались фантастическими скоплениями гигантских спиралей, приобрели прямоугольную форму и стали напоминать классические колонны. Сгруппированные по две или по три, они выделялись на фоне неба вместе с новыми парапетами, обнесенными балюстрадой или решетками, изогнутыми и зазубренными фронтонами, декоративными башенками и обелисками. На самом деле, фантастические фронтоны, парапеты, украшенные колоннами и антаблементами фасады придавали многим новым домам экзотический и причудливый вид.
Раньше в скромных жилищах была только дыра в потолке, через которую выходили коптящий дым и ядовитые пары, а также выскакивали искры, часто воспламенявшие соломенные крыши, хотя по закону их следовало поливать известью, чтобы обезопасить от огня. Теперь этого было недостаточно, и в городе начал расти просто лес каминных труб. И если «ранее каждый разводил огонь в своем очаге в холле, где он обедал и разделывал мясо»(25), то теперь углубленные камины появились во многих комнатах.
Харрисон, как и следовало ожидать, не одобрял это внезапное увлечение очагами и каминами. Без сомнения, дом приходского священника зимой был ужасно холодным, но он полагал, что это только на пользу здоровью. По его мнению, огромное количество очагов представляет угрозу для здоровья и морального духа нации. «Сейчас у нас много каминов, — пишет он, — и в то же время наши дети жалуются на насморк, простуду и катар». И, вспоминая времена правления Генриха VIII, он добавляет: «Тогда у нас были только очаги в холле, и мы никогда не страдали от головной боли. Поскольку в то время считалось, что дым благотворно действовал на деревянные панели дома, то также полагали, что он был куда лучшим средством для поддержания здоровья хозяина дома и его семьи, чем какие-то знахари».
Плотный густой дым, заполнявший комнату, кажется, не только прекрасно предохранял дерево от порчи и лечил головные боли, но, должно быть, так прокоптил хозяина и его семью, что ни приличная простуда, ни бактерии инфлюэнцы не смогли бы зацепиться на закопченных слизистых оболочках их носа или горла.
Однако елизаветинцы не обращали внимания на эти предупреждения и пренебрегали опасностью заболеть простудой, потому что усмотрели в этих новых каминах еще одну прекрасную возможность проявить свою страсть к украшательству. Каминные доски стали самой важной деталью комнаты — и к тому же очень личной, поскольку их часто украшали инициалами владельца дома и его изображениями. Невезучий сэр Эдвард Питтс, который потратил двадцать семь лет на строительство дома и умер незадолго до его окончания, заказал две резные каминные доски для больших каминов. Одна должна была рассказывать историю Сусанны[42], а на второй были изображены Венера и Марс — она обошлась ему в 50 фунтов стерлингов.
Повальное увлечение каминами объясняется тем, что на смену старомодным плоским тюдоровским очагам пришли прямоугольные проходы. Так что очаг, который перестал неуклюже выдаваться в комнату, предоставил дополнительное пространство для отделки. Иногда каминные доски состояли из трех ярусов и напоминали роскошные ворота или экстравагантное сицилийское надгробие. Колонны или кариатиды — а иногда и те и другие одновременно — поддерживали антаблемент и верхний уровень, который украшали гипсовыми или деревянными панелями — резными, расписными и позолоченными. Часто сверху размещался еще один уровень с резными панелями, который увенчивали статуи. (см.илл.: _1 и _2)
Религиозные сюжеты были не менее популярны, чем классические — на резной панели над камином в Грейт Фулфорд-хаузе изображена сцена искушения Адама и Евы. Несчастная пара стоит под деревом, которое напоминает маяк, увенчанный листьями капусты, в окружении нескольких странных животных, и они так безнадежно и злополучно опутаны кольцами нескольких змей, что вся картина напоминает статую Лаокоона.
Такие большие камины нуждались в соответствующих аксессуарах, поэтому железные плиты из недавно возведенных литейных заводов в Суссексе, которые предохраняли стены от разрушения, пользовались спросом. Они имели рельефные края, их часто украшали изображениями птиц и цветов, перекрученными лентами или пилястрами, а также ставили даты и инициалы.
Эта традиция коснулась и железных подставок для дров в камине. Простые и красивые дровницы на вертикальных опорах, закручивающихся в завиток, которые были в ходу в Средние века, больше не устраивали изобретательных елизаветинцев. Поэтому опоры часто принимали форму колонны, стоящей на сильно искривленных ногах. Естественно, как сама колонна, так и изогнутые ножки украшались декоративными деталями, которые иногда использовали для присоединения ножек к основанию. Но порой основание делали в виде законченной фигуры. Некоторые из них выглядели довольно отталкивающе и напоминали сплющенных кариатид.
Для облицовки каминов очень любили использовать привозимый из заграницы цветной мрамор, а холлы богатых домов украшали полы в черно-белую клетку, выполненные из черного и белого мрамора. В фермерских домах были глубокие камины с балкой наверху, на которой иногда указывали инициалы владельца и дату, а каменные плиты клали прямо на землю. В коттеджах, как правило, обходились без камня.
Внутри дома стены теперь покрывали дубовыми панелями или, если дом был каменным, украшали лепной штукатуркой или тисненой кожей. Но как снаружи, так и изнутри стены были чрезмерно декорированы. Вместе с классическими колоннами и пилястрами появлялись толстые столбы крайне сомнительного дизайна. Неуемная фантазия беспощадно смешивала готическую геральдику, пухлых купидонов и гротескные фигуры с переплетающимися орнаментами. Последние были любимым украшением того времени. Они возникли в светлых декоративных мотивах итальянского Возрождения, но слишком долго пробыли в Антверпене, прежде чем пересечь Ла-Манш. В качестве прикладного украшения, каким было их первоначальное назначение, они были красивыми, нарядными и утонченными. Но, огрубленные немецким духом, они утратили внутреннюю логику и красоту. Орнаментом покрывали английский или еще чаще привозной скандинавский дуб, украшали им красный кирпич или камень, и с неумным энтузиазмом использовали повсюду как внутри дома, так и снаружи.
Среди домов, построенных во время правления Елизаветы, были совершенно феерические. Некоторые из них существовали только на бумаге — как план дома, придуманный Джоном Торпом[43], чертеж которого был основан на его инициалах. Вид этого дома даже трудно себе представить, но он был бы еще более невероятным, если бы Джон писал свое христианское имя с буквы J, а не используя латинское I.
Лонгфорд Кастл в Уилтшире, построенный сэром Томасом Горджесом в 1580 году, символизировал Троицу — он был треугольной формы с башней в каждом углу. Башни — Отец, Сын и Святой Дух — соединялись тремя центральными блоками, в которых повторялось «non est», а все «est» вели к центральному «Deus».
Сэр Томас Трешем[44] был еще одним елизаветинцем, которым овладела страсть к символизму в архитектуре. Его Маркет-хауз в Ротволле представляет собой памятник гербу, который носили он и его друзья. Его план также был основан на принципе триединства. Каждая из трех сторон дома увенчивалась треугольными фронтонами. На крыше виднелись треугольные каминные трубы, и все окна либо имели форму трилистника, либо состояли из них. Перекладина дверной рамы была той же формы. Дом был закончен в 1596 году, и в тот же год неутомимый Трешем начал строительство Хоукфилд Лодж. Последний, к сожалению, не сохранился, но нам известно, что это было здание с двенадцатью сторонами и четырьмя выступами, придающими ему крестообразную форму. И хотя до нас не дошли объяснения этого символа, мы рискнем предположить — и возможно, такие предположения уже выдвигались, — что двенадцать сторон символизируют апостолов, а выступы — четырех евангелистов.
В архитектурных решениях обоих строителей проявилось одновременно что-то очень личное, индивидуальное и совершенно необычное, а их действия соответствовали жизненным взглядам жителей той эпохи.
Глава третья Покой в стране — комфорт в доме
Для англичанина XVI столетия не было ничего столь же милого его сердцу, как многочисленные спектакли, маскарады и пышные шествия, и чем больше в них присутствовало аллегорических, мифологических, исторических и библейских фигур, тем лучше. Процессия, прошедшая по всему городу в день коронации Елизаветы, предоставила ее восторженным подданным возможность превратить весь город в подмостки для этого великолепного шоу("26").
Звездой празднества являлась сама Елизавета, которая, по-видимому, была такой же страстной поклонницей представлений, как и ее народ. Процессию открывали трубачи и облаченные в латы герольды. Королева проехала в двухколесном экипаже по преображенным улицам в окружении джентльменов, баронов и знати, а также ехавшей верхом дамской свиты. Все они были одеты в темно-красный бархат, а лошади были покрыты попоной из той же ткани. Балдахин над головой Елизаветы держали рыцари; одним из них был ее брат сэр Джон Перро[45], сын Генриха VIII.
Естественно, все дома и здания на пути процессии были роскошно украшены и увешаны шелками, бархатом, гобеленами и коврами, но самое яркое впечатление производили раскинувшиеся над несколькими улицами огромные многоярусные триумфальные арки, прославлявшие исключительные достоинства новой королевы.
Первая арка находилась в конце Грейсчерч-стрит и состояла — как и дворцовый буфет — из трех ярусов. На нижний ярус поместили две гигантские розы — красную и белую. В центре красной розы был изображен Генрих VII, а в центре белой — Елизавета Йоркская[46], в честь которой была названа новоиспеченная королева. Единственная ветвь отходила отсюда на второй ярус, где центр комбинированной красно-белой розы украшала фигура Генриха VIII. Рядом с ним была Анна Болейн, и в глаза бросалось ее обручальное кольцо. Дальше стебель вел к самому верхнему ярусу, где фигура в королевской мантии представляла новую королеву во всем ее блеске. Таким образом, первая арка осторожно и тактично указывала на происхождение и легитимность нового правителя, а следующая с помощью латинского и английского текста провозглашала «Основание достойного правления». Под изображением Елизаветы, занимавшим верхний ярус, семь главных добродетелей расправлялись с семью страшными грехами, среди которых были Невежество и Идолопоклонничество — их поместили сюда не столько ради них самих, сколько в отместку предыдущей правительнице Марии Тюдор.
На Соперс-лейн зрители могли полюбоваться, как дети изображают восемь блаженств, приписываемых Елизавете, и восхваляют ее в стихах.
Ты была восемь раз благословлена, о славная королева, Кротостью твоего духа, когда тебя окружили заботы...В значении арки, раскинувшейся над Литл-Кондуит в Чипсайде, ошибиться было невозможно. Здесь были представлены ничтожное прошлое и богатое настоящее и будущее страны. Ниже находилась темная пещера, откуда при приближении королевы появились Время и ее дочь Истина, державшая в руках Библию на английском, которую она спустила на шелковом шнуре королеве, когда та приостановилась под аркой.
Елизавета не разочаровала толпу, выстроившуюся вдоль улиц, по которым проезжала процессия, чтобы поприветствовать новую королеву. Люди непрерывно останавливали ее повозку, чтобы перекинуться с ней словом или положить букетик цветов или веточку розмарина. Она подняла Библию, подвешенную, как паук на своей паутине, поцеловала ее, подняв глаза к небу, и прижала к груди. Королева поблагодарила город «за этот дар больше, чем за оказанные почести».
Итак, процессия продолжала свой путь. Дебора[47] — судья Израиля, выглядевшая немного странно в парламентском облачении, со скипетром в руке появилась с одной стороны, а с другой — компании Сити. Они внесли разнообразие в представленную на арках суровую мораль, вручив королеве кошель с тысячью золотых марок[48], и сопроводили свое подношение речью. Королева благосклонно приняла его и ответила на речь «удивительно метко».
Наконец процессия достигла ворот Темпл-Бар, у которых ее встретили два хранителя Сити — Гог и Магог (или, как считают некоторые, Гогмаг Альбиона и Кориней Британии), которые покинули свои места в ратуше и встали по обе стороны Темпл-Бара. В стихах, составленных на латыни, они еще раз объяснили королеве значение и смысл всех сцен, которые ей пришлось увидеть.
И дело было вовсе не в опасении, что Ее Величество могла их неправильно понять, ведь представления были прозрачными и ясными, к тому же на каждой арке был прикреплен текст, разъясняющий ее значение, и сидел ребенок, чьей обязанностью было раскрывать смысл действа при помощи занудных латинских стихов. Причина была в том, что представления и шоу, которые организовывали елизаветинцы, нельзя было назвать изысканными. Совсем наоборот, англичане были склонны к скучным бесконечным повторениям, а погоня за выразительностью приводила к вульгарным, грубым и уродливым искажениям. Это было простодушие, доведенное до абсурда.
* * *
Непомерная любовь англичан к маскарадам и шоу, спектаклям и всякого рода представлениям сильно повлияла на декоративный стиль и интерьеры той эпохи. Не только каминные полки, но и многие другие предметы обстановки большинства богатых и известных особняков того времени выразили в своем декоре то, что было умно названо «представлениями в дереве, камне и гипсе»(27). Некогда простую мебель стали покрывать бесконечным количеством повторяющихся пышных украшений, а чрезмерное выделение функциональных частей в конце концов привело к тому, что стремление к красоте выродилось в чудовищный перекос. Если бы елизаветинские дома были так же забиты мебелью, как позднее викторианские, мы бы без колебания назвали этот период самым ужасным в истории мебели. До нашего времени дошли, как обычно, самые ценимые в ту эпоху экземпляры. К сожалению, то, что сохранилось, иначе как разукрашенным слоном не назовешь.
Несмотря на все свои добродетели и положительные качества, утонченную музыку и восхитительную поэзию, елизаветинцы имели больше денег, чем вкуса. Строгая готика, изысканные лестницы, сдержанные украшения и предметы туалета были признаны demode[49]. Сила и красота резных работ XIII—XV столетий, столь восхищающие нас сейчас, выродились и огрубели. Новому богатому, штампующему деньги поколению формальная красота тканевых отделок, резьба и украшения в виде цветов и традиционный мотив с виноградной лозой, должно быть, показались устаревшими. Так что простые плоские очертания и формы стали заполнять листья, завитки, розетки, грубо выполненные фигуры греческих богов и мифологических персонажей и вычурные колонны.
Елизаветинцы так и не смогли понять и усвоить пять ордеров — ионический, дорический, коринфский, тосканский и композитный — как архитектурную систему. Возможно, это их просто не интересовало или они не хотели об этом задумываться. А может быть, они слишком спешили приняться за дело или жаждали удивить и ошеломить всех с помощью диковинок и гротескных орнаментов, но в любом случае результат оказался плачевным. Раздутые и искаженные вариации этих пяти ордеров изуродовали практически все — от ножек стульев до изголовья кроватей. И тем не менее итальянский стиль, огрубленный фламандским духом и воплощенный в прочном — не английском, а датском — дубе, вызывал восхищение модных и богатых елизаветинцев.
На самом же деле их вкусы отражали настроения и дух той эпохи. В политике королева сама сочетала английские цели с итальянскими идеями и методами, и популярный в то время стишок «An Englishman Italianate is a Devil incarnate» («Итальянизированный англичанин — воплощение дьявола»), хотя и подразумевает политический курс, может быть с равным успехом отнесен и к мебели. К счастью для нас, сельские районы, в большей или меньшей степени, не были испорчены этими модными веяниями. Сельский плотник или столяр, ремесленник или плавильщик продолжали производить красивые товары с правильными пропорциями. «Простую мебель», как называл ее Харрисон, по-прежнему можно было найти «в Бердфоршире и далее повсюду от наших южных частей».
Харрисон явно приветствовал вычурность в мебели, хотя и осуждал ее в одежде. Он говорил: «Убранство наших домов превзошло и в некотором роде переросло мимолетную утонченность; и здесь я имею в виду не только дворянство и джентри, но также и более низкие сословия — меня охватывает ликование при виде того, как Бог благословил нас своими дарами, и пока я наблюдаю это, цена на все вещи выросла до самой высокой отметки — и в то же время мы находим средства, чтобы приобрести и заполучить такую мебель, какая раньше была просто невозможна».
Но до последней четверти XVI столетия было немного домов, если не считать крупные особняки, целиком меблированных в этом «невозможном» стиле. Даже комнаты, убранство которых относилось только к одному периоду, встречались довольно редко. Мебель, которой всегда не хватало и которую строили основательно, передавалась из поколения в поколение. Так, например, Шекспир завещал свою «вторую лучшую кровать» вместе с убранством своей жене. Совершенно очевидно, что Шекспир столь же интересовался мебелью и одеждой, как и любой другой житель того времени. Его пьесы изобилуют удачно подмеченными деталями как в мебели, так и в одежде, а его завещание сообщает нам о принадлежавшей ему недвижимости и о личных вещах. Но его завещание было подписано 25 марта 1б1б года, через тринадцать лет после смерти Елизаветы, и к тому моменту мебель была уже не такой скудной, но выглядела еще ужаснее.
Всего за тридцать пять лет до этого, в 1580 году, в замке Эрандел, который считался очень богато обставленным, в «королевских покоях» были только кровать, стол и стул. А в 1585 году заезжий торговец Сэмюэль Кайшел сообщал, что «королевские богатства и гобелены находятся только в одном месте — там, где в данный момент проживает королева; когда же она переезжает в другое место, все забирают с собой, оставляя только голые стены». Поэтому нет ничего удивительного в том, что Елизавета путешествовала с 400 повозками и 2400 лошадями.
Как позднее елизаветинский стиль постепенно перешел в якобитский, так и в обстановке начала ее правления были видны следы предшествовавших периодов. По-прежнему был в ходу типичный тюдоровский ящик — кресло, похожее на сундук. Его было довольно сложно передвинуть на другое место из-за огромной тяжести — такое кресло могли поднять только двое или несколько мужчин. Это массивное сиденье, как правило, размещали в Большом холле или там, что впоследствии стало вестибюлем, прихожей. Но такие огромные кресла превратились в обузу, особенно когда главным помещением в доме стала галерея на втором этаже, и это значительно повлияло на мебель. Тяжеловесные подставки для рук исчезли, на смену ящику под сиденьем пришли ножки, и только спинка осталась прямой и ее нещадно покрывали резьбой. Этот «изящный» стул, который стало под силу перенести из одной комнаты в другую одному человеку и даже поднять по лестнице с помощью веревки или нескольких слуг, стал праотцем современного рамочного стула.
Стулья и кресла, обтянутые кожей или обитые тканью, тоже уже перестали быть чем-то неслыханным. На портрете кисти Антонио Моро(28) Мария Тюдор восседает именно на таком стуле, как и изображенные на его замечательных портретах сэр Томас и леди Грешем(29). Но эти стулья были еще довольно редки и встречались только в домах богатых людей. Кроме этого, в ходу были также курульные, складные стулья, резные кресла и уже давно известные иксообразные, или глас-тонберские, стулья, а также скамьи и лавки.
Кресла обычно предназначались для важных персон и первоначально являлись элементами церковной обстановки. На них всегда восседали епископы. Так что когда кресла переместились из соборов в богатые дома, они все еще сохраняли свою особенную ауру и изготавливались для главы дома или очень высокого гостя. Так, королева, где бы она ни находилась, всегда сидела в кресле, а ее придворным приходилось занимать табуреты и скамейки. Последние, как сетовал сэр Джон Харрингтон, были чрезвычайно тяжелыми и неудобными. Он даже предложил обзавестись тканевыми или стегаными накидками на скамьи, чтобы придворные лорды и дамы могли класть их на сиденье, — эту идею уже давно использовали богатые торговцы. Большие сколоченные из досок скамьи и деревянные табуреты, угрюмо сообщал он, были такими жесткими, что, «с тех пор как отказались от объемных бриджей, редко кто из мужчин был в состоянии на них сидеть».
Когда семья собиралась на обед в холле или в недавно появившихся столовых и усаживалась вокруг стола (чаще его называли словом board, чем table), глава дома или его хозяин занимал кресло. Остальные члены семьи, гости и слуги усаживались на скамьях, сундуках или табуретах. Хозяин дома был действительно председателем стола, и важность этого места и сегодня подчеркивается различными употреблениями этого выражения.
Что касается кресел, набитых и обтянутых тканью, которые появились во второй половине правления Елизаветы, то они были улучшенным вариантом рамочных кресел, сиденье и спинки которых обивались кожей. В обиход такой тип кресел вошел только в следующем веке, поэтому образцы, относящиеся к XVI столетию, встречаются очень редко. К рамке над кожаным сиденьем прикреплялись подушки или «мешочки». Затем на смену коже пришли ткань и мешковина, а еще позже стали обивать и спинку. Сохранилось всего несколько экземпляров таких кресел, так как обивку поела моль, а рамку, сделанную, как правило, из бука, разрушили черви.
Вполне возможно, что еще в XVI веке изобрели или ввели в обиход кресла с подвижной спинкой, которую можно было опускать и поднимать по желанию. Совершенно точно известно, что у Елизаветы было такое кресло, причем еще в самом начале ее правления. В 1560—1561 годах Джон Грин получил вознаграждение за «один замечательный стул из орехового дерева с огромной подушкой, покрытой расшитой золотом тканью, и отделанный шелком и золотом, с подпоркой для спины, украшенной золотым шитьем, снабженной пружинами и железными скобами, чтобы поднимать или опускать ее вместе с подушкой».
Это довольно беспорядочное описание очень напоминает кушетку или шезлонг с регулируемой спинкой, или нечто, похожее на диван. При этом стоит напомнить, что Шекспир в «Ричарде III» упоминает «lewd day-bed (непристойное дневное ложе), что, очевидно, представляет собой тот же предмет. Добрый Ричард, по словам Бирмингема, в отличие от своего злого и сладострастного брата Эдуарда IV не имел привычки валяться на кровати днем.
Стулья и ящики того времени и предыдущих эпох по-прежнему были незаменимы (предшественником кресла в форме ящика был сундук) и являлись главными предметами обстановки в более скромных домах. В течение многих столетий ящик был универсальным предметом. Его использовали как хранилище, как скамью, на нем обедали и даже спали, положив сверху соломенный тюфяк. В то время его также использовали как дорожный сундук (хотя уже тогда стали появляться сундуки, обтянутые кожей), что частично объясняло, почему багаж Елизаветы был таким неподъемным и громоздким. Но даже этот простой предмет меблировки оказался жертвой всеобщей страсти к украшательству. Сундуки стали покрывать столь любимыми тогда разнообразными резными узорами в виде клеток и ромбов, с бороздками и мозаиками, так что он в итоге утратил свой скромный вид.
Богатая знать часто привозила из Италии великолепные сундуки, как, например, «прекрасный плоский венецианский» сундук из орехового дерева с резьбой и позолотой, снабженный замками и ключами, который стал частью убранства особняка Лейстера в Кенилворте. Также из-за границы ввозили сундуки из деревьев хвойных пород. Ящики из кипариса и кедра использовались для хранения зимней одежды из шерсти и меха и защищали ее от моли[50].
Затем, ближе к концу века, неизвестный гений добавил внизу сундука ряд выдвижных ящиков. Со временем этот сундук с ящиками превратится в комод.
Тяжелый стол в виде скамьи, наследие прошлых времен, был по-прежнему в ходу, но вскоре после начала правления Елизаветы крышку стола стали крепить к козлам или к выточенным ножкам. Часто из старого стола делали новый, плотно приколачивая съемную крышку к ножкам. Такие столы сильно различались по размеру и количеству ножек, но делали их в основном из дуба, ясеня и вяза.
Высоко ценились и были очень редки столы из орехового дерева. Интересно отметить, что хвойное дерево, к которому мы теперь относимся с презрением, тогда считали очень необычным и дорогим. В сказочном дворце Генриха VIII в Нонсаче была целая комната, обшитая панелями из хвойного дерева, которую он «чрезвычайно ценил».
Еще одно изобретение того времени — раздвижной стол — представляло собой усовершенствованный вариант стола на ножках. Две доски, помещавшиеся на сдвинутых опорах под центральной доской, выдвигались в стороны, так что центр опускался вниз под собственным весом, и они образовывали сплошную плоскую поверхность.
В Хардвик-холле хранится невероятный раздвижной стол, крышку которого поддерживают четыре «морских пса». По крайней мере, их морды похожи скорее на собачьи, а висящие уши напоминают спаниелей, но тела совершенно сбивают с толку. У этих странных созданий были крылья, женская грудь, лапы, заканчивающиеся листьями (или морскими водорослями), и рыбьи хвосты. На шее каждого из этих фантастических существ висела гирлянда из фруктов и цветов, а опору, на которой они сидели, в свою очередь, поддерживали четыре черепахи. Этот немыслимый стол, который мог привидеться только в страшном сне, не лишен был при этом своеобразной красоты. Хардвик-холл также может похвастаться одним из самых красивых рамочных столов в мире — результат искусной работы поместных плотников. Крышку стола украшает мозаика из различных музыкальных инструментов и нот, выполненных из разных пород дерева. Она состоит из трех частей, и чтобы скрыть места соединения, мастер вставил дерево так, что создается впечатление, будто эти три части стянуты полосками кожи.
Такие тяжелые столы нуждались в прочных ножках, но с течением времени плоские опоры заменили ножки в форме луковиц, в виде «чашки с крышкой». Их украшали резьбой и инкрустацией и часто увенчивали крайне сомнительной ионической капителью. Основания ножек, соединенных распорками, пострадали от отделки меньше, а возможно, они были не так заметны, поэтому им удалось сохранить свою квадратную форму.
Все чаще встречались небольшие столики, включая стол с раздвижными ножками и откидной крышкой. Они были результатом эволюции складных стульев, которые часто использовали в качестве столов. В королевской спальне в Виндзоре стоял стол из розового мрамора с белыми прожилками, а Яков Ратгеб, секретарь герцога Вюртембергского, отметил, что в Теобальдсе было несколько столов из мрамора различных оттенков, включая один базальтовый «длиной в 14 пядей, шириной в 7 падей и толщиной в 1 пядь»(30). Этот стол из черного базальта или яшмы стоял в садовой беседке.
В ходу были также овальные и круглые столы — как тот, за которым сидел Фальстаф в дельфиновой комнате в трактире госпожи Куикли[51]. Встречались столы с откидывающейся крышкой и очень редкие восьмиугольные столы, а также столы с крышкой в виде шахматной доски, покоящейся на постаменте. К счастью, тучные, похожие на тыкву ножки этих небольших столов ближе к концу столетия стали уменьшаться в обхвате и вытягиваться. В конечном счете этот процесс привел к появлению намного более грациозных и красивых ножек в форме колонн.
В числе других нововведений — или почти нововведений — были большой сервант и шкаф для посуды или невысокий буфет. Последний, вероятно, использовали для хранения посуды и для сервировки, поскольку он был открытым и состоял из трех ярусов или полок. Серванты закрывались и были шире и больше, чем буфеты. Они зачастую состояли из двух или трех уровней, верхняя часть, как правило, несколько отодвигалась назад, так что резной карниз необходимо было поддерживать колоннами, по виду обычно напоминавшими луковицы. Нижнюю часть закрывали навесные дверцы, которые, как и верхнюю часть, обшивали панелями и украшали резьбой.
Конечно же в то время были и массивные серванты, покрытые резьбой, и похожие на сундуки на ножках комоды с дверцей спереди. Если такие комоды использовали для хранения продуктов, то в их дверцах просверливали отверстия для воздуха.
И естественно, тогда уже появились гардеробы. Первоначально они занимали целую комнату, в которой стояли сундуки с одеждой и драгоценностями. Гардероб королевы, например, был чем-то вроде сокровищницы, и за ним следили специальные служащие. Но именно тогда появился гардероб как предмет мебели. По правде сказать, это было непростительным «преступлением» елизаветинской эпохи. Именно оттуда берет начало ужасный массивный платяной шкаф, в течение нескольких веков уродовавший спальню каждого англичанина.
Особого внимания заслуживают кровати. На протяжении полувека правления Елизаветы кровать быстро эволюционировала. Обычная незанавешенная деревянная кровать, напоминавшая обрубок, была по-прежнему в ходу в сельских домах, коттеджах и больницах. Это была кровать без столбов и балдахина, со сколоченным из досок изголовьем, предоставлявшим достаточно пространства, которое можно было украсить резьбой. Но пастор Харрисон сообщает, что даже в фермерских домиках вместо соломенных тюфяков стали использовать перины, и уже никто больше не клал вместо подушки деревянный чурбан. Были также кровати, связанные из сена, но ни одна из них не сохранилась. Так как такая кровать сопровождала хозяина в его путешествиях, то она не должна была быть слишком тяжелой и, возможно, состояла из нескольких частей, а в «Ромео и Джульетте» упоминается полевая кровать (имеется в виду походная). Кроме этого, были еще лежанки для слуг — совсем низенькие кровати на колесиках, которые днем задвигали под более высокую кровать.
Знатные дома того времени могли похвастаться кроватями невероятных размеров и тяжести, которые выглядели весьма внушительно. Зачастую изголовье такого ложа искусно и обильно покрывали резьбой, так что оно напоминало хоры в соборе, и часто его дополняли арки или специальные ниши для свечей. Ножки кровати с тяжелыми утолщениями в виде луковицы поддерживали массивные опоры или постаменты, иногда их крепили прямо к кровати, иногда отделяли от нее, но при этом всегда соединяли с балдахином, который теперь уже перестали свешивать с потолка. Каждая деревянная деталь от навеса до опоры была покрыта резьбой.
Тогда еще не появились кровати с пружинными матрасами, и шерстяные матрасы клали прямо на доски или на переплетенные полоски кожи. Сверху помещалась перина, которую, как правило, привозили с континента. После этого наступал черед огромных простыней, которые было так трудно стирать в плохую погоду, что они зачастую оставались нестиранными несколько месяцев, и, наконец, сверху клали шерстяные или фланелевые одеяла, пуховые подушки и покрывало. Покрывала поражали своим разнообразием: от совершенно простых до богато украшенных — все зависело от состоятельности владельца.
Но все эти предметы постельного убранства стоили очень дорого, и позволить их себе могли далеко не все. Женщины довольно часто одалживали друг другу родильные простыни, извиняясь за их неопрятный вид. Эндрю Бурд, тот самый «похотливый и испорченный священник», как его незаслуженно называл Харрисон, умер приблизительно за девять лет до того, как Елизавета стала королевой. Отдавая Богу душу, он завещал свою перину, подушку для сидения, пару простыней и покрывало своему другу Эдварду Хадсону.
Балдахины и покровы, которыми занавешивали огромные кровати, становились все богаче, роскошнее и разнообразнее и стоили порой сотни, а то и тысячи фунтов стерлингов. Эти кровати, стоявшие в новых просторных особняках, были массивными, некрасивыми на вид и очень неудобными, но при этом, в отличие от спален, были отгорожены от посторонних глаз и сохраняли тепло. Пауль Хенцнер, посетивший в сентябре 1558 года Виндзорский замок, был изумлен разнообразием королевских кроватей. Площадь кроватей Генриха VII и его королевы, Эдварда VI, Генриха VIII и Анны Болейн была 11 квадратных футов. Их закрывала драпировка, переливающаяся золотом и серебром. Кровать королевы Елизаветы была не такой огромной, но зато ее украшали «любопытные вышитые покрывала».
Как и следовало ожидать, вышивкой покрывали все, что можно было украсить, и многое из того, что украшать ею явно не следовало. Перед корсажа, платья, чепцы, ночные колпаки, наволочки для подушек (они представляли собой чехлы в 35 дюймов длиной и 20 шириной), перчатки, жесткие гофрированные воротники, плащи, накидки, шарфы, галстуки, футляры и шкатулки были разукрашены вышивкой разных видов. Вышивку черной нитью на белом фоне часто сочетали с золотой нитью; объемная вышивка, придающая трехмерный эффект, так же, как и стул, покинула пределы церкви и вошла в частные дома. Точечная вышивка, аппликация, в особенности на покрывалах и балдахинах, и турецкое плетение — все они были чрезвычайно популярны. В интерьере стали использовать намного больше тканей, чем прежде, и их покрывали вышивкой с не меньшим энтузиазмом и щедростью, чем мебель — резьбой.
Даже книжные обложки делали из бархата и декорировали вышивкой. Книги из елизаветинской библиотеки в Уайтхолле имели бархатные переплеты различных цветов, среди которых преобладал красный. Они были украшены ее монограммой и замочком из золота и серебра, а некоторые переливались жемчугом и драгоценными камнями.
Но существовала одна книга, которой не нашлось места в королевской библиотеке в Уайтхолле, впрочем, как и в другом дворце, по одной простой причине: она была украдена раньше, чем королева успела ее прочитать. И этим вором был сэр Уильям Сесил, лорд Берли.
Видный государственный деятель превратился в мелкого воришку в ходе следующего инцидента. Некий мистер Фуллер, пуританин, попросил передать королеве в подарок через ее фрейлину написанную им книгу. Королева, привыкшая к тому, что в ее честь писали хвалебные песни, милостиво приняла подношение. Скорее всего, она не открыла книгу, получив ее из рук фрейлины. В ней мистер Фуллер прямо заявил, что Бог осуждал клятвы, и развил свой тезис в следующих словах: «...и тем не менее Ваше Величество в гневе иногда клялись оскорблением мессы[52], очень часто Богом, Христом и многими частями Его превозносимого тела, а также святыми, верой, истиной и прочими запрещенными вещами; и следуя вредному примеру Вашего Величества и с Вашего позволения, большая часть Ваших подданных и людей всех сословий имеют обыкновение клясться и богохульствовать... и не несут за это никакого наказания».
Мистер Фуллер также пожаловался, что королева была слишком нерешительна в вопросах казни убийц (имелась в виду Мария Стюарт) и наказаний за прелюбодеяние и внебрачные связи.
К счастью для мистера Фуллера, королева оставила книгу на стуле, и лорд Берли, который либо был осведомлен о ее содержании, либо праздно заглянул в нее, осторожно ее похитил. Мистер Фуллер, естественно, не мог подарить книгу королеве лично, поскольку своими выражениями и нерешительностью, которую она продемонстрировала в борьбе с грехами своих подданных, она перешла дозволенные Богом границы, и ревностный пуританин не хотел подвергать себя риску заразиться через общение с ней. А лорд Берли не собирался затевать ссору с пуританами, что непременно случилось бы, если бы королева прочитала эту книгу. Он сумел выкрутиться, когда королева спросила его, что случилось с книгой, понадеявшись, что Елизавета о ней забудет, — это, к счастью, и произошло. Но она наверняка грубо обругала Берли за потерю, хотя книга Фуллера вряд ли могла похвастаться красивой вышитой обложкой.
К рукоделию в ту эпоху относились с большим уважением, и большинство женщин могли гордиться своим умением разукрасить и без того замысловатую одежду разноцветным, серебряным или золотым шитьем. Королева сама в юности была неплохой рукодельницей. (см.илл.) В шесть лет она подарила своему сводному брату принцу Эдуарду на Новый год батистовую рубашку. Вполне возможно, что тот подарок она сделала своими руками, поскольку на следующий год преподнесла ему другой предмет, совершенно точно выполненный ею собственноручно.
Королевские фрейлины обладали большим мастерством. Они занимались рукоделием в специально отведенные для этого часы или в свое свободное время. У нас достаточно оснований считать, что Елизавета лично проверяла их работу, хвалила хорошую и отпускала саркастические замечания по поводу неудачной. Легко представить, как она с ругательствами (увы, мистер Фуллер был прав: королева действительно страшно сквернословила) отшвыривала в сторону плохо выполненную работу какой-нибудь фрейлины-неумехи и демонстрировала ей, как именно та должна справляться с заданием. Ведь Елизавета не только знала, как следует делать эту работу, но и прекрасно могла выполнить ее сама.
Мария Шотландская[53] тоже была замечательной рукодельницей, и в честь нового, 1575 года преподнесла своей кузине Елизавете в качестве «оливковой ветви» элегантный головной убор вместе с воротником, манжетами и другими деталями, выполненными собственноручно. Этот дар примирения был передан через французского посла ла Мотта Фенелона. Елизавета благосклонно приняла его и пришла в восхищение от великолепной работы. Весной того же года ла Мотт, добиваясь укрепления мира, преподнес Елизавете еще три чепца, выполненных Марией. На этот раз Елизавета запротестовала. «Беспокойство и зависть обуяли Тайный совет», — сказала она ла Мотту, а все потому, что она приняла подарок от шотландской королевы!
Но как бы то ни было, несмотря на Тайный совет, Елизавета не могла долго отказываться от подарка, особенно если дело касалось предметов одежды, да еще так красиво вышитых. В конце концов она сдалась и приняла подношения, сказав при этом послу: «Передайте королеве Шотландской, что я старше ее и когда люди достигают моего возраста, они берут то, что могут, обеими руками, а отдают мизинцем». В то время ей было сорок два года, но если бы кто-то другой отпустил замечание насчет ее возраста, она вряд ли бы это ему простила.
* * *
Королева всегда чрезвычайно любила получать в подарок предметы туалета и была, наверно, самой искушенной в вопросах одежды женщиной в ту эпоху. Однако в то время, когда на троне была ее сводная сестра (Мария Тюдор тоже была в восторге от пышных нарядов), Елизавета в основном предпочитала простые скромные «пуританские» платья, напоминавшие покроем крестьянские платья. Скорее всего, это было продиктовано политическими, нежели религиозными соображениями.
Она была протестанткой, а Мария — католичкой, поэтому ей следовало одеваться скромно. Елизавета была вынуждена посещать мессу для того, чтобы уберечь свою шею, а не душу, и присутствовала на службе в одеяниях, которые даже Джон Нокс не мог бы не одобрить. Контраст между протестантской принцессой, одетой в простое пуританское платье, и великолепными богатыми одеждами католических священников демонстрировал более явно — и более безопасно — чем любые слова, каковы предпочтения Елизаветы и от кого она ожидает поддержки в том случае, если Мария умрет бездетной.
Но, взойдя на трон, она смогла одеваться в большем соответствии со своим вкусом. И с самого начала ее правления это было принято во внимание ее придворными и домашними. В 1561 году большую часть даров на Новый год составляли денежные подношения, но королева также получила по крайней мере одиннадцать пар манжет, несколько сорочек и носовые платки, шесть из них были окаймлены золотым кружевом, а остальные были из черного и красного шелка. Граф Уорик преподнес ей сорочку, расшитую черным шелком. Вероятно, это была дневная сорочка или рубашка со стоячим воротником.
Рукава, которые нам могут показаться довольно странным подарком, в то время были съемными, и зеленый был любимым цветом — это подтверждает песенка «Зеленые рукава». Мистер Адамс, «воспитатель», не мог позволить себе преподнести королеве в подарок рукава, но подарил ей «узор для пары рукавов» и получил в награду 40 шиллингов, в которых, несомненно, крайне нуждался. На тот Новый год Елизавета получила еще один подарок — от сэра Джеймса Стрампа, который порадовал ее не меньше, чем деньги и одежда: «Две борзые коричневато-желтого и черного окраса».
В 1578 году, когда развитие экономики шло полным ходом, королеве стали дарить намного больше предметов туалета, богато украшенных шитьем. Среди них была «рыжевато-коричневая шляпка из тафты», подаренная Ральфом Баусом, которую украшали вышитые золотом скорпионы и жемчужная кайма. Красивый стеганый жилет из белой шелковой тафты, расшитый золотым и серебряным кружевом, — подарок Филиппа Сидни. Смит, мусорщик, неуверенный в том, что его вкуса хватит, чтобы выбрать для королевы предмет туалета, не стал рисковать и подарил ей два рулона ткани.
Графиня Шрусбери, более известная как Бэсс Хардвикская, самая богатая женщина королевства, преподнесла в дар Елизавете «мантию» из темно-желтого атласа с белой тафтой, подбитую белым атласом и окаймленную золотым и серебряным венецианским кружевом. Первый секретарь, сэр Френсис Уолсингем[54], был пуританином и привык одеваться скромно, однако своей королеве подарил великолепную ночную рубашку: она тоже была из темно-желтого атласа и вся покрыта вышивкой.
На первый взгляд может показаться довольно странным, что первый секретарь дарит своей королеве ночную рубашку, но в те времена ночные рубашки предназначались вовсе не для сна — их надевали, встав поутру с постели. Женщины спали в ночных сорочках, а затем, проснувшись, надевали поверх них рубашки. Как женщины, так и мужчины носили их в качестве утреннего наряда — так сегодня женщины ходят дома в халатах. В XVI веке одежда для выхода в свет состояла из множества деталей и была такой сложной и продуманной, что для ранних подъемов крайне занятой королеве было совершенно необходимо утреннее платье.
Модницы той поры поднимались поздно и могли проводить за туалетом по нескольку часов, ведь это и в самом деле требовало много времени. Полное облачение состояло из сорочки, за ней шла нижняя юбка, которая выглядывала из-под края следующей юбки, и ее, как правило, шили из дорогого материала. После этого надевали корсет на шнуровке с планшетками. Иногда планшетки были железными, и корсет напоминал латы или кольчугу; очень часто их покрывали гравировкой. Далее шла юбка, либо испанская с кринолином, либо французская с турнюром. Затем надевали платье, состоящее из двух частей — как женский костюм-двойка, — из корсажа и юбки. Корсаж отчасти напоминал мужской камзол, но только с длинным кружевом спереди. Потом шло полностью открытое платье, спадающее с плеч до пят. Поверх него, а часто вместо него надевали плащ или накидку, а дополняли наряд основные аксессуары — рукава и гофрированный круглый воротник, который в одно время стал таким огромным, что пришлось придумать специальные длинные ложки, чтобы человек, на котором был подобный воротник, мог есть. Кроме этого были еще шейные платки, манжеты, forepart — передние половинки лифа и stomacher — суживающийся книзу перед корсажа, который также называли placard.
В моду вошли вязаные чулки. Миссис Монтаг, королевская ткачиха, преподнесла Елизавете в 1561 году пару черных шелковых чулок, которые «так понравились королеве, что та больше никогда не надевала рейтузы»(31). В 1588 году миссис Воган подарила королеве пару чулок и подвязки, а когда Харрисон начал писать свою книгу, то сообщил, что вязаные чулки распространились столь широко, что их носят даже деревенские женщины, которые красят их в черный цвет с помощью коры ольхи. Именно в то время было изобретено приспособление для вязания чулок — его автором был священник из Ноттингема. Оно стало прообразом всех будущих устройств для вязания и плетения кружев.
Дома женщины носили домашние тапочки-носки slippers и выглядели в них довольно неопрятно, так как именно этой обуви слово slipshod («неряшливый») обязано своим происхождением. Они также носили туфли-лодочки, или pump, как их и теперь называют по другую сторону Атлантики. Кроме того, тогда носили туфли на высокой пробковой подошве и галоши с гамашами, которые надевали поверх лодочек.
Шляпы поражали своей вычурностью, богатыми украшениями и вышивкой. Замужние женщины ходили в шляпах на улице и дома в отличие от незамужних. Мужчины также носили шляпы в помещении и снимали их, когда в комнату входила или выходила из нее королева. В середине века шляпы представляли собой высокие пирамидальные или конические головные уборы, популярностью пользовались и широкополые шляпы с низкой тульей, и шляпы без полей. В следующем, XVII столетии шляпы с кантом стали отличительной чертой роялистов[55]. Шляпы делали из вельвета, шелка, войлока, тафты, бобрового меха и горностая. Помимо них, носили чепцы, капоры, колпаки и капюшоны.
В 1571 году был принят закон, обязывающий всех подданных старше семи лет, если только годовой доход с земли у главы семьи не превышал 20 марок, носить шапку, «связанную из шерсти и произведенную в Англии», по субботам и в другие религиозные праздники. За несоблюдение полагался штраф в 3 шиллинга и 3 пенса. Этот закон был принят, чтобы обеспечить шапочников заработком и тем самым предупредить их обнищание и «попрошайничество и бродяжничество в королевстве, а также уберечь от совершения всяческих непристойностей». Довольно разумно было подумать о сотнях бродяг, выстраивающихся в очередь за подаянием и шатающихся по всему королевству. И этот закон либо оказался столь действенным, либо в конце концов потерял исковую силу, но в 1597 году был аннулирован.
Мужчины не меньше женщин интересовались красивыми и затейливыми нарядами, и часто их одеяния стоили целое состояние. Весь смысл истории про Рэйли заключался в том, что плащ человека зачастую был самой дорогой частью его гардероба, стоившей сотни фунтов. Как утверждает каламбур по поводу галантного поступка Рэйли — «разделив свой плащ, он приобрел много хороших костюмов»[56].
Другой джентльмен, Роберт Сидни, в конце XVI века в своем письме к Джону Харрингтону описал наряд, который был на нем в день визита королевы. Королева, как сообщил он, была одета «в чудесный бархатный костюм», а его собственная жена была в пурпурном костюме с золотой бахромой. Вот и все, что было сказано о женских нарядах! Далее он с удовольствием описал собственный туалет, не упуская ни одной детали. На нем был «богатый пояс и расшитый воротник, богатое платье смелого покроя, низ которого украшали серебро и завитушки». И хотя королева так устала, что смогла подняться по лестнице только при помощи трости, и так изнурилась, прохаживаясь по дому, что смогла съесть только «два кусочка торта с засахаренными фруктами и выпила немного ликера из золотого кубка», она, тем не менее, осталась очень довольна нарядами Роберта и его жены — по словам автора — и похвалила их.
Может быть, так оно и было, а может быть, и нет. Из этого письма очевидно только одно: сам Роберт был чрезвычайно доволен собой и своей одеждой. Королеве же, скорее, могло понравиться посещение сэра Юлия Цезаря[57], поскольку сэр Юлий по этому случаю преподнес ей красивый наряд. Она нанесла ему визит 12 сентября 1590 года, через пять дней после своего пятьдесят седьмого дня рождения. Говоря словами самого сэра Юлия, он подарил ей «платье серебристого цвета, богато украшенное вышивкой, черную плетеную мантию с чистым золотом, шляпку из белой тафты, декорированную цветами и золотым украшением». Визит королевы, которая провела у него только одну ночь, обошелся ему в 700 фунтов, включая еду.
Граф Лейстер конечно же всегда был великолепно одет и потратил на одежду целое состояние. Но старый Берли, как и Уолсингем, придерживался скромных серых и черных расцветок.
Дети в то время одевались так же, как и взрослые. А в наши дни вернее обратное.
Вышивала ли сама королева подарки для придворных фаворитов, одаривала ли их собственноручно изготовленными накидками на подушки? Вполне возможно, что так оно и было, ведь в то время это был очень популярный подарок, Известно, что она вышила шарф для герцога Анжуйского[58]. В Виндзоре была «подушка с необычной отделкой, которую королева выполнила собственноручно»(32). (см.илл.) Там же, кстати, висел и известный гобелен, который, по сообщению Хенцнера, «англичане украли или привезли из Франции во времена своего господства». На нем был изображен Хлодвиг[59], принимающий лилию из рук ангела; эта эмблема на голубом фоне стала гербом Франции. Появление ангела навсегда изгнало трех жаб, которые до того времени красовались на щитах французских королей.
* * *
Недостаток прочной мебели в домах елизаветинцев — и ключевое слово здесь «прочная» — с лихвой компенсировался блеском, различными новшествами и многообразием украшений. В то время, когда люди сами облачались в роскошные и пышные одеяния, они так же богато украшали свою мебель и стены. Так что во времена Елизаветы стены, кровати и окна были богато задрапированы. Ковры покрывали карнизы (этот обычай до сих пор сохранился в Нидерландах), буфеты и только много позже полы. Драпировки изменили внешний облик скамеек и сидений, и повсюду были разбросаны подушечки. На самом деле подданные Елизаветы очень похожи на викторианцев[60] в своем стремлении задрапировать все подряд, хотя, естественно, не по причине ханжества, а из-за своего стремления к удовольствиям и хвастовству. Даже глупый Антифол Эфесский, один из братьев-близнецов в шекспировской «Комедии ошибок», хранил свои дукаты в ящике, «покрытом турецким гобеленом».
В богатых домах подушки, накидки на скамьи, стол и буфет были из гобелена, шелка или бархата. Менее богатые обходились пестрой тканью и кожей, и даже в домах бедняков на столе лежали потрепанные скатерти.
Харрисон отмечает: «Стены наших домов с внутренней стороны... завешаны гобеленами или шпалерами, или пестрой тканью, на которых изображены различные истории или травы, или животные, или узоры и тому подобное; еще они отделаны панелями из нашего дуба или из древесины, привезенной из восточных стран, благодаря чему комнаты... стали теплыми и намного более заполненными, чем они были бы в противном случае».
Покрытые штукатуркой стены часто раскрашивали переплетающимися узорами или грубо выполненными символическими сюжетами. Хороший образец такой росписи можно увидеть в Стратфорде-на-Эйвоне в гостинице «Белый Лебедь». Здесь отображена история Товита[61], дополненная пояснительными знаками, а в промежутках нарисованы причудливые фрукты, цветы и листья. Все персонажи этой апокрифической ветхозаветной истории облачены в наряды периода начала правления Елизаветы, а сцены, в которых перспективы не больше, чем в китайской живописи, разделяют рифленые итальянские пилястры.
Росписью покрывали и обшитые деревом стены, и оттеняли детали украшений. Решетку деревянных панелей, как правило, раскрашивали ярко-красным с добавлениями голубого и золотого цветов, тогда как сами панели либо украшали различными рисунками и даже пейзажами, либо вклеивали в них картины, которые затем раскрашивали. В то время предпочитали такие цвета, что нас просто поражает яркость отреставрированных образцов.
Огромные окна в новых домах допускали вставки из разноцветного стекла: фамильные гербы, вымпелы, гротески, неизменные переплетающиеся орнаменты, цветы, травы и, как выражение преданности, королевский герб. Стекло также покрывали эмалью. Вентиляцию помещений обеспечивали вентиляционные квадраты из свинца довольно сдержанного геометрического дизайна, впрочем, некоторые узоры из прозрачного стекла также были весьма скромными.
Ратгеб был совершенно оглушен великолепием и богатством драпировок во дворце Хэмптон Корт. От имени своего господина герцога Вюртембергского — довольно нудного человека, в амбиции которого входило получение ордена Подвязки, — он написал в своем дневнике: «Все помещения и комнаты в этом необъятном сооружении завешаны гобеленами из золота и шелка, столь невероятно прекрасными и по-царски украшенными, что вряд ли возможно где-либо еще найти более великолепные вещи. В частности, здесь есть одна невероятно роскошная комната, отведенная королеве, в которой она восседает, занимаясь государственными делами; гобелены здесь украшены золотом, жемчугом и драгоценными камнями, и только одна скатерть стоит больше 50 тысяч крон, не говоря уже о королевском троне, усыпанном огромными брильянтами, рубинами, сапфирами и другими камнями, сверкающими среди жемчуга и других драгоценностей, как солнце среди звезд».
Хенцнер отреагировал на все это великолепие более сдержанно. Он определенно был менее подвержен эмоциональным всплескам, но даже он признал, что в одной из комнат было «несколько исключительно богатых гобеленов, которые вывешивали во время приема иностранных послов». Там было также множество подушек, расшитых золотыми и серебряными нитями, много стеганых покрывал и одеял для кроватей, застеленных мехом горностая, а все стены во дворце «переливались золотом и серебром».
И Ратгеб, и Хенцнер посетили Англию в конце правления Елизаветы, когда знать меблировала свои дома, нарочито выставляя напоказ свое богатство. К тому времени и сама королева разными путями обзавелась большим количеством мебели и аксессуаров. Ее привлекали величие и роскошь, как и всех ренессансных правителей. Ее дворцы были увешаны полотнами лучших мастеров. Она собирала украшения, жемчуга и все виды драгоценных камней, посуду из золота и серебра, богатые постели, диваны и прогулочные коляски, персидские и индийские ковры, статуи и медали, «которые обошлись бы ей в огромную сумму». Стены она покрыла роскошными гобеленами, а в Хэмптон Корте среди ценнейших предметов в ее гардеробе хранились гобелены, на которых были изображены ее морские победы.
Гобелены, как и мебель, передавали из поколения в поколение, но стремительное строительство привело к тому, что множество ковровых изделий начали ввозить из-за границы. В действительности большая часть материалов, мебели, украшений и аксессуаров для английских домов прибывала прямо с крупной ярмарки в Антверпене. Все сырье и стройматериалы для нового «Кошеля» — Королевской биржи, построенной сэром Томасом Грешемом, — были привезены на корабле из Антверпена по его распоряжению или в соответствии с указом самой королевы. И благодаря удачным и крепким деловым связям между Лондоном и Нидерландами крупные и мелкие торговцы имели возможность обставлять свои городские и деревенские дома ввозимыми из-за границы предметами. Часть ковров производилась в Англии, но этого было недостаточно, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос. Уильям Шелдон открыл ткацкую фабрику в Уорике примерно лет за пятьдесят до того, как Елизавета взошла на трон. На этой фабрике производили гобелены и, возможно, даже ковры, как правило, с восточными узорами, иногда нелепо сочетая их с геральдическими эмблемами. Ковры в Англию тоже пришли с континента — из Турции и Леванта.
Портрет королевы кисти неизвестного художника, который носит название «Портрет Дичли» (сейчас находится в Лондонской национальной галерее), изображает ее стоящей на карте Оксфордшира, которая была выткана на фабрике Шелдона. В Дичли-хаузе, принадлежащем сэру Генри Ли, королева останавливалась во время своего визита в Оксфордшир в 1592 году. По этому поводу был составлен такой джингл:
В счастливый час, в счастливый день Элиза выбрала этот путь.После огромного количества стихов, как хороших, так и невероятно плохих, написанных в ее честь, эти вирши могут показаться слишком простоватыми и прямыми. Но для умной, проницательной и молчаливой женщины в красном парике это, должно быть, была благодарственная форма «Mere English[62]».
Но хоть ради королевы и расстилали ковры, гобелены и даже мантии, напольные ковры были не в ходу. Полы в фермерских домах и коттеджах были устланы тростником, камышом и соломой, смешанной со стеблями лаванды и розмарина. В богатых домах дело обстояло точно так же, разве что доля ароматических трав была больше. В Гринвичском дворце полы устилали лавровые листья.
Зато потолки с лихвой компенсировали отсутствие убранства пола. Теобальдс мог похвастаться знаменитым потолком, на котором были изображены знаки зодиака. Ночью на потолке были видны звезды, соответствующие каждому знаку. Неизвестно, был ли там астролог, чтобы толковать эти светящиеся знаки для развлечения гостей, но очевидно, что днем звезды исчезали, так как Ратгеб сообщает, что «солнце проникало сквозь небеса»(33).
Изделия из гипса, большую часть которых производили в Англии, должно быть, были совершенно удивительными, хотя время уничтожило многие из них. Но в Большой гостиной в Хардвик-холле все еще сохранился фриз, где изображена Диана со спутниками и собаками, охотящаяся в лесу на оленей, слонов и львов. А на гипсовой панели в Мантекьют-хауз можно увидеть грубоватое изображение так называемой процессии Скиммингтона[63].
Потолки поскромнее украшали рельефами и висячими орнаментами. Англичане стали использовать итальянскую наружную штукатурку с тем же рвением, что и переплетающийся орнамент. Но яркие цвета, типичные для того времени, были, скорее, заимствованы из Америки, чем из Европы.
Шекспир, писавший для людей своей эпохи, вложил в уста Гремио из «Укрощения строптивой» описание интерьера, когда тот перечислял свои владения, прося руки Бианки. Дом Гремио находился в Падуе, но его описание могло бы подойти любому богатому дому в Англии:
...у меня Дом в Падуе; там много дорогих Кувшинов и тазов для омовенья. Все занавески — из восточных тканей, Казна лежит в ларцах слоновой кости, А в кипарисных сундуках — наряды. Тончайшее белье, покровы, шали, Турецкое жемчужное шитье И золото венецианских кружев. Посуда есть из олова и меди Со всем прибором[64].Глава четвертая Расцвет ювелирного искусства
«Золотой» век Елизаветы оказался также и веком серебра, которое в XVI веке вдруг хлынуло в Европу из Нового Света. По крайней мере, предназначалось оно для Европы, но часто не достигало пункта своего назначения и в огромных количествах оседало в Англии. Впрочем, подобное происходило также с кошенилью, специями, золотом, церковной утварью, кожей и жемчугом. Одним из главных виновников изменения маршрута всех этих ценностей был El cosario Ingles Francisco Draques, — как его называли испанцы, — более известный на родине под именем сэра Френсиса Дрейка, адмирала, совершившего кругосветное плавание.
Томас Кавендиш, третий человек, которому удалось обогнуть Землю, сделал даже больше, хотя на его долю выпала единственная авантюра. Он «привез домой самый ценный приз из всех, что достались в то время Англии»(34). Часть его трофея составляли богатства галеона «Санта Анна», который он захватил в числе прочих у самой южной оконечности Калифорнии. Кавендиш, в соответствии с театральным духом времени, после своего возвращения поставил для своих земляков потрясающее шоу. Весь Лондон был в восторге, когда его корабль «Желание» проплыл по Темзе и все увидели, что «все его моряки и матросы были одеты в одежду из шелка, паруса его корабля сделаны из дамаста, а его стеньги покрыты золотой тканью»(35). Таким образом, часть податей, которые король Испании взыскал с Перу, оказались в Англии, к огромному удовольствию всех тех, кто вложил деньги в финансирование этого предприятия и получил невероятную прибыль.
Огромная добыча обрадовала и мастеров золотых и серебряных дел, и ювелиров. Они были загружены работой по переплавке захваченных слитков в различные изделия, простые и замысловатые, которые украшали драгоценными и полудрагоценными камнями, гравировкой и эмалью. Они копировали пышный немецкий дизайн, переделывали старые и привычные модели, создавали новые, иногда довольно нелепые. Свои изделия они продавали придворным, чтобы те потом преподнесли их в дар королеве, а также аристократам, крупным торговцам, купцам и зажиточным фермерам.
Приходский священник из Редвинтера, который вел переписку со многими людьми из разных городов и графств по всей стране, со смешанным чувством гордости и удивления отметил внезапное увеличение богатых аксессуаров и серебряной утвари. По его словам, в дворянских домах (его покровитель был аристократом) «серебряные сосуды и другая посуда, украшающая различные буфеты, цена которой в совокупности достигала тысячи или двух тысяч фунтов», никогда не были редкостью. Однако теперь даже рыцари, джентльмены, купцы и другие богатые горожане могли позволить себе «купить шикарную посуду стоимостью пять, шесть сотен, а то и тысячу фунтов».
Что касается фермеров, то даже в родной деревне пастора были старики — по нашим меркам они были не такими уж и старыми, — которым довелось увидеть огромные изменения, произошедшие за время их жизни. Во времена их юности в бережливом и добропорядочном фермерском доме никогда не было более четырех предметов посуды, и одним из них была солонка. Теперь же дела у многих фермеров шли так хорошо, что они «используют посуду в качестве украшения для своих буфетов».
По всему королевству серебряные подносы и оловянная посуда быстро заменили толстые куски хлеба и деревянные доски, которые использовали до этого, хотя последние все еще можно было встретить в коттеджах. Счета Анкастера показывают, что в начале 60-х годов XVI столетия дюжина новых посеребренных подносов стоила 26 фунтов стерлингов (на починку шпиля собора Святого Павла, разрушенного молнией и огнем в 1560 году, пожертвовали 6 шиллингов и 8 пенсов). В новых модных домах кожаные кувшины и кубышки были сосланы на кухню, а на их месте появилась серебряная и оловянная посуда. Серебряные ложки, которыми ранее могли похвастаться совсем немногие, теперь стали широко распространены, и вместе с оловянными ложками из Корнуолла вытеснили деревянные и роговые.
Изменился также и дизайн посуды. Появились чаши в форме фиговых листьев, ножки бокалов стали более широкими и плоскими и их стали украшать флероном. Декоративные узоры стали более разнообразными. Простая печать с выколотой на ней монограммой или датой; окруженные нимбом апостолы; «сидящий вполоборота лев», снежный человек — дикарь с дубиной; «голова девушки» (как правило, это было трудноузнаваемое изображение Девы Марии) — все эти изображения стали невероятно популярны.
Однако ложки, хотя и перестали быть редкостью, ценились по-прежнему так высоко, что их хранили в специальных кожаных футлярах. Они были распространенным подарком на крещение (отсюда пошло выражение «родиться с серебряной ложкой во рту») и их передавали по наследству. Среди вещей, завещанных сыну Эдварду «той великодушной леди, вдовой великого герцога Сомерсета»(36) была одна золотая ложка и три или четыре позолоченных «причудливой формы». Она также оставила ему чашу, кувшин и два горшка из позолоченного серебра, а также два графина и две позолоченные чаши с крышками.
Вилки появились у англичан только к концу правления Елизаветы, когда эти изящные приспособления привезли на родину путешественники, вернувшиеся из Италии. Графиня Линкольнская преподнесла в дар королеве вилку, нож и ложку из хрусталя, украшенного золотом и «вкраплениями граната», но это было не ранее 1581 года. Семь лет спустя графиня Уорик тоже подарила Елизавете вилку и ложку: оба предмета были из золота, но рукоятка ложки была сделана из коралла, а рукоятку вилки украшали два рубина и две жемчужины.
Ножи с остроконечными или клинообразными лезвиями, с черенками из агата или красного и желтого янтаря встречались достаточно часто, более редкими были ножи с серебряными рукоятками. Мужчины больше не резали мясо кинжалами, висевшими у них за поясом, и старая традиция, согласно которой гости должны были приходить со своими ножами, постепенно отмерла.
Во время бала-маскарада — должно быть, он был чрезвычайно нудным, — который организовали в честь приезда королевы в Норидж, люди, изображавшие античных богов и богинь, выходили вперед и предлагали ей свои дары, указывавшие на природу дарителя, сопровождая это чтением бесконечно длинных и, надо признаться, весьма плохих стихов. Венера, естественно, преподнесла белого голубя, который, как только его отпустили, прилетел прямо к королеве и уселся рядом с ней на стол, «так тихо и бесшумно, словно был привязан». А Марс, как и подобает богу войны, подготовил для нее пару прекрасных ножей с гравировкой, на которых были вырезаны следующие поразительные вирши:
Для встречи с врагом и для помощи другу Были сделаны эти ножи. Они будут и тупыми, и острыми По велению Вашего Высочества.У графа Лейстера был прекрасный ящик для ножей в виде святого Георгия, сидящего верхом на лошади и убивающего дракона. Фигура была вырезана из дерева, покрыта росписью и позолотой и, должно быть, имела значительные размеры, поскольку ящик для ножей располагался на хвосте лошади, тогда как на груди извивающегося дракона помещался еще один ящичек — с ножами для устриц.
На специальных сервантах с раздутыми ножками разными ножами резали говядину, нарезали ломтиками баранину, разделывали кроншнепов и вальдшнепов, резали лососину и осетра, разделывали кролика или доставали мясо краба, прежде чем выложить их на серебряные или оловянные тарелки или блюда, которые со временем становились все глубже.
В богатых домах кожаные и оловянные приборы были вытеснены серебряными и золотыми бокалами, крышками, которые часто использовали для того, чтобы снять пробу. Крышки для чашек теперь обильно украшали цветочными орнаментами, появились ручки в форме буквы «S». Кроме этого, попадались совершенно фантастические чашки в виде птиц, животных и человеческих фигур. Некоторые из них были оснащены часовым механизмом и могли передвигаться по столу. Скорее всего, такие чашки привозили из Германии, уже тогда славящейся своими техническими новшествами.
Чашка с крышкой была очень распространенным подарком, который преподносили королеве мэры и члены городского правления в различных городах, где она останавливалась во время своих путешествий по стране. Внутрь такой чашки, как правило, клали столь ценимые королевой деньги. Среди подарков часто встречались экземпляры причудливой формы с необычными украшениями. Например, хрустальная чаша в форме туфли — довольно любопытный образец, вызывающий ассоциацию с викторианской эпохой, — крышку которой украшала фигурка сокола, покрытая белой эмалью. Или золотая чаша с необычной резьбой и жемчугом — подарок Елизавете на крещение от герцога Норфолка.
Когда крестили Генри Фредерика, первого сына Якова VI Шотландского (позднее Якова I Английского), королева подарила ему «прекрасный прибор из позолоченного серебра с искусной отделкой и несколько кубков из литого золота». Остальные бокалы из чистого золота монаршему ребенку привезли иностранные послы — два из них были такими тяжелыми, что сэр Джеймс Мелвил, который там присутствовал и составил отчет об этом событии, с трудом смог их поднять. Однако вес этих подарков недолго создавал затруднения: королю Якову золото было нужнее, чем бокалы маленькому принцу, так что вскорости их разломали и переплавили.
Широко распространены были пивные кружки из серебра: цилиндрические и суживающиеся к основанию, подобно старым сосудам для питья, сделанным из рога. Их часто украшали гравировкой и неизменным переплетающимся орнаментом. Сосуды из рога были по-прежнему в ходу, но теперь их окаймляли серебряными ободками. Большинство кружек были высотой в 6 или 7 дюймов и вмещали в себя пинту. Ближе к концу столетия они стали более высокими и узкими в подражание датским кружкам. Все чаще стали попадаться кружки причудливой формы и из различных материалов. Однажды леди Кобэм подарила королеве необычную кружку, вырезанную из алебастра: она была покрыта золотом и серебром, а крышка имела форму женской головы.
Специальные емкости для снятия пробы использовали, скорее, для того, чтобы определять качество вина, чем для обнаружения яда. Это были неглубокие чаши, плоские или с выемками, с ручкой в виде кольца и достаточно маленькие, чтобы их можно было носить с собой в кармане. Помимо этого были чаши и кувшины для отходов пищи, а также тазы и кувшины с розовой водой, к которым относились очень благоговейно. В инвентарных ведомостях богатых домов того времени встречается множество тазов и кувшинов, предназначенных для мытья рук до и после еды, и тоже из серебра, позолоченных и даже хрустальных.
Любезный и обходительный сэр Джон Харрингтон, который никогда не был богачом, однажды преподнес своей язвительной крестной — Елизавете — хрустальную чашу. Надпись на ней была довольно патетичной: «хрустальная чаша, не круглая, без крышки, слегка украшенная золотом и... разбитая».
С другой стороны, сэр Джон мог предложить королеве кое-что помимо разбитой вазы. Когда королевская немилость или назойливые кредиторы заставили его искать убежища в своем доме в провинции, возле Бата, он записал в своем дневнике: «Я должен посылать много новостей из глубинки, чтобы развлечь Ее Величество... Ее Величество любит забавные истории».
Одна из историй была, пожалуй, чересчур забавной. Харрингтон, как и все джентльмены и придворные эпохи Ренессанса, знал несколько языков и переводил иностранные произведения на английский с такой же легкостью, как мы теперь разгадываем кроссворды. Ему нравилось шокировать своих современников, и поскольку их мало чем можно было удивить, то это действительно требовало мастерства. Кудрявый сэр Джон полностью достиг своей цели, переведя историю Джакомо из «Неистового Роланда» Лудовико Ариосто и распространив рукопись среди придворных[65]. Сомнительно, чтобы Елизавета была шокирована, но она была очень требовательна и строга к поведению, манерам и нравам своих фрейлин, а этот отрывок был вовсе не тем произведением, которое стоило бы читать юным девушкам. Оно вряд ли могло способствовать развитию их ума, — скорее, заставило бы хихикать по углам. Королева была крайне сердита на этого «бесстыдного поэта»("37") и удалила его от двора. Она не отправила его в Тауэр, как он того опасался, а вместо этого выслала в деревню. Королева наказала ему не возвращаться в Лондон до тех пор... пока он не переведет всю поэму целиком.
* * *
Соль, самое важное дополнение к любому блюду, на протяжении многих столетий была обрядовым символом, а потому сосуды для соли имели почти ритуальную важность. В небогатых домах они были довольно простыми, оловянными или серебряными, в форме цилиндра, куба или песочных часов. Но солонки, которые использовали для церемоний, были действительно великолепными и даже фантастическими. Большая солонка королевы Елизаветы, которая в настоящее время хранится в Виндзорском замке, была красивой цилиндрической формы и завершалась куполовидной крышкой, увенчанной урной, на которой стоял рыцарь в доспехах. Его тело было украшено тремя чеканными медальонами, а ноги заканчивались лапами, как у сфинкса. Позднее были добавлены три дельфина, которые удерживали крышку солонки. Сама соль хранилась в неглубокой плошке в верхней части солонки.
Другая солонка королевы, меньшая по размеру, имела форму золотого глобуса, покрытого зеленой эмалью. Ее украшали две обнаженные фигуры из белой эмали, а на крышке был изображен королевский лев. Еще одна из солонок Елизаветы была в форме индюка, вырезанного из агата, украшенного золотом и усыпанного жемчугом и другими камнями.
Лейстеру, которого никто не мог превзойти в роскоши, кроме королевы, принадлежала перламутровая солонка в форме корабля. Она была «отделана серебром и украшениями, снабжена различными военными устройствами, на ней размещались шестнадцать пушек, две из них на колесах, два якоря в передней части и на корме — изображение госпожи Фортуны, стоящей на глобусе с флагом в руке»(38). Госпожа Фортуна, которая, скорее всего, была ранней версией Британии, должно быть, олицетворяла королеву, поскольку именно ей этот неизменный фаворит был обязан своими обширными владениями, богатством и титулами.
Перед ритуальной солонкой произносили молитву, и заманчиво было бы предположить, что этот обычай стал причиной появления в тот период типично английской солонки в форме колокольни. Елизаветинцы были без ума от четырехугольных колоколен и шпилей, как и от обелисков, и помещали их повсюду — от надгробий до башен с часами. Ритуальные солонки в виде архитектурных сооружений, в форме колокола или башни в основном были трехуровневыми, и самый верхний уровень с перфорированной крышкой часто служил перечницей, несмотря на то что уже вошли в моду отдельные перечницы.
В это же время блюда стали обильно приправлять специями, что дало толчок к появлению разнообразных контейнеров для пряностей. Елизавета держала при себе личную коробочку для специй, чтобы приправлять пищу за столом, и так же поступали все богатые люди. Она была из позолоченного серебра, а крышка богато украшена аметистами, рубинами, гранатами и бирюзой. Трудно сказать, по какому принципу драгоценные камни подбирались так тщательно — из-за приписываемых им качеств или из-за их стоимости. Аметисты предохраняли от опьянения, хотя Елизавета была очень умеренна в выпивке. Рубины должны были защитить от яда, хотя все блюда, подаваемые королеве, сначала пробовал ее телохранитель. Гранат означал преданность, силу духа, стойкость, а бирюза — процветание.
Вместе со специями такие коробочки стоили целое состояние, так что их владелец должен был действительно процветать, иначе не смог бы позволить себе иметь специи в больших количествах, необходимых, чтобы соответствовать вкусам того времени. Еще в 1560 году, до инфляции, мацис — вид ароматных специй, изготовленных из сушеной шелухи мускатного ореха, — стоил 14 шиллингов за фунт, гвоздика — 11 шиллингов, корица — 10 шиллингов 6 пенсов, а имбирь — около 3 шиллингов 8 пенсов.
Американские специи считались более острыми, чем индийские или малайские. Примерно за 65 лет до начала правления Елизаветы Колумб привез в Европу «новый перец, более острый, чем черный перец в зернах из Закавказья»(39). Очевидно, что это был красный стручковый перец.
Еще одной чрезвычайно популярной формой был серебряный или позолоченный галеон. Корабль с командой матросов и развевающимися знаменами украшал обеденные столы в богатых домах. И хотя экземпляров с клеймом того времени не сохранилось, осталось свидетельство того, что несколько подобных изделий, произведенных в Англии, были привезены в Испанию. Самые лучшие образцы производили в Нюрнберге. Они не были новинкой, их изготавливали уже несколько столетий, но именно сейчас в качестве символа власти они перешли из исключительного владения королей и принцев в руки торговцев. Скрупулезно выполненные до последней детали, отлитые из серебра владелец, его семья и ближайшее окружение помещались на палубе вместе со штурманом и командой матросов, занятых работой.
Такой галеон с подвижной палубой ставили на стол перед хозяином. В его корпусе часто помещались солонка (такая была у Лейстера), контейнеры для приправ, ножей, ложек и иногда даже платков. Очень часто его использовали как контейнер для ароматов, внутри которого хранилась смесь под названием «"не забывай меня": сладкие ароматы розовой воды, гвоздики, мациса и уксуса». В каждой важной комнате богатого дома стоял подобный контейнер из серебра или латуни с ароматическими эссенциями. Сосуды с благовониями и ароматические шарики были не только английским вариантом дезодоранта — это было для современников не так уж важно — их истинное назначение заключалось в предохранении от болезней.
Ароматические шарики pomander — англизированный вариант французского pomme d'ambre[66] — были известны уже давно, но в их первоначальном варианте это были апельсины, из которых вынимали сердцевину и заполняли специями. Запах у них был слишком резким, особенно для женского обоняния, и их заменили серебряными коробочками и контейнерами с чеканкой, которые быстро покорили прихотливый вкус как мужчин, так и женщин.
Ароматический футляр в виде перфорированной, открывающейся горизонтально или сегментами, как апельсин, сферы, был примерно около 1 дюйма в диаметре. Филигранную работу часто украшали эмаль или драгоценные камни. Эти футляры многие дамы превращали в ожерелье или пояс. У Анны, герцогини Сомерсет, была роскошная цепь из ароматических шариков, каждый из которых был отделен от другого жемчужиной или двойным узлом из перламутра, с маленьким желудем в качестве подвески. Более дешевые футляры для ароматов делали из твердой древесины в серебряной оправе. Коробочки для ароматического порошка — неглубокие, круглой или квадратной формы, с куполовидной перфорированной крышкой — можно было также носить в кармане, на цепочке вокруг пояса или шеи.
Ароматические сосуды часто преподносили министрам и придворным в качестве вознаграждения, но их носили не только члены королевского двора, желая подчеркнуть свое положение, но также врачи, священники и другие люди, собирающиеся в пораженные болезнью районы.
* * *
Подсвечники и настенные канделябры из серебра заменили в домах знати популярные ранее аксессуары из латуни и железа, хотя бедняки по-прежнему пользовались лампами с открытым огнем и тростниковыми свечами, которые были в ходу уже несколько столетий и сохранились вплоть до правления Георга I[67].
Старые холлы и новые галереи освещались также свисающими с потолка деревянными или железными люстрами. И хотя сохранились записи о серебряных канделябрах, — или «ветвях», как их называли, — ни один из них не дошел до нашего времени. Подобный канделябр, позолоченный только изнутри, был у Генриха VIII, но на что он был похож, нам неизвестно, так как большинство королевской утвари было переплавлено во времена Английской республики[68]. У Елизаветы тоже был один канделябр из позолоченного серебра, подаренный ей Уильямом Корнуоллисом. Его описывали как «свисающий подсвечник», но как точно он выглядел, нам неизвестно.
Государственная лотерея, которую провели в 1567 году, в числе своих призов имела пару серебряных подсвечников с цельными углублениями, контейнерами для топленого сала на коротких ножках и основанием, куда должен был стекать расплавленный жир.
Тем не менее в начале правления Елизаветы самым популярным был простой подсвечник, на который можно было насадить свечу любого размера. Он, как правило, был на трех ножках и имел изогнутую подставку, заканчивающуюся острым выступом. Между подставкой и острием помещали очень большой, но совершенно бесполезный контейнер для воска. Позднее появилась невысокая плошка с подходящим по форме основанием, в котором было углубление для поддержания цилиндрического подсвечника.
Так как воск и липкий фитиль плавились плохо, такой тип подсвечников очень редко делали из серебра. Из-за небрежного обращения неосторожных слуг на мягком серебре могли остаться следы или подсвечник мог деформироваться в процессе чистки и даже сломаться. Правда, в начале 1570-х годов серебряные подсвечники с углублениями стали пользоваться большим спросом, потому что значительно улучшилось качество свечей. Свечи были двух видов: восковые и из топленого жира, причем восковые стоили намного дороже, поскольку их ценили за аромат и яркость. Вопреки широко распространенному представлению восковые свечи не отливали, а сворачивали. Фитилек из турецкого хлопка вытягивали вдоль плоского куска воска, который загибали вокруг фитилька и скатывали в трубочку — так получалась свеча.
Жировые свечи, которые использовали в середине XVI века, судя по всему, были ужасными. По новому торговому соглашению Россия поставляла в Англию свиной жир. Даже незажженные, свечи из него издавали неприятный запах, а во время горения — просто отвратительный. Причина была в частицах мяса, попадавшихся в жире, и, что еще хуже, из-за них жир таял быстрее, чем горел фитиль. Поэтому эти свечи потоками стекали в подставленные снизу плошки, переливались через край и продолжали течь по столу или вниз по стене. Потом эти остатки собирали и снова переплавляли в свечи. Жировые свечи были намного мягче восковых, и их нельзя было хранить в тепле.
Со временем качество жира, из которого делали свечи, улучшилось. Для того чтобы очистить жир от примесей, его растапливали в медном чане и поддерживали в жидком состоянии, пока все частицы мяса не всплывали на поверхность. Их собирали и отдавали собаке. Очищенный жир смешивали в равных частях с овечьим, а фитиль стали скручивать, чтобы он дольше горел. Жировые свечи светили ярче восковых, от удручающего запаха удалось избавиться, и они стали намного тверже. Теперь подсвечники с такими свечами можно было ставить даже на стол, не опасаясь, что они исчезнут под массой застывшего жира.
По мере того как свечи плавились, фитилек постоянно закручивался, пока его обугленный конец не окунался в расплавленный жир, так что за свечами нужно было постоянно присматривать, для чего нанимали слуг, чьей единственной обязанностью было следить за свечами. Они пользовались серебряными или позолоченными инструментами. Очистители — их лезвия в сложенном виде напоминали валентинку, — с помощью которых снимали нагар или обрезали обуглившийся фитиль, часто украшали эмалью, драгоценными камнями или гравировкой. Со временем нижнее лезвие стало более ровным и слегка вогнутым, чтобы было легче собирать нагар. Позднее для этих же целей добавилась коробочка, которую украшали гербы, сцены из Гомера и Вергилия и сотни других причудливых образов и фантазий. Постепенно на нижнем лезвии появилось острие, и с его помощью стало намного легче поднимать и обрезать фитиль.
В фермерских домах были в ходу железные ножницы для свечей, которые изготавливали местные кузнецы.
* * *
Когда настенные часы, приводимые в движение гирями, с грубым зубчатым механизмом были вытеснены прямоугольными часами с механизмом боя в виде колокола, тогда и появился первый по-настоящему оригинальный тип английских комнатных часов в форме фонаря. Это были железные часы с дверцами с обеих сторон, которые скрывали механизм. Ранние экземпляры были отмечены готическими чертами — подпорками в форме контрфорсов, но позднее корпус часов стали отливать из меди, и контрфорсы уступили место классическим или псевдоклассическим колоннам.
А спустя некоторое время в Англию с континента пришли элегантные переносные часы. Это были квадратные или круглые ящики с циферблатом наверху. Их использовали и как настольные часы. Они очень быстро приобрели такую популярность, что лондонские мастера не успевали удовлетворять спрос, так что пришлось ввозить их из Франции и Германии. Корпус часов обычно изящно украшали драгоценными камнями или гравировкой, и хотя это искусство было больше развито на континенте, чем в Англии, большинство работ все же выполнялось именно здесь.
Англичане упорно продолжали производить часы с гирями, когда мастера на континенте уже предложили более сложные и изящные пружинные часы. Самые элегантные пружинные часы были из золота, серебра или позолоченного серебра. Во дворце Уайтхолл можно было полюбоваться удивительными часами, скорее всего, привезенными из-за границы — их украшал эфиоп, едущий верхом на носороге. Владыку сопровождали четыре раба, которые с боем часов кланялись своему повелителю.
У Елизаветы было множество дорогих часов. Одни из них представляли собой фигуру золотого медведя, который стоял на большой бочке, также отлитой из золота и украшенной брильянтами и рубинами, где и помещались часы. Леди Ховард с изумлением, подчеркивающим уникальность этих часов, сообщает, что они были преподнесены королеве графиней Уорик.
Лейстер подарил Елизавете часы в форме золотого яблока, покрытого зеленой эмалью, усыпанные брильянтами и рубинами. В 1572 году, в качестве новогоднего сюрприза, он преподнес ей золотой браслет с рубинами, брильянтами и жемчужными подвесками, и в дополнение ко всему там были еще и часы. Должно быть, это были одни из первых наручных часов. Они хранились в футляре из расшитого золотом пурпурного бархата с зеленой подкладкой("40").
Лейстер всегда выбирал для королевы необычные подарки, а она, в свою очередь, всегда была очень щедра к своему фавориту. Многие считали, что он был единственным человеком, которого она любила. Помимо земель, титулов и монополий, в течение многих лет он получал от нее ежегодно посуду весом не менее 100 унций[69].
Королева демонстрировала свое расположение щедро и изобретательно, она поощряла авантюристов и пиратов, одобряла торговлю и коммерцию, величие и роскошь, что, возможно, было одной из причин, по которым ее правление было таким плодотворным и процветающим. Тогда воображение не считалось признаком невротического характера, а предприимчивость не была синонимом вульгарности.
Когда мы читаем записи об этих давно исчезнувших подношениях, они по-прежнему воспламеняют наше воображение, удивляют и восхищают наши умы. Кажется, что некоторые из них были найдены в пещере Аладдина — сказочные, бесценные, экзотические, причудливые и фантастические дары, усыпанные драгоценными камнями. Но кроме восхищения и изумления мы можем также проследить происшедшие изменения — от фактического банкротства до полной кредитоспособности, обогащение новых дворян, преуспевание торговцев и купцов, процветание горожан и ремесленников.
В самом начале правления большинство подношений составляли деньги, в которых Елизавета крайне нуждалась. Они были, до известной степени, принудительными дарами — вроде налогов, которые следовало платить в соответствии с положением дарителя, и это касалось даже духовенства.
Например, в 1561 году подношения от епископов составили 339 фунтов 13 шиллингов золотом. Архиепископ Кентерберийский преподнес королеве красный шелковый кошель с 40 фунтами в золотых монетах по 10 шиллингов. Остальные епископы вручили ей по 30, 20 и 10 фунтов, как мы предполагаем, в зависимости от епархии. По какой-то причине епископы Нориджский и Рочестерский преподнесли ей каждый по 13 фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов. В свою очередь королева одарила всех епископов столовым серебром. В том же году архиепископ Кентерберийский получил от королевы позолоченную чашку с крышкой весом в 40 унций «из запасов Ее Величества». Епископ Нориджский получил такой же подарок, только весом в 20 унций. А вот епископу Рочестерскому повезло даже больше, поскольку за свои 13 фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов он удостоился позолоченной солонки весом в 21 3/4 унции. В тот же год английские графы вручили королеве намного меньше денег, чем архиепископ, однако взамен получили значительно больше.
Лорды, бароны, виконты, придворные и их жены, если таковые были, вручали и сами получали подарки. Лоуренс Шреф, бакалейщик, который подарил королеве голову сахару, коробку имбиря и мускатного ореха, а также фунт корицы, получил в подарок солонку из позолоченного серебра с крышкой, весившую 7 унций[70].
В 1578 году, когда Лейстер подарил королеве золотые часы в форме яблока (предполагается, что он разыгрывал Адониса, тогда как Елизавете была отведена роль Венеры), многие по-прежнему дарили ей деньги, но стиль, дизайн и количество прочих подарков сильно изменились. Теперь все чаще встречались драгоценности, предметы искусства, одежда, аксессуары в ренессансном стиле. Так продолжалось до конца правления Елизаветы. Когда Яков I занял трон, он не церемонясь дал понять, что предпочитает наличные любым другим подаркам.
* * *
В то время, наполненное всеобщим возбуждением, театральными представлениями, пышными зрелищами, многочисленными успехами и приобретенными богатствами, внешний вид имел огромное значение. Мужчин не меньше, чем женщин, оценивали по богатству и пышности их туалетов. Мода в годы правления Елизаветы была столь непостоянна, что многие добропорядочные граждане были этим шокированы. «Только собака в камзоле могла бы превзойти моих соотечественников в странности одеяний», — едко заметил Уильям Харрисон. Он не сомневался, что распространение в Англии чужеземной моды «послужит поводом для других наций посмеяться над нами... потому что мы подражаем всем народам, окружающим нас, подобно хамелеону». Этот пастор мечтал о возврате к старомодным благоразумным одеяниям темных тонов. Все эти новые цвета — гусиного помета, зеленый, как попугай, цвет Дрейка, цвет Изабеллы, цвет конины и обилие оранжевого, не говоря уже о шелках, атласе и бархате, который сейчас носят даже обычные люди, — просто немыслимы! Это признак декаданса... Дурные разлагающие веяния из-за границы портят добрую крепкую Англию.
Здесь Харрисон был частично прав, и если не в отношении упадка, то насчет чужеземного влияния. Несмотря на то что англичане не любили и презирали самих иностранцев, они восхищались чужеземной модой. Мнение Харрисона разделял и Эммануэль Ван Метерен, купец из Антверпена, живший в Англии на протяжении всего правления Елизаветы. Он был кузеном Ортелия, географа, и путешествовал с ним по всей Англии и Ирландии. Вот что он говорил об английских нарядах того времени: «Туалет англичан состоит из очень элегантных и дорогих элементов, но сами они крайне непоследовательны и падки до всяких новинок, так что мода у них меняется каждый год, как мужская, так и женская». Английские женщины «хорошо одеты, довольно легкомысленны и, как правило, оставляют заботы о хозяйстве своим слугам. Разодевшись в пышные наряды, они усаживаются перед дверью, чтобы иметь возможность продемонстрировать себя и разглядеть прохожих».
Несмотря на то что Испания была главным врагом англичан, испанская мода была очень популярна. В гардеробе самой королевы можно было найти наряды из всех частей света. Встречаясь с сэром Джеймсом Мелвилом, послом Марии Стюарт, Елизавета каждый день надевала новый наряд. В конце концов, продемонстрировав все свои экзотические наряды, она спросила, какой из них ему понравился больше. Мелвил ответил, что итальянский. Елизавета осталась довольна его ответом, потому что «ей доставляло удовольствие демонстрировать свои золотистые волосы, собранные под сеткой, как в Италии».
К женским нарядам Харрисон относился с большим сарказмом, чем к мужским. Он жаловался, что женские туалеты напоминают «шкатулку для швейных принадлежностей» и у него просто нет слов, чтобы описать эти костюмы, «обильно украшенные лоскутками и разрезами», не говоря уже о рукавах разных цветов. И добавлял более резко, чем этого можно было ожидать от священника: «Их широкие штаны... подчеркивают их задницы... Я встречал в Лондоне некоторых из этих проституток, столь искусно замаскированных, что не мог понять, кто предо мной: мужчина или женщина»; и «женщины превратились в мужчин, а мужчины — в чудовищ».
Здесь Харрисон в первую очередь осуждает молодых горожанок, а не представительниц высшего сословия. Приезжие иностранцы отмечали, что жены торговцев стали одеваться так пышно, что их невозможно отличить от светских дам. Эти чужеземцы фактически наблюдали, как в Англии рождается средний класс.
Несмотря на всяческое неодобрение, мода от придворных и представителей высшего сословия продолжала неуклонно распространяться в массы. Конечно, на всех официальных мероприятиях Елизавета появлялась в шикарных одеяниях, но, как нам известно, в частной жизни одевалась относительно просто. После смерти королевы ее гардероб насчитывал «3 тысячи платьев и 80 париков различных цветов»(41) — большой путь для практически нищего ребенка, которым после казни матери совершенно пренебрегал отец. В детстве у Елизаветы не было всех этих платьев, костюмов, белья, сорочек, рукавов, кашне, косынок, ночных сорочек, чепцов и носовых платков.
Видимо, Елизавета унаследовала свою любовь к роскоши от отца, перед которым преклонялась, но вполне возможно, что на будущую королеву оказала влияние одна из жен Генриха VIII, Анна Клевская. После развода личные отношения Анны и Генриха по-прежнему оставались очень теплыми. Она была для него как «сестра», а он, без сомнения, довольный тем, что избавился от уродливой принцессы, которая не стала поднимать из-за этого шума, обеспечил ей большую ежегодную ренту.
Анна очень комфортно устроилась в Англии и поражала воображение придворных, появляясь каждый день в новых нарядах. Елизавета и ее сводный брат Эдуард были отданы на попечение женщины, которая относилась с большой любовью и добротой ко всем детям Генриха. Во время коронации Марии Тюдор Елизавета сидела в коляске, запряженной шестеркой лошадей, рядом с великолепно одетой Анной. Известно, что дети стремятся подражать тем, кого любят и кем восхищаются, поэтому можно сказать, что любовь и обожание, которые Елизавета испытывала к Анне и Генриху, до определенной степени выражались в пышности ее нарядов.
Помимо любви к роскоши, эта королева обладала потрясающей способностью предугадывать, что люди хотят видеть в своем правителе — особенно в полубогине. Так что во время всех публичных появлений, а они были весьма многочисленны, она одевалась так, чтобы соответствовать своей роли. На ней было много украшений, великолепная одежда, отделанная золотом, серебром, жемчугом, рубинами и полудрагоценными камнями. Она даже надевала туфли на высокой подошве, чтобы казаться выше, как греческие боги не чурались того, чтобы увеличить свой рост и выглядеть более величественно, «снисходя» до появления перед простыми смертными.
Ни одна женщина при дворе не смела превзойти королеву в богатстве наряда, хотя могла попытаться сделать это у себя дома. Придворные дамы могли соперничать с Елизаветой в более простых вещах, но горе им, если они пытались обойти ее в новизне и смелости фасона. Побои, рукава, оторванные королевской, и без сомнения, самой прекрасной рукой, едкое замечание, карикатура — вот что ожидало их в итоге.
* * *
Итак, в те времена одежда стала просто немыслима без драгоценностей, и на официальных мероприятиях знать, а также приближенные надевали наряды, расшитые драгоценными камнями.
Умение мастера огранить и подобрать оправу для драгоценного камня достигло тогда очень высокого уровня, а сами ювелирные изделия отличались ярко выраженной индивидуальностью. Улучшилась и техника гравировки драгоценных камней. Дизайн изделия часто диктовался формой камня. Большие, неправильной формы жемчужины превращались в тело дракона с покрытыми эмалью и драгоценными камнями крыльями или в корпус микроскопического галеона с золотыми снастями и парусами, украшенными драгоценными камнями.
Тогда же появился новый тип украшений — «портрет, выгравированный на драгоценном камне», — который сразу приобрел огромную популярность. Один из лучших его образцов, выполненный в 1574 году, хранится в Британском музее. Это бюст Елизаветы, окруженный венком из белых и красных роз, покрытых золотом.
Даже пуговицы в то время были маленькими произведениями искусства и стали столь популярны, что их преподносили Елизавете в качестве подарка по многим случаям. Среди них было пять дюжин золотых пуговиц в форме короны с цветком на вершине — каждая украшена жемчужиной, и восемнадцать покрытых эмалью золотых застежек с пятью брильянтами и шестью рубинами. Королеве также принадлежала огромная коллекция петель для шнурков, которые можно было переносить с одного платья на другое: золотые, серебряные, покрытые разноцветной эмалью, а некоторые даже украшены жемчугом.
Однако королева часто что-нибудь теряла. 14 мая 1579 года в Вестминстере «Ее Величество потеряла со своей спины... один маленький желудь и дубовый лист из золота». Во время другого выхода она лишилась двух золотых пуговиц в форме черепахи, украшенных жемчугом. С другой пуговицы она потеряла жемчужину. В Ричмонде в 1583 году на ней было надето пурпурное платье, расшитое серебром, и она потеряла брильянт с его застежки. Она также осталась без золотой рыбки, пропавшей с ее шляпки, и по несчастной случайности во время визита в Хоустид-холл уронила в ров серебряный веер.
Две последние вещи были действительно потеряны, но пропажа пуговиц, застежек, петель и украшений с ее платьев — а их было очень много — объяснялась скорее сильным желанием людей завладеть чем-то, что принадлежало королеве и соприкасалось с ее выдающейся особой... и поэтому могло считаться талисманом или амулетом, предохраняющим, возможно, от гнева самой правительницы. Такой трофей становился объектом почитания, который передавали из поколения в поколение. Вполне вероятно, что подобные мелкие вещи срезали с ее платьев те, кто сидел рядом с ней во время празднеств, застолий и театральных представлений. Эти пропажи записывали в домовые книги так же тщательно, как и подарки, и оставалась маленькая надежда на то, что потеря обнаружится. Но теперь для этой трудной и обстоятельной работы архивариус пользовался настольным прибором из серебра, заменившим прежние медные и оловянные.
Богачи предоставляли такие приборы своим писцам: считалось, что великому человеку не подобает самому писать письма. Настольный прибор состоял из нескольких отделений: для перьев, для чернил и для порошкообразного угля или песка. Для письма использовали бумагу, но для официальных документов нужен был пергамент. Его маслянистую поверхность предварительно натирали измельченным углем. Ошибки вырезали специальным ножом для бумаги, а неровности посыпали тем же углем (возможно пемзой) и приглаживали собачьим зубом или агатом. Интересно заметить, что промокашка тогда была уже известна многие годы. Хорман в 1519 году писал: «Промокательная бумага служит для высушивания влажного письма, чтобы не образовывалось пятен или клякс».
Королева, не чуравшаяся собственноручно писать личные письма, хранила свою писчую бумагу в двух небольших искусно изготовленных серебряных ящичках. У нее также было много записных книжек, среди которых была пара золотых, украшенных кузнечиками. Говорят, что она могла одновременно писать одно письмо, диктовать другое, слушать историю и давать к ней уместные комментарии. «Мальчик Джек», обращалась Елизавета к Харрингтону в записке, прилагавшейся к экземпляру речи, произнесенной ею в Парламенте в 1576 году, в которой она объясняла, как ей уже не раз приходилось, почему она отказывается выйти замуж. «Я заставила секретаря Палаты лордов точно записать для тебя мои бедные слова, так как таким юношам, как ты, пока нельзя посещать парламентские ассамблеи. Обдумай их на досуге, пока они не станут тебе понятны, возможно, ты сможешь извлечь из них какие-то плоды, когда воспоминания о твоей крестной уже исчезнут, — я делаю это, поскольку твой отец был готов служить и любить нас в трудную минуту...»
Возможно, «мальчик Джек» и обдумал эти слова, однако не получил продвижения по службе через свою крестную, хотя и очень старался. Она считала его совершенно справедливо чересчур легкомысленным, чтобы сделать министром или придворным, и почти «племянником», чтобы избрать своим фаворитом. Временами Елизавета вела себя с Харрингтоном как любящая, но строгая тетя, а он, по собственному признанию, испытывал перед ней благоговейный трепет. После злополучного предприятия Эссекса[71] в Ирландии, когда она пришла в ярость и приказала ему покинуть двор, он не стал дожидаться повторения приказа и, по его словам, «даже если бы все ирландские повстанцы следовали за мной по пятам, я не смог бы убежать быстрее, чем сейчас от той, которая внушает мне одновременно любовь и страх».
Однажды Харрингтон подарил королеве в знак своей любви — и надежды на продвижение — золотое сердце, украшенное небольшими рубинами и тремя маленькими жемчужинами. Из сердца вырастала крохотная веточка с красными и белыми розами, выполненными из крохотных бриллиантов и рубинов. Он спрятал свой подарок за диванную подушечку. Возможно, он чувствовал, что его подношение было слишком скромным, чтобы сравниться с роскошными дарами других. В свою очередь она преподнесла ему 40 унций серебра, но не более. Он не удостоился иного знака внимания, кроме, пожалуй, улыбки и комплимента по поводу нового костюма("42").
* * *
Помимо драгоценностей и ювелирных изделий, число предметов искусства, заполнивших интерьеры новых особняков и дворцов, было огромным. Цветочные горшки из золота, украшенные полудрагоценными камнями. Серебряные, золотые и алебастровые коробочки для леденцов — простые или сверкающие камнями — в виде раковин и больших грецких орехов. Золотые цветы, на которых вырезанная из агата муха запуталась в паутине из серебряных нитей с блестящими бриллиантовыми росинками; бабочки, распростершие свои усыпанные драгоценными камнями крылья, на изогнутых лепестках или листьях. Золотые коты, играющие с мышью из золота, серебра или агата. Лягушки, обязанные своей пупырчатой зеленой кожей близко посаженным изумрудам, уставили выпуклые глаза на соловьев, усыпанных жемчугом, бриллиантами и рубинами. Покрытые эмалью саламандры, светящиеся в пламени свечей. Все виды птиц и зверей — реальных, придуманных, мифологических — были очень популярны в качестве украшений. Впрочем, это в равной степени касалось и человеческих фигур. У королевы была золотая фигурка женщины с рубином на животе.
Очень высоко ценились миниатюры — «крохотное подобие», и миниатюрная живопись того времени достигла небывалого уровня мастерства. Миниатюры обрамляли в рамки из драгоценных камней и хранили в усыпанных драгоценными камнями футлярах.
Когда в 1564 году сэр Джеймс Мелвил нанес визит королеве в качестве доверенного лица Марии Стюарт, она пригласила его в свои покои. Пока он держал свечу, Елизавета открыла личную шкатулку, в которой, по его словам, «хранились различные маленькие картины, завернутые в бумагу, а сверху ее собственной рукой были написаны имена. На первой же картине, которую она достала, было выведено: "изображение моего господина"». Поддавшись на уговоры, королева позволила ему взглянуть на миниатюру, и тут выяснилось, что «господином» был Роберт Дадли, недавно ставший графом Лейстером. Это показалось Мелвилу несколько странным, ведь Елизавета только что намекнула ему — довольно серьезно, если согласиться с мистером Нилом(43), — что Лейстер мог бы стать подходящим мужем для Марии Стюарт. Возможно, она просто решила отомстить королеве Шотландии, которая зло заметила, будто до нее дошли слухи о том, что королева Англии собирается выйти замуж за своего конюшего. Елизавета также продемонстрировала Мелвилу миниатюру с изображением Марии, которую она поцеловала, и «прекрасный рубин размером с теннисный мяч». Мелвил довольно ехидно посоветовал Елизавете послать Марии либо изображение Лейстера, либо рубин, но та сразу же заявила, что если Мария последует ее советам, то «со временем получит все, что принадлежит ей», и вручила Мелвилу бриллиант.
Кто был изображен на остальных столь бережно хранимых миниатюрах, нам неизвестно. Возможно, на некоторых из них были портреты тех, кто просил ее руки. Другие, без сомнения, когда-то принадлежали ее отцу и сводным брату и сестре.
Зажиточные торговцы и богатые горожане, ценившие предметы искусства скорее по размеру, чем по качеству работы, не очень интересовались миниатюрами, но им нравилось иметь собственные портреты, которые стоили довольно дорого. Даже люди среднего достатка стали покупать картины, чтобы украсить свои жилища, так что торговля дешевыми картинами, ввозимыми из Нидерландов, разрасталась. Их продавали в лондонских лавках, расположенных в основном между Чаринг Кросс и Темплем, а также на базарах по всей стране.
На ярмарках торговали множеством различных безделушек, и фермеры, покупавшие «различную утварь для украшения своих буфетов»(44)? позволяли женам и дочерям приобретать бусы и браслеты для себя, а для дома — последние новинки из Лондона, в том числе и диковинные картинки или росписи по дереву, чтобы повесить на стену. И хотя многочисленные памфлеты и книги того времени предупреждали, что расточительность жены ведет к смертному греху, если уже не есть этот грех, эти предостережения совершенно игнорировались. Напрасно Уильям Воган писал о жене, что «ее наряд не должен быть слишком шикарным, поскольку завитые локоны, яркие одеяния, украшенные вышивкой, драгоценными камнями и усыпанные золотом, являются предвестниками супружеской измены»(45). Женщинам доводилось слышать подобные высказывания и раньше, и не раз еще предстояло услышать впоследствии. Но если специальный закон ограничивал роскошь женских одежд, хозяйка могла, по крайней мере, украсить свой дом различными безделушками. И если у детей богачей были серебряные игрушки, то дети из менее обеспеченных семей играли деревянными фигурками, раскрашенными растительными красителями.
Любопытно, что последним криком моды были известные еще со Средних веков чаши из кокосового ореха, особенно популярны отделанные серебром и украшенные гравировкой. (см.илл.) Одна из них, предположительно принадлежавшая королеве, была выставлена на ярмарке антиквариата в 1952 году. На ней была выгравирована корона и королевская монограмма «Е. R.», а внизу — роза Тюдоров, а на другой стороне — дикобраз. Это животное было изображено и на гербе Лейстера, а также его племянника сэра Филиппа Сидни, и нам до сих пор неизвестно, был ли это подарок королеве или дар от нее. Чаши делали даже из страусиных яиц, и они придавали обстановке некий фантастический оттенок.
Обитателем этой фантастической реальности была и райская птица, чучело которой длиной около 27 дюймов хранилось в Виндзорском замке. Судя по описанию, ничего похожего на нее не было ни в раю, ни в аду... Синий клюв, желтая макушка; затылок всех цветов радуги; красные перья на спине, желтые крылья длиной в 4 фута, а из спины вырастают две «жилы», «с помощью которых она, так как у нее не было лапок, могла прикрепиться к деревьям, если ей хотелось отдохнуть»(46). Очевидно, что эта диковинка была сделана китайскими мастерами специально для «большеглазых торговцев» с Запада.
В Виндзорском замке также был рог единорога[72] длиной в 12,5 фута и стоивший 100 тысяч фунтов. И хотя его считали противоядием ко всем возможным ядам, королева держала эту ценность на «черный» день. Стоимость всей добычи, награбленной Дрейком в один из его самых удачных набегов на португальские корабли, составила около 114 тысяч фунтов, что считалось просто сказочным уловом. Учитывая стоимость рога, королева, которая всегда нуждалась в деньгах, наверняка продала его, особенно если учесть, что в ее замке был еще один — по крайней мере, так заявлял князь Анхальтский, посетивший Англию в 1598 году. Он отчетливо помнил, что видел два рога: «один совершенно ровный, другой в виде спирали длиной почти в 4 локтя»(47). Возможно, что королева действительно продала один из них или подарила. Известно, что в набитых золотом сундуках почтенной герцогини Сомерсет остались два кусочка рога единорога в кошеле из красной тафты.
Наверняка существовали и другие бесчисленные сокровища, о которых нам ничего неизвестно, прекрасные и причудливые. В одном из королевских дворцов была маленькая комната, которую называли «Рай»: попав в нее, любой был ослеплен блеском золота, серебра и драгоценностей. Там хранился и музыкальный инструмент, целиком сделанный из стекла, за исключением струн. Христиан I, саксонский курфюрст, подарил королеве доску для игры в шашки, сделанную из драгоценных камней, среди которых было 32 изумруда.
Елизавета играла в шашки, шахматы, карты, primerо — ранний вариант покера — и, как и ее отец, была очень музыкальна. Яков Ратгеб сообщает, что во дворце Хэмптон Корт, кроме превосходных картин и письменных столов, инкрустированных перламутром, он видел «органы и музыкальные инструменты, которые Ее Величество очень любила». В музее Виктории и Альберта можно увидеть замечательный вёрджинал[73] — инструмент клавесинной группы, по виду похожий на спинет, с монограммой Елизаветы. Королева также играла на лютне и однажды подарила свою украшенную драгоценными камнями лютню из эбенового дерева новорожденному сыну сэра Лайонела Тольмача во время своего визита в Хельмингтон-холл, где она стала крестной матерью ребенка. Королева обожала детей, певчих птиц, обезьян и маленьких собачек.
А еще она очень любила серьги. По сообщению Пауля Хенцнера, она хранила их вместе с другими мелкими драгоценностями в маленьком ларце, украшенном жемчугом. Во время встречи с ним она была одета в великолепное платье из белого сатина, окаймленное жемчужинами «размером с боб», а сверху на ней была накидка из черного шелка, расшитая серебряной нитью. Вместо цепи она надела прямоугольное ожерелье из золота и драгоценных камней, а на ее все еще прекрасных руках сверкали кольца. Ее голову в красном парике увенчивала небольшая корона, а в ушах сияли две жемчужины с богатыми подвесками.
Учитывая существовавший тогда культ королевы, мы можем не сомневаться, что каждый, кто мог, старался ей подражать. Она была законодательницей моды для двора, которая оттуда, в свою очередь, распространялась по всей стране. А это благоприятно сказывалось на торговле. Ювелиры, золотых дел мастера, производители посуды, часовщики, ткачи, красильщики, кружевницы, лудильщики, портные и изготовители подсвечников богатели с каждым новым витком моды. Некий Леонард Смит, портной из Лондона — а портные хорошо зарабатывали, — среди прочих диковинок в своем доме имел «морского конька, или родонит — совершенно необычный и редкий камень», а также зеркало, украшенное золотом, серебром и бархатом, усыпанным жемчугом.
У Елизаветы было много зеркал. В одном из них, «украшенном колоннами и маленькими статуями из алебастра», она впервые, должно быть, увидела себя состарившейся — и возненавидела все зеркала. Какой она была тогда, мы можем себе представить по описанию французского посла де Месса. Королева страдала от невыносимой зубной боли и, извинившись за наряд, приняла посла в халате.
Как сообщает нам посетитель, она была «странно облачена в платье из серебряной ткани — или газа — с очень высоким воротником, подкладка которого была вся украшена маленькими подвесками из рубинов и жемчужин. На голове у нее был венок из той же ткани, покоящийся на огромном рыжем парике с золотыми и серебряными блестками, а на ее лоб свисали несколько жемчужин. Что же касается ее лица, — продолжает он, — то вытянутое и худое, оно выглядит очень старым. Зубы желтые и неровные, и на левой стороне их осталось меньше, чем на правой. Многих зубов не хватает, поэтому когда она говорит быстро, ее речь не так просто разобрать. У нее по-прежнему высокая красивая фигура и выглядит она грациозно. Насколько это возможно, она сохраняет чувство собственного достоинства, держась сдержанно и в то же время снисходительно».
Такой он увидел ее в первый раз. Позднее, познакомившись получше, они обсуждали его миссию, и внезапно она обернулась со словами: «Господин посол... видите, что значит иметь дело с такой старухой, как я». Она произносила это уже не раз, обращаясь к де Мессу и прочим, и отчаянно ждала, что собеседник откажется признать правду. И де Месс оправдал ее ожидания.
Но безжалостное ясное зеркало, обрамленное колоннами и скульптурами, не могло скрыть правду. И по этой причине последние двадцать лет своей жизни Елизавета не смотрелась в зеркало. Ни одно зеркало, дешевое или дорогое, не могло отразить ее истинный образ, ведь богини не могут стареть и терять зубы. Сколько лет было Диане, когда она полюбила Эндимиона? Сколько было Венере, когда от яркой крови Адониса темный лес вспыхнул актинидиями? Они не имели возраста... как и она.
И несмотря на то что Роберт Дадли умер в год разгрома Армады — умер совсем неромантично, от лихорадки в Корнбэри-парк в Оксфордшире, — у нее по-прежнему были Адонисы и Эндимионы, чтобы доказывать свое бессмертие. Среди них был прекрасный Эссекс и юный привлекательный Чарльз Блаунт, которому она подарила золотую шахматную фигурку королевы в знак своего расположения после его успехов на турнире. Чарльз носил золотую королеву на рукаве, чем так оскорбил Эссекса, что тот вызвал его сразиться на рапирах.
Ей не было необходимости смотреться в лживое зеркало. Образы Глорианы, Бельфебы, Цинтии, несравненной Орианы, Мерсиллы, Морской Девы, Феникса Мира, нетленные и неподвластные времени, хранят строки ее поэтов, сияют во взглядах ее придворных, вызывают преданность и ревность ее фаворитов — и подтверждение тому кровь юного Эссекса, раненного подобно Адонису в бедро рапирой Чарльза Блаунта.
Глава пятая Культура питания, как ее понимали елизаветинцы
Улицы Сэндвича были увешаны гирляндами и покрыты гравием. У ворот города «на одиннадцати подпорках стояли позолоченные фигуры»(48) английского льва и дракона — символа Тюдоров. Это было 31 августа 1573 года. В город на четыре дня должна была приехать Елизавета. Она прибыла вовремя и была встречена городскими чиновниками, среди которых были и священник прихода Святого Клемента, и городской учитель, произнесший речь, которую королева тактично похвалила, сказав, что та была одновременно «хорошо продумана и очень красноречива». После чего ей в дар преподнесли золотой кубок и Новый Завет на греческом — подданные очень гордились тем, что их королева могла свободно читать на этом языке. Но самым ярким событием четырехдневных празднеств был банкет, устроенный королевой в здании школы.
Королева остановилась в доме мистера и миссис Мэнвуд. Миновав их сад, она вышла к зданию школы. Перед входом мистер Айзбренд произнес речь и вручил ей кубок из позолоченного серебра. Когда она наконец оказалась внутри, то увидела, что школа превратилась в загородный дом. Там стоял стол длиной в 28 футов, на котором было выставлено не менее 160 аппетитных блюд.
Королеве так понравился банкет, что она приказала «отложить некоторые блюда и отнести в ее резиденцию».
Этот жест, продемонстрировавший расположение и благосклонность гостьи, вызвал всеобщее удовольствие.
Здесь Елизавета проявила исключительный такт, великодушие, симпатию и понимание. Дома она была довольно сдержанна в еде, но в разъездах привыкла к столь великолепным и пышным приемам, что простой стол из 160 блюд мог ей показаться ничтожным. И так бы оно и было, если бы королева была снобом или если бы прием был организован каким-нибудь богатым придворным. Но добрые жители Сэндвича были не богатыми придворными, а ее верными подданными, и она платила им любовью за любовь. Просьба королевы отослать часть блюд в дом к мистеру и миссис Мэнвуд показала им лучше всяких слов, как высоко она оценила их усилия.
Двумя годами позднее Лейстер в течение восемнадцати дней развлекал королеву в Кенилворте. Пребывание там сильно отличалось от визита в Сэндвич и стоило Лейстеру около тысячи фунтов стерлингов в день. По случаю приезда Елизаветы перед главным зданием возвели временный мост, на котором было устроено представление. Мост украшали семь колонн с мифологическими божествами, которые преподнесли королеве символические дары. Сильван подарил ей клетку с живыми птицами — выпями, кроншнепами, цаплями и веретенниками. На колонне Помоны стояли огромные серебряные блюда с яблоками, грушами, вишнями, грецкими орехами и фундуком. На других колоннах были колосья пшеницы, овса и ячменя; огромные ветки красного и белого винограда; сосуды с красным и белым вином. У колонны морского божества прямо на траве в большом количестве лежала морская рыба. Если учесть, что июль тогда выдался необычайно жарким, можно представить, какой там стоял запах! Последняя колонна была посвящена искусствам, каковыми считались оружейное дело, музыка и медицина. И как всегда, объяснение происходящего было представлено в очень длинных стихах.
На протяжении всего визита развлечения следовали одно за другим. В один из вечеров было устроено водное представление. Деве Озера, восседающей на острове, прислуживала плавающая русалка длиной в 24 фута, а Арион подъехал на огромном дельфине, чтобы произнести речь в честь королевы. Но Арион оказался так пьян, что, забыв свою роль, стянул с себя маску и прокричал: «Я вовсе не Арион, но честный Гарри Голдингэм». Говорят, королеву эта выходка очень позабавила, хотя честный Гарри, без сомнения, позже получил по шее от постановщика представления.
Именно во время этого визита Лейстер устроил самое шикарное за всю историю правления пиршество. Двести человек прислуживали за столом, на котором была выставлена тысяча блюд в хрустальной и серебряной посуде. Все это трудно согласуется с убеждением Харрисона, что теперь англичане стали менее прожорливы, чем раньше.
«До этого, — утверждал он, — за едой и напитками проводили намного больше времени, чем сейчас. Прежде мы завтракали утром, выпивали и перекусывали после обеда и к тому же принимались ужинать, когда пора было уже идти спать... Теперь эти старые привычки, слава Богу, остались позади, и каждый способен, до некоторой степени (за исключением молодых, которые не в состоянии дождаться обеденного времени), довольствоваться только обедом и ужином».
Здесь Харрисон, возможно под влиянием постулата о том, что чревоугодие является одним из семи смертных грехов, возносит благочестивые хвалы новой елизаветинской моде питаться два раза в день. При этом, кажется, он забывает о том, что обжорство измеряется не количеством приемов пищи, а тем, сколько вообще съедает человек. А елизаветинцы ели очень много. Мода на двухразовое питание коснулась только представителей высших сословий. Фермеры и их семьи по-прежнему ели три раза в день и садились завтракать сразу после восхода. Томас Тассер достаточно ясно высказался на этот счет в своей поэме «День хорошей домохозяйки»:
Зови слуг к завтраку, как забрезжит заря, Легкая закуска разбудит парней без промедленья. Пусть хозяйка разделит мясо и приготовит картошку, Каждому полное блюдо с кусочком мяса.Тем не менее дворяне ели не раньше, чем наступит время обеда, — в 11 или 12 часов (это было на час позже, чем во времена Генриха VIII), а ужинали в 5 или между 5 и 6 часами вечера. Купцы и торговцы обедали в полдень, а ужинали в 6 часов вечера. Что касается более бедных людей, то «они обедали и ужинали, когда могли, так что говорить об их режиме питания бессмысленно»(49).
Богатые англичане были радушными и гостеприимными хозяевами, и многие из их постоянных гостей по старой привычке обедали в Большом холле. Здесь хозяин восседал во главе стола на небольшом возвышении, а гости — в порядке, соответствующем их статусу. Чем ниже был стол, тем менее важные персоны за ним обедали. Среди них были домашние, посетители, пришедшие по разным мелким делам, гувернеры и прислуга высшего ранга. В домах сельских помещиков среднего достатка было около сорока слуг, тогда как в больших особняках вроде Хэддон-холла их число доходило до восьмидесяти. На фермах слуги и наемные работники обедали вместе с семьей.
Когда хозяева, семья и приглашенные гости ели отдельно в «обеденной комнате» — а они стремительно входили в моду, — слуги по-прежнему ели в Большом холле, возможно, под присмотром дворецкого. Но с течением времени он превратился в вестибюль и уже не мог использоваться для этой цели. Поэтому у слуг появилась отдельная комната, которую и по сей день называют «столовой для слуг».
Еду готовили в огромных количествах, и то, что оставалось от трапезы хозяев и гостей, доставалось слугам. Остатки от обеда слуг отправляли беднякам, которые толпились в обеденные часы у ворот богатых домов. Бедняков было много, и они буквально голодали. Особенно ужасными были 1560, 1577, 1587 и 1596 годы, хотя Англия была накормлена лучше, чем континент. Даже во время правления Марии Тюдор посетивший Англию испанец записал: «У этих англичан дома сделаны из прутьев и грязи, но едят они как короли». Это замечание вызвало у Харрисона чопорный английский комментарий по поводу иностранцев: «обильная пища в лачуге лучше, чем их собственная скудная еда в пышных жилищах».
Во многих богатых домах, построенных в Англии в то время, особое внимание уделяли кухням. Широко распространен был сводчатый потолок с четырьмя центральными арками, поддерживающими очаг. В кухне помещалась печь из огнеупорного кирпича для готовки и большой кухонный стол в центре комнаты. Помимо обычных вертелов и других инструментов для гриля и жарки, на кухне держали горшки, котелки, жаровню, терку, пестик и ступку, паровой котел, ножи, резак, противни, крюки, рашперы, сковороды, сито, квашню, кочегарную лопату, бочки, кадки. Кроме самой кухни в доме были еще кладовые для продуктов — они составляли ее необходимую часть в течение многих веков, а нововведением была «пекарня» с одной или двумя печами.
В крупных особняках были сухие и влажные кладовые, комнаты для хранения специй, для просеивания муки и другие отдельные помещения для различных целей, связанных с приготовлением пищи. Угли хранили в squillerie вместе с медными горшками и кастрюлями, оловянными сосудами и различными травами. Именно от слова squillerie происходит слово scullery — буфетная. В действительности, к концу века служебные помещения были очень хорошо спланированы и организованы — это искусство было утрачено в последующие столетия и потом заново открыто американцами.
Из кухонных помещений еда на закрытых крышками блюдах попадала на буфетные стойки и серванты. Отсюда ее разносили на столы. К тому времени, как еда достигала самых дальних столов, она становилась холодной, как камень. Вино или эль подавали в кубках или кружках, но так как золото и серебро — не говоря уже об оловянной посуде — были довольно распространенными, богатые люди, демонстрируя свое умение швырять деньги на ветер, ввозили венецианское стекло, которое было очень дорогим и хрупким.
Легкий налет снобизма проник и в более бедные дома, где стали использовать глиняные горшки разных форм и цветов. Помпей в комедии Шекспира «Мера за меру» говорит о трехпенсовом блюде для фруктов: «не фарфор, но очень хорошая посуда».
Но даже если хрупкость легко бьющейся посуды повысила ее ценность и стала символом «величия» владельца, по-прежнему существовали те, кто надеялся найти тот самый «философский камень», который, помимо других чудесных качеств, был бы способен делать посуду гибкой.
Все сосуды для питья — золотые, серебряные, оловянные, кожаные, стеклянные, глиняные или из рога — выставляли на буфетные стойки и серванты, а затем их наполняли и передавали за стол гостям. Когда гость допивал бокал до конца, его вытирали, возвращали на место и наполняли снова, когда было необходимо. Этот обычай был установлен ради сохранения трезвости — добродетели, которая была достаточно редкой в тот бурный век. По крайней мере, иностранцы весьма недоброжелательно заявляли, что это было результатом явной низости происхождения. Но различные специалисты уверяют нас, что пьянство тогда не было так уж распространено и даже осуждалось! Соленые блюда — хотя в это трудно поверить — не очень любили из-за того, что они вызывали сильную жажду, а «для них это было большой неприятностью»(50). Как всегда, это не касалось аристократов и знати, у которых не было проблем с обеспечением питьем, и они, вероятно, сидели с бокалом вина на протяжении всего обеда, как сейчас мы.
Судя по оценкам современников, эти энергичные, полные жизни и зачастую довольно вульгарные англичане питались очень хорошо. И в самом деле, на континенте англичан считали грубыми обжорами, помимо ряда других неприятных качеств. «Любят роскошь и хорошо поесть» — так охарактеризовал англичан датский врач Левин Лемний, посетивший Англию в 1560 году. Но еще раньше француз Этьен Перлен был шокирован поведением англичан за столом. Без сомнения, он был фатоватым и жеманным парнем, поскольку осуждал все английское, но его определенно ужаснула старая английская привычка открыто рыгать за столом даже «в присутствии высочайших особ», — говорил он, считая отрыжку в таком случае lese-majeste[75].
И хотя в то время англичан совершенно не заботило, что думают о них манерные иностранцы, Харрисон все же объясняет слегка извиняющимся тоном: «Северное положение нашей страны обусловливает повышенный жар наших желудков, поэтому наши тела больше нуждаются в обильной пище, чем организм жителей более жарких стран». Что бы ни значили слова «повышенный жар», ясно одно: знать и богатые торговцы — а в то время таких было предостаточно, выделялись количеством перемен блюд, приготовленных для них самих и их частых гостей. Говядину, баранину, мясо молодого барашка, телятину, мясо молодого козленка, свинину, поросятину, крольчатину, каплунов, рыбу, домашнюю птицу и дичь готовили в изобилии и подавали к столу одновременно, «чтобы каждый мог выбрать то, что ему больше нравится».
Англичане очень любили мясо и ели его в больших количествах в отличие, например, от итальянцев, которые ели больше хлеба, салата и зелени. Праздничные и даже обычные обеды, хотя и отличались по количеству и разнообразию блюд, начинались с более изысканных блюд и легких вин, а заканчивались тяжелой едой и крепкими винами, сладостями, фруктами и сыром.
Это было намного более благоразумно, чем режим питания шотландцев, о котором мы узнаем со слов Харрисона: «В последние годы они стали приверженцами обильного и тяжелого питания... они намного превзошли нас в обжорстве и чрезмерности и так растолстели, что некоторые из них теперь способны только на то, чтобы проводить свое время за столом, набивая желудок». Харрисон, который, насколько нам известно, никогда не выезжал дальше Ковентри, к сожалению, не обратил внимания на тот факт, что Шотландия расположена еще севернее, чем Англия, так что у ее жителей было даже больше причин стать обжорами, чем у англичан. Однако, будучи англичанином, он относился к шотландцам с тем же предубеждением, что и к итальянцам. «Что приведет к краху эту страну, — делал он мрачные прогнозы, — так это обычай посылать детей аристократов и джентльменов в Италию, из которой они привозят только безбожие, скептицизм, дурные разговоры и высокомерное и претенциозное поведение... они воз-вращаются намного хуже, чем были до поездки». Таким образом, духовная пища итальянцев вызывала у него не меньшее презрение, чем материальная.
Как сильно все это отличалось от Англии! Здесь даже фермеры хорошо питались и, что более важно, достойно себя вели, особенно «на свадьбах и во время обряда очищения женщин[76] и других праздничных собраниях». Более привычными были плуговой понедельник[77], вторник на Масленой неделе, стрижка овец и праздник урожая — большие деревенские праздники, где всегда много ели и, возможно, даже прилично себя вели. Каждый гость приносил с собой на праздник одно или два блюда. Хозяин, у которого собирались гости, должен был предоставить только хлеб, питье, соус, помещение и очаг.
Во всем остальном эти люди «жили экономно, как и ремесленники, когда не веселились и не пировали, без злобы и просто, без известных французских и итальянских хитростей»(51). Однако с прискорбием приходится признать, что это не совсем справедливо. В некоторых случаях их беседа тоже сводилась к сквернословию и непристойностям, при этом дурные разговоры вели и те, кто никогда не путешествовал.
Томас Кориат[78], в отличие от своего современника Харрисона, одобрял поездки за границу и сам был великим путешественником. Он умер в Индии, после того как выпил слишком много sack[79] — напитка, к которому был не слишком привычен. Так или иначе, он придерживался крайне низкого мнения о домоседах, считая их склонными к грубости, лени, резкости, скандалам, глупости, бескультурью, изнеженности, распутству, сонливости, обжорству, мотовству, безделью и «обольщению всеми вожделениями».
Однако путешествовать было вовсе не просто, поскольку существовали ограничения на обращение денег. Более того, те, кто желал отправиться в путешествие, подвергались допросу Уильяма Сесила, который проверял их знание Англии. Если, по его мнению, путешественник обладал недостаточными сведениями, ему советовали оставаться дома и лучше изучить собственную страну, прежде чем отправляться в чужие. Подобный «отбор», очевидно, обеспечивал Сесилу законную уверенность в том, что недовольные не смогут попасть в Европу и причинить неприятности королеве и Англии.
* * *
Несмотря на поразительное утверждение о том, что англичане были непьющей нацией (и пьянство не было указано в числе дурных качеств домоседов), и несмотря на неприязнь англичан к иноземцам, в Англию каждый год ввозилось от 20 до 30 тысяч бочек вина по 252 галлона. Основную часть выпивки составляло крепкое пиво и выдохшийся эль «стольких сортов и выдержки, сколько соблаговолили приготовить пивовары»(52). Названия напитков были необычными, грубыми и пленительными: «Задира», «Безумный пес», «Ангельская пища» и множество более изысканных.
Существовали также «искусственные напитки» типа полынной водки и ликера. Вот рецепт быстрого приготовления последнего: корицу, белый имбирь, гвоздику, мускатный орех, райские зерна и перец помещали в винный дистиллят на шесть дней. Затем несколько капель этого настоя добавляли в кружку с вином, а отменный напиток «Кружка болтуна» можно было приготовить, смешав полпинты ликера с половиной галлона эля.
Метеглин, пряная медовуха, была очень популярна в Уэльсе, а в Эссексе и других местах пили медовуху более низкого качества, которую называли «шипучкой». Для ее приготовления медовые соты отмачивали в воде с добавлением перца и других специй. Она очень помогала при кашле. Яблочный и грушевый сидр пили в Суссексе, Кенте, Вустершире и в других графствах, хотя Кемден назвал грушевый сидр «поддельным вином, холодным и вызывающим газы».
Изготовлением пива занимались не только пивовары. Каждое крупное хозяйство делало собственное пиво, причем в больших количествах. Жена Харрисона тоже варила пиво, и этот небольшой человечек, чье жалованье равнялось всего 40 фунтам в год, записал, что он получил 200 галлонов на фунт. Сюда входила стоимость солода, бочки, жалованье и еда для слуг, изнашивание оборудования, и все это принесло ему немногим больше пенни за галлон. Хорошее пиво имело цвет мускатного винограда или мальвазии, но шире был распространен более густой по консистенции эль. Эль часто приправляли мацисом, мускатным орехом или шалфеем. Иногда в бочку с элем подвешивали обжаренный апельсин с гвоздикой, чтобы напиток приобрел пряный аромат.
Мускатель и мальвазия были любимыми винами англичан того времени. Кроме этого, популярностью пользовались ventage — белое сладкое итальянское вино, малиновое вино из Греции rasp romnie, сухое белое вино с острова Капри и clary — вино, смешанное с осветленным медом, перцем и имбирем. Белое и красное вино привозили из-за границы в больших количествах, а также еще около тридцати разных видов испанских, греческих и Канарских вин.
За год до коронации Елизаветы Бэсс Хардвикская за три пинты вина заплатила 4 пенса. В начале 60-х годов XVI века бочка вина вместимостью 238 литров стоила 50 шиллингов, бочонок слабого пива — 4 шиллинга 4 пенса, а бочонок крепкого — 7 шиллингов(53).
Герцог Вюртембергский терпеть не мог французских вин и предпочитал им английское пиво. Его секретарь отметил, что «вина, которые доставляют из Франции, поскольку в Англии нет виноградников, не подходят Его Высочеству и он не может их переносить, но пиво, которое имеет цвет старого эльзасского вина, столь восхитительно, что он весьма к нему пристрастился».
Крепкие алкогольные напитки, которые называли aqua vitae или aqua ardens[80], казалось, не употребляли вообще, за исключением, пожалуй, Ирландии, где виски уже стал почти национальным напитком. Спирт в основном использовали в медицинских целях. Джон Герард[81], великий английский травник, упоминал многие случаи его применения, но также и предостерегал против злоупотребления им. Он считал, что спирт «пагубен для всех, кто обладает вспыльчивым темпераментом», и более всего для холериков, разрушительно действует на печень и нарушает работу почек. Конечно, находились те, кого все это не слишком беспокоило, однако маловероятно, чтобы спирт пили в любых количествах. Скорее всего, его почти не употребляли низкие сословия, которые, в отличие от своих жалких потомков XVIII—XIX веков, привыкли к питательному английскому пиву. Чай и кофе появились только в XVII столетии.
Хотя хлеба в Англии потребляли намного меньше, чем в Италии, он, тем не менее, был одним из трех главных продуктов питания того времени. Два других — говядина и пиво. Знать ела белый хлеб, который выпекали из пшеничной муки. Мука была нескольких сортов. Из первосортной муки выпекали плоский круглый каравай, который называли manchet. Он весил 8 унций перед тем, как его помещали в печь, и 6 после выпечки. Белый хлеб для королевы Елизаветы выпекали из пшеницы, которую выращивали в Хестоне в Мидлсексе, поскольку она считалась «лучшей во многих графствах»(54).
В сельских районах Англии ели в основном ржаной и ячменный хлеб, а в голодные годы хлеб выпекали из конского овса, гороха, бобов, вики, чечевицы и даже желудей. В то время бытовала поговорка: «Наступление голода первым увидишь у кормушки лошадей, когда бедняк принимается за лошадиный овес».
Следующим по значимости после хлеба шло мясо. Англия отличалась не только качеством своего мяса, но и способами его готовки. Правда, количество рецептов, которые советовали, как сделать съедобным испорченное мясо, вызывает подозрение, что желудок у подданных Елизаветы был особенно устойчивым к пищевым отравлениям. Естественно, специи помогали преодолеть мелкие последствия неправильного хранения мяса, по крайней мере, в том, что касалось его вкуса. По этой причине вырезку вымачивали в уксусе. Сэр Хью Платт предлагал верное средство спасти «позеленевшую оленину», не используя уксус и специи. Сначала нужно было удалить кости, завернуть мясо в старую ткань с крупнозернистой структурой, вырыть в земле яму глубиной 3 фута и поместить туда мясо на 12—20 часов в зависимости от степени испорченности. После этого оно становилось пригодным к еде.
Вкус некачественного мяса часто перебивали различными соусами, а так как елизаветинцы знали о вредном воздействии уксуса и других кислот на медную утварь, соусы готовили в серебряных мисках, а подавали в специальных «соусниках» — мелкой посуде из серебра, стекла или фарфора. Одной из самых любимых приправ была горчица. Ее подавали в небольшом соуснике, предварительно смешав с уксусом или неперебродившим виноградным соком.
Тем не менее англичане славились своим умением готовить мясо. Файнс Морисон, страстный любитель путешествий, вскоре после смерти Елизаветы составил записки о своих поездках, где заметил: «В сравнении с другими нациями англичане больше всего любят жареное мясо». Неутомимый Харрисон подает нам идею, позволяющую определить причину этого пристрастия. Он объясняет, что мясо жарили не на свином жире, а на нутряном сале быка или барана и во время готовки обильно поливали сладким или соленым маслом.
И тут мы узнаем очень любопытный факт: бедняки ели масло так же, как мы теперь, а богачи использовали его только для готовки. При этом масло не умели тщательно очищать и замораживать, поэтому оно очень быстро, особенно летом, превращалось в прогорклое жирное месиво и, должно быть, весьма напоминало топленое масло. Прогорклое масло часто рекомендовали принимать в качестве слабительного, полагая, что оно приобретает целебные свойства после того, как четырнадцать дней полежит на солнце, — за это время оно вполне успевало впитать витамин D. Такое «облученное» масло советовали принимать в качестве укрепляющего средства при болях в суставах, вызванных холодной и сырой зимой. Масло составляло часть ежедневного рациона королевы.
Питательные свойства молока ценились высоко, однако его не умели хранить. Молоко, а также сыворотка и пахта были скорее едой сельских жителей, чем горожан. Это касалось и сыра — зеленого и твердого. Зеленым был мягкий, только что свернувшийся сыр, похожий на прессованный творог. Его, как правило, готовили летом, тогда как твердый сыр можно было хранить всю зиму. Странно, но все молочные продукты, включая яйца, называли «белым мясом».
Среди рецептурных блюд нужно отметить «польские сосиски», ужасающий рецепт приготовления которых приводит Хью Платт, а пирог с олениной не встретишь ни в одной другой кухне мира. Супруги Пейдж пригласили судью Шеллоу и его племянника Слендера отведать «горячий паштет из оленьей печенки»(55).
Засоленная свинина была известна только в Англии. Ее ели с ноября по февраль — в связи с недостатком свежего мяса — и особенно на Рождество. Для ее приготовления использовали передние части годовалой или двухгодовалой свиньи, которую специально откармливали овсом и горохом. Мясо вымачивали, мариновали, обильно поливали пивом и сдабривали специями. Учитывая, каким должно было это блюдо получиться на вкус, непросто поверить в правдивость следующей истории, рассказанной с нескрываемым ликованием протестантским пастором из Редвинтера. Случилось так, что английский дворянин послал большой свиной окорок католику во Францию, «который, предположив, что это рыба, оставил ее на время Великого поста и ел крайне экономно каждый день». Этому несчастному католику так понравилась засоленная свинина, что он послал в Англию «за рыбой для следующего поста». По этому поводу Харрисон замечает с плохо скрываемым удовольствием и скептицизмом: «если бы он знал, что это мясо, он не притронулся бы к нему и за тысячу монет — осмелюсь сказать — без папского разрешения»("56").
Рассказывали еще более печальную историю об одном англичанине, жившем в Испании, который подал солонину на обед своим еврейским гостям. Они также с наслаждением отведали предложенное блюдо, приняв его за какую-то неизвестную рыбу. Закончив обед, хозяин — обладавший весьма бесчувственной натурой — показал им свиную голову и со смехом объяснил, что это и есть то неизвестное животное, из которого была приготовлена эта «странная рыба». Несчастные евреи не задержались там ни минуты. Они устремились домой, чтобы извергнуть из своих желудков неподобающую пищу.
Утверждение, что свинина по вкусу напоминала рыбу, кажется еще более примечательным в свете того факта, что рыба составляла значительную часть рациона англичан того времени. Нам известно, что даже в самом захудалом домишке в Англии был небольшой садок или яма в земле, наполненная водой, где держали рыбу — линя, угря, леща, плотву и ельца(57). Сэр Хью Платт, главными интересами которого были улучшение почвы, советы по ведению хозяйства и консервирование еды, советовал заворачивать омаров и раков в смоченные соленой водой тряпки, а затем закапывать их в сырой песок «в подходящем месте». Устрицы можно было замариновать, как он утверждал, и хранить в течение долгого времени.
Подданные Елизаветы были просто вынуждены есть рыбу. В самом начале ее правления были изданы законы, запрещавшие есть мясо во время Великого поста и по пятницам. Эти постановления имели мало отношения к религиозным обрядам — они должны были поддержать мореплавание и оживить захудалые прибрежные городки, что было крайне существенно для сохранения и развития флота.
Хотя «рыбные» законы были, скорее, продиктованы политическими, чем религиозными, целями, они были призваны ограничить потребление говядины и баранины и в зимнее время. Принудительный характер этих постановлений доказывает тот факт, что в 1563 году в Лондоне хозяйка таверны была пригвождена к позорному столбу за то, что во время Великого поста у нее в таверне хранилось мясо. Более привычным наказанием был штраф в 3 фунта или три месяца тюрьмы. К 1585 году действие этого закона было прекращено — то ли флот стал достаточно сильным, то ли обеспечивать исполнение этого закона стало слишком сложно.
Сама королева строго соблюдала эти законы, что легко проследить по записям в ее домовых книгах. Например, в среду 22 ноября 1576 года, во время Рождественского поста (в День святого Мартина), обед королевы состоял из двух блюд, и оба были приготовлены из рыбы. Первое — щука, лосось, пикша, морской петух и линь, второе — осетр, морской угорь, сазан, миноги, филе лосося и окуня. За ужином мясо тоже не подавали. В пятницу на той же неделе для королевы вообще не было составлено никакого меню: либо она соблюдала строгий пост, либо была больна, либо уехала с визитом, — но ее слуги отобедали, хотя их трапеза состояла не только из рыбы.
Семья Анкастер запасалась белой сельдью по 23 шиллинга 4 пенса за бочку, а Бэсс Хардвикская была неравнодушна к креветкам — то и дело в ее домовых книгах появлялась запись: «наименование: креветки, 2 пенса», сделанная ее четким разборчивым почерком или более мелким, красивым и трудным для чтения почерком ее слуги.
Англичанам было известно множество видов рыбы. Она пользовалась спросом не только в прибрежных городах — ее солили и отправляли в глубь страны. Особенно были богаты рыбой отмели близ острова Ньюфаундленд[82]. А копченые и спрессованные сардины из Корнуолла вывозили даже в Испанию!
Что касается птицы, как домашней, так и дичи, то здесь разнообразия было не меньше: цапли, дикие и домашние лебеди, казарки, жаворонки и ржанки, не говоря уже о перепелах, которых доставляли живьем в огромных количествах из Нидерландов. Кроме того, были чирки, дикие утки, селезни, утки-широконоски, чибисы, серые куропатки, перевозчики, нырки и фазаны. Возможно, что эти виды птиц ели не везде, но сэр Хью Платт приводит рецепт приготовления воробьев, а Бэсс Хардвикская заплатила 9 пенсов за «дюжину и одного воробья». За жаворонков ей приходилось отдавать от 8 до 10 пенсов за дюжину; как и креветки, эта статья расходов довольно часто встречалась в ее домовых книгах. Большим спросом пользовались голуби, и их разводили в таких количествах, что они начали наносить вред сельскому хозяйству(58). Кроме этого, в чести были петухи, курицы, гуси, утки, павлины и индейки. Петухов, индюков и павлинов кастрировали, что значительно улучшало вкус их мяса.
Харрисон, всегда готовый возносить хвалу Господу с энтузиазмом, сравнимым только с тем пылом, с которым он пел дифирамбы всему английскому, говорил: «Хвала Господу и нашему суверену, что мы не обедаем ножкой или крылом курицы и не закусываем хохолком петуха, как приходится делать жителям других стран; но если планируется важное событие, то мы подаем на стол целых каплунов, куриц, голубей и тому подобное в изобилии, и это помимо говядины, баранины, телятины и мяса молодых барашков, которые неизменно присутствуют на каждом английском застолье». Трудно представить, как их могли превзойти еще более прожорливые шотландцы.
В обычные дни, когда гостей не ждали, зажиточные семьи обходились куском говядины, филе телятины, двумя курицами, апельсинами и соусом на обед, а на ужин готовили лопатку барашка, двух кроликов, свиные ножки, закусывали холодной говядиной и сыром. Поистине для поддержания сил энергичным елизаветинцам требовалась богатая протеинами диета.
* * *
Во время правления Елизаветы цены на продукты питания постоянно росли. К 1572 году лондонские торговцы домашней птицей так взвинтили цены, что лорд-мэр и члены городского управления были вынуждены вмешаться и установить следующие расценки: лебеди высшего сорта — 6 шиллингов 8 пенсов, молодой лебедь — 6 шиллингов, аист — 4 шиллинга, пеликан — 2 шиллинга, гусь — 1 шиллинг 2 пенса, цыплята высшего сорта — 4 пенса, жаворонки — 8 пенсов за дюжину, черные дрозды — 1 шиллинг за дюжину. Масло за фунт вплоть до Дня Всех Святых — 3 пенса, яйца высшего сорта до среды на первой неделе Великого поста продавали четыре штуки на 1 пенни или 1 фартинг за штуку. В 60-е годы тридцать пять дюжин яиц стоили 5 шиллингов 10 пенсов. Учитывая новую цену, установленную на яйца, теперь то же количество обошлось бы уже в 8 шиллингов 9 пенсов. К концу правления Елизаветы яйца стоили уже пенни и фартинг за штуку, или 2 фунта стерлингов 3 шиллинга и 9 пенсов за тридцать пять дюжин — почти в восемь раз дороже, чем в начале.
Несмотря на рост цен, ремесленники, особенно в городах, жили хорошо. Как и фермеры, они ели три раза в день, начиная с завтрака в 6 или 7 утра, состоявшего из хлеба, соленой сельди, холодного мяса, похлебки, сыра и эля. В середине дня они, как правило, обедали в таверне или покупали еду в харчевне. В Лондоне и других городах подобных заведений было в избытке. Там подавали горячие бараньи ножки, скумбрию, супы, устриц, говяжьи ребрышки и мясные пирожки вместе с хлебом, фруктами и элем. Ужинали ремесленники дома холодным мясом, сыром и вином. Их рацион также был богат протеинами. Даже заключенные в исправительных домах питались тогда лучше, чем англичане во время Второй мировой войны. По мясным дням здесь на обед и ужин подавали восемь унций ржаного хлеба, пинту овсяной каши, четверть фунта мяса и пинту пива. В рыбные дни вместо мяса они в каждый прием пищи получали одну или две сельди и треть фунта сыра. Те, кто соглашался на дополнительную работу, получали еду сверх положенного, а тем, кто вообще отказывался работать, давали только пиво и хлеб.
Рацион деревенских работников был более разнообразным и здоровым, чем у городских ремесленников, поскольку помимо обычной телятины, бобов, рыбы, баранины и солонины в их рационе было «белое мясо», которого не хватало в городе. Они также ели овощи и травы, а в дополнение к пиву пили молоко, пахту и сыворотку.
В том, что касается еды, королева следовала рациону ремесленников. Двухразовое питание, введенное в моду привыкшими поздно вставать женщинами, было не для нее. Ее Величество вставала очень рано. Настолько рано, что предоставляя аудиенцию сэру Джеймсу Мелвилу, она назначила ему прийти в восемь утра, и он встретил ее на прогулке в парке. К тому времени она уже успела посвятить некоторое время молитвам, уделить внимание нескольким государственным делам и позавтракать. Завтрак королевы состоял из белого хлеба, эля, пива, вина и хорошей похлебки, сваренной из баранины с косточкой.
Обед 17 ноября 1576 года, хотя и был восемнадцатой годовщиной ее коронации, ничем не отличался от обычного. Надо отметить, что в течение многих лет рацион Елизаветы оставался неизменным. На первое ей подавали на выбор говядину, баранину, телятину, лебедя или гуся, каплунов, кроликов, фрукты, сладкий крем из яиц и молока и оладьи, а также белый и ржаной хлеб, эль и вино. На второе готовили ягненка или козленка, цаплю или фазана, петуха или веретенника, цыплят, голубей, жаворонков, а также фруктовый пирог, масло и оладьи. Ужин тоже состоял из двух блюд. На первое обычно была отварная баранина, жаркое из баранины, каплуны, цапли, запеченная курица, морской угорь, пиво, эль, белый и ржаной хлеб. Судя по всему, второе блюдо готовили из того, что оставалось от дневной трапезы, так как снова подавали мясо козленка или ягненка, петухов или веретенников, жаворонков и голубей, а в дополнение к этому — серых куропаток и ржанок.
Несмотря на то что угощение было обильным, многие авторитетные источники сообщают, что сама королева была очень умеренна в еде, пила мало вина, предпочитая пиво и эль, и то в небольших количествах. Но в то же время на столе должен был быть широкий выбор блюд, и ее фрейлинам тоже надо было есть, так что королевские повара готовили огромное количество еды. Королева предпочитала обедать в одиночестве или в компании нескольких друзей, но в конце дня она часто ужинала с друзьями и придворными, которых «ободряла увеселениями, беседами и любезностью»(59). Часто после или во время ужина она приглашала Тарлетона, великого комедианта и рассказчика, а также других артистов, призванных развлечь ее и ее гостей «городскими историями, грубыми шутками и несчастными происшествиями»(60)!
Хенцнер оставил нам поразительный отчет о ритуалах, сопровождавших королевские обеды и ужины. Сначала в холле появляются два джентльмена: один несет жезл, а другой — покров. Они три раза преклоняют колени, потом расстилают на столе скатерть и уходят. Затем появляются два других джентльмена. Они приносят соль, блюдо и хлеб. Они также три раза преклоняют колени, ставят все это на стол и удаляются. Затем появляется незамужняя дама — графиня, по его словам, — и замужняя, которые приносят нож для дегустации. Они три раза приседают в реверансе, подходят к столу, натирают блюдо хлебом и солью «с таким рвением, как будто там присутствует сама королева». Эти дамы больше не покидают комнату. И наконец, появляются телохранители королевы с непокрытой головой и в красных ливреях. Они вносят двадцать четыре разных блюда, в основном в золотой посуде, и расставляют их на столе. Замужняя дама ножом для дегустации отрезает по кусочку от блюда, принесенного телохранителем, и дает тому попробовать, чтобы избежать отравления. (К тому времени было уже сделано несколько попыток отравить королеву.) А все это время двенадцать герольдов и два музыканта, играющих на литаврах, заставляют «холл звенеть». Затем блюда передают королеве, она выбирает, что ей по вкусу, а остальное достается фрейлинам.
* * *
Те, кто в опасных морских приключениях сколачивал состояние или терял жизнь, питались хуже, чем те, кто предпочел остаться дома. Изобретательный ум сэра Хью Платта обратился к проблеме хранения мяса во время морских путешествий. Ему пришла в голову идея поместить мясо в бочонок с отверстиями и опустить его за борт, чтобы холодная соленая морская вода не дала ему испортиться. Но подобное изобретение вряд ли могло помочь мореплавателям в южных морях, кишащих хищниками. Из провизии на корабле, который в 1576 году отправился в Россию на китобойный промысел, были только хлеб, кедровое масло, говядина, соленые бобы, горох, соленая рыба, вино и семена горчицы.
* * *
Нам мало известно об овощах и способах их приготовления в XVI веке. Сведения, которыми мы располагаем, большей частью получены из множества медицинских сборников и травников того времени. «Травой» тогда называли все зеленые растения — от травы на лугу до деревьев. Харрисон, у которого был собственный сад, сообщает нам, что травы, несмотря на то что они были хорошо известны и широко распространены во времена Эдуарда I, впоследствии утратили свое значение и до начала правления Генриха VIII почти не использовались. Считалось, что ими можно кормить только свиней и диких животных. Однако не стоит особо полагаться на мнение Харрисона относительно истории. Дело в том, что монахи были превосходными садовниками и до ликвидации монастырей славились своей кухней и лечебными травами. Возможно, что роспуск и раздел монастырских земель при Генрихе VIII оказал влияние на распространение садового искусства.
Среди овощей, которые, как нам известно, ели в то время, была разнообразная капуста, и хотя она вызывала метеоризм, бедняки Уэльса ели ее сырой, а те, кто был побогаче, варили или жарили. Англичанам было известно тринадцать видов кочанной и листовой капусты. Зелень отваривали или в сыром виде клали в салат. Морковь часто варили вместе с жирным мясом, а пастернак иногда клали в тесто вместе с мукой, яйцами, свежим молоком, солью, мускатным орехом и выпекали оладьи. Свекловица также была известна, но менее популярна, по крайней мере до конца правления. Она появилась в 1546 году, но некоторое время оставалась диковинкой, прежде чем получила широкое распространение. Козлобородник, который рос в изобилии на полях вокруг Лондона, Ислингтона и Патни, отваривали и ели с маслом. Артишоки ели отварными или сырыми с перцем и солью. Аспарагус или спаржу отваривали, солили и заправляли маслом или уксусом.
Горох и бобы были известны с давних времен и поедались в больших количествах. Садовые бобы, прародители наших кормовых бобов, и семь разновидностей фасоли обычно ели, отварив их вместе со стручками. Герард называл их windy meat, то есть пищей, вызывающей газы. В этом отношении более безопасными были римский или садовый горох, чечевица и даже зерна люпина.
Кервель, осот, маш-салат, листья шалфея и примулы использовали наряду со многими другими для приготовления салатов, которые были крайне популярны, к тому же их советовали есть врачи. В травниках упоминаются разнообразные салатные травы, только разновидностей салата-латука было огромное множество. Портулак, эстрагон, кресс-салат, цикорий, эндивий зимний, корни колокольчика-рапунцеля (в отваренном виде), огуречник и особенно цветы огуречника для «ясности ума»(61) — все это клали в салаты, также как и редис. Лук был настолько популярен, что его импортировали из Фландрии. Лук-порей был известен уже не одно столетие, но что касается шнитт-лука, то считалось, что он вызывает похудение и «горячие и густые пары», а также вреден для глаз и мозга и является причиной беспокойного сна.
Тыкву отваривали, приправляли маслом, нарезали на куски и обжаривали или запекали с яблоками. Кроме того, существовали еще несколько разновидностей дыни и большое число видов огурцов, включая длинные, тонкие, отвратительные на вид «гадючие» огурцы. Чтобы огурец приобрел такой «змеиный» вид, его совсем маленьким помещали в полую трубку, чтобы он рос внутрь до противоположного конца. Герард заверял своих читателей, что если семена такого искусственно утонченного овоща сохранить и посадить, то плоды его будут иметь такой же вид, причем без всяких вспомогательных средств.
Чтобы разнообразить и по возможности облегчить довольно тяжелый рацион, англичане включали в него и многие другие овощи и фрукты — сахарную свеклу, хрен, тыкву, малину, клубнику, шелковицу, персики, абрикосы, кизил, смородину, изюм и привозимые из других стран апельсины, лимоны и оливки.
Елизаветинцы очень любили фрукты, и практически каждый сельский дом имел собственный фруктовый сад. Лорд Дарси привез из Италии новшество — обнесенные стеной сады, в которых рост деревьев направляли вдоль стены, чтобы добиться раннего появления плодов. Крыжовник, малоизвестный во времена Генриха VIII, в правление Елизаветы рос почти повсюду. Клубника была дикой и росла в лесистой местности, а ее усы собирали осенью, чтобы украсить кустиками клубники большие и маленькие сады. Малина также приобрела популярность в этот период. Она была известна и раньше, но ею пренебрегали, возможно, по причине «кисловатого вкуса», как заметил в 1548 году Уильям Тернер.
Но от кислоты можно было избавиться с помощью сахара, а у англичан его было предостаточно. Томас Тассер приводит список из двадцати семи видов фруктов, в том числе и ягод, которые следовало сажать или пересаживать в январе.
Фрукты заготавливали и на зиму. Яблоки, груши, вишни и сливы хранили в сушеном виде, виноград удавалось сохранить в течение нескольких недель, срезая его вместе с кусочком лозы. Конец лозы вставляли в большое яблоко, чтобы виноградинки питались его соком и оставались свежими. Фрукты часто привозили из Нидерландов, а изюм, чернослив и инжир ввозили из Португалии и Леванта.
Также в рацион англичан входил и картофель, причем обе его разновидности. Считается, что эти корнеплоды впервые были привезены в Англию Джоном Хоукинсом в 1564 году("62"). Сладкую картошку, или батат, привезенную из Перу, запекали в золе, макали в вино или заправляли маслом и уксусом и даже варили со сливами. Из батата часто делали сладости не менее «приятные, полезные для здоровья и вкусные, чем мякоть айвы»(63). Сладкий картофель также использовали в качестве основы, из которой «умелые кондитеры могли приготовить множество изысканных джемов, варений и тонизирующих сладостей». А Хаклюйт утверждал, что сладкий картофель «более приятен на вкус, чем любое сладкое яблоко».
Несмотря на утешающее и укрепляющее свойство сладкого картофеля, а также его питательные свойства, у него были и побочные эффекты — он вызывал метеоризм и похоть. Очевидно, елизаветинцы страдали от обеих этих напастей. Тем не менее Герард утверждал, что ему удалось вырастить этот сладкий и опасный овощ в своем великолепном саду в Холборне. Возможно, это была правда, но, как известно, на его слова не следует слишком полагаться. Он был плагиатором (как и Хенцнер) и при составлении своего «Большого травника» использовал сведения из европейских источников.
Другой вид картофеля, которому Герард уделил намного меньше внимания, стал основным компонентом нашего современного рациона. Сначала его называли американской картошкой или «Норемберга», поскольку именно так называлось место, откуда ее привезли. Затем это название сменили на «Виржинию» в честь королевы-девственницы и с ее милостивого разрешения. Этот картофель также запекали в золе и ели с маслом, уксусом и перцем или «приправляли любым другим способом, придуманным кем-то искусным в готовке»(64), но он все же был редкостью.
О том, что картофель считался необычным и удивительным продуктом, свидетельствует замечание Фальстафа: «Пусть с неба вместо дождя сыплется картошка»[83]. А в «Троиле и Крессиде» Терсит говорит, что у беса сладострастия «картофельные пальцы». Точно неизвестно, имеется ли здесь в виду сладкий картофель или картофель из Виржинии. Скорее всего, речь идет о батате, поскольку второй вид картофеля стал популярен только два века спустя. Впрочем, нет ничего удивительного в пристрастии елизаветинцев к батату, поскольку они вообще очень любили сладости.
Англичане были мастерами по части приготовления сладостей, особенно для больших празднеств. Их угощения отличались удивительным вкусом и необычным видом. Здесь были и желе всех видов, цветов и вкусов, приготовленные в виде цветов, фруктов, деревьев, животных, рыб и птиц. Миндальную пасту и марципан смешивали с желатином и сахаром, а затем придавали этой смеси форму кроликов, уток, гусей, посыпали их сверху корицей, и казалось, что это зажаренные туши настоящих животных. Часто сласти делали в виде геральдического щита, яркого и усыпанного «золотом».
Англичане подслащивали все, что только было можно. Фальстаф, в очередной раз прося силы природы о чем-то экстраординарном, выкрикивал: «Пусть... метет сахарная метель»[84]. Розы, бархатцы, левкои, фиалки, розмарин, огуречник консервировали в сахарном сиропе целиком или только лепестки. Очень популярны были леденцы из стеблей салата-латука, апельсиновых косточек и зеленых грецких орехов. Ароматизированные «леденцы для поцелуев» предназначались для освежения дыхания. Само слово candy — конфетка — англичане заимствовали у арабов или персов.
Если мы снова обратимся к перечню преподносимых королеве новогодних подарков, то среди них обнаружится большое количество различных сладостей. Ревелл подарил ей восхитительно украшенный марципан в форме собора Святого Павла, даже со шпилем. Джон Хенингвэй преподнес горшочек с какой-то оранжевой приправой и засахаренные «ананасы» с запахом мускуса. Бакалейщик Лоуренс Шреф подарил голову сахару, коробку с имбирем и другими специями, а Джордж Вебстер, искусный повар, приготовил для королевы марципан в виде шахматной доски. Королева была без ума как от марципана, так и от шахмат. Миссис Морган подарила королеве коробочку с засахаренными вишнями и абрикосами. Другой повар изготовил еще один марципан — со святым Георгием в середине, и в тот же год один кондитер преподнес ей «прекрасный пирог из айвы с апельсинами».
Удивительно, но королевские врачи Хьюик, Джулио и Бейли подарили королеве один и тот же подарок — законсервированный зеленый имбирь. Неизвестно, то ли они сговорились заранее, то ли стали жертвой невероятного совпадения. Между тем их подарки все же немного различались. Доктор Джулио преподнес простой имбирь, доктор Хьюик — с цветками апельсина, а доктор Бейли — с лимонами.
Каждый год королеве дарили огромное количество коробочек с конфетами и леденцами. Леденцы делали практически из всего — от апельсиновых косточек до зеленых грецких орехов, погружая их в кипящий сироп, затем остужая и снова макая в сладкий раствор. Эту процедуру повторяли снова и снова, пока леденец густо не покрывался сахаром. Сахарным сиропом покрывали и апельсины, лимоны, мускатные орехи и имбирь. Иногда апельсины засахаривали целиком, а затем начиняли мармеладом.
Самым популярным видом мармелада из айвы был codinac. Судя по всему, мармелад хранили в ящиках, что было не слишком гигиенично. Помимо конфет и мармелада, существовало еще огромное количество кондитерских изделий и пирогов.
Мягкое шафрановое печенье ели с пивом, а для пирожков из слоеного теста использовали «твердое масло». Розовую воду использовали практически везде, в том числе и в приготовлении мармелада. Сахарные и имбирные пряники, открытые пироги с разнообразными начинками, в том числе и с сыром, пироги с семечками, не говоря уже о заварных кремах и кремах с добавлением муки, были обычным делом. Англичане очень любили сладкие пирожки с начинкой, во всяком случае, начинку для пирога из изюма, миндаля, сахара и цукатов производили в большом количестве и обильно сдабривали специями.
Вообще специи добавляли практически во все блюда. В частности, перец расходовали в огромных количествах, и в одно время за фунт перца приходилось платить от 2 до 2,5 шиллингов.
Сэр Френсис Дрейк во время своего кругосветного плавания, продолжавшегося тридцать четыре месяца, заключил договор с султаном Молуккских островов, или, как их еще называли, «островов пряностей», согласно которому англичане получали исключительное право торговать их товарами. Дрейк погрузил на судно первую партию товара — шесть тонн гвоздики. К сожалению, его корабль наткнулся на риф в Восточно-Индийском архипелаге, и ему пришлось выбросить за борт половину груза, чтобы облегчить судно. Учитывая цены на гвоздику, потерю трех тонн груза можно было считать крупной финансовой катастрофой.
Казалось, что елизаветинцы были просто сделаны из сахара и специй! Они использовали менее качественный сахар из Марокко, а обычный сахар ввозили головами весом по 100 фунтов, а затем разламывали их для продажи. В начале века 1 фунт сахара стоил от 4 до 10 пенсов, но к 1600 году цена выросла до 1 или 1,5 шиллинга за 1 фунт. Высококачественный белый сахар добавляли в вино — и большинство людей пили вино подслащенным. Это был любимый напиток Фальстафа, поэтому его друг Пойнс называл его sir John Sack and Sugar[85].
Мед — а английский мед, как и следовало ожидать, был самым лучшим из-за растущего в стране в изобилии тимьяна — использовали не только для подслащивания, но и для различных медицинских целей. Английский мед был белым как сахар, и не вызывал раздражения, как привозной. Местным врачам даже в голову не приходило использовать для своих снадобий импортный мед. Особенно остерегались меда, привозимого из Испании или с Черного моря, потому что считали: он «обладал естественно привитыми вредоносными качествами».
Глава шестая Как англичане избавлялись от болезней
Тайный совет был обеспокоен, и причиной его озабоченности была королева. Она и раньше заставляла их волноваться по государственным вопросам, но на этот раз дело было в другом: Елизавету мучила страшная зубная боль. Это началось после празднеств в Кенилворте, и доктора оказались совершенно беспомощны. Болезненное состояние королевы вызвало у них ожесточенные споры, которые не ослабевали, впрочем, как и ее зубная боль. В конце концов, дело взял в свои руки Тайный совет и с некоторыми опасениями послал за «чужеземным врачом по имени Джон Энтони Фенат», знаменитым лекарем. Многие считали, что было «весьма рискованно доверять королевские зубы чужестранцу, который мог быть как евреем, так и папистом»(65). Но к тому времени все, включая Елизавету, уже пришли в отчаяние, и стало ясно, что просто необходимо что-то предпринять, — неважно, насколько рискованным мог быть этот поступок.
Фенат прописал различные лечебные средства на латыни, но посоветовал удалить больной зуб. Королева категорически отказалась от подобной процедуры. Она ненавидела все, что было связано с хирургией, и одна только мысль об этом приводила ее в ужас. Впрочем, достаточно беглого взгляда на хирургические инструменты того времени, представлявшие собой нечто среднее между инструментами столяра и кузнеца, чтобы объяснить внушаемый ими страх. Поэтому Фенат предписал наполнить дырку в зубе пажитником, закрепив его на месте воском. По его утверждению, это так расшатает зуб, что его можно будет вытащить пальцами, но, добавил он, «лучше удалить его прямо сейчас».
Несчастная Елизавета никак не могла решиться, а Тайный совет не осмеливался ее принуждать. Тогда выход нашел лондонский епископ Томас Эйлмер. Он сумел убедить Елизавету, что боль, которую ей предстоит вынести при удалении зуба, намного легче той, что ей приходится терпеть сейчас. Он сказал, что даже будучи пожилым человеком, у которого осталось всего несколько зубов, он с радостью позволит хирургу вырвать один из них в ее присутствии, чтобы доказать правоту своих слов. После того как хирург вырвал зуб у епископа, Елизавета была так впечатлена его примером, что и «сама поступила так же»(66). К большому облегчению всех придворных.
Зубная боль была наименьшей, пусть и крайне распространенной из напастей, и эта история закончилась весьма благополучно. Но с точки зрения современных медицинских знаний, действительно удивительно, как нашим предкам вообще удавалось прожить достаточно долго, чтобы продолжить род. Войны, эпидемии и голод — главные истребители человеческой расы — по-прежнему наносили огромный урон даже в XVI веке, особенно если учесть почти полное отсутствие элементарных гигиенических норм. Трупы оставляли разлагаться в лодках, Лондонский мост украшали головы казненных преступников, и прямо на улицы выбрасывали огромное количество мусора, помоев и отбросов всех видов. Количество бань в городе не на много превосходило число публичных домов. Загрязненная вода и испорченная пища — все это способствовало размножению различных бактерий, вирусов, блох, вшей, мышей и крыс.
К счастью для подданных — и для последующей английской истории — королева отличалась крепким здоровьем. Ей не перешли по наследству от дедушки Генриха VII подагра и астма — считалось, что именно подагре Тюдоры обязаны своим знаменитым нравом. Она также избежала врожденного сифилиса, доставшегося в наследство от их отца несчастной Марии Тюдор. Она не заразилась туберкулезом, который унес жизнь Артура, старшего брата ее отца, и положил конец жизни ее сводного брата, шестнадцатилетнего Эдуарда, скончавшегося в таких мучениях, что его последними словами были: «О Боже, освободи меня от этой несчастной жизни».
Тем не менее в течение своей жизни королева перенесла несколько тяжелых болезней, но сумела излечиться при помощи своих врачей. В 15 лет она переболела скарлатиной и после этого часто страдала от ангин. В 30 лет сумела пережить оспу, а вот ее волосы, вероятно, нет. По словам сэра Джеймса Мелвила, который встречался с ней в 1564 году, ее настоящие волосы были «рыжеватыми и вьющимися от природы», но после перенесенной болезни она до самой смерти носила темно-рыжий парик.
Еще одним испытанием была мигрень — недуг, которым страдали все Тюдоры. В возрасте около сорока лет Елизавета страдала от варикозной язвы на ноге. Время от времени она использовала эту болезнь как предлог в дипломатических целях: с ее помощью королеве удавалось уклоняться от того, чего она не желала делать. И в то же время, если она хотела продемонстрировать свое отменное здоровье, то могла запросто протанцевать всю ночь — а танцевала она великолепно, хотя варикозная язва причиняла ей, должно быть, ужасную боль.
В 1572 году королева сильно отравилось пищей — что вряд ли удивительно, и чуть не умерла от лечения — что еще менее удивительно, так как лечили ее с помощью кровопускания, слабительного и голода. За год до этого, после возвращения из поездки по Эссексу, она перенесла ужасный приступ желчно-каменной болезни. Приступ начался внезапно и так же неожиданно прошел после рвоты, по крайней мере, так писал Уильям Сесил французскому послу. Как Тайный совет, так и простые подданные всегда с вниманием относились к здоровью королевы, поскольку все чувствовали, что безопасность государства висит на единственной нити — жизни Елизаветы. И они были правы: так оно и было.
Хотя медицинский колледж был основан еще в 1518 году, врачебная наука того времени оставалась на уровне средневековой и основывалась на знаниях, полученных от Аристотеля и Гиппократа, и изменениях, внесенных Галеном во II веке н. э. По существу, это была смесь философии, наблюдения и опыта в сочетании с астрологией и магией. Помимо нововведений Галена, медицина все еще прочно основывалась на античной теории о четырех основных элементах, или началах, природного мира: воздуха, огня, воды и земли. Каждый элемент обладает своим качеством или отличительным свойством — холод, жар, влага и сухость. Так как человек был частью природы, то считалось, что он также обладает этими качествами и что сочетание любых двух этих свойств составляет его «облик» или, как сказали бы мы, темперамент. А каждый тип темперамента обладает своим типом телесной жидкости.
Так, жар и влага дают сангвинический темперамент, телесная жидкость которого кровь. Холод и влага производят флегматичный темперамент, а его жидкость — слизь. Жар и сухость дают холерический тип, а жидкость, вполне закономерно, — зеленая или желтая желчь. Тогда как меланхолический темперамент Роберта Бартона[86] был результатом соединения холода и сухости — воздуха и земли, а связанная с ним жидкость — черная желчь.
Человек был здоров, если все элементы находились в равновесии. Но если по какой-то причине равновесие нарушалось — немного больше тут, чуточку меньше там, — то неизменно возникали проблемы. Естественные причины болезней были неизвестны. Дисбаланс исправляли с помощью кровопускания, чистки кишечника, снадобий, трав, диеты, амулетов — и, конечно, обращались за советом к звездам.
Еда, как и все остальное, состояла из этих же четырех элементов, что и определяло ее питательные свойства. Но более того, еда имела свои «уровни». Например, кочанная капуста, которую мы считаем простой и незамысловатой, на первом уровне обладала жаром, а на втором — сухостью. В результате капуста становилась холерической — что звучит невероятно, — а это означало, что человеку с холерическим темпераментом следовало воздерживаться от ее употребления, возможно из-за опасения, что его организм начнет вырабатывать слишком много желтой или зеленой желчи.
Однако сомнительно, чтобы средний англичанин уделял много внимания «уровням» пищи, за исключением тех моментов, когда заболевал. Безусловно, елизаветинцы, не привыкшие ограничивать себя в еде — несмотря на предупреждение Плиния, которое им было хорошо известно, о том, что «обильная пища приводит ко многим болезням», — были просто не в состоянии думать об уровнях жара, холода, сухости или «слизи», содержащихся в каждом куске пищи, который они съедали.
Судя по всему, все елизаветинцы были сангвиниками, то есть оптимистичными, крепкими, влюбчивыми и самонадеянными людьми. Считалось, у сангвиников было прекрасное пищеварение, и возможно, именно этим объяснялась способность англичан так много есть. В то время сангвинический тип описывали так: рыжеватые волосы, широкие вены и артерии, хороший пульс, отличное пищеварение, розовая кожа, предрасположенность к полноте, крепкий сон, потливость, вспыльчивость и склонность видеть как приятные, так и страшные сны. Все это подходит, по крайней мере внешне, к описанию Генриха VIII, и в меньшей степени — его дочери Елизаветы.
Но даже сангвинический тип мог впасть в меланхолию, вызванную пищей, которая провоцирует избыток черной желчи. Считалось, что к этому несчастному состоянию приводит употребление в пищу следующих продуктов: селезенки, груш, яблок (хотя печеные яблоки отлично успокаивали желудок), персиков, молока, сыра, соленого мяса, мяса благородного оленя, зайчатины, говядины, козлятины, павлина, голубей и болотных птиц, рыбы, плодящейся в стоячей воде, гороха, бобов, темного хлеба, черного вина, яблочного и грушевого сидра и специй. Если подобная пища вгоняла в тоску бодрого, энергичного и уверенного в себе сангвиника, то меланхолики «от природы» должны были просто впадать в крайнее отчаяние.
Но и сангвинику, которому позволялось есть практически все, тоже было необходимо следить за своим рационом. Чем более чистым и цельным был его «тип» или темперамент, тем «скорее он портился и заражалась его кровь»(67). Ему следовало избегать излишнего потребления фруктов, трав и корней, таких, как лук-чеснок, лук-порей, а также воздерживаться от старого мяса, мозгов и коровьего вымени. Ему следовало быть умеренным в пище и сне — в противном случае такому человеку грозило ожирение.
Флегматику, чей влажный и холодный темперамент напоминал сливы, и холерику, сухому и жаркому, как красный перец, также необходимо было соблюдать не менее сложную диету и следовать правилам, соответствующим их индивидуальным качествам и типу. Таким образом, диета и врачевание в то время были практически неразделимы. Хороший повар считался наполовину врачом, поскольку, как нам сообщает Эндрю Бурд, «главное лекарство, за исключением совета врачей, приходит из кухни. Поэтому врач и повар должны вместе консультировать больного... поскольку если врач приготовит какое-то блюдо без повара, если только он не мастер и в этом тоже, то блюдо получится неважным и пациент не сможет его есть».
Любопытно, но тогда верили, что дети рождаются флегматиками, и поэтому их кормили пищей, сочетающей свойства влаги и умеренного жара. К счастью, такой едой считались молоко — из-за убеждения, что оно связано с кровью, — сливки, сыворотка, створоженное молоко и «белое мясо», что, как нам уже известно, означало все молочные продукты. Взрослея, ребенок становился либо сангвиником, либо холериком (меланхоликов, по-видимому, было немного), и начиная с 13 лет ему разрешалось есть «более жирное мясо» и пить разбавленное водой вино. Вода сама по себе считалась «холодной, медленной, трудно усваиваемой». На самом деле, она чаще всего была не пригодной для питья.
Для новорожденных детей не было альтернативы кормлению грудью, хотя уже тогда использовали примитивную бутылочку, сделанную из коровьего рога. Младенцев из зажиточных семей отдавали кормилице и отнимали от груди не раньше, чем у них прорежутся четыре или более зуба. Вопрос о том, отнимать ли королеву Елизавету от груди в возрасте тринадцати месяцев, решался в парламенте. Но со слов кормилицы Джульетты в «Ромео и Джульетте» мы узнаем, что ее несчастной подопечной было всего три месяца в тот жаркий день, когда она кормилица впервые приложила полынь к своей груди. Учитывая, что маленькую Джульетту отняли от груди в тот самый день, когда случилось землетрясение, она должна была почувствовать себя не только покинутой, но целиком и полностью отвергнутой. Удивительно, что детские психологи не прибегли к этому факту для объяснения идеи пьесы в целом.
Но вовсе не молоко кормилицы считалось самым важным в процессе вскармливания, а ее моральные качества. Несчастный ребенок, как тогда полагали, мог впитать вместе с молоком и пороки кормилицы. Эти представления были чрезвычайно удобны для богатых и испорченных мамаш, которые могли предаваться своим порокам без всяких опасений, что некоторые из них могут перейти к их детям.
У нас нет сведений о детской смертности, но при взгляде на надгробия той эпохи становится понятно, что она была очень высокой. На это указывает и другой факт. Как только ребенок рождался — если он выживал при родах, — его сразу же крестили, чтобы не сомневаться в том, что он сможет беспрепятственно попасть на небо. Матери очень часто умирали от послеродовой горячки — инфекции, которую считали результатом холода в крестильной палате.
Если желудки детей считались флегматичными от природы, то желудки пожилых людей следовало возвращать в это состояние с помощью пищи. Для этого им советовали придерживаться диеты, предписанной детям. Сам совет было довольно хорош, хотя и был вызван, на наш взгляд, неправильными причинами. Но даже мы не сможем поспорить с советом пить вино со свининой или питаться фруктами при повышенной температуре, хотя лучшим средством от лихорадки тогда считали жемчужную пыль, растворенную в лимонном соке. Впрочем, позволить себе такое лекарство могли только богатые люди. Положение «пусть отец болезни неизвестен, но ее мать — питание» звучит достаточно современно.
Так что диеты, среди которых были не менее эксцентричные, чем современные, играли очень важную роль в медицине того времени и были связаны с темпераментом и качествами человека. Даже продолжительность сна зависела от типа темперамента. Сангвиникам и холерикам было достаточно всего семи часов, а для флегматика требовалось не менее девяти часов сна. Что касается меланхоликов, то им было позволено спать столько, сколько они хотели. Прерывистый сон считался одновременно симптомом и причиной меланхолии, приводящей к «сухости ума, безумию, маразму, а также к сухости тела, худобе и неприятному для глаз внешнему виду»(68).
Вообще считалось, что здоровый человек, в независимости от типа его темперамента, не должен спать в течение дня, но если после переедания он почувствует в этом необходимость, то ему следует вздремнуть, прислонившись к буфету или сидя прямо на стуле, табурете или скамье.
Для тех, кто из-за болезни был прикован к постели, существовало несколько правил. Во-первых, пациенту предписывалось составить завещание и исполнить ритуальные процедуры. Подобный пессимизм, несомненно, был основан на обширном опыте. Желательно, чтобы сиделки были «старательными, а не неряшливыми и ленивыми»(69). В комнате должен быть приятный запах — тяжелый воздух способствует болезни. Больного не следует донимать разговорами — особенно женской болтовней — и необходимо строго соблюдать предписания лекарей, которых приглашали, чтобы оказать помощь как телу, так и душе. Последним наставлением, когда смерть была уже на пороге, было указание «говорить только о благочестивых вещах»(70).
Среди тех, кто был у постели лорда Берли, когда приблизилось время его смерти, была и королева. Та, что так часто вводила его в отчаяние, приходила теперь каждый день, чтобы собственноручно покормить своего старого министра. К своему «верному уму», как она его называла, Елизавета испытывала глубокую и сильную любовь, и его смерть стала для нее тяжелой утратой. Впоследствии она была не в силах сдержать слезы, когда слышала его имя. В год смерти лорда Берли, 1598-й, в Англии был напечатан первый трактат по тропической медицине. Он назывался «Лечение больных в удаленных регионах; предупреждение смертельных случаев среди английской нации в чужеземных походах»("71").
На протяжении всего царствования Елизаветы медицина, и особенно хирургия, постоянно развивались. Это развитие было обусловлено двумя великими импульсами Возрождения — искусством и приключениями. Искусство благодаря Леонардо да Винчи открыло анатомию, и Андреас Везалий, обучавшийся в Падуе, чья выдающаяся работа по анатомии «О строении человеческого тела» появилась в 1543 году, мог бы считаться научным последователем Леонардо. Но именно французский доктор Амбруаз Паре первым осознал всю важность этих новых знаний и применил их в хирургии.
Паре, «величайший хирург Возрождения и один из выдающихся хирургов всех времен», положил конец страшным мучениям больных, которым приходилось терпеть боль от прижигания раскаленным железом после ампутации, с помощью изобретенной им простой перевязки. Он придумал протезы и испробовал их на солдатах. Он открыл, что огнестрельные раны сами по себе не ядовиты, как повсеместно считали, следовательно, их не нужно лечить кипящим маслом, как это тогда широко практиковалось; боль же лучше всего унимать целебными мазями и бальзамами. Он также отстаивал необходимость в исключительных случаях переворачивать младенца в утробе матери перед принятием родов.
В Англии Томас Гейл, известный хирург, написал книгу о лечении огнестрельных ран, такую же работу написал и Уильям Клауз, а Джон Вудвол, тоже хирург, занимался проблемой ампутации. И хотя Уильям Харвей начал свою практику в 1602 году, его выдающаяся работа о циркуляции крови, совершившая переворот в медицине, была опубликована только через 25 лет после смерти Елизаветы. Война, как в то время, так и сейчас, способствовала развитию медицины и хирургии.
Что касается приключений, то дух авантюризма привел к открытию новых стран и к увеличению объема торговли. Это, в свою очередь, привело к появлению в Англии и Европе новых снадобий. Испанцы вместе с сокровищами инков привезли с собой особенно опасный вид сифилиса, которым заразились от жителей Перу. Но они также привезли и ипекакуану, или рвотный корень, и хинин, хотя целебные свойства последнего стали известны только в XVII веке. Сэр Джон Хоукинс, похищавший негров с Гвианы и насильно переправлявший их в испанские поселения в Вест-Индию, вернувшись обратно, привез табак, который сначала использовали как фумигант и, — что еще более важно в век, когда отсутствовали анестезирующие средства, — как наркотик. Хирурги пропитывали его вином и давали больным, которым предстояло «отрезать, отпилить, выжечь или удалить конечность». Это было крайне опасно, поскольку если обращаться с ним неосторожно, он мог вызвать «мертвый сон и сделать тело бесчувственным».
В то же время распространение даже этих медицинских знаний шло медленно и вначале не выходило за пределы Италии и Франции. Англичане, будучи ярыми националистами и индивидуалистами, с подозрением относились как к континентальной политике, так и к снадобьям.
Возможно, что иностранные средства хороши, но, по мнению Тимоти Брайта("72"), английские были лучше, поэтому с националистическим рвением он выпустил книгу под названием «Трактат, в котором утверждается достаточность английских снадобий для лечения всех болезней, излечиваемых с помощью лекарств». Именно Брайт, еще до Бартона, написал «Трактат о меланхолии».
Однако болезнь не имеет национального характера и не признает границ. И хотя королева избежала отравления от рук чужеземцев, — а по ее словам, адресованным французскому послу, было предпринято семнадцать таких попыток, — ей не удалось избежать оспы. Впрочем, как и многим ее подданным.
Для того чтобы у тех, кому посчастливилось пережить эту напасть, не оставались ужасные шрамы, окна комнаты, где лежал больной оспой, завешивали красной тканью. Эту традицию соблюдали со времен Эдуарда I("73"). Во дворце королевы на окна вешали ткань прекрасного качества и насыщенного цвета, а в коттеджах обходились красной тряпкой. Только в XX веке было доказано, что такое лечение действительно было эффективным. В работе доктора Нильса Финсена из Копенгагена утверждается, что рубцы были следствием актинических лучей солнца. При условии фильтрации солнечного света их можно было избежать. И самое удивительное, что красное стекло, слюда и бумага — или даже, вероятно, ткань красного цвета — способны отфильтровывать эти лучи.
* * *
К счастью для врачей — если уж не для их пациентов, — число видов новых трав и растений намного возросло за этот период во многом благодаря тому, что в моду вошла новая теория: «Учение о характерных признаках». Ее автором был Теофраст Бомбаст, швейцарский немец, более известный под именем Парацельс. Он умер еще до начала правления Елизаветы, но у его теории было много ревностных сторонников и во время ее пребывания на троне. Парацельс считал, что каждое растение было «предписано», — это значит, что посредством цвета, формы, запаха или места распространения оно связано с определенной болезнью, а потому может от нее излечивать. Например, если больного мучают боли в груди, его следует лечить при помощи медуницы — lungwort[87], поскольку ее листья по форме напоминают легкие. Слово wort[88], присоединенное к растению или траве еще со времен англосаксов, означало, что это растение обладает лечебными свойствами.
Список предписаний может показаться нам бесконечным, но елизаветинцы явно видели в растениях знаки — и планеты — там, где мы бы этого сделать не смогли. Теория Парацельса стала очень популярна и была подхвачена врачами, сторонниками магии и многими умными людьми.
Парацельс умер от пьянства или был убит ревнивыми конкурентами — это случилось, когда Елизавете было всего восемь. Однако его идеи намного пережили его самого и, возможно, нанесли вред тысячам людей, поскольку их широко практиковали врачи, аптекари, травники и астрологи, которых также считали лекарями, потому что звезды влияли на болезни, а планеты были связаны с различными целебными металлами.
Доктор Джон Ди был любимым алхимиком, астрологом и чародеем Елизаветы. Именно он выбрал благоприятный день для ее коронации. Вскоре после этого за ним спешно послали, потому что на полях Линкольнз Инн нашли восковую фигурку королевы с воткнутыми в нее булавками. Ему удалось убедить членов Тайного совета, пребывающих в крайне возбужденном состоянии, что этот предмет не сможет причинить королеве никакого вреда. Так же спешно его отправили в Ричмонд, чтобы он убедил в этом и Елизавету — если она нуждалась в таком утешении. Именно он в 1577 году ездил в Германию, чтобы посоветоваться с другими учеными мужами насчет зубов королевы, которые даже для того времени были крайне плохими.
В одно время доктор Ди сотрудничал с Эдуардом Келли, который, как утверждалось, нашел «философский камень» и умел вызывать духов. У доктора Ди и мистера Келли было несколько медиумов. Одна из них, Мадими, начала практиковать еще ребенком и была способна к языкам. Но неожиданно она превратилась в очень хорошенькую женщину, полностью забыла языки и стала приверженцем нудизма. Так как она была отнюдь не духом, это привело к печальным проблемам с женами обоих алхимиков и положило конец их сотрудничеству.
Эдуард Келли был жуликом, но доктор Ди — отнюдь нет. Отставив в сторону его доверчивость, можно сказать, что он был очень интеллигентным человеком с пытливым умом. Помимо прочего, он предложил тщательно разработанные проекты развития военно-морских сил и улучшения рыбной отрасли, которые не были внедрены. Он учил королеву не только оккультным знаниям, но и астрономии. За советом к нему обращались многие известные люди — среди них был и лорд Берли, Лейстер, Уолсингем и Бэкон. Он был также одним из первых — если не самым первым, — кто начал использовать словосочетание «Британская империя».
Судя по всему, королева относилась к нему очень благосклонно и несколько раз навещала в Мортлейке, чтобы взглянуть на его научные приборы и библиотеку, но она сделала очень мало для его продвижения по службе. Возможно, именно это стало причиной его сближения с Келли. Доктор Ди не был деловым человеком, и заявление Келли, что тот открыл «философский камень», который сможет сделать их богатыми, заставил его пойти на глупое партнерство.
Алхимики утверждали, что им удалось создать «философский камень», с помощью которого можно не только превращать простые металлы в драгоценные, но и получить эликсир жизни. Некий Корнелий Альветан посвятил свой трактат «De Conficiendo Divino Elixire sive Lapide Philosophorum»[89] Елизавете, которая, прочитав его на латыни, так им увлеклась, что предоставила Корнелию удобное жилье в Сомерсет-хаузе и приказала приниматься за работу. Любопытно, но королеву больше интересовала ее казна, чем возможность вечной жизни, поскольку она заказала Корнелию произвести 50 тысяч марок из чистого золота «по приемлемой цене». Корнелий не сумел выполнить заказ. В 1567 году он был заключен в Тауэр за «оскорбление Ее Величества королевы»(74) лживыми обещаниями.
Все хитрые махинации алхимиков с их странным и непонятным для нас «научным жаргоном» Бен Джонсон высмеял в своей пьесе «Алхимик», изобразив жадного и легковерного сэра Эпикура Маммона в виде козла.
Ради справедливости стоит заметить, что многие алхимики были гениальными исследователями, и среди них — Теофраст Бомбаст, или Парацельс. Алхимия приобрела новое направление развития, когда он заявил, что ее подлинной задачей должно быть не производство золота, а медицинских препаратов.
В самом начале правления Елизаветы Уильям Сесил обращался к астрологу, чтобы узнать, что ждет королеву на поприще брака. Ему сообщили, что королева выйдет замуж за иностранца и родит сына, которому предстоит стать великим правителем, и дочь. Так как многие елизаветинцы верили в предзнаменования, знаки и влияние звезд, то неудивительно, что они были убеждены в бытие привидений, эльфов, фей и злых духов. Кроме этого, существовали еще колдуны и чародеи.
Епископ Джевел, человек просвещенный, был так расстроен мерзкими делами ведьм и тем, что они разрушали здоровье людей, что в 1572 году выступил с решительной проповедью против них. Среди слушателей была и королева, но он не стал смягчать свою речь. «Эти глаза, — громогласно заявил он, — видели несомненные и очевидные следы их деяний. Подданные Вашей Светлости начинали чахнуть и даже умирать, краска сходила с их лица, а плоть ослабевала. Их чувства притуплялись, а речь пропадала». Очевидно, этот добрый епископ принял предмет своего выступления слишком близко к сердцу: было бестактно проповедовать против ведьм в присутствии женщины, чью мать считали одной из них. У Анны Болейн были родинка чародейки и рудиментарный палец — «соска дьявола».
Но средний англичанин — сельский житель и бедняк — продолжал верить в действие трав и снадобий, амулетов и заклинаний.
В то время существовали заклинания от многих болезней. Для излечения от эпилепсии следовало ночью пить ключевую воду из черепа того, «кто был убит». Чтобы вылечиться от укуса скорпиона — ситуация, не типичная для Англии, но с которой приходилось сталкиваться путешественникам в тропиках, — укушенный должен был прошептать на ухо ослу: «Меня укусил скорпион». Чтобы избавить женщину от родовых мук, кто-то должен был перебросить через дом, где она лежит, камень, которым были убиты три живых существа — человек, вепрь и медведица. Обзавестись таким камнем было непросто, и шарлатаны, должно быть, зарабатывали неплохие деньги, продавая фальшивки.
Одним из самых любопытных было заклинание против ежедневных приступов малярии. Для этого больной должен был разрезать яблоко на три части. На первой дольке нужно было написать «Творец существует извечно»; на второй — «Творец непостижим» и на третьей — «Творец вечен». Обычную малярию можно было вылечить проще: с помощью «паука в ореховой скорлупе, завернутой в шелк». Мать Бартона испробовала это средство — или амулет — на бедняках Линдли в Лейстершире, где она проживала, но ее сын Роберт высмеял ее действия, спросив: «Quid aranea cum febre?»[90] Однако позднее, когда обнаружил упоминание о подобном средстве от малярии в «Materia Меdiса», составленной в I веке Диоскоридом, греческим врачом армии Нерона, он изменил свое мнение. То, что, по его мнению, было бабушкиными сказками, на самом деле оказалось подтверждено наукой! Да и мы уже привыкли, что многие старинные рецепты признают и сами врачи.
* * *
Среди бесчисленных трав, которые использовали для лечения тех или иных недугов, были некоторые, как считалось, связанные с определенными частями тела. Так, болезни головы лечили отварами из анисового семени, буквицы аптечной, чабреца, очанки, лаванды, лавра, розы, руты, майорана. Нетрудно заметить, что большинство из этих растений обладали душистым ароматом. Больным, которых часто мучили головные боли, советовали избегать дурных запахов, болотных «инфекций» и вдыхать только приятные ароматы. Им также следовало держать голову в холоде, не слишком много спать и не злоупотреблять вином. Помимо этого, они должны были воздерживаться от пищи, способствовавшей выделению слизи, и без всякой причины плакать, петь высоким голосом или выкрикивать «привет!».
Для лечения болезней легких и бронхов — а елизаветинцы были очень склонны к бронхитам — советовали употреблять окопник (он и по сей день входит в состав различных микстур от кашля) вместе с чабрецом, лакричником, девясилом, иссопом. Особенно эффективными считались шандра (конская мята) и дубровник. Больные туберкулезом должны были избегать кислых и терпких продуктов и употреблять тонизирующие средства и напитки. Им не следовало есть жареное мясо, тушеную свинину, студень, вареный рис, сырые яйца и пить козье молоко. Кроме этого, им запрещалось злиться и грустить.
Огуречник аптечный, воловик, шафран, базилик, розмарин и розы использовали для укрепления сердечной мышцы, а вот наперстянка, в которой содержится дигиталин, вошла в употребление только в XVII веке. Болезни желудка лечили с помощью полыни горькой, мяты, буквицы аптечной, золототысячника, щавеля и портулака. А тех больных, чье состояние, судя по симптомам, было вызвано илеитом (воспалением подвздошной кишки) или аппендицитом, предостерегали от холода, советовали употреблять слабительное, отказаться от свежего хлеба, свежего эля, пива, сидра и корицы, а также от всех продуктов, содержащих мед, и как огня остерегаться пищи, вызывающей газы, особенно бобов, гороха и чечевичной похлебки.
Печень — а она является очагом всех телесных жидкостей — можно было подлечить с помощью дубровника, репейника, фенхеля, эндивия зимнего и, естественно, печеночника. При подавленном состоянии помогали адиантум, побеги папоротника, петрушка, тимьян, хмель, буквица и лыко ясеня. Чернобыльник, болотная мята и можжевельник использовали для лечения женских болезней, а от болей в суставах применяли ромашку, зверобой, душицу обыкновенную, руту, примулы и меньший золототысячник. Тем, кто страдал подагрой, запрещалось носить тесную обувь и есть красную рыбу и устриц.
Однако люди, имевшие достаточно денег, для лечения подагры ездили в июле в Бакстон. В то время Бакстон был очень популярным курортом с минеральными водами. Здесь в 1577 году можно было встретить сэра Томаса Смита, сэра Уильяма Фиц Уильяма, мистера Мэннерса, леди Харрингтон и лорда Берли. Они пили лечебную воду и принимали ванны — как когда-то давно это делали римляне. Туда приехал и граф Шрусбери, чтобы подлечить свою больную руку, но эта боль не шла ни в какое сравнение с теми страданиями, что причиняла ему его жена Бэсс Хардвикская. Она просто ужасно обращалась с графом, которого приставили стеречь Марию Стюарт. Возможно, это было вызвано ревностью, но точно известно, что именно Бэсс распространила слух о том, что граф влюбился в свою пленницу. Она ушла от него в 1584-м после нескольких лет ссор и раздоров. За это время она измучила его сильнее подагры.
Еще одним бичом того времени была мочекаменная болезнь. Для ее лечения использовали корень камнеломки, пропитанный кровью зайца; его отваривали и измельчали в порошок, который нужно было принимать утром и вечером. От «полноты и отсталости» прописывали чистку кишечника и немного перца. При обморожении, причиной которого были «резкий холод и флегматичное состояние», следовало избегать снега, держать ноги в тепле и промывать обмороженные места мочой или коровьим жиром. От вшей, которыми страдало огромное количество людей из-за пота и грязи, нестиранной одежды и соприкосновения с зараженными людьми, применяли мазь, изготовлявшуюся из масла лавра и омертвевшей ртути. Ртуть можно было омертвить только с помощью слюны постящегося человека("75").
Во многих семьях, как в деревне, так и в городе, хранились рецепты собственных снадобий для лечения различных недугов. Более того, многие лично выращивали лекарственные травы. Если болезнь была очень тяжелой, то обращались к врачу, местной знахарке, аптекарю или даже бакалейщику. «Травник» был столь же необходим, как и кулинарная книга, и для каждого образованного человека, будь то мужчина или женщина, считалось жизненно необходимым знать целебные свойства растений и быть в курсе современных открытий в области медицины или магии. Аптекари и бакалейщики продавали людям лекарства и снадобья. Кроме того, они собирали различные предписаний врачей и торговали ими, а также сами с их помощью занимались врачеванием. Вероятно, вреда они причиняли не больше, чем сами доктора.
В то же время существовали два основных течения среди врачей, аптекарей и, возможно, бакалейщиков. Одни придерживались идеи «чем проще, тем лучше», другие верили в лечебную силу различных смесей. Смеси представляли собой «составы и странные микстуры». Сторонниками их применения был Парацельс и его последователи. В состав таких смесей входили весьма необычные компоненты, например сушеные жабы и экскременты, а также различные минералы — золото, серебро, ртуть и сурьма.
Один иностранец, доктор Алексис Пьемон, наделал много шума в медицинских кругах благодаря рецепту мази под названием «Масло из рыжешерстной собаки». Несчастное животное варили целиком в масле, пока оно не разваривалось. Потом, и только потом, в определенном строгом порядке туда добавлялись скорпионы, черви, некоторые растения, костный мозг свиньи и осла вместе с другими отвратительными ингредиентами. По утверждению доктора, получившаяся в результате ужасная смесь избавила от подагры одного португальского джентльмена. Но еще более удивительно, что она вылечила парализованную руку монаха из ордена Святого Онуфрия. По словам доктора Алексиса, его рука «иссохла, как обрубленная ветка дерева», но после того как в течение 63 дней к больной руке прикладывали мазь, она стала такой же здоровой и мясистой, как и правая. В Англии эта новость вызвала сенсацию, но нам неизвестно, пытались ли воспользоваться этим рецептом.
Помимо лекарственных трав и растений, лечебных смесей, амулетов, колдовства, гадания по звездам, в медицинских целях использовали и камни, которые, как считалось, обладали различными целебными свойствами. Гранат, если его носить на шее или подмешивать в напиток, облегчал горе. Гиацинт и топаз подавляли гнев и утоляли печаль, а также уменьшали ярость и безумие. Берилл облегчал понимание, подавлял суетливость и злые мысли, а хелидоний — камень, найденный, вероятно, в желудке ласточки, — если его завернуть в чистую ткань и привязать в правой руке, избавлял от лунатизма, а сумасшедших лечил от безумия и, более того, делал их «веселыми и дружественными». Изумруд и сапфир успокаивали разум, тогда как карбункул и коралл изгоняли нечистую силу, подавляли печаль, избавляли от ночных кошмаров и детских страхов, а также защищали от припадков, сглаза, заклятий и яда. Кроме того, коралл использовали в целях диагностики.
Сэр Хью Платт, этот очаровательный англичанин, который помимо прочих достижений изобрел первые алфавитные кубики для детей, говорил, что «коралл обладает неким особым пониманием природы, потому что он бледнеет и тускнеет, если его носит больной, и снова обретает цвет и яркость, когда тот выздоравливает». И хотя кажется несколько сомнительным, что коралл может быть средством диагностики, в то же время он, безусловно, обладал некой защитной силой, поскольку елизаветинцы дарили на крещение своим внукам и крестникам ожерелья или погремушки из коралла.
Помимо главных бедствий того времени — чумы, оспы и сифилиса, было еще много разных менее серьезных недугов, некоторые из которых не поддаются определению и имеют столь ужасные названия, что Терсит в «Троиле и Крессиде» употребляет их вместо ругательств. После объяснения на чересчур простонародном английском, что именно означает male varlet (наложница мужеского пола), он насылает «поганые болезни юга»:
Да поразят вас все катары, подагры, боли в пояснице, грыжи, ломота в суставах, обмороки, столбняки, параличи! Да вытекут ваши глаза, да загноятся у вас и печень и легкие, да сведет вам и руки и ноги![91]Поэтому нет ничего удивительного в том, что англичане считали, будто «южный ветер разлагает».
Конечно же тогда встречались и более обычные и узнаваемые болезни: цинга, стригущий и опоясывающий лишай, ангина, ветряная оспа, скарлатина, желтуха, зубная боль, мозоли, водянка, гнойный тонзиллит, малярия, глисты, вши, головокружение и прыщи. Елизаветинцы страдали также и от гнойных язв, паралича, женских болезней, разрыва селезенки, безумия, несварения желудка, слабости сухожилий, нарывов, перхоти и болезней глаз. Очень часто в записках того времени встречаются упоминания о воспалении глаз. Широко распространены были также новообразования на глазу, чахлость, ячмень и дюжина других заболеваний. Весной число больных возрастало, возможно, по причине нехватки витаминов в зимние месяцы.
В то же время создается впечатление, что тогда не было пеллагры, поскольку англичане ели в основном хлеб, приготовленный из цельного зерна. И хотя елизаветинцы ели много ржаного хлеба, маловероятно, что они страдали от гангренозного или конвульсивного эрготизма — отравления спорыньей — состояние, известное и в наши дни на континенте. Лихорадка — Holy Fire[92] — как тогда называли эту болезнь, кажется, была достаточно редкой, хотя Герард и описывал ее как распространенную. Пальцы на руках и ногах, вероятней всего, отваливались из-за обморожения и туберкулезного дактилита.
* * *
Возможно, англичане в эпоху Елизаветы были вульгарными, хвастливыми и жадными, но они были и достаточно крепкими, чтобы переносить не только заболевания, но и их лечение. Чума в то время была сродни сегодняшним бомбардировкам: те, кто имел возможность, бежали из города в сельскую местность, те, кто ее не имел, жгли фумиганты на улице и писали на двери мелом «Господи, смилуйся над нами».
Они жили в страхе перед черной магией, полагались на заговоры, глотали лекарства, состоящие из отвратительных ингредиентов. У них были плохие зубы, зловонное дыхание и ревматизм. Им приходилось переносить ампутацию без анестезии. Они умирали в муках от недугов, которые, по нашим представлениям, никак не могут стать причиной смерти. Они с подозрением относились к врачам, возможно, не без оснований, и доверяли астрологам.
Но они верили в Бога и надеялись на загробный мир, хотя и не пытались представить себе, каким он был. Возможно, причиной этого была глубокая вовлеченность в дела этого мира, в котором они жили и умирали, а может, у них хватало здравого смысла не пытаться понять непостижимое. Может, они боялись смерти, но они совершенно точно не боялись жить. Они умирали более молодыми, чем мы, но некоторые доживали до глубокой старости.
Еще одна Елизавета, грозная Бэсс Хардвикская, умерла, судя по всем признакам, от пневмонии в девяносто лет. Бэсс была одержима маниакальной страстью к строительству, и однажды цыганка нагадала ей, что как только она перестанет строить, то умрет. Жуткое похолодание заставило ее рабочих прекратить работы по перестройке Больсовера. Стройматериалы не могли доставить на стройку, сугробы доходили до верха стен, и рабочие, окоченев, падали с лестниц.
Услышав это, Бэсс отправилась из Хардвика в Больсовер по ужасным дорогам Дербишира, чтобы подстегнуть, пригрозить и заставить их продолжить работу. Но все было бесполезно. Они не могли продолжать строительство, поскольку у них не было материалов.
Бэсс вернулась в Хардвик, и путь по короткой дороге занял 10 часов. Оказавшись дома, она выпила горячий поссет и заявила, что прекрасно себя чувствует, но все же легла в свою резную кровать с прекрасным балдахином. Она так и лежала, страдая от ужасной боли в боку, с блестящими от лихорадки глазами, и продолжала, тем не менее, отдавать приказы, чтобы строительство было продолжено — от этого зависела ее жизнь.
Так она и умерла. На столике у ее кровати осталось несколько книг — труд Кальвина в переплете из красновато-коричневого бархата и «Комментарии на Книгу Притчей Соломоновых», а также песочные часы.
Глава седьмая На смену войнам пришли праздники
Причиной несчастья стал дракон. Высоко над стенами замка он извергнул петарды, взорвавшиеся с поразительным шумом и вспыхнувшие золотыми яблоками, которые должны были сгореть в воздухе, но расчет не оправдался. Четыре дома в Уорике и окрестностях были охвачены огнем, что вызвало панику и на улицах.
Мельница Генри Купера, стоявшая у реки за замком, сильно пострадала от пожара, несмотря на то что несколько аристократов и джентльменов — среди которых были граф Оксфорд и мистер Фулк Гревил — бросились из замка к мельнице, чтобы помочь хозяину. Они наблюдали за фейерверком в честь визита в Уорик королевы Елизаветы и видели, как огненный шар упал на соломенную крышу мельницы. Нам неизвестно, что удалось спасти благородному графу и отважному джентльмену — если вообще удалось, — но собравшиеся в замке гости посочувствовали Генри Куперу и собрали для него пожертвования. Вырученная сумма составила 28 фунтов стерлингов 12 шиллингов и 8 пенсов.
Поскольку елизаветинцы очень любили фейерверки, то урон, который те часто причиняли, рассматривался как одна из привычных случайностей, связанная с приятным времяпрепровождением. А хороший отдых требовал усилий, особенно если дело касалось игр на открытом воздухе. «Иногда они ломали шею, иногда спины, ноги или руки; иногда один член выбивали из сустава, иногда другой; бывало, что из носа хлестала кровь или глаза вылезали из орбит... победитель тоже пострадал, и у него были такие тяжелые раны, ушибы и повреждения, что он от них умер»(76).
Перед нами вовсе не описание страданий, вызванных пытками, как можно было бы подумать, а обычный отчет об игре в футбол, в которую англичане играли с большим удовольствием. По общим отзывам, в спортивных играх проливали не меньше крови, чем пускали врачи.
Во время игры в палки — очень популярной на сельских ярмарках и деревенских праздниках — проигравший легко мог получить сотрясение мозга или умереть от трещины в черепе, поскольку главная цель игры заключалась в том, чтобы заставить противника пролить кровь, нанеся ему мощный удар по голове дубиной. Стекающая по лицу кровь указывала на проигрыш, и при этом было неважно, был человек в сознании или нет. Если везло, то побежденный отделывался переломом руки или вывихом плеча.
Большой популярностью пользовались борьба и схватка на палашах, в которых с равным успехом можно было лишиться конечностей и жизни. Сломанные во время борьбы ребра были обычным делом. Сельские и деревенские игры были намного более жестокими и кровавыми, чем состязания, в которых участвовали более знатные особы; но даже Калидор в «Королеве фей» Эдмунда Спенсера[93] чуть не сломал шею своему противнику во время поединка, а он был образцом обходительности и учтивости.
Под обходительностью изначально понимались изящные манеры и вежливое поведение придворной дамы или кавалера. Особое внимание ей уделяли в Италии, где книги об этикете и учтивом поведении были очень популярным чтением вслед за «Придворным» Бальдасcape Кастильоне[94]. Даже пиры Борджиа отличались вычурной элегантностью и обдуманной красотой. Грубые шутки осуждались как варварские, но при этом допускалось отравление гостя или чьей-то жены, если это было сделано достаточно ловко. Для итальянцев того времени воплощением варварства, неучтивости и неопрятности были немцы, тогда как Боккаччо говорил о дикости французов, грубости испанцев и хитрости англичан. По итальянским стандартам англичане были просто шайкой хитрых варваров, наслаждающихся бессмысленными и жестокими играми. Но тем не менее английские придворные, джентльмены и знать чрезвычайно гордились собственными успехами в беге, прыжках, фехтовании, стрельбе и турнирах.
В Уайтхолле были арена для турниров, кегельбан, арена для борьбы и теннисные корты. Их построил отец Елизаветы, обожавший все эти виды спорта. Королева предпочитала турниры игре в теннис, поскольку они были красочными, полными щегольства и лести, великолепия, шика и соперничества и центром всего этого была она. В молодости Генрих VIII был страстным поклонником тенниса и, находясь во Франции, играл в него каждый день, ставя на себя огромные суммы — по 2 тысячи крон. Но он не мог быть столь же хорош на теннисном корте, как на турнирной арене, поэтому все время проигрывал. В конце концов, Екатерина Арагонская в интересах экономии уговорила его остановиться.
Стрельба из лука, верховая езда, охота, ястребиная охота и менее энергичные виды спорта — игра в кегли, в шары, метание колец в цель, рыбная ловля — были любимыми забавами и придворных, и простых граждан. Рыбная ловля, игра в шары (возможно, один из ранних вариантов крокета) и кегли были особенно популярны среди женщин, и многие из них увлекались верховой ездой и охотой. Королева была и прекрасной наездницей, и могла уложить оленя выстрелом из арбалета. Даже во время своего пребывания в Нонсаче в 1600 году, когда ей было уже 67 лет, она через день обязательно выезжала верхом. В письме, отправленном лорду Берли во время визита королевы в Кенилворт, Лейстер писал: «Скоро Ее Величество снова отправится в лес, чтобы поохотиться с арбалетом на оленей, как сегодня утром в парке. Слава богу, она очень весела и благожелательна». До этого королева была в дурном расположении духа из-за проблем с запасами пива и эля — напитки оказались слишком крепкими.
Кроме множества парков и лесов, принадлежащих короне, во всех крупных поместьях были свои парки. Там охотились на оленей, косуль, зайцев, барсуков, выдр, вепрей и даже козлов, но «преследовал или нападал во время погони только один вид животных — свора гончих»(77).
Одно из самых примечательных описаний гончих псов мы находим у Шекспира в «Сне в летнюю ночь»:
Мои собаки — сплошь спартанской крови: Брылясты, пеги; вислыми ушами Росу с травы сметают; лучконоги; Как фессалийские быки, с подвесом; Не резвы, но подбором голосов — Колокола.[95]Советы о том, как подобрать собак, можно найти у Жервеза Макхэма: «Чтобы лай вашей своры был благозвучным, в ней должны быть несколько больших собак с большой пастью, которые будут басами в гармонии, затем в два раза больше ревущих и горластых псов, которые будут альтами, и несколько обычных, незамысловатых приятных голосов, на которых будет лежать средняя часть, — и так эти три составляющие сделают вашу свору великолепной». Представители высших и средних сословий могли петь и играть по нотам с листа, поэтому неудивительно, что им нравилось, когда свора во время гона своим лаем походила на хор.
Елизаветинцы вообще были без ума от собак. «Нет такой страны, которая могла бы сравниться с нашей по количеству, великолепию и разнообразию собак», — утверждал Харрисон (который, возможно, никогда не бывал за пределами Англии) и подробно перечислял их породы: охотничьи и дворовые. Среди последних, или «домашних», были овчарки и мастифы, которых называли также цепными псами, потому что держали на привязи, чтобы они «не причинили вреда». Харрисон сам одно время держал у себя мастифа, и пес так любил его детей, что, когда отец брал палку, чтобы наказать непослушных отпрысков, тот не давал ему такой возможности — отбирал палку. Но, как правило, мастифы участвовали в травле медведей и быков и даже в охоте на львов — эти развлечения были чрезвычайно популярны в то время. На южном берегу Темзы располагались два знаменитых медвежьих парка, где мастифов тренировали для травли — любимого воскресного зрелища лондонцев.
Но в то же время елизаветинцы были не так жестоки к животным, как друг к другу. Джон Харворд, мэр Ковентри, однажды прогуливался по окрестным полям с двумя своими борзыми и повстречал Уильяма Хейли, шедшего со спаниелем. То ли борзые мэра напали на спаниеля Хейли, то ли Хейли испугался, что это неминуемо произойдет, так или иначе, чтобы спасти свою собаку, он поколотил борзых мэра. Мэр, чтобы защитить своих псов, побил Хейли. В результате тот умер от побоев, а Харворда по приказу королевы лишили должности.
Дамы очень любили комнатных собачек — особенно мальтийских спаниелей, — и чем меньше те были, тем лучше. Харрисон не выносил этих «изнеженных щенков», а также тип женщин, которые их обожали. Он очень едко высказывался по поводу моды на таких собак: «Подходящие приятели для игры для манерных дам. Эти собачки прячутся у них на груди, живут в их спальнях и облизывают им губы, пока те возлежат, словно юные Дианы, в своих повозках и каретах». Эти женщины любят своих собак больше, чем детей, заявляет он резко, и хитро используют отговорку, что собака на груди помогает от слабого желудка.
Елизавета, возможно, и не заходила так далеко, как юные Дианы, но у нее также было несколько комнатных собачек[96]. На эскизе Цуккаро, сделанном в 1575 году (сейчас находится в Британском музее), справа и чуть позади королевы видна маленькая собачка, сидящая на колонне. На портрете Гирертса королева изображена во весь рост с государственным мечом и маленькой лохматой собачонкой у ног. Собачка выглядит так, словно выпала из столь же маленького и пушистого веера, который королева держит в левой руке, но ради справедливости стоит отметить, что она не похожа ни на близкого компаньона, ни на «изнеженного щенка». Сэр Джон Харрингтон тоже был очень привязан к своему псу Банги.
Словом, любовь к собакам составляла в те времена неотъемлемую черту английского характера, так же как и страсть к спортивным играм.
Помимо игры в палки, в сельской местности были и менее жестокие игры и спортивные состязания: жмурки, чехарда, игра в бары, пятнашки. Игра в пятнашки очень напоминала чехарду, только «дом» — кстати или нет — называли «адом». Игра в прятки была популярна среди детей и взрослых. Dun, или Dun-in-the-Mire[97] на редкость непривлекательная игра. Игроки воображали, что деревянный чурбан (dun означает «ломовая лошадь») падает в трясину, или если рядом было настоящее болото, что встречалось довольно часто, чурбан помещали в него. Игра заключалась в том, чтобы вытащить его обратно.
Каждый игрок делал попытку и при этом старался помешать остальным. Чурбан постоянно падал кому-нибудь на ногу. Вероятно, победителем становился тот, кому удавалось сохранить хоть один несломанный палец на ноге. Logget были своего рода деревенским вариантом игры в шары и span counter — детской игрой.
Домашние игры не уступали в разнообразии уличным. На новых длинных столах, стоявших в новомодных галереях, играли в shovel board или shovel penny (настольные игры), в которых тогда уже использовали серебряные фишки. Самой популярной монетой для игры был «Эдвард» — «большой» шиллинг времен Эдуарда VI, — так что shovel board называли Edward board, особенно в сельских гостиницах и постоялых домах. Большой популярностью пользовались шахматы. Для более спокойного времяпрепровождения подходили также шашки, нарды и похожая игра под названием тик-так, или триктрак. Бильярд был менее известен, но в него тоже играли.
В карты и кости — типичное занятие жуликов на ярмарках и в тавернах — играли и дома. Тогда мошенничество не считалось столь тяжелым преступлением, как сейчас, поскольку сэр Хью Платт упоминает об одном своем удачном изобретении — о кольце, украшенном крохотным зеркальцем, с помощью которого можно было видеть карты противника. При этом он утверждает, что кольцо создано для защиты от шулеров, но, судя по всему, такая вещь могла подвигнуть на мошенничество и своего обладателя.
Самыми распространенными карточными играми были: тридцать один, дурак, Primero, Gleek, Pope July (азартная игра, о которой почти ничего не известно). В Primero, одной из самых любимых игр королевы, карты имели троекратную стоимость, каждому игроку раздавали по четыре карты, и целью было собрать карты одной масти, как флэш в покере; prime — одна карта каждой масти и достоинства — оценивалась, как в пикете. Для игры в Gleek нужны были три игрока. Двойки и тройки из колоды убирали, игрокам раздавали по двенадцать карт, а оставшиеся восемь можно было выкупать. Целью игры было собрать три одинаковых карты, так что Gleek мог быть прототипом игры рамми. Когда королева выигрывала, она настаивала на том, чтобы с ней рассчитывались немедленно (эту привычку некоторые викторианские историки считали очень «некоролевской»).
В это время в Англии возникла еще одна карточная игра, до сих пор очень популярная в сельской местности, — вист. Тогда эта игра называлась Triumph — «триумф», от чего впоследствии образовалось слово trump — козырь. До этого для козырей существовали названия Tiddy, Tumbler, Tib, Tom, Towser. Колоду карт называли pair или deck, а для валета использовали слово jack — эти термины и сейчас употребляют в Канаде и Соединенных Штатах.
Число разновидностей игры в кости превышало даже число карточных игр. Во время игры мошенники обчищали приезжих в тавернах и на постоялых дворах, особенно в Лондоне. Торговля поддельными костями (которые в избытке производили узники тюрьмы Маршалси, а также, вероятно, тюрем Флит и Клинк) шла весьма оживленно. Там делали кости, на которых во время игры одни комбинации выпадали очень часто, а другие не выпадали вовсе. Среди них попадались кости под названием «cater-trey», что означает «три и четыре» (эти числа никогда не выпадали), «пять-два», «шесть-один» и их противоположности, так называемые фальшивые «три-четыре», «пять-два», «шесть-один». Существовали кости, к одной из граней которых прикреплялась невидимая щетина, которая влияла на результат. Contraries[98] — это кости со смещенным центром тяжести, для чего в них заливали свинец, их еще именовали Fullams или Fulhams (Fulham — место с дурной славой, где собирались жулики и мошенники). Кроме того, были кости со сточенными фасками и выпуклыми гранями, кости со скошенными плоскостями, кости с неверной разметкой, которыми невозможно выбросить некоторые суммы очков.
Трудно сказать, жульничали ли елизаветинцы во время домашней игры в кости или карты. Но это вполне вероятно, учитывая их образ жизни, поскольку, если верить некоторым источникам того времени, жулики и прохиндеи составляли половину населения Англии. Естественно, те, кто не был одарен криминальным талантом от природы, обучались в специальных школах для мошенников и воров. Мало кто из почтенных граждан мог чувствовать себя в безопасности в толпе.
Однако угроза быть обворованным и обманутым не удерживала людей от посещения ярмарок и разных шоу. Елизаветинцы просто обожали ярмарки. Регулярно по всей стране проводились народные празднества: разгул перед Великим постом во вторник на Масленой неделе, Духов понедельник, двенадцать дней от Рождества до Крещения с Повелителем Беспорядка, который был главой рождественских увеселений и многими считался чуть ли не воплощением дьявола. Конечно, были и менее грандиозные праздники и ярмарки регионального и местного характера. Хэллоуин — кельтский Новый год — был скорее сельским праздником, и его больше отмечали на западе и севере страны с тминным печеньем и нырянием за яблоками.
Праздник Первого мая первоначально праздновали в основном в сельской местности, хотя даже в Лондоне молочницы обвивали цветами свои ведра и танцевали на улицах. В каждой деревне устанавливали майское дерево, украшенное цветами и лентами, вокруг которого танцевали мужчины, женщины и дети. В некоторых районах страны этот украшенный цветами шест устанавливали на переднем дворе, как мы сейчас новогоднюю елку. Дети ходили от дома к дому, распевая веселые песни, и ставшая для нас «старой» традиция петь майским утром хвалебные гимны на вершине башни Уолси в Оксфорде, когда часы пробьют пять, тогда только появилась. Это была часть поминальной мессы, которую служили каждый год за упокой души дедушки Елизаветы — Генриха VII.
С поразительной нелогичностью, но достойным похвалы национальным рвением англичане сохранили празднование Первого мая не как пережиток языческого прошлого, но как день, посвященный Робину Гуду и деве Марион. Таким образом, стрельба из лука и танцы-морески[99] были частью празднества. Кроме этого, на праздник устраивали настоящее пиршество, там были и спортивные игры для желающих поломать кости, и много музыки.
* * *
Именно музыкой англичанам удалось поразить весь мир. Живопись и скульптура эпохи Елизаветы не смогли достичь уровня европейских мастеров Ренессанса, но англичане считались одной из самых музыкальных наций в мире. Королева тоже обладала поразительным музыкальным дарованием. Этот талант она унаследовала от своего отца и, о чем часто забывают, от своей матери Анны Болейн. Источники того времени сообщают, что Мария Тюдор, хотя была и менее музыкальна, чем Елизавета, уже в три года развлекала игрой на верджинеле[73] «трех высокопоставленных французских джентльменов»(78). Один из них заметил, что она «играла легко, быстро и с большим изяществом».
Тогда музыка была народным и семейным искусством в полном и истинном смысле этого слова. Средний житель той эпохи мог исполнить партию в недавно написанном изысканном мадригале с такой легкостью, которая изумила бы современных исполнителей мадригалов. В особняках и менее роскошных домах хозяева помещали музыкальные инструменты и ноты, чтобы гости могли развлечь себя музыкой, — подобно тому, как мы теперь кладем журналы, кроссворды, триллеры и ставим телевизоры. Лютню тогда можно было купить даже у парикмахера. Весьма распространено было послеобеденное пение, когда вместе собирались члены семьи, гости и слуги. В сельских гостиницах — а английские постоялые дворы были очень хорошими, чистыми и предоставляли хорошую еду и обслуживание — хозяин заведения, гости, местные помещики, йомены и их семьи собирались вместе и проводили несколько часов, распевая песни с таким умением и наслаждением, что иностранцы поражались как уровнем мастерства, так и демократичностью собрания.
Какой бы город или деревню ни посещала королева, самая важная роль в празднествах отводилась музыке. Однажды во время ее визита в Норидж был приготовлен музыкальный сюрприз, чтобы подбодрить королеву, когда она будет покидать город. Возле реки вырыли огромную яму, замаскировав ее зеленой тканью и ветвями. Когда Елизавета проезжала мимо, внезапно появились речные нимфы, обратившиеся к ней со стихотворными речами, и в то же время в укрытии заиграли музыканты, так что казалось, будто музыка исходит из земли. К сожалению, начавшийся в тот момент жуткий ливень немного испортил предполагаемый эффект и затопил сидящих в углублении музыкантов.
Любовь к музыке сочеталась с любовью к танцам. Танцевали все. Елизавета была столь страстно увлечена танцами, что поговаривали, будто Кристофер Хэттон был обязан своим продвижением по службе исключительно умению танцевать. Это общее заблуждение несправедливо как по отношению к королеве, так и к Хэттону. Возможно, что впервые в поле зрения королевы он попал благодаря мастерству танцора, но Елизавета была далеко не глупа. Она высказывала благосклонность придворным, но своих министров и служащих судебного ведомства выбирала столь безошибочно, что они умирали, оставаясь у нее на службе. Когда Лейстер, приревновав к Хэттону, предложил познакомить Елизавету с учителем танцев, который, по его уверениям, танцевал еще лучше, чем Хэттон, она ответила: «Фи! Я не собираюсь смотреть на вашего человека — это его работа!»
«Она получает огромное удовольствие от музыки и танцев, — писал де Месс своему королю Генриху IV в 1598 году. — Она сообщила мне, что принимает, по крайней мере, шестьдесят музыкантов; во времена ее юности она превосходно танцевала и сочиняла мелодии и музыку, а затем собственноручно их исполняла и танцевала. Это доставляло ей такое наслаждение, что она отстукивала ногой ритм во время танца ее фрейлин. Королева делала им замечания, если ей не нравился танец, и, без сомнения, сама в совершенстве владела искусством танца в итальянской манере танцевать возвышенно».
Мария Стюарт, как сообщил Елизавете сэр Джеймс Мелвил[74], танцевала «не столь величественно и не с таким расположением», как она. Кажется, что Елизавета была весьма величавым танцором, но «с расположением» означает также и «весело».
В то время было, наверно, сотни танцев — величавая павана, веселая галлиарда, контрданс аллеманда. Названия некоторых были просто очаровательными: медленный танец «Свалка леди Кэрри», «Мелодия тряпичной куклы», «Епископ честерской джиги», «Испанская леди», «Деревянный петух Фарнаби», «Ничья джига», «Мой запыленный милок». Кроме этого, англичане просто с ума сходили по шотландским танцам.
Еще более роскошными были маскарады и карнавальные шествия, и жители той эпохи старались не пропустить ни одного из них. Эти празднества в честь королевы были нескончаемыми и, надо признать, довольно утомительными. Периодически раздавались голоса пуритан — противников этих зрелищ да и других увеселений. Мать-пуританка писала своему сыну Энтони Бэкону, что она уверена: «они не станут участвовать в карнавалах, празднествах или греховных увеселениях в "Грейз Инн"», где в то время жили Энтони и его знаменитый брат Френсис. Среди современников Бэкона, участвующих в увеселениях в «Грейз Инн», был Лоренс Вашингтон.
Большое внимание на этих праздниках уделяли шуткам. И среди них встречались такие: «Если женщина подвержена падучей болезни, ей не следует ездить на Запад, чтобы не попасть на Остров Мужчин...» И не дождавшись, пока аудитория придет в себя от приступа смеха, рассказчик продолжал: «...и из-за этого несчастья ее нужно приучить держать ноги скрещенными всегда, когда она не ходит». Другая шутка должна была быть очень по вкусу страдающим ксенофобией англичанам: «Ни один местный врач не может быть превосходным, потому что все лекарства иностранные». А как вам это: «Каннибал — самый любящий враг, ведь ни один человек добровольно не будет есть то, что ему не нравится». Над подобными шутками люди хохотали до упаду. «Знатной даме не стоит ходить со своими волосами, ведь это столь же отвратительно, как и пальто из собственной шерсти». Из-за чрезвычайной популярности такого юмора шутки стали собирать и издавать. Такие книги вошли в моду по всей стране.
Театр также пользовался огромной популярностью, хотя против него резко выступали пуритане. Великолепные костюмы актеры часто приобретали у слуг богатых аристократов, получивших их в наследство от умершего господина. В результате «лорд» на сцене был одет в дорогой и роскошный наряд настоящего, пусть уже и скончавшегося, лорда. Представления в елизаветинском театре порой ужасали своей достоверностью. Во время изображения сражений и битв подмостки были щедро покрыты кровью и кишками, которые заблаговременно приобретали в лавке мясника. «Тит Андроник» Шекспира в постановке того времени сегодня многим из нас покажется отвратительным, но он прекрасно отражал вкусы эпохи.
Пьесы разыгрывали при дневном свете, без декораций, подсветки или оркестра, хотя в постановках часто использовали звуки труб, фанфары и сигналы тревоги. В отсутствие декораций и занавеса актер должен был произвести впечатление на аудиторию, обращаясь к эмоциям и воображению зрителей. И в то же время рабочие сцены и плотники были очень изобретательными и честолюбивыми. Среди сценических ремарок в театре Роза были такие: «Уход Венеры, когда нужно легко опустить стул с верха сцены и поднять ее наверх». Вот еще более трудная задача: «После этой молитвы она умирает, и снизу поднимается пламя, которое проглатывает Радагона». Немного проще, но не менее действенно: «Иона извергается из чрева кита прямо на подмостки». Опись предметов, составлявших реквизит труппы лорда-адмирала в 1598 году, содержит множество любопытных вещей: вход в ад, могила Дидоны[100], пара лестниц для Фаэтона, голова старого Магомета, одно золотое руно, одно лавровое дерево, одна голова призрака, одна цепь из соверенов, трезубец и венок Нептуна, уздечка Тамерлана, дерево Тантала, крылья Меркурия, лук Купидона, тиара папы римского, деревянная нога Кента[101] и — самое зловещее — «котелок для еврея».
Многие из пьес того времени до нас не дошли, но поскольку тогда было не принято показывать одну и ту же пьесу по многу раз, количество произведений, написанных в ту эпоху, было поистине огромным. В течение двух февральских недель актеры из труппы лорда-адмирала сыграли десять различных пьес. Таким образом, актер был человеком очень занятым и у него не было времени на репетиции, поэтому в случае необходимости он легко мог сымпровизировать. Итальянские актеры в совершенстве владели искусством импровизации, и если им предоставляли сюжет или историю, они могли по ходу выступления придумать целую пьесу.
Публика с ее неискушенным вкусом обожала громкие слова и длинные речи. Герои должны были быть героями, злодеи — злодеями, а ужас — реальным. Трагедия не могла быть беззвучной и молчаливой, а комедия благовоспитанной. Авторы пьес прекрасно понимали желания толпы и с лихвой удовлетворяли ее запросы: пьесы изобиловали длинными речами, краснобайством, ссылками на античных и мифологических героев.
* * *
Судя по большому числу печатавшихся книг и памфлетов, листовок и баллад, чтение было одним из любимых способов времяпрепровождения елизаветинцев. Этому способствовали полвека книгопечатания, а также расширение возможностей для получения образования. Англичане жадно поглощали книги, и Томас Кориат однажды хмуро заметил, что скоро книг будет больше, чем читателей.
Лондонцы покупали книги в лавках, теснившихся возле собора Святого Павла. Сельских жителей балладами, листовками, памфлетами, сборниками смешных историй и загадок снабжали бродячие торговцы. Привычный для нас образ мира в виде земного шара был для елизаветинцев внове, а известная нам география — пространством для открытий. Книги о путешествиях были настолько популярны, что, казалось, интерес к ним никогда не угаснет — это и подвигло Харрисона написать свою книгу. Предполагалось, что она будет частью более обширной работы, начатой Реджинальдом Вулфом, печатником королевы: он планировал создать «универсальную космографию всего мира вместе с историями обо всех известных народах». Для написания исторической части Вулф привлек Рафаила Холиншеда и других, но после двадцати пяти лет работы умер. Его покровители, побоявшиеся продолжать столь значительный труд, решили ограничиться частью Холиншеда и описанием Англии.
Частично интерес к книгам о странствиях объяснялся тем фактом, что географические исследования и путешествия, по мнению толпы, неизменно приводили к богатству. Те, кому не приходилось ездить дальше ярмарки в соседней деревне, пристрастились к путешествиям и поиску сокровищ через книги. Сэр Уолтер Рейли написал небольшую работу с длинным названием — «Открытие обширной, богатой и прекрасной империи Гвианы, с описанием великого золотого города Маноа (который испанцы называют El Dorado) и провинции Эмерия, Арромайя, Амапайя и других стран с примыкающими реками». Она трижды переиздавалась в год своего выхода (1596). Кто мог устоять перед словами «обширная, богатая и прекрасная империя», или «великий золотой город», или странными поэтичными названиями «Эмерия, Арромайя, Амапайя»? Уж точно не подданные Елизаветы, хотя многие из них и не доверяли автору книги. Они слышали, что он был заносчивым и высокомерным, выглядел как чужеземец и даже — из-за смуглого лица и темных глаз — как испанец!
Генри Робартс относился к совершенно другому типу автора-моряка. Он выпускал памфлет за памфлетом, прославляя английское искусство мореплавания и подвиги пиратов. Робартс, твердо веривший в патриотическую пропаганду, умудрился даже приписать выходки пиратов Божьему предопределению. Эта идея была очень популярна в то время. Но мысль о том, что материальное благополучие вне зависимости от того, каким путем оно было достигнуто, является доказательством Божьей милости, вовсе не была изобретением жителей той эпохи и не исчезла после ее окончания.
Широко распространенная в то время баллада наглядно отражает народный пыл:
Вы, щеголи, джентльмены, британцы по крови, Почему не плывете по океанским водам? Я заявляю, что все вы не стоите фундука, Если сравнить с сэром Хэмфри Джилбертом.И в то же время что бы делали моряки без Ричарда Хаклюйта? Он был выдающейся личностью той эпохи, и его «Основные плавания английской нации» — по-прежнему одна из лучших книг, написанных на английском языке. Хаклюйт, как и Харрисон, был священником и миссионером. Он был убежден, что морское могущество Англии призвано с помощью торговли и колонизации «увеличить число владений королевы, обогатить ее казну и обратить язычников в христианскую веру». В XX веке Англия повернула вспять процесс, начало которому положили люди той эпохи. При этом не стоит забывать, что они были столь же уверены в правильности своих действий, как и их далекие потомки, возвращая все на свои места.
Елизаветинцы также очень интересовались тем, что в их время считалось наукой. При острой нехватке врачей каждый глава семьи был просто обязан обладать хотя бы минимумом медицинских знаний. Учитывая влияние звезд на жизнь человека, было просто неразумным не знать хоть что-то из астрономии и астрологии. А так как алхимия всегда была на грани открытия «философского камня», то следовало не отставать от жизни и быть в курсе последних новостей в этой сфере. Практически непонятный сейчас жаргон «Алхимика» был намного более прозрачным для людей той эпохи, чем для нас язык нашей постоянно развивающейся науки.
Справочники, которые мы считаем изобретением современности, были распространены уже в ту эпоху. Джон Маплет в 1567 году выпустил поистине энциклопедическое издание под очаровательным названием «Зеленый лес, или Естественная история». Он хотел упростить университетское обучение и сделать его доступным для обычных людей. Его «Зеленый лес» был одновременно справочником и пособием для самообучения на дому. Информация в нем была поделена на три раздела: животные, растения и минералы, — и по необходимости была краткой. Однако все факты, собранные из латинских трактатов, по которым обучались в университетах, были изложены на английском. Маплет популяризировал Аристотеля, Плиния, Теофраста, Диоскорида и Кардано и сделал их доступными для тех, кто не владел ни латинским, ни греческим, подобно тому, как Чепмен[102], правда, по другим причинам, «англизировал» Гомера. Большинство ученых трудов того времени писалось на латыни, и одним из достоинств придворного было умение переводить различные книги с латыни на английский язык. Елизавета сама в преклонные годы занималась тем, что в свободное время переводила Боэция.
Кроме этого, были распространены сборники, предоставляющие разнообразную информацию. Постоянно переиздавались «книги тайн» вроде той, что приписывалась Альберту Великому. В его книге содержались эзотерические сведения о травах, камнях, животных, а также полезная информация о семи планетах, «управляющих гороскопами детей». Предполагалось, что дети, родившиеся в один день, один час и один год, испытывают друг к другу сильное влечение — так называемую синархию, и именно синархией объяснялась близость Елизаветы и Роберта Дадли. Считалось, будто совпал не только день, но даже момент рождения королевы и Дадли. Возможно, что это неправда, но сам факт такого убеждения говорит о многом.
Перевод «Сада любопытных цветов» Антонио Торквемады приобрел большую известность благодаря доверчивости, свойственной той эпохе. Среди изложенных там чудес был рассказ о женщине, которую выбросило на африканский берег, где она родила от обезьяны двух сыновей. Елизаветинцы проявляли большой интерес к подобным вещам.
В ходу были также различные обучающие буклеты типа «сделай сам». Томас Хилл был самым плодовитым автором таких работ, с помощью которых ремесленники, не владевшие латынью и греческим, могли постичь секреты природы. Эти откровения включали в себя полезную информацию и некоторую смесь из знаний по садовому искусству, астрономии, астрологии, физиогномике, хиромантии, ботанике, медицине, химии, пчеловодству, толкованию снов и предсказаниям, не говоря уже о тайном рецепте, превращающем воду в вино.
Но расширение горизонтов физического мира закономерно привело к возникновению новых горизонтов в сфере разума. Теперь общество состояло уже не из двух классов, а из трех, и новый, постоянно увеличивающийся средний класс пристрастился к чтению с тем же рвением, что и к торговле. Равенства между людьми нет.
Если бы это было так, то самосовершенствование было бы бессмысленным. Сыновья купцов и ремесленников — а ремесленник изначально сам мог быть сельским жителем — шли получать образование в Оксфорд и Кембридж. И многие из них зарабатывали себе на жизнь — или пытались заработать — с помощью пера. Кристофер Марло[103] был сыном сапожника, Габриэль Харви[104] — сыном канатчика, Роберт Херик — сыном кузнеца, Энтони Мандей[105] — сыном торговца мануфактурными товарами, Джордж Пил[106] — солевара, Джон Вебстер[107] — торговца мужским платьем, Джон Донн[108] — сыном торговца железными и скобяными изделиями. Отец Уильяма Шекспира начинал как перчаточник, а впоследствии стал обеспеченным жителем Стратфорда. Нет причин, по которым можно было бы утверждать, что по рождению и образованию Шекспир не мог быть автором своих произведений. Он умел читать (а в то время недостатка в чтении не было) и, подобно блистательным итальянским актерам, был мастером импровизации.
Публика так стремилась читать и учиться, что практически все, что выходило в то время из-под пера писателей, быстро распродавалось — от недавно «англизированных» шедевров античности до баллад-однодневок.
Надо сказать, что читатели не испытывали нехватки и в «однодневной» литературе. Листовки и баллады печатались в огромном количестве и были, в известном смысле, неким эквивалентом нашим газетам. В виде баллады можно было издать все, что угодно. Англичане так любили песни, и даже плохие, что баллады были просто обречены на успех. И не имело никакого значения, что их содержание зачастую было неприличным, а стихи ужасными. Жалобы по поводу налогов и монополий, якобы предсмертные мысли казненных преступников, ненависть папы Пия V, приключения Дрейка и Хоукинса, конкуренция, вызванная ввозом заграничных товаров, мошенничество ремесленников, пагубное действие вина, женщин и табака — все это обыгрывалось авторами баллад. Обычный человек того времени оказывался на полпути от трубадура к таблоиду.
Не было недостатка и в художественных произведениях. «Аркадия» сэра Филиппа Сидни стала очень популярна в придворных кругах, как и «Эвфуэс, или Анатомия ума» Дж.Лили. Кроме того, были еще «Менафон: пробуждение спящего Эвфуэса Камиллой» Роберта Грина и его пасторальные романы, вроде «Пандосто: Триумф времени» (последний так понравился Шекспиру, что он позаимствовал его сюжет для своей «Зимней сказки»). Грин, называвший Шекспира «выскочкой вороной», был очень плодовитым автором бестселлеров того времени.
Большой популярностью пользовался Томас Лодж, оставивший право ради литературы, а затем литературу ради занятий медициной. В его романе «Маргарита Американская» есть сцена, где добрая героиня Маргарита и Фавния встречают в лесу льва. Лев пожирает Фавнию, склоняет голову на колени Маргарите и начинает лизать ее белые руки. Поведение льва было понятно для каждого елизаветинца, поскольку средневековое убеждение, что король зверей узнает и вознаграждает моральную чистоту, по-прежнему считалось верным. Другой пасторальный роман Лоджа «Розалинда: Золотая Легенда Эвфуэса», написанный им во время поездки на Канарские острова, также был очень известен. (Шекспир использовал этот сюжет в своей пьесе «Как вам это понравится».)
Помимо работ Сидни, Грина, Лоджа, спросом пользовались переводы произведений испанских, французских и итальянских авторов. Любовь к бесконечным и бессодержательным испанским балладам, неумело и зачастую плохо рассказанным, разрушает всякую иллюзию, что елизаветинцы обладали хорошим литературным вкусом. Читателей, принадлежавших к среднему классу, больше заботила мораль, чем вкус. (Хотя моральное совершенство в испанских исторических балладах можно было обнаружить с трудом.) В то же время попадались и реалистичные, и даже пошлые романы. Некоторые из них основывались на эротических новеллах итальянцев вроде «Дворца наслаждений». Другие были скорее памфлетами, чем романами, и рассказывали о различных трюках, с помощью которых жулики обманывали доверчивых простаков. Грин выпустил четыре брошюры «на благо джентльменов, подмастерьев, йоменов и фермеров». Они стали известны как conycatching (силки для зайцев). В них живо описывались западни и ловушки, в которые попадали неотесанные деревенские парни и другие несчастные, незнакомые с превратностями лондонской жизни.
Несмотря на все эти новинки, елизаветинцы по-прежнему очень любили Плиния, в книгах которого было много чудес и загадок. «В Эфиопии водились драконы длиной в 10 фатомов[109]», — говорил он, и мало кто из читателей в этом сомневался, хотя многие, возможно, и не верили, что существуют дикие собаки с человеческими руками и стопами. А примерное поведение львов, хоть они и не водились в Англии, определенно успокаивало детей. Король зверей «полон благородства и милосердия и скорее нападет на мужчину, чем на женщину и никогда — на ребенка, если только не будет страшно голоден». И уж конечно он не станет трогать своего «собрата» среди людей — об этом известно даже Фальстафу: «Лев из чувства породы никогда не тронет истинного принца»[110].
Дети во времена Елизаветы, раскрыв глаза, слушали «Естественную историю» Плиния, которую им читали старшие братья или сестры, и от рассказа про львов у них перехватывало дыхание. Большое удовольствие им доставляли и истории про дельфина — «самую милую рыбу в море», которая больше всего любит «маленьких детей и звуки музыки». Считалось, что дельфину также нравится звук человеческого голоса, и ничто не вызывает в нем такого восторга, как обращение «Саймон».
Эдвард Топселл, служивший одно время капелланом церкви Святого Ботолфа, в Олдгейте, по части драконов сумел превзойти Плиния в своей книге «История змей». Прочитав эту книгу, взрослые и дети узнавали, что эфиопский дракон был 30 ярдов в длину — на целых 10 ярдов длиннее, чем утверждал Плиний. У одного вида драконов, эпидорианского, кожа была золотисто-желтой, а другой — жестокий горный дракон — был известен тем, что его веки звенели, как медь. Македонские драконы были «самыми приручаемыми», и счастливые македонские дети держали их как домашних животных, «ездили на них верхом, играли с ними, как будто те были собаками, не причиняя им вреда, и клали с собой в постель, ложась спать».
Примечательно, что эти драконы не были плотоядными и даже не думали похищать принцесс и губить принцев. Драконов раскармливали яйцами. Взрослый дракон проглатывал их целиком, а затем катался, пока скорлупки внутри него не разламывались. Маленький дракон был еще не в состоянии проделать эту процедуру, поэтому ему приходилось, придерживая яйцо хвостом, прокалывать его чешуйкой и высасывать содержимое из скорлупы. Желудок драконов совершенно не переносил яблок. (Может, именно поэтому дракон охранял дерево с золотыми яблоками Гесперид?) Если же он случайно съел яблоко, то ему требовался дикий салат-латук, чтобы нейтрализовать вредное действие фрукта. Некоторые драконы казались очаровательными и преданными ящерами — один из них так полюбил пастуха за прекрасные золотистые волосы, что каждый день приносил ему подарок, — и даже немного грустно, что средневековые отцы церкви именно их называли олицетворением греха и Сатаны.
Очевидно, что елизаветинцы разделяли драконов на две категории — плохих и хороших. Давным-давно король Артур изобразил дракона на своем знамени. Это был именно он, красно-золотой дракон Уэльса, который стал символом Тюдоров и который теперь вместе со львом поддерживает английский герб.
Глава восьмая Сады и парки — гордость англичан
Во времена Елизаветы I вечера в саду устраивались не королевой, а в честь королевы. Во время ее летних путешествий, если погода была благоприятной — и даже если и не была, — часть развлечений, приготовленных хозяевами, неизменно проходила в чудесных новых садах, которые целиком преображались по случаю ее приезда.
Так, граф Хертфорд, предупрежденный, что королева планирует нанести ему «неожиданный» визит 20 сентября 1591 года, подготовил парк в Элветхэме соответственно грядущему событию. В саду появилось миниатюрное озеро в виде полумесяца, выкопанное вручную, а на склоне холма рядом с озером был построен летний домик, хотя к тому моменту лето уже должно было закончиться. Домик получился превосходным: на его стенах висели гобелены, потолок был украшен листьями плюща, а пол усыпан тростником и душистыми травами. Внешне он походил на большой деревенский коттедж, каркас которого был скрыт ветвями, сучьями и гроздьями спелых лесных орехов.
Елизавета приехала в три часа и обнаружила, что путь к дому угодливо загражден большими чурбанами, «нарочито разбросанными зеленоглазой Завистью». Их поспешно и с радостью убрали. Затем шесть девушек с венками усыпали оставшуюся часть пути цветами.
Во вторник, который выдался дождливым, в саду состоялся большой музыкальный праздник. Хор фей и эльфов (эльфы должны были перекликаться с названием места — Элветхэм) распевал следующие строки:
Элиза — самая справедливая королева, Которая когда-либо ступала на эту лужайку. Ее глаза подобны звездам, Приводят к миру, прекращают войны.Кульминацией стало представление в летнем домике у недавно вырытого озера.
Елизавета наблюдала за представлением и слушала, как «три девы в пинасе» играют на корнетах «Шотландскую джигу», а Нерей и три нереиды поют «под одну лютню»(79), чтобы «усладить ухо Элизы гармонией». Помимо этого, вокруг веселился и проказничал «морской народ», забавляясь с «огромной струей воды». Посреди озера был остров, который «защищали» рыцари. А «гора-улитка» напоминала огромного монстра с рогами, из которого «извергалось пламя». Еды и питья было в избытке. Нерей преподнес в дар королеве драгоценный камень в красном кошеле. И все это время дождь лил как из ведра.
Это празднество — со струями воды, всполохами пламени и ливнем — может показаться нам ужасным. Но елизаветинцы — от королевы до мелкого фермера — обожали сады и очень любили проводить там время. И где бы ни проходил кортеж королевы — по ухабистым дорогам, через крохотные деревушки, мимо далеких, одиноко стоящих коттеджей, — ее «добрый народ» спешил усыпать ее путь цветами или преподнести букетики цветов, собранных в собственном саду.
Удивительная страсть к выращиванию растений, ставшая отличительной чертой англичан, завладела ими именно в XVI столетии, когда сады и садовое искусство приобрели популярность и перестали быть достоянием избранных. Раздел монастырских земель, появление большого количества новых собственников земли, экономическое процветание, увеличение строительства богатых особняков и небольших домов стали причиной того, что садоводством стало интересоваться множество людей. Более того, гонения на протестантов за пределами страны привели к тому, что многие из них нашли убежище в Англии, а среди них были и знаменитые садоводы, например гугеноты из Нидерландов.
Сад часто планировали одновременно с домом. Если новоиспеченный богач приобретал план дома, например у Джона Торпа, то последний придумывал и планировку сада. Считалось, что для создания сада требуется столько же, если не больше, умения, как и для постройки дома. «Люди учатся великолепно строить быстрее, чем разбивать прекрасные сады», — заметил Френсис Бэкон в своем изысканном эссе «О садах». Судя по всему, он считал садовое искусство более сложным, чем собственно строительство. Впрочем, он и сам занимался садоводством в «Грейз Инн».
В то же время сады той эпохи были совершенно не похожи на современные. Помимо того, что сегодня у нас их намного больше и в них растет множество видов растений и цветов, само представление о саде было тогда совершенно иным. Замысел наших садов с их пейзажами и продуманной дикостью разработан школой, основоположниками которой были Уильям Кент[111] и Всемогущий Браун[112]. Елизаветинские же сады с декоративными кустарниками были, несомненно, восточными по своему замыслу и отличительным чертам. Древний четырехчастный план, описанный в Книге Бытия, по-прежнему был актуален.
Сады Востока постоянно нуждались в орошении, поэтому представляли собой четыре прямоугольника или квадрата, разделенные между собой водой. Если площадь сада была большой, то эти участки также дробили на квадраты небольшими рвами или каналами. Сады в виде «шахматной доски», господствующие в Западной Европе со времен Крестовых походов до правления династии Стюартов, следовали именно этому принципу, хотя практической необходимости в подобной планировке не было, поскольку англичанам не нужно было решать проблему ирригации. Но елизаветинцы продолжали следовать этому плану, хотя и добавили в него много «новшеств».
Площадь сада продолжали делить на четыре части, но не рвами и канавами, а аллеями и дорожками. Идеальное представление о саде отражают слова Френсиса Бэкона, обращенные к современникам: «Наилучший вариант сада — прямоугольный, окруженный с четырех сторон изящно изогнутой живой изгородью». Сады часто обносили стенами, но зубчатые стены, окружавшие средневековые сады, были больше не нужны и встречались все реже и реже. Как правило, на некотором расстоянии от стены помещалась живая изгородь из различных кустарников и небольших деревьев, таких как боярышник, бирючина, шиповник, и изредка — розовых кустов, обвивавших проемы или арки, которые прорубали в изгороди, чтобы можно было любоваться садом, гуляя по аллее, идущей по его периметру.
По замыслу Бэкона, изгородь нужно сажать на усыпанной цветами насыпи. Над арками должны возвышаться маленькие башенки, достаточно широкие, чтобы на них могли удержаться клетки с птицами, а «над сводами поместить другие небольшие фигуры с широкими плитами из цветного стекла с позолотой, чтобы на них играло солнце». В качестве альтернативы вдоль дорожек устанавливали решетчатые конструкции или шесты, чтобы их обвивали растения, срастающиеся наверху. Вероятно, что среди других вьюнов для этих целей использовали и виноградную лозу.
Существовали и другие, более скромные способы обнести сад изгородью. Томас Хилл, который время от времени выпускал книги о садовом искусстве под очаровательным псевдонимом Didymous Mountain[113], советовал расставить по периметру кадки с колючими растениями типа боярышника. Он также предложил новый метод насаждения изгороди. Садовник должен был собрать семена боярышника, шиповника, крыжовника и барбариса осенью, замочить их в муке, затем посадить их на зиму в «длинную потертую веревку... прогнившую до некоторой степени». Весной нужно было вспахать две борозды на расстоянии в три фута на том месте, где предполагалось вырастить изгородь. Веревку было можно легко и просто уложить в эти борозды. Хилл уверял своих читателей, что через месяц «с небольшой погрешностью» появятся ростки, а через несколько лет сад будет окружен крепкой двойной изгородью.
«Чудо-дома» и особняки были расположены в больших парках или лесистой местности, их окружали фермы и поля, принадлежащие владельцу, но земля, непосредственно прилегающая к дому, возделывалась по определенным правилам. Возле дома были передний двор, часто окруженный стеной, с декоративными воротами и домиком привратника у бокового входа. С той стороны дома, где располагалась кухня, были огород и крайне важный дровяной склад. Третью сторону обычно отводили под фруктовый сад, а четвертая представляла собой квадратный или орнаментальный сад, часто соединенный дорожками с фруктовым садом. Таким образом, сам дом оказывался в центре разделенного на четыре части пространства. Квадратный или орнаментальный сад разбивали, руководствуясь этим же планом.
Самой простой формой орнаментального сада была крестообразная: четыре дорожки сходились в центре на круглой или квадратной площадке, на которой устанавливали статую, фонтан, насыпь или солнечные часы. Вне зависимости от размеров дома дорога к саду всегда шла от террасы, украшавшей переднюю часть особняка, откуда можно было обозреть весь сад целиком. Широкая тропа, или, как ее называли, straightforward («ведущая прямо вперед»), обычно шла от террасы через сад к дальней стене, а если сад был достаточно большим, то таких главных троп было несколько. Эти дорожки пересекались другими тропинками, шедшими параллельно террасе. В результате тропы и дорожки образовывали «шахматный» рисунок.
Несмотря на восточное происхождение подобной планировки, она удивительно соответствовала вкусам англичан. Историк Николай Певзнер[114] обратил внимание, что прямолинейные очертания — горизонтали, пересеченные перпендикулярными линиями, — долгое время были излюбленным узором в английском искусстве и архитектуре. И без сомнения, это был любимый, хотя и не единственный вариант плана орнаментального сада.
Пространство между дорожками использовали под клумбы, лабиринты и различные замысловатые узоры. (см.илл.) В их основе, как правило, лежали геометрические или геральдические фигуры. Клумбы разбивали либо на возвышении, либо на одном уровне с дорожками. Но возвышения были ниже, чем в Средние века, хотя их по-прежнему обкладывали кирпичом или камнем или обносили решетками или оградой. Цветы теперь высаживали не единым цветовым блоком, а комбинировали и с очаровательной непринужденностью подбирали по контрасту. Довольно любопытно, что даже клумбы, на которых уже росли цветы, часто украшали цветами в горшках.
Но иногда клумбы покрывали разноцветным гравием — обычай, к которому Бэкон относился крайне неодобрительно. По его мнению, они смотрелись лишь немногим лучше открытого пирога. Клумба могла также представлять собой целый город или лабиринт. Подобные лабиринты почти всегда были очень низкими, и излюбленным растением для их крохотных стен была хлопковая лаванда. Или же клумбы выстилали дерном, но при этом они вовсе не походили на подстриженные лужайки. Дерн представлял собой высокую траву, усеянную маленькими дикими цветами, ромашками, маргаритками, примулами и золотистыми одуванчиками.
Скамейки в саду строили или около стены, или вокруг деревьев и при этом также использовали дерн. Подлокотники делали из кирпича, камня или дерева, а для сиденья, хоть его и облицовывали камнем, насыпали холм земли высотой в фут или 18 дюймов, поверх которого настилали дерн — обычный или с ароматными цветами: ромашками, фиалками, мятой. Вероятно, было очень приятно расположиться на таких скамейках в сухую теплую погоду, но в других случаях сиденья сверху приходилось чем-нибудь накрывать.
Самым распространенным вариантом сада в эпоху Тюдоров был knot-garden — сад с замысловатой симметричной планировкой и множеством клумб. Он приобрел популярность во времена Генриха VIII и вышел из моды после эпохи Елизаветы I. Обилие таких «узлов» или скоплений цветов и кустарников делало сад похожим на вышитое полотно. Общий план очерчивали плотно посаженные кустарники, а в промежутках сажали цветы или кустарники иных пород. В основном отдавали предпочтение лаванде, армерии, карликовым деревьям, иссопу, дубровнику и другим пряным и ароматным кустарникам. Их очень низко подрезали, а обрезанные ветки использовали для посыпания.
Некоторые современные специалисты утверждают, что для окаймления дорожек и прочерчивания узора сада елизаветинцы использовали не растения и самшит, а «мертвый материал». Полоски свинца, «простые или вырезанные, как зубчатые стены церквей», дубовые панели, плитка или кости голени барана служили декоративными элементами. Еще более модной, чем кости барана, считалась «белая или голубоватая галька». Кажется даже немного странным, что никому не пришел тогда в голову простой и очевидный способ делать бордюры из камня. Однако именно так и было. Джон Паркинсон, родившийся в 1567 году и выпустивший свою книгу о садоводстве в 1629-м, откровенно заявил об этом как «о последнем изобретении».
Планировка сада в замке Холируд имела форму лилии — очевидно, это было сделано в угоду Марии Стюарт. Впрочем, очертания knot-garden могли быть самыми разнообразными, какие только подскажет фантазия, а елизаветинцев нельзя было упрекнуть в отсутствии воображения. Звезды, полумесяцы, концентрические круги и излюбленные переплетающиеся орнаменты — все это можно было встретить в планировке knot-garden. Цветочные часы в Эдинбурге, бесспорно, являются наследием этого искусства. Подобная идея восхитила бы и елизаветинцев, если бы они сами не создавали что-то похожее.
В то время сажали в основном кустарники, поскольку цветов было мало и по преимуществу это были весенние цветы, по крайней мере, в ранний период правления Елизаветы. Майские узелки — так называли букетики цветов, которые по старой традиции собирали в поле 1 мая. За год до своей смерти королева тоже отправилась собирать майские цветы в Льюишэме.
Таким образом, елизаветинские knot-garden были богаты многолетними кустарниками разнообразных цветов — от серебристой лаванды до зеленого самшита и черного тиса. Образуя замысловатые рисунки и узоры, они придавали саду неповторимое очарование в зимнее время и дарили наслаждение летом.
Широкие открытые дорожки покрывали дерном, посыпали песком или засаживали черноголовником, диким тимьяном, водной мятой, ромашками и другими благоухающими травами, которые источали восхитительный аромат. Тенистые аллеи обсаживали ивами, липами, платанами и боярышником, которые срастались наверху; арки обвивали виноградные лозы и даже огненная фасоль.
Неотъемлемой чертой каждого большого хорошо спланированного сада были беседки. Их часто сооружали среди деревьев, и неудивительно, что высотой они порой бывали в два или три этажа. В Кобэме находилась знаменитая беседка такого типа: ветви большого липового дерева, которые росли в три яруса, служили опорой для настила из досок. Судя по всему, это напоминало гигантскую подставку для торта в викторианском стиле. Первый ярус мог выдержать пятьдесят человек, от него вели лестницы как на землю, так и на верхний этаж. Подобные беседки встречались только в очень больших садах, впрочем, таких было немало, поскольку «чудо-дом» всегда окружал «чудо-сад».
* * *
Во время своего первого путешествия в ту часть Англии, которую позже лорд Берли окрестил «дикими местами Кента», Елизавета навестила покровителя Харри-сона, сэра Уильяма Брука, седьмого лорда Кобэма, в его особняке Кобэм-холл, который незадолго до ее визита был расширен и перестроен. На молодого человека по имени Френсис Тинн произвело неизгладимое впечатление представление, устроенное в саду в честь королевы. Позднее он написал о нем: «В 1559 году, на который пришелся первый год правления Ее Величества, этот лорд очень достойно принял королеву и ее свиту в своем поместье Кобэм-холл, приготовив для них изысканную пищу и множество других превосходных наслаждений».
Среди многочисленных развлечений и редких изобретений, столь поразивших юного Френсиса Тинна, которому в ту пору было не больше тринадцати лет, был и дом для банкетов, построенный специально для этого случая. «К тому же там были большая галерея, целиком выполненная из зелени, несколько клумб с цветами в виде различных символов с каждой стороны и посаженные в ряд кусты боярышника». С явным удовольствием он сообщает, что «доктор Хаддон сочинил стихи на латыни», которые поместили «при входе в банкетную палату». По его словам, «они продемонстрировали то радушие, которое выказали королеве не только достопочтенный лорд, но и жители всего Кента».
Возможно, Тинн переписал стихи, а может, сам доктор Хаддон сделал несколько копий, чтобы распространить их среди своих друзей. В любом случае Тинн оставил нам собственный перевод латинских стихов доктора:
Королевский отпрыск из знаменитого рода Брута, Елизавета, самый желанный гость в этом месте. Куда ты ни бросишь свой взгляд, ты увидишь радость и веселье, Потому что счастливы пред твоим королевским челом и мужчины и женщины. Безбородые юнцы, старики, девы в нежном возрасте Крайне смущены пред твоим взором, в чем проявляется их любовь(80).На этом стихи не заканчиваются, но думаю, следует проявить милосердие к читателям и на этом остановиться. Сама королева, блестящий знаток латыни, наверняка справилась бы с переводом намного лучше, чем Тинн. Следует напомнить, что названный в одной из строк Брут — это первый легендарный король Британии и правнук Энея. Убив по несчастной случайности своего отца, он нашел пристанище в Греции, а затем в Британии, где заложил столицу своего государства — Новую Трою, которая впоследствии стала называться Лондоном.
* * *
Лорду Берли доставляло большое удовольствие разбивать сады, строить фонтаны и прокладывать дорожки в Теобальдсе. Он приказал выделять каждую неделю по 10 фунтов стерлингов, которые шли на оплату работ бедняков, занимавшихся его садом. Если тогда средняя заработная плата была около пяти шиллингов в неделю, то в его садах, помимо постоянных садовников, должны были работать, по крайней мере, сорок человек наемных рабочих. Особенно замечательными в Теобальдсе были дорожки: «чтобы достичь конца дорожки, следовало пройти не менее двух миль»(81), как мы узнаем из более позднего описания. Иностранец Хенцнер, современник лорда Берли, рассказывает, что сады были также «окружены водоемами, достаточно широкими, чтобы по ним можно было прокатиться на лодке среди кустарников», и добавляет, что «там было множество деревьев, искусно сделанные лабиринты, фонтаны с бассейнами из белого мрамора, колонны и пирамиды из деревьев и других материалов, расставленные по всему саду».
Судя по всему, под колоннами и пирамидами из деревьев понимались плоды фигурной стрижки, которая достигла почти фантастических размеров, хотя и не таких, как в XVIII веке. Эта мода, несмотря на неодобрение Бэкона, проникла и в небольшие сады. Сам Бэкон предпочитал «симпатичные пирамиды» или «красивую колонну», а остальное называл безделушками или игрушками для детей. Под «остальным» подразумевались фигуры вооруженных людей, которые иногда даже разыгрывали молчаливые битвы, одноцветных павлинов с распущенными хвостами, зеленых кошек, борзых, ланей, зайцев и кроликов, вырезанных из бирючины, тиса и даже розмарина. Впоследствии к ним еще прибавились вырезанные из дерева фигуры, раскрашенные и покрытые позолотой. В садах дворца Хэмптон Корт, значительно расширенных Генрихом VIII, было не менее ста шестидесяти таких фигур: странные создания вроде драконов и грифонов, дикие животные — леопарды, тигры, антилопы и более привычные — быки, борзые и лошади.
В личном саду королевы Елизаветы в Уайтхолле находились изображения тридцати четырех геральдических животных. На деревянных пьедесталах были установлены вырезанные из дерева и раскрашенные фигуры с позолоченными рогами, которые держали вымпелы с гербом королевы. Сэр Джеймс Мелвил записал, что, когда он прибыл в Лондон, чтобы увидеться с Елизаветой, она назначила ему аудиенцию в восемь утра в своем саду в Вестминстере, где он нашел ее «прогуливающейся по аллеям». К сожалению, больше он ничего не сказал о саде, но из других источников нам известно, что сама Елизавета, как и ее соотечественники, обожала сады и, несмотря на обилие странных животных и причудливо постриженных кустарников, больше всего любила английские фиалки.
Возможно, что эти неодушевленные фигуры животных, ставшие отличительной чертой садов эпохи Тюдоров, были созданы в подражание зверинцам, которые в течение многих веков были атрибутом королевских садов. В огромном парке Генриха I в Вудстоке был такой зверинец. В нем держали львов, леопардов — «странных пятнистых зверей», дикобразов, верблюдов и других животных, которых ему присылали, одному Богу известно, каким образом, из «различных отдаленных земель».
Дед Елизаветы, Генрих VII, держал обезьянку в качестве домашнего питомца, которая однажды разорвала на части дневник короля и тем самым «обессмертила» себя, нанеся «удар» будущим историкам. Хенцнер, посетивший в 1592 году Тауэр, увидел там маленький домик, в котором держали «трех львиц и одного льва, названного Эдуардом VI, поскольку он родился во время правления этого короля», тигра, рысь, очень старого волка, дикобраза и орла. Всех их содержали «за счет королевы». Совершенно очевидно, что деревянные животные обходились куда дешевле и были намного менее опасны. Современные «королевские животные» в Кью-Гарденз[115] отсылают нас к Елизавете I.
Еще одной страстью елизаветинцев были искусственные холмы — эта характерная черта английского сада перешла из эпохи Тюдоров в эпоху Стюартов. На таких холмах обычно строили летние домики или засаживали их фруктовыми деревьями. Первоначально холмам приписывали сакральный смысл, они обозначали священные места. Древние бритты сооружали холмы, руководствуясь религиозными побуждениями, что, возможно, объясняет появление Силбери-Хилл[116]. Лондон, как говорят, получил свое имя от такого холма: llan обозначает «священный» — это значение сохранилось в валлийском языке, a din значит «возвышенность» или «высокое положение». Предание гласит, что святой Павел, покровитель Лондона, проповедовал со «священного холма», известного теперь как Парламентский холм. Но какова бы ни была причина или источник этой страсти, елизаветинцы украшали холмами свои сады.
Даже Бэкон с одобрением относился к этой идее. На самом деле, в его описании королевского сада (а под этим он подразумевал сад площадью около тридцати акров) холм занимал центральное место. «Я хочу, — твердо заявлял Бэкон, — чтобы в центре был прекрасный холм с тремя подъемами и аллеями, достаточно широкими, чтобы по ним в ряд могли идти четыре человека; сам холм должен быть совершенно круглой формы, без всяких насыпей или выступов, высотой в тридцать футов, а наверху его должен быть красивый дом для банкетов с несколькими аккуратными трубами». Из этих слов можно понять, что не все холмы, украшавшие елизаветинские сады, имели круглую форму и что Бэкону, возможно, приходилось видеть холмы с насыпями, выступами, различными украшениями и добавлениями, даже не поддающимися описанию.
Генрих VIII со свойственной ему расточительностью построил в Хэмптон Корте огромный холм, на вершине которого была возведена великолепная беседка. И в самом деле, ни один изящный сад того времени не мог считаться законченным, если в нем не было летнего домика или павильона, а в Лондоне это стало просто идеей фикс. Она, скорее всего, также пришла с Востока, где павильоны были существенной и необходимой частью любого парка или сада, прекрасными и изящными, раскрашенными в невероятные цвета, словно бабочки, от названия которых и произошло само слово «павильон». Описание семидневного пира в саду дворца Артаксеркса в Сузах было хорошо известно жителям той эпохи по Книге Эсфири.
В эпоху Тюдоров большие садовые павильоны часто сооружали для того, чтобы устраивать там пиршества, и нам известно, что один из них в Теобальдсе использовался, скорее всего, именно для этих целей, поскольку там был огромный стол из черного базальта. Это была очень красивая полукруглая беседка, и в ее нижней части, помимо стола, находились изображения двенадцати римских императоров, выполненные из белого мрамора. В верхней части были установлены «резервуары из свинца, очень подходящие для купания»(82), которые летом наполняли водой.
В Горэмбери, в саду сэра Николаса Бэкона, лорда — хранителя большой государственной печати и отца Френсиса и Энтони, был построен домик для банкетов так называемых скромных пропорций, или беседка. Впрочем, он не мог быть очень маленьким, потому что на его внутренних стенах были изображены семь свободных искусств, а над ними, образуя своего рода фриз, нарисованы ученые мужи различных эпох, преуспевшие в каждой из наук. Пифагор, Стифелий и Бюде представляли арифметику, а вот изображения Роберта Рекорда, известного математика и придворного врача Эдуарда VI и Марии Тюдор, там не было, хотя он и написал самый ранний английский трактат по алгебре и изобрел знак равенства. Аристотель, Порфирий и Джон Сетон изображали логику. Музыку прославляли Арион, Терпандр и Орфей, что довольно странно в век, столь богатый национальными композиторами и музыкантами. Грамматику восхваляли Донат и Лили. Риторика была представлена Цицероном, Квинтилианом и Демосфеном. Над геометрией были изображены Архимед, Евклид, Страбон и Аполлоний Пергский. И наконец, астрология, под которой подразумевали астрономию, была прославлена Региомонтаном, Коперником и Птолемеем — как видим, доктора Ди среди них не было. Когда королева посетила Горэмбери, то чрезвычайно заинтересовалась этим «скромным» павильоном и особенно той частью, где была изображена астрономия, и сэр Николас, к ее большому удовольствию, развлекал ее рассказами об этой науке.
Беддингтон-хауз в графстве Суррей был известен благодаря фруктовому саду и первой в Англии оранжерее. Была здесь и знаменитая беседка, верх которой был расписан картинами, изображавшими Армаду, а внутри помещался стол из красного и белого мрамора.
Такие беседки могли позволить себе только богатые люди, менее обеспеченные устанавливали узкие колонны, поддерживающие крышу. Еще более простые беседки — bower — состояли из деревянных столбов с крышей, иногда их обносили решеткой, которую обвивали растения: жимолость, жасмин и вездесущая огненная фасоль.
Ни один сад не мог считаться совершенным, если в нем не было фонтана или какого-то водоема. Многие англичане были в восторге от декоративных бассейнов, но только не Бэкон, считавший их приманкой для мух и лягушек. Ратгеба, секретаря герцога Вюртембергского, глубоко впечатлили не только сады Хэмптон Корта — «в некоторых из них рос только розмарин, другие были заполнены разнообразными растениями, которые переплетались между собой, обвивали изгороди и беседки и, искусно подстриженные, принимали такие удивительные формы, что с трудом можно найти что-либо похожее на них», — но и «великолепный высокий и массивный фонтан с оригинальным гидротехническим сооружением, с помощью которого вы при желании сможете облить водой дам и любого, кто будет стоять рядом, так что они промокнут до нитки».
Ратгеб сообщил, что Ее Величество с удовольствием проводила время в этом саду, но ни словом не обмолвился о том, поддался ли герцог, обладавший типичным для тевтонцев бурным темпераментом, искушению облить водой присутствовавших в саду дам. Такие фонтаны, без сомнения, были редкостью: еще один находился в Уайтхолле, а другой — в Нонсаче. Фонтан в Нонсаче имел вид мраморной пирамиды, в которой было скрыто несколько труб, так что они «разбрызгивали воду на всех, кто находился в пределах их досягаемости»(83). Фонтан в Уайтхолле был замаскирован под солнечные часы, и любой неосторожный посетитель, которого просили посмотреть время, мог попасть под душ. На некотором расстоянии от фонтана находилось небольшое колесо, повернув которое, в действие приводили скрытый механизм, и вода извергалась из циферблата. Это, должно быть, доставляло шутникам огромную радость, особенно в холодную погоду.
Но кроме таких фонтанов-розыгрышей были и другие, удивительные и прекрасные, и при этом совсем безобидные. В Кенилворте соорудили большой восьмиугольный бассейн, в котором бил фонтан и плавали карпы. Края бассейна были богато украшены изображениями Протея и его морских быков, Фетиды в колеснице, запряженной дельфинами, Нептуна и Тритона, а также китов, осетров, моллюсков и другими «морскими» узорами. В центре бассейна возвышались фигуры двух атлетов, стоящих спина к спине, которые держали шар с геральдической эмблемой Лейстера.
В уединенных садах Нонсача можно было увидеть два изысканных фонтана. На одном из них вода изливалась из птичьих клювов, а второй — в той части парка, которая носила название «роща Дианы», — представлял собой струю воды, льющуюся из оленьего рога, который держали в руках богиня и ее нимфы. Скульптуры для фонтана делали не только из мрамора, но также и из свинца, покрытого позолотой.
В качестве садовых украшений популярностью пользовались кувшины, вазы и скульптуры. Бэкон крайне отрицательно относился к изваяниям, полагая, что «они ничего не добавляют к прелести сада». Вполне возможно, что все эти декоративные элементы появились в Англии эпохи Тюдоров вслед за итальянцами. Именно в XVI веке кардинал д'Эсте при постройке виллы с садами в Тиволи, рядом с виллой Адриана[117], украсил их древнеримскими статуями, вазами и колоннами, которые выкопали из земли при закладке фундамента виллы. Так возник стиль ренессансного сада, и творение кардинала д'Эсте — наилучший его образец, сохранившийся до наших дней.
У доктора Кокса, епископа Илийского, был великолепный сад в Или-плейс на Холборн Хилл. Когда Кристофер Хэттон, камергер, решил, что ему нужен новый городской дом с садом, он обратил жаждущий взор на Или-плейс, но епископ отказался даже обсуждать такую возможность. Елизавета, ненавидевшая Кокса столь же страстно, насколько ей нравился Хэттон, так разозлилась, что написала ему знаменитое письмо: «Спесивый прелат! Вы знаете, кем вы были до того, как я вас облагодетельствовала. Если вы немедленно не подчинитесь моим требованиям, я лишу вас духовного сана, клянусь Богом! Елизавета».
Епископ Илийский пошел на уступки, и Кристофер Хэттон обзавелся небольшим домом во владениях епископа и несколькими акрами земли на Холборн Хилл — сейчас они известны как сады Хэттона. Епископу удалось сохранить для себя и своих преемников право прогуливаться по саду (что, должно быть, очень докучало и Хэттону, и королеве) и, кроме того, получить разрешение собирать каждый год по двадцать бушелей роз, из чего можно сделать вывод о размерах сада.
* * *
Свой вклад в развитие садов и садового искусства в эпоху Елизаветы внесло и появление новых трав, деревьев, цветов и кустарников, которые прибывали со всего, недавно открытого мира. Среди них были тюльпаны, выходцы из Константинополя, попавшие в Англию через Нидерланды, рябчики из Персии, персидская сирень и лютики, широко известные теперь чернушка дамасская и ясенец белый, бессмертник, ракитник (золотой дождь), желтые крокусы и африканские бархатцы, подсолнечники из Перу (по утверждению Герарда, в его саду они вырастали до 14 футов высотой), астры, иберийки, табак и настурции из Америки, а также тюльпановое дерево и красный клен("84").
Паркинсон произвел классификацию цветов для сада, разделив все цветы на две категории — «английские» и «чужеземные». В разделе «чужеземных» он упомянул рябчик императорский, рябчик шахматный и зимостойкий цикламен. Абсолютно английскими были названы примулы, ноготки, маргаритки, фиалки, водосбор, розы и левкои — gillyflower. Слово gilly-flower использовали для обозначения многих цветов. Собственно левкои называли stock gillyflower, желтофиоли — wall gillyflower, вечерницу, или ночную фиалку — Queen's gillyflower, алые и розовые гвоздики — clove gillyflower.
Гвоздика[118], от которой произошло и название цвета, была одним из самых любимых цветов англичан, и пусть нас извинит Паркинсон, была привезена в Англию примерно на 500 лет раньше нормандскими завоевателями. Гвоздики выращивали как в небольших садиках, чтобы воздух благодаря им приобрел сладковатый аромат, так и в больших садах, где с ними экспериментировали и получали удивительные образцы.
Некий мистер Тагги, владелец сада в Вестминстере, был большим любителем и знатоком гвоздик. Он выводил и выращивал новые сорта, давая им поэтические названия, как, например, «принцесса», о которых даже Паркинсон, сам неплохой садовник, сказал, «что никогда не видел ничего прекраснее». А розовые гвоздики, выращенные мистером Тагги, Паркинсон описал так: «Этот сорт отличается от всех остальных, у него округлые лепестки без всяких зазубрин на краях, великолепного красного цвета, и он очень похож на алые цветы лихниса по форме, цвету, округлости, но превосходит их по размеру».
В то время существовал тайный способ выращивать двойные гвоздики огромного размера. Для этого семена гвоздик помещали в опустошенные орехи, запечатывали отверстие мягким воском и высаживали их в «подходящую почву». Однако нам неизвестно, пользовался ли этой хитростью мистер Тагги. Судя по всему, англичане без ума от гвоздик вот уже на протяжении почти тысячи лет, и сегодняшние садоводы привязаны к ним не меньше, чем во времена Елизаветы.
В своем саду в Холборне Герард, должно быть, выращивал практически все известные тогда растения, и даже Харрисон, жалованье которого составляло всего 40 фунтов в год, сообщает нам, что «на свою удачу смог приобрести множество разновидностей растений; несмотря на мои скромные возможности, там было около трехсот сортов, и среди них не было ни одного обычного или заурядного. И поэтому, если мой небольшой кусок земли, присматривать за которым ничего не стоит, так хорошо обустроен, то что же говорить о Хэмптон Корте, Нонсаче, Теобальдсе, Кобэм-гарден и прочих».
Харрисон обожал сады и с явным восхищением относился к тем работникам, которые «не только превосходно умели прививать дикие плодовые деревья, но также были искусны в получении смешанных сортов, посредством чего одно дерево плодоносило четырьмя различными плодами, а один и тот же фрукт имел разный вкус и цвет: они играли с природой, как будто им были известны все ее секреты». При отсутствии более подробного описания не так просто догадаться, что Харрисон подразумевал под «фруктом, имеющим различный вкус и цвет», впрочем, возможно, что речь идет о сливе, включающей множество сортов — от чернослива до сливы-венгерки. Он также сообщает, что некоторые садовники знают, как «лишить» одни фрукты их зернышек, а другие — скорлупы, а затем добавить им аромат мускуса или сладких специй. Его восхищало, что они излечивают деревья и растения от болезней и хворей «с неменьшим усердием, чем доктора трудятся над нашими телами. Даже лавки аптекарей, восклицает Харрисон, оказываются полезными и «необходимыми садовникам», и даже «воду, оставшуюся после мытья посуды», используют для ухода за некоторыми растениями.
По прошествии веков по-прежнему становится немного грустно при мысли, что приходской священник из Редвинетра не мог позволить себе рискнуть 10 фунтами стерлингов, чтобы приобрести росток удивительной розы, которая появилась в Антверпене. По его словам, у этой розы было «сто восемьдесят лепестков в одном бутоне», что намного превосходит цветок с шестьюдесятью лепестками, который упоминал Плиний.
Как сейчас, так и тогда роза была не только любимым цветком, но и символом Англии. Шиповник, турецкая роза, дамасская роза, центифолия, Йоркская и ланкастерская — все эти разновидности украшали сады, как совсем небольшие, так и огромные. Простота и свежесть сегодняшних небольших палисадников возле коттеджей и фермерских домиков напоминает сады того времени. Ведь в сельской местности по-прежнему радуют глаз любимые цветы простодушных елизаветинцев: гвоздики, анютины глазки, турецкая гвоздика, розовая шток-роза, желтофиоли, лютики, водосбор, примулы, фиалки, ландыши, бархатцы, бледно-желтый нарцисс, пионы, маки, птицемлечник зонтичный, львиный зев и, конечно, желтый аконит, который, как говорят, растет только в тех местах, где проливалась кровь римлян.
Томас Тассер, практичный фермер, составил список трав, которые необходимо было выращивать в саду, «чтобы употреблять их в качестве слабительного», а также длинный список трав, которые использовали для ароматизации дома и избавления от насекомых. В последний, помимо более привычных растений, входили примулы, розы и фиалки. Турецкую гвоздику он советовал выращивать не для «пищи или лечения», а ради чистого удовольствия. «Только человек, — сказал как-то Уильям Боллейн, — вдыхает аромат и наслаждается запахом цветов и душистых растений»(85).
Как это ни удивительно, но елизаветинцы уже пользовались садовыми теплицами. Это было деревянное сооружение на колесах, которое можно было передвигать по дорожкам и тропинкам, чтобы поймать лучи солнца или укрыть растения от ветра. Кроме того, тогда уже были в ходу наружные ящики для растений, которые также делали из дерева, правда, герань в них в то время еще не выращивали.
Нет ничего удивительного, что при описании елизаветинского сада так часто употребляется слово Paradise — «рай», ведь это слово пришло в английский язык из Персии через греков и первоначально обозначало «сад». Именно сад на Ближнем Востоке был символом блаженства. Переводчики «Септуагинты» позаимствовали это слово для обозначения Эдемского сада, а отцы церкви сделали его синонимом небес. В Средние века была популярна идея, что земной рай и в самом деле существует — это прекрасная земля, где царит мир и нет смерти и разрушения. Она находится далеко-далеко, за Китаем, или в стороне от Индийского океана, или в трех днях пути от царства Иоанна, и если очень постараться, ее можно найти. Но романтичные безрассудные англичане, которым удалось обогнуть Землю, так и не смогли обнаружить этот райский уголок.
Нам неизвестно, верили ли они и в самом деле в существование земного рая, но планировка их садов напоминала сад Эдема. Возможно, они пытались сами создать то, что не смогли найти, — или во что перестали верить.
Глава девятая Английская косметика: почему ее любила мать султана
Смуглая леди сонетов Шекспира, кем бы она ни была, вовсе не являлась идеалом женской красоты во времена Елизаветы. Джентльмены, как всегда, предпочитали блондинок: бело-розовых с золотыми волосами, или, как назвал их Спенсер, «розы на постели из лилий». Женщины были менее привередливы: они предпочитали просто мужчин и были готовы выдержать любые мучения, чтобы соответствовать их идеалу. Было бы глупо утверждать, что королева установила определенную моду на тип внешности, хотя ей и повезло родиться с «правильным» цветом волос.
В эпоху Возрождения все женщины континента стремились выглядеть хрупкими и нежными, даже если на самом деле были неунывающими и практичными в делах. Простые итальянки усаживались на плоских крышах домов и, закрыв лицо, распускали свои волосы, чтобы солнце — столь разрушительно действовавшее на цвет лица — смогло начать свою работу по их осветлению. Знатные дамы осветляли свои волосы, подставляя их солнечным лучам в уединенных садах и на крышах дворцов.
Англичанкам повезло больше, чем их средиземноморским сестрам. У многих из них были светлые волосы и бледная кожа, и даже брюнетки, как правило, имели светлый тон кожи и цвет глаз. Однако этого было недостаточно. Существовали и более детальные требования к английскому идеалу красоты. Мы признательны Джону Марстону, поэту и драматургу, за четкое и исчерпывающее описание идеала женщины. Ее лицо должно было быть «круглым и румяным», лоб гладким, высоким и белым, брови маленькими, тонкими, и их следовало подчеркивать карандашом, губы цвета вишни или коралла, глаза «сияющими, но взор потупленным». На щеках должна отражаться «битва розы и лилии» и, как и на подбородке, должны быть видны ямочки; шея, белоснежная и круглая, как колонна из слоновой кости, «высоко поддерживает голову»; уши должны быть круглыми и аккуратными, а волосы — густыми и золотисто-желтого цвета.
К женской фигуре тоже предъявляли особые требования: плечи должны быть широкими; грудь — высокой, гладкой и округлой; руки — маленькие и белые, с длинными пальцами и красными ногтями; тонкая талия и широкие бедра, прямые ноги с маленькими ступнями и высоким подъемом.
Если женщине не посчастливилось родиться с такими данными, то ей приходилось восполнять отсутствие достоинств с помощью искусства Иезавели[119]. Она разрисовывала лицо, обесцвечивала волосы, выщипывала и чернила брови, с помощью пера закапывала в глаза белладонну, красила в красный цвет губы и ловко рисовала голубым карандашом вены на груди, которую, если женщина была не замужем (как и королева), выставляли так неприкрыто, что не оставалось никакого пространства для воображения. Женщины использовали разнообразные лосьоны и косметические средства — для мытья волос, выведения веснушек и пятен. Они носили специальные маски, чтобы предохранить лицо от вредного действия солнца и чтобы дождь не смыл краску с их лиц; увеличивали объем волос, чистили зубы, туго зашнуровывали корсеты, чтобы добиться «осиной талии», надували губы и, как всегда, шокировали пуритан и священников.
Но даже среди пасторов встречались исключения, и Джон Донн в юности выступал в защиту женской косметики(86). Однако по большей мере те, кто выражал осуждение, придерживались одного мнения: грешно, даже кощунственно пытаться улучшить то, что было дано Богом. В день Страшного суда женщинам не будет пользы от косметических средств и лосьонов. «Смогут ли эти раскрашенные женщины взглянуть на Бога и повернуть к Нему не свое лицо?» — так вопрошал Томас Тюк в «Трактате против подкрашивания и разрисовывания мужчин и женщин».
Но аргументы против косметических средств базировались не только на моральной и религиозной основе. Ученые мужи предостерегали от вредного воздействия ядовитых и неочищенных минералов, которые использовались для приготовления самодельных снадобий и средств. Судя по большинству дошедших до нас рецептов, нет ничего удивительного в том, что наука — и даже здравый смысл — ополчились против косметики. По-настоящему удивляет то, что женщины умирали от отравления свинцом не так часто, как того следовало ожидать.
Необходимая лилейная белизна лица, шеи и груди достигалась с помощью свинцовых белил, представлявших собой белый свинец, смешанный с уксусом, которые наносили на кожу. Впоследствии это приводило к высохшей коже, белоснежным волосам, нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и параличу. Воинственный розовый, коралловый и вишневый цвет щекам и губам обеспечивал фукус — красная краска, которую получали из марены или гематита. Фукус использовали еще римские женщины, но их краска, как видно по названию, изготавливалась из безвредных морских водорослей, тогда как лучший фукус в Англии, который давал приятный и стойкий красный цвет, получали из кристаллического сульфида ртути.
Более безопасными и, наверное, не менее долговечными были румяна и помада, изготовленная из кошенили, белка сваренного вкрутую яйца, молока зеленых смокв, квасцов и аравийской камеди. Возможно, именно это средство заставило Полину в «Зимней сказке» предостеречь Леонта, который намеревался поцеловать Гермиону:
Окраска уст ее еще влажна, Испортите ее вы поцелуем... Запачкаетесь краской... Я задерну.[120]Гермиону приняли за мраморную статую, поскольку статуи тогда почти всегда раскрашивали, а женщины пытались придать своей коже мраморный оттенок. Нераскрашенная статуя показалась бы елизаветинцам столь же унылой, как ненакрашенная женщина. Так что те женщины, которые стремились придать своей коже мраморный оттенок и при этом опасались преждевременного старения, использовали «белый фукус», поскольку он был менее опасен, хотя и не столь эффективен. Его изготовляли из жженых челюстных костей свиньи или кабана и просеянной земли и наносили вместе с маслом из белых семян мака. Большинство косметических средств наносили толстым слоем вместе с белком яйца, что создавало эффект легкой полировки и делало кожу похожей на гладкий мрамор. При этом не стоит забывать, что множество женщин страдали дефектами кожи вследствие перенесенной оспы и стремились скрыть их с помощью обильной косметики. Краска для век, представлявшая собой сульфид сурьмы — khol, — использовалась еще египтянками, а вот обычай использовать белладонну, чтобы расширить зрачки и добиться «бархатного» взгляда, был относительно новым и, вероятно, пришел в Англию из Венеции.
Сейчас уже трудно восстановить естественный облик Елизаветы — за исключением цвета волос и глаз, похожих на созревшие оливки. Большинство ее портретов, особенно относящихся к позднему периоду, выражают в первую очередь почитание и изображают королеву как объект поклонения. Они стремятся передать величие ее с помощью великолепия наряда, величественной осанки и ослепительных драгоценностей. Лицо на них больше похоже на маску и так покрыто белилами и румянами, что ее невозможно узнать. Впрочем, даже описания в стихах и прозе того времени не всегда совпадают. Одни утверждают, что у Елизаветы был желтоватый оттенок кожи, другие — оливковый, а третьи — светлый. Джордж Паттенхэм, человек, который, вероятно, написал «Искусство английской поэзии», мудро уклонился от любого из этих вариантов. В своем стихотворении «Отрывок из прославления девы, написанный для нашей величайшей правительницы» он дал следующее описание Елизаветы:
Ее высокий лоб оттенка серебра,
Брови черные, как смоль,
Вьющиеся густые локоны,
Как золотая бахрома.
Губы словно вырезаны из рубина,
Подобны лепесткам,
Ворота в царскую палату,
Золотой язык в янтарном рту.
Ее глаза, о Боже, клянусь,
Они подобны звездам.
Ясные и яркие, сияют,
Как путеводная звезда.
Но это описание нам ровным счетом ничего не дает — ему соответствовала каждая модница того времени. Скорее здесь представлен общепринятый идеал. Но сама королева, несмотря на то что была полубогиней, как и всякая другая женщина, пользовалась косметикой, чтобы сравняться с идеалом. И по мере того как она старела, косметики на ее лице становилось все больше: ее кожа делалась все белее, губы — алее, а глаза сияли все ярче. Возможно, причиной этого была ее близорукость, и она просто плохо видела, что делает со своим лицом. Или, возможно, если она отказывалась смотреться в зеркало в свои преклонные годы, за косметику на ее лице отвечали служанки. Для романистов и некоторых историков стало уже традицией описывать Елизавету как чрезмерно накрашенную даму в красном парике, но это было свойственно всем женщинам той эпохи, за исключением пуритан, а Елизавета пуританкой никогда не была.
* * *
Нанесение краски было уже завершающим этапом в процессе наведения красоты. Гораздо важнее были те средства, которые предшествовали этому. Тогда существовало множество различных лосьонов и притираний для лица, шеи, рук и груди. Мастер из Пьемонта, предложивший чудесный рецепт «масла из рыжей собаки», получил такую прибыль, излечив от подагры португальского джентльмена и высохшую руку монаха, что не преминул предложить особенный рецепт «воды, которая сделает женщину навеки прекрасной». Чтобы достичь вечной красоты, нужно было взять из гнезда молодого ворона, кормить его сорок дней сваренными вкрутую яйцами, затем убить птицу и настаивать вместе с миртовыми листьями, тальком и миндальным маслом. Но автор рецепта был иностранцем, и ни один англичанин не был полностью уверен, что чужеземец не стремится его отравить. Поэтому более популярным — и более английским — был рецепт «Воды Тристана». Этот замечательный лосьон подходил на все случаи жизни. С его помощью можно было удалить прыщи с лица и тела, облегчить зубную боль, побороть дурной запах изо рта, и, если втирать его в голову каждое утро, можно было сохранить молодость, — если и не навеки, то на очень долгое время. На приготовление «Воды Тристана» требовался месяц, а ингредиенты были следующие: специи, вино, ревень и лавровишневое масло. Даже если это снадобье не оказывало целебного эффекта, оно, по крайней мере, не наносило вреда.
Судя по количеству разнообразных рецептов, обещавших избавление от веснушек, создается впечатление, что елизаветинцы были просто сплошь покрыты этими «солнечными пятнами». Некий путешественник сумел вывести веснушки при помощи настоя из листьев бузины, приготовленного в мае, которым он умывался при убывающей луне. Еще одно радикальное средство от веснушек — собранный в апреле или мае березовый сок. По утверждению автора рецепта, «он делает кожу очень чистой». Вполне вероятно, что так оно и есть, ведь в березовом соке содержится много витамина С, которого недоставало организму в течение зимы. По замечанию сэра Хью Платта, эта чудесная жидкость способна даже растворять жемчуг — это, как он говорил, «секрет, известный многим». Но он не сообщил, какова была цель подобных манипуляций, возможно, что получившийся эликсир должен был помогать при лихорадке.
Трудновыводимые веснушки или прыщи излечивали смесью из толченой серы с очищенным скипидаром, которая при нанесении «делала кожу похожей на губку», а затем эти места нужно было смазать «маслом, снятым с молока утром». Несмотря на то что молоко уже не считалось столь же целебным, как во времена римлян, когда его использовали для принятия сохраняющих красоту ванн, оно по-прежнему спасало от некоторых недугов. Так, например, тогда твердо верили, что если каждый вечер мыть ребенка грудным молоком или молоком коровы, то «он будет расти красивым и не поддаваться загару», которого старался всеми способами избежать каждый англичанин того времени.
Помимо шляп и масок, защищающих от воздействия солнечных лучей, для отбеливания кожи женщины часто использовали лимонный сок в составе различных смесей. Многие мужчины и женщины страдали от кожных сыпей и шелушения кожи, и лекари предлагали десятки различных снадобий для избавления от этого надоедливого недуга. Некий господин Рич вылечил себя и одну безымянную «прекрасную даму» от этой напасти с помощью самодельного снадобья, которое горячо рекомендовал всем остальным. В пинту уксусной эссенции нужно было поместить два свежих яйца прямо со скорлупой, добавить три желтых корня щавеля, две полные ложки серного цвета и оставить все это перебродить на три дня. Затем в этом растворе нужно было смачивать кусок чистой ткани и протирать лицо трижды в день.
Недостатком внешности, даже у мужчин, считалось красное лицо. Поэтому многие были вынуждены следовать примеру некоего мистера Фостера из Эссекса, «адвоката по гражданским делам», чье лицо «в течение многих лет имело чрезмерно неистовый и насыщенный цвет»(87). Мистер Фостер полностью избавился от этого с помощью двойных носков, в которые клал измельченную морскую соль, проходив так четырнадцать дней. Каждое утро и вечер он сушил носки у огня. Женщинам, которые обладали таким же «неистовым» цветом лица, было намного труднее следовать примеру мистера Фостера, поскольку в отличие от мужчин у них не было возможности прятать двойные носки под рейтузами и ботинками. Так что они были вынуждены прибегать к помощи белил. Конечно, никому тогда даже не приходило в голову, что цвет лица можно улучшить, просто отказавшись от тяжелой пищи, избытка специй и вина.
Но еще оставался «сулейман»: когда все средства оказывались бессильны, он действительно помогал избавиться от всякого рода пятен, веснушек, прыщей и бородавок, просто удаляя верхний слой кожи. Его использовали по тому же принципу, что и пилинг в современной пластической хирургии. Единственной проблемой было то, что «сулейман» представлял собой возгон ртути, и даже в то время его характеризовали как «смертельно жгучий и едкий». Он удалял пятна и прыщи, но при этом травмировал более глубокие слои кожи и оставлял ужасные следы, от которых впоследствии пытались избавиться с помощью того же средства. К тому же он давал некоторые очень неприятные побочные эффекты: от него могли начаться конвульсии, чернели зубы и заболевали десны.
Как нам уже известно, зубы в то время были больным местом у многих англичан. Они, как правило, быстро выпадали, и не в последнюю очередь по причине употреблявшихся тогда зубных порошков. Порошки делали из жженых меда и соли, а также кожуры граната, красных цветков персика и других разнообразных ингредиентов. Но самой популярной была смесь сахара и меда. Наверняка этот порошок был очень приятен на вкус и вызывал желание чистить зубы регулярно, но он, к сожалению, неминуемо приводил к раннему разрушению эмали. Еще один очень популярный порошок изготавливали из «обожженных верхушек и ветвей розмарина», смешав его в равных пропорциях с жжеными квасцами.
Зубных щеток тогда не было, так что, облизав палец, его макали в порошок, а затем терли зубы, стараясь при этом не «натереть десны». После чистки зубов рот споласкивали водой или вином, а затем промокали полотенцем. Госпожа Твист, придворная прачка, однажды подарила королеве на Новый год «четыре платка для зубов из грубого полотна с отделкой из черного шелка и кружева bone lace». Это кружево представляет собой очень искусное и тонкое плетение из черного, белого или цветного шелка, часто с добавлением золотой или серебряной нити.
Более удобными в использовании, но при этом и намного более вредными были небольшие, размером с карандаш, валики длиной около четырех или пяти дюймов, сделанные из толченого алебастра и рыбьего клея. Используя это приспособление, не нужно было смачивать палец. Позвольте цирюльнику избавить вас от зубного камня, советовал Платт, но продолжайте постоянно чистить зубы. Он также предостерегал от влияния aqua fortis на десны: «Или вам придется занять у кого-нибудь ряд зубов, чтобы съесть свой обед». Очевидно, что под aqua fortis Платт подразумевал вовсе не азотную кислоту, а насыщенный солевой или содовый раствор, ошибочно полагая, что он может навредить зубам и деснам. При этом кажется странным, что, считая aqua fortis слишком вредной для десен и зубов, англичане активно употребляли для устранения дефектов кожи возгон ртути. Еще более удивительно, что для устранения устойчивых пятен на зубах использовали смесь толченой пемзы, кирпича и коралла. Подобное средство удаляло не только всякие пятна, но и зубную эмаль.
Уход за полостью рта в то время предполагал чистку зубов трижды в день, при этом строго запрещалось использовать железные зубочистки, в ходу были только деревянные. Но зубочистки из дерева плохо соответствовали облику и положению богатых елизаветинцев, поэтому их делали из золота или серебра и носили с собой в специальных контейнерах, украшенных драгоценными камнями. У королевы были несколько наборов золотых зубочисток, а также золотая палочка для чистки ушей, украшенная рубинами.
Зубочистки были удачным промежуточным вариантом подарка — не слишком личный, но и не официальный презент, полезный и в то же время декоративный. Леди Лайл, по-видимому, думала так же. Сохранилась запись, что Филипп Баварский, приезжавший в Англию просить руки Марии Тюдор (Елизавете в то время было всего 6 лет), возвращался домой через Кале, где встретился с губернатором лордом Лайлом. Леди Лайл послала вслед мужу свою личную зубочистку (которой пользовалась до этого уже семь лет), чтобы тот преподнес ее пфальцграфу, потому что, как написала она в письме, «когда он был здесь (в Англии), я видела, что он ковыряется в зубах булавкой». Возможно, англичане и были варварами по меркам итальянцев, но все же не такими, как немцы.
Но несмотря на постоянные чистки и полоскания, ничто не могло спасти зубы елизаветинцев, а виной тому было, скорее всего, огромное количество сахара, который они поедали. «Если зубы ужасно разрушены, — гласил один из "полезных" советов, — и многих из них недостает, то лучше шепелявить и ухмыляться, чем смеяться и расплываться в широкой улыбке»(88). Он относился и к тем, кто страдал от дурного запаха изо рта. И тут возникает ужасная мысль: не скрываются ли за таинственной улыбкой Моны Лизы плохие зубы?
* * *
Несмотря на то что добиться золотистого или золотисто-рыжего цвета волос было намного легче, чем здоровых зубов или белой кожи, это занятие тоже требовало определенных усилий и зачастую было довольно опасным. Мужчины не меньше женщин стремились достичь желаемого оттенка. Без сомнения, все они хотели соответствовать сангвиническому типу, даже если сами были флегматиками, холериками или меланхоликами. Ведь сангвиники, по определению, были здоровыми, оптимистичными и влюбчивыми.
Волосы и бороду обесцвечивали с помощью обожженного свинца и серы, смешав их с негашеной известью. После нанесения смеси ее оставляли на пятнадцать минут и затем смывали, в результате волосы приобретали золотисто-рыжий цвет. Считалось, что кожа не страдает от подобных манипуляций, а цвет сохраняется долгое время. Менее радикальным способом окрашивания волос было промывание водой, полученной из меда, «которая имеет глубокий красный цвет и прекрасно справляется с задачей, но вместе с тем слишком сильный запах необходимо смягчать ароматическими веществами»(89). Впрочем, был еще один вариант: постоянно смачивать волосы квасцами или промывать отваром из куркумы, ревеня, коры барбариса или кроваво-красной свидины[121].
Все эти способы вполне помогали оживить волосы мышиного цвета или придать золотисто-желтый оттенок светлым волосам. Эффект золотого сияния можно было усилить, посыпав волосы красной или желтой пудрой, а те, кто был действительно богат, посыпали волосы золотым песком — например Генрих VIII.
Если же природный цвет волос был черным или темно-каштановым, то единственным средством приблизиться к идеалу было купоросное масло. С его помощью можно было добиться восхитительного каштанового или золотисто-рыжего цвета, но при неосторожном обращении существовала опасность остаться без волос и с ужасными шрамами. Правда, плешивость у мужчин в то время не была таким уж серьезным недостатком, поскольку они почти все время носили шляпы. А если смазать лысину луковым соком и подставить под солнечные лучи, то очень скоро на ней появятся волосы. Еще сведущие люди советовали испробовать действие миртовых ягод, а смесь из масла, золы и земляных червей предупреждала поседение.
Что касается женщин, то облысение для них вообще не было проблемой. Если их волосы выпадали, седели или они уставали гнаться за постоянно меняющейся модой на прически, то прибегали к помощи париков разных видов, которые назывались wig, peruke, periwig или gregorians. Последний вид париков был очень моден в конце правления Елизаветы и получил название от имени парикмахера Грегори, который открыл свое дело на Стрэнде.
Моралисты заявляли, что нет ничего пагубного в том, чтобы прикрывать париком лысину, но если женщины использовали их из-за лени и нежелания заниматься своими волосами, которые дало им Провидение, то это грешно и безнравственно. Подобная оценка излишне сурова. Прически в ту эпоху были такими сложными, а процедура осветления столь опасной, что ношение парика было самым безопасным способом стать златовлаской, а не лысой красавицей, покрытой шрамами. Королева носила парик — точнее, множество париков — до самой смерти. Мария Стюарт прикрывала париком появившуюся седину. Многие богатые дамы за шиллинг покупали волосы у детей, особенно если они были золотистого цвета, и торговля волосам шла очень активно.
Шекспир в комедии «Венецианский купец» иронизирует по поводу моды на парики:
На красоту взгляните — И ту теперь на вес купить возможно; И часто мы в природе видим чудо, Что легче те, на ком надето больше. Так, эти золотые кудри-змейки, Что шаловливо с ветерком играют Над мнимою красавицей, нередко Принадлежат совсем другой головке, И череп, что их вырастил, — в могиле.[122]Нам неизвестно, все ли парики Елизаветы были из натурального волоса, но сохранился приказ от 19 апреля 1602 года, подписанный королевой, в котором значилось: «Дороти Спикард, нашей мастерице по шелку, 6 париков, 12 ярдов локонов и 100 изобретательных украшений, выполненных из волос»(90). Вполне возможно, что в дополнение к натуральным волосам использовали шелк, золотые и серебряные нити, правда, количество заказанных искусственных волос кажется невероятным. С другой стороны, имея множество париков и искусственных накладок, можно было сэкономить время. Это праздные модницы могли позволить себе проводить целое утро, укладывая и украшая свои волосы.
Елизавета же была больше чем просто модницей — она была законодательницей стиля на протяжении всего своего правления, но она была далеко не праздной.
Волосы завивали и накручивали, «укладывали венком и дорожкой от уха до уха». Чтобы прическа не развалилась, ее поддерживали с помощью проволоки, вплетенной в сетку для волос или ленту. Лорд Рассел в 1578 году преподнес королеве чепец для волос, украшенный золотыми пуговицами и жемчугом. Волосы, как и бедра, должны были быть пышными. Один наблюдательный житель той эпохи заметил, что «сложные прически окаймляли венки из золота и серебра, необычайно изящные и искусно прилаженные на висках», а также «украшали бисером, брошами, кольцами, золотом, серебром, стеклом и другими безделушками»(91). Это описание составлено мужчиной, но даже если он и преувеличил, то ненамного. Портреты, особенно изображающие королеву, доказывают, что изобретательные и фантастические модели причесок того времени могли бы сравниться со стилем XVIII века. Простые укладки Анны Болейн и Марии Тюдор окончательно и бесповоротно канули в Лету. Теперь подобный стиль вызывал одобрение только у пуритан, которые предпочитали сохранять естественный вид волос, даже если они были прямыми, как струна, и бесцветными, как шкура крота.
Англичанки завивали волосы с помощью раскаленных железных щипцов или — если боялись воспользоваться этим способом, хотя это трудно себе представить после того, как они удаляли прыщи с помощью «сулеймана» и осветляли волосы купоросным маслом, — достигали цели с помощью своего рода «домашнего перманента». Для этого жженые и толченые бараньи рога смешивали с маслом и наносили на волосы. В ту эпоху было и другое средство для укладки, еще менее приятное, чем перманент. Самой популярной была смесь из отходов от производства яблочного сидра и свиного жира, которую совершенно нелогично называли помадой.
Мужчины использовали косметику не меньше женщин и были столь же озабочены стрижкой бороды, как и покроем своего камзола и рейтуз. Харрисон с мастерством, достойным Марка Антония, отпускает язвительное замечание по поводу мужских причесок и бород: «Я уже не говорю о наших головах: иногда они подстрижены, иногда завиты, порой длина волос не меньше, чем женские локоны, выстрижены то над ушами, то за ними и кругом, как под горшок. И я не буду затрагивать разнообразные фасоны бород», — после чего с наслаждением описывает некоторые из них: «Одни выбриты на подбородке на турецкий манер, другие коротко подстрижены, как у маркиза Отто, или закруглены, как "щетка для чистки", заостренные спереди и длинные».
В целом, сообщает пастор, цирюльники были не менее искусны, чем портные: когда дело доходило до стрижки бороды, они могли подобрать подходящий к овалу лица фасон и даже скрыть с его помощью некоторые недостатки. Длинное худое лицо можно было расширить при помощи фасона «маркиз Отто». Обладателю плоского лица могла помочь длинная узкая борода. Если внешне человек напоминал куницу, то приходилось оставлять побольше волос на щеках, чтобы он выглядел «большим, как откормленная курица, или грозным, как гусь». Обе альтернативы кажутся малопривлекательными, еще неизвестно, что лучше — походить на горностая или на птицу на току. Харрисон заявляет, что всё это — имея в виду и ношение золотых серег, украшенных жемчугом и драгоценными камнями, — оскорбляет Бога, потому что люди стремятся улучшить то, что было дано им свыше.
Шекспировский Хотспер относился к подобному типу людей столь же нетерпимо, как и Харрисон.
Он называл их «попугаями» и рассказывал, как после битвы при Гольмдоне, когда он сам был без сил от гнева и усталости, к нему
подошел какой-то лорд, Нарядный, как жених, и свежебритый, Как поле после жатвы. Он держал Меж пальцев склянку с мускусной струею, Вертел в руках, и нюхал, и чихал, И нес какой-то вздор, и улыбался.[123]* * *
Юного сэра Генри Перси должно было оскорбить выражение «какой-то лорд» и «надушенный, как модистка». Но слово milliner означало вовсе не производителя и торговца шляпами — так называли торговцев различными мелкими изделиями, украшениями и безделушками, особенно теми, что привозили из Милана: перчатки, ленты, украшения и духи. Торговля подобными товарами шла очень оживленно по всей стране.
В тот век душились с тем же энтузиазмом, что и приправляли пищу. У Елизаветы, как нам известно, был прекрасный нюх и «ничто не оскорбляло ее больше, чем неприятный запах»(92). Но это было явным преувеличением, потому что в тот век слишком чувствительное обоняние было явным недостатком сродни физическому, если только человек не владел секретом, как нейтрализовать плохой запах с помощью приятного. Тогда верили, что плохие запахи вызывают болезни и чтобы оградить себя от опасности, надо постоянно окружать себя ароматами духов. Считали, что специально приготовленные ароматы могут оказывать профилактическое действие, во время чумы от каждого домовладельца в Лондоне требовали, чтобы он поддерживал огонь под обеззараживающими благовониями.
Задолго до рождения Елизаветы Томас Нортон, алхимик из Бристоля, написал книгу «Правила алхимии». Вот отрывок из этого произведения, рассказывающий о ценности ароматов:
Когда тело разлагается, Оно порождает отвратительные запахи, Как у драконов и у мертвецов. Их зловоние может привести к смерти. Очень вредно вдыхать некоторые эссенции, Потому что достаточно немного табака, чтобы у кобылы случился выкидыш. Рыбам также нравятся приятные ароматы, это правда, Они не любят старые котелки так, как им нравятся новые. Все, что имеет приятный запах, обладает теплом, Хотя камфора, розы и холодные вещи Имеют приятный запах, как душа у автора. Приятные запахи совместимы друг с другом В отличие от зловоний, Потому что запах чеснока уничтожает вонь навоза.Оставив в стороне сведения о кобылах, рыбах и авторах, мы видим, что старая теория «о вредоносных запахах» и об «уровнях» запахов получила дальнейшее развитие. Интересно также наблюдение автора, что приятные запахи смешиваются между собой, тогда как отталкивающие перекрывают друг друга. В свете этих теорий кажется оправданным появление на поле боя надушенного господина, держащего в руках «склянку с мускусной струею».
Псевдонаучное и медицинское объяснение ценности ароматов можно обосновать или извинить неожиданно возросшим количеством духов, которые использовали в то время, но главным фактором было увеличение торговли с другими странами. Как после завоевания Римом Ближнего Востока и африканского побережья Средиземного моря в употребление вошли ароматические масла и мази, так и открытие новых торговых путей и кругосветные путешествия обеспечили приток в Англию большого количества специй, амбры, цибетина и мускуса.
На протяжении многих веков итальянцы считались лучшими парфюмерами Европы, но англичане тоже смогли завоевать славу мастеров в этом деле. Даже мать султана Амурада III, султанша Валиде, отправив Елизавете в подарок халат, пояс, два платка с восточным узором, отделанных золотом, три шелковых платка, ожерелье из жемчуга и рубинов и брильянтовую диадему, в свою очередь попросила прислать ей английский шелк или шерсть, английскую косметику и особенно разные эссенции для лица и ароматное масло для рук.
Естественно, у английских женщин были самые лучшие эссенции, ведь они изготовляли их из местных трав и цветов. В каждом большом доме было специальное помещение для дистилляции, где по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение, готовили ароматическую воду, лекарственные средства и эликсиры. Камеристки королевы были обязаны владеть искусством дистилляции. Должно быть, им приходилось каждый год производить сотни галлонов розовой воды, которую использовали повсеместно — от кулинарии до косметологии. Ее разбрызгивали в комнатах, на мебель, протирали ею лицо, смачивали волосы и руки, поэтому розовую воду хранили в бутылочках с перфорированной крышкой. У Елизаветы был очень красивый сосуд для розовой воды, вырезанный из агата. Эти бутылочки, как и коробочки из алебастра, дерева, серебра или золота, в которых хранили косметику и духи, были простыми или богато украшенными — все зависело от достатка и религиозных убеждений владельца.
Ничего удивительного, что нашлись те, кто утверждал, будто бы ароматическая вода обладает различными необыкновенными свойствами. Один из них, Ральф Раббардс, называвший себя «усердным джентльменом и специалистом в искусстве алхимии», послал королеве несколько замечаний по поводу «самых приятных, удобных и редких открытий, которые я сделал в процессе долгого изучения и дорогостоящих занятий, и я готов поделиться ими за небольшую плату»(93). Среди этих редчайших открытий: «наиболее благотворная и совершенная вода чистейшего качества получается из ароматных цветов, фруктов и трав в результате дистилляции; очищенная и ароматизированная, чистая, как хрусталь, она сохраняет свои свойства, вкус и аромат в течение многих лет. Одна ложка такой воды более полезна, чем целый галлон, для правителя и аристократа, а также для всех, кто заботится о своем здоровье».
Раббардс не уточнил, какие именно секреты удалось открыть ему лично, а только предостерег от воды, которая была получена до него в результате «неумелой дистилляции» и «была отравлена из-за плохого качества металла, из которого был сделан сосуд для перегонки», а потому «причиняла больше вреда, чем пользы». Он настоятельно рекомендует свою собственную воду из фиалок, левкоев и гвоздик не только по причине выдающихся ароматических и медицинских качеств, но также из-за ее свойства «делать кожу чистой и блестящей и поддерживать ее в этом превосходном состоянии».
Эти приятные ароматические эссенции, пользовавшиеся таким огромным спросом, представляли собой простые и незамысловатые духи наподобие современной туалетной воды. Тонкие, легкие, освежающие ароматы мог производить практически каждый, в чьем распоряжении были сад и пригоршня специй. Более сложные по составу духи были и более трудоемкими, но их аромат был поистине ошеломляющим. Поскольку алкоголь и спирт тогда еще не использовали ни для получения эфирных масел, ни в качестве закрепителя, духи хранили либо в сухом виде, либо в виде густой сиропообразной жидкости. К последнему виду относились и любимые духи Генриха VIII. Для их приготовления требовались по шесть ложек розового масла и розовой воды, четверть унции сахара, к которому добавляли два грана мускуса, и унция серой амбры. Все это нужно было «мягко» проварить в течение пяти или шести часов, и только после этого продукт был готов к употреблению. Подобные духи, должно быть, имели очень сильный запах.
Говорят, что Елизавета предпочитала жидкие духи, в состав которых входили следующие компоненты: мускус, розовая вода, дамасская вода и сахар. Ее любимые сухие духи состояли из ароматов душицы и стиракса. Эти компоненты сначала отваривали, затем высушивали и толкли. В действительности королева обожала духи во всех видах. Она пришла в такой восторг от надушенных перчаток — эту моду граф Оксфорд привез из Италии, — что украсила одну пару четырьмя шелковыми розами и позировала в них для одного из портретов. В течение долгих лет эти духи были известны под названием «духи графа Оксфорда». Помимо этого, у королевы были плащ из надушенной испанской кожи и даже надушенные туфли. И можно не сомневаться, что все придворные кавалеры и дамы последовали примеру Елизаветы и этот обычай быстро распространился по всей стране.
Уже известный нам Алексис из Пьемонта, отличившийся и в производстве духов, предложил своим последователям один «секретный» рецепт. Его формула дамасских духов — а все дамасское было чрезвычайно популярно — включала мускус, серую амбру, сахар, стиракс, аир и каламбак. «Разотрите их хорошенько в порошок, — говорит он, — и поместите все вместе в небольшой чан для духов, налейте туда розовой воды на два пальца и разведите под ним небольшой огонь, чтобы она не кипела, и когда вода исчезнет, наполните его снова и продолжайте так делать в течение нескольких дней». Он также приводит рецепт «маленьких подушечек из душистых роз» и «духов для спальни». Последние представляли собой настоящий фимиам, изготовленный из стиракса, каламбака, душицы и пепла ивы — все это растирали в порошок, а затем смешивали с бренди.
Духи в виде крема стали первым шагом к ароматизированным ожерельям и поясам, впоследствии столь полюбившимся женщинам. Ароматизированной пасте придавали определенную форму, затем шилом прокалывали отверстие и нанизывали на бусы. В дополнение к разнообразным духам, которые наносили на одежду, добавляли в помаду для волос и косметику, разбрызгивали в воздухе и пропитывали кожу и дерево, были еще контейнеры для ароматов с перфорированной крышкой и ароматические шарики. Сэр Томас Грешем изображен на портрете Моро с таким футляром для ароматических шариков в руке. Подобные футляры, украшенные драгоценными камнями, встречались столь же часто, как и нитки жемчуга. Чтобы усилить аромат старого ароматического шарика или удвоить аромат нового, сэр Хью Платт советовал растолочь на камне гран цибетина и два грана мускуса, добавить немного розовой воды, а затем ввести получившуюся смесь внутрь шарика. «С помощью этой хитрости, — замечает Платт, — вы можете избавиться от старого ароматического шарика, но мои намерения исключительно честные».
Такими же, как мы помним, были его намерения, когда он придумал кольцо с зеркальцем, с помощью которого было возможно подглядывать в карты противника и следить, чтобы тот не жульничал. И точно так же он рассказывает нам о способе привлекать мух, которые «в противном случае засидели бы все картины и балдахины». Для этой цели нужно было взять огурец, сделать в нем множество отверстий с помощью деревянного или костяного шила и в каждую дырку поместить зернышко ячменя, чтобы оно слегка выглядывало наружу. После того как зерна ячменя дадут ростки, огурец нужно подвесить в центре комнаты, чтобы к нему слетались мухи. В те времена мухи были настоящим бедствием: хотя еще никто не знал, что они являются разносчиками заразы, тем не менее все поголовно жаловались на урон, который мухи причиняли дорогим вещам.
Занавески душили духами, как и постельное белье. «Теперь наши простыни, как лужайки с фиалками», — сказал как-то Джон Марстон. Бумага для письма тоже была надушенной. «Клянусь вам, карета за каретой, письмо за письмом, подарок за подарком. И все это пахнет духами — сплошной мускус!»[124] Саше и мешочки с ароматами клали в гардеробы и сундуки с коврами и гобеленами. Воздух в комнатах «насыщали» с помощью специальных сосудов с ароматами, а душистый порошок распространяли по комнате с помощью небольших мехов, как во Франции.
Даже пушки заряжали душистыми порошками. Во время знаменательного пребывания в Англии герцога Анжуйского, который, несмотря на то что был вдвое моложе Елизаветы, претендовал на ее руку, в его честь проводился большой рыцарский турнир, и деревянные пушки выстреливали клубы душистого порошка и воды, «очень пахучих и приятных»(94). Однако мысль о том, что герцог может стать королем Англии, вызывала резкое неприятие как у членов королевского совета, так и всех ее жителей. Обычно они страстно желали, чтобы Елизавета вышла замуж или, по крайней мере, назвала своего преемника, но на этот раз мудро воспротивились такой партии.
Насколько глубоки были чувства Елизаветы к ее «маленькому лягушонку», как она его называла, определить не так уж просто. Ей было уже сорок шесть. Она была великим и могущественным правителем, политиком до мозга костей. Но она также была и женщиной, которой приходилось занижать свой возраст и скрывать морщины с помощью косметики. Герцогу Анжуйскому было всего двадцать три. Судя по источникам того времени, не доверять которым у нас нет оснований, он был некрасивым, трусливым, двуличным и злобным человечком.
Но все же возможно, что королева была в него влюблена. Совершенно точно, что она рыдала и с трудом смогла перенести разлуку с ним. Может быть, ей нравилась сама идея быть влюбленной, или его молодость заставила ее поверить, что время над ней не властно. А может, она просто играла роль.
Неизвестно, насколько правдиво было то, что она написала в стихотворении «На отъезд Месье», которое подписала Eliz.Regina[125], однако написано оно с большим изяществом.
Я скорблю, хотя и не смею показать досаду, Я люблю, хотя вынуждена ненавидеть, Я схожу с ума, но не осмелюсь, Я застыла в немоте, а про себя болтаю без умолку, Я есть и нет меня, окоченела — и вся горю, Словно превращаясь в кого-то другого. Моя тревога, словно тень на солнце, Преследует меня повсюду — и улетает, когда я гонюсь за ней, Живет подле меня — что я совершила, Слишком знакомая тревога мучает меня. Я не могу найти средства изгнать ее, И только конец всего положит ей предел. Нежная страсть прокралась в мою душу, (ведь я мягка и вся из тающего снега) Любовь, будь более жестока иль добра, Позволь мне плыть или дай утонуть, Позволь мне жить и быть немного более счастливой Или дай мне умереть и так забыть, что значит любить.Спустя два года герцог Анжуйский умер, возможно, от яда. Услышав эту новость, королева сильно горевала и отказывалась заниматься государственными делами.
К счастью для всех, за то время, что прошло от отъезда герцога до его смерти, королева стала все больше выделять привлекательного и деятельного молодого человека родом из юго-западных графств, который говорил с сильным девонширским акцентом. Возможно, именно молодой Рэйли помог ей пережить это горе. Он предпочитал смелые наряды, носил жемчужные серьги и остроконечную бородку, что наверняка вызывало возмущение Харрисона. Но Рэйли был также и известным поэтом. В «Молчаливом возлюбленном» он написал: «Молчание в любви выражает несчастье сильнее, чем слова». Вполне вероятно, что он понимал Елизавету как никто другой.
Неподвластная ходу времени, королева тем не менее постарела. Один раз за последние годы ее пребывания на троне с ее лица спала бело-розовая маска золотоволосой богини. На удивительном портрете, который в настоящее время находится в Хэтфилд-хаузе, мы видим Елизавету такой, какой она, наверно, была на самом деле: странные полуприкрытые глаза, ястребиный нос над мягким, но строго очерченным ртом, неплотно сжатые губы. Это решительное лицо, надменное, мудрое — и необычайно печальное.
Сэр Джон Хэйворд оставил нам словесный портрет, рисующий королеву намного точнее, чем поэтические строки Паттенхэма: «Она была женщиной, которую природа щедро одарила своими дарами; она была стройна, хорошо сложена, держалась так великолепно, что в каждом движении скользило величие; цвет ее волос был ближе к светло-желтому; большой и чистый лоб; поистине королевское изящество; живые и добрые, но близорукие глаза; нос с небольшой горбинкой; овал лица несколько удлиненный, но все же поразительно прекрасный».
Это описание было составлено через несколько лет после ее смерти. Его автор утверждал также, что «ее добродетелей было бы достаточно, чтобы сделать прекрасным Эзопа». Без сомнения, этот портрет обязан своим существованием как памяти, так и безоговорочной преданности автора, который был благосклонен, но не излишне, к своей натурщице.
Глава десятая Женщина, которую время застало врасплох
Все-таки англичане — удивительная нация. 5 ноября каждого года мы всенародно празднуем неудавшуюся попытку взорвать парламент в 1605-м. В то же время, если бы мы были столь же последовательны и логичны, как французы, или также привержены традициям, как сами это считаем, то обратили бы внимание на другую дату, более значимую и намного более важную, чем провал Порохового заговора. Это 17 ноября. Именно в этот день в 1558 году Елизавета I стала королевой Англии.
В отличие от нас наши предки в течение двухсот лет после ее смерти испытывали благоговение и признательность, осознавая, что эту дату действительно стоит праздновать. Для них 17 ноября был великим днем английской истории. До Северного восстания 1569 года они не понимали, что Елизавета была благословением для английской нации, но начиная с этого времени твердая вера в это постоянно и оправданно росла. В глазах ее народа ей не было равных — да и кто бы мог с нею сравниться! Они любили ее с такой страстью и гордостью, что отзвук этого огня согревает Англию и по сей день. И она, в свою очередь, любила своих подданных — неистово и покровительственно.
Однажды в разговоре Елизавета спросила жену сэра Джона Харрингтона — из праздности или любопытства, поскольку известно, что Харрингтоны были счастливы вместе, — как той удается сохранить благосклонность и любовь мужа. Леди Харрингтон ответила, что ценит ум и храбрость своего супруга, а ее собственные стойкие принципы не обижать и не перечить, но лелеять и подчиняться ему убеждают мужа в ее любви к нему, и взамен он дарит ей свою.
«Я считаю, вы поступаете мудро, — сказала ей Елизавета, — таким же образом и я сохраняю благосклонность всех моих мужей — моих подданных, — потому что если они не будут убеждены в моей к ним исключительной любви, то не станут платить мне с такой готовностью послушанием».
В этом не было ни лицемерия, ни притворства, ни игры. Единственной настоящей любовью Елизаветы и главной страстью ее жизни была Англия, и ей она подчиняла все остальное. Выступая в парламенте в конце своего правления, королева произнесла знаменательные слова. «И хотя Бог вознес меня высоко, — сказала она, и усталый пожилой голос эхом прозвучал в последующих столетиях, — я считаю триумфом моей короны, что я правила с вашей любовью... и хотя у вас были и могли быть намного более могущественные и мудрые правители, сидевшие на этом месте, у вас никогда не было и не будет правителя, который будет любить вас больше».
Несмотря на то что Елизавета была излишне скромна, утверждая, что Англия могла иметь более сильного и мудрого правителя, ее речь вместе с тем была глубоко правдива. Менее чем через два года, 24 марта 1603 года, королева умерла. Сопротивляясь и упрямясь, она заставила смерть ждать много дней, словно неприметного просителя в своей приемной.
В маленьком кабинете рядом с ее кроватью — возможно, в том самом, где она хранила миниатюрный портрет «моего господина», который много-много лет назад показывала сэру Джону Мелвилу, — лежало последнее письмо Роберта Дадли, графа Лейстера. Поперек письма шла надпись, сделанная ее собственной рукой: «Его последнее письмо». Дадли, «мои глаза», как она его называла, умер в сентябре в год разгрома Армады. Уолсингем, «мой верный мавр», тот, что однажды подарил ей ночную рубашку и за собственный счет организовал секретную службу, последовал за Дадли двумя годами позже. Уильям Сесил, «верный дух», оставил этот мир и свои дела своему сыну Роберту, умному интригану. Прошло уже двенадцать лет с тех пор, как умер привлекательный, «легкоступый» Кристофер Хэттон. Великий мореплаватель адмирал Дрейк пошел на корм рыбам в Портобелло. Хоукинс, занимавшийся перестройкой флота, закончил свои дни в Пуэрто-Рико. Хэмфри Джилберт так и не вернулся после того, как организовал первую колонию в Северной Америке в 1583 году. Фробишер, который, как говорят, привез с собой две тонны золота из одного из своих путешествий, умер от ран в 1592-м. Было время, когда ей пришлось занять золотую цепь в 24 унции и 22 карата у мистера Роджерса, чтобы отдать ее капитану «Фрубишеру» для экипировки одной из его экспедиций. Даже Харрисон, бывший пастор Редвинтера, виндзорский каноник, умер в 1593-м.
Великие, деятельные и смелые елизаветинцы эпохи Ренессанса ушли в прошлое.
Все, кроме одного. 17 ноября в год ее смерти — сорок пятую годовщину со дня ее восшествия на престол — последний из великих людей той эпохи, обвиненный в государственной измене, сказал об умершей королеве: «Женщина, которую время застало врасплох». Во времена своей молодости ему хватило галантности, чтобы расстелить свой плащ, дабы королева не испачкала в грязи туфли. А теперь он отделался от нее пятью словами.
«Женщина, которую время застало врасплох...» Если бы она услышала эти слова, то, наверно, запустила бы в Рэйли туфлей, как она уже однажды поступила с Уолсингемом, или удалила бы его от двора, как своего крестника. Но Время, которое она так ненавидела, было и ее врагом, и ее другом. Оно не только застигло ее врасплох, но и обессмертило.
Примечания
1 Trevelyan G. History of England. 1952.
2 Harrison W. A Description of England. N.Y., 1909-1914.
3 Trevelyan G. English Social History. 1946.
4 Strickland A. Lives of the Queens of England, Vol. IV. 1877.
5 Bindoff S. Tudor England. 1950.
6 England as seen by Foreigners in the Days of Elizabeth and James I, compiled by W. B. Rye. 1865.
7 Hakluyt R. The Principal Navigations Voyages Traffiques. 12 vols. 1598—1600.
8 Rye W.B. Op. cit., записки Samuel Kiechel.
9 Perlin E. Antiquarian Repertory.
10 Machyn H. Diary, Camden soc, 42, 1848.
11 Earle J. Micro-cosmographie. 1897.
12 Ibid.
13 Nichols J. The Progresses of Queen Elizabeth. 1823.
14 Sir John Hayward: Annals, written 1612, edited, J. Bruce, 1840.
15 A Journal of all that was Accomplished by M. de Maisse, Ambassador in England from King Henry IV to Queen Elizabeth.
16 Елизавета никогда не путешествовала дальше Йорка, а также никогда не бывала в Уэльсе.
17 Fuller Т. Worthies (1661).
18 Boorde A. A Dietary of Health and Introduction of Knowledge, edited by F.J. Furnivall. 1870.
19 Nichols J. Op. cit.
20 Ibid.
21 Law E. History of Hampton Court Palace. 1890.
22 Boorde A. Op. cit.
23 Rye W.B. Op. cit.
24 Bacon F. Of Building.
25 Harrison W. Op. cit.
26 Представления в день коронации Елизаветы поставил Томас Каварден, распорядитель празднеств.
27 Jourdain М. English Decoration and Furniture of the Early Renaissance. 1924.
28 Сейчас находится в замке Эшби, имении маркиза Нортгемптона.
29 В Рейксмузеум, Амстердам.
30 Rye W.B. Op. cit.
31 Nichols J. Op. cit.
32 Rye W.B. Op. cit.
33 Ibid.
34 Birch T. Memoirs of the Reign of Queen Elizabeth. 1754.
35 Ibid.
36 Nichols J. Op. cit.
37 Елизавета называла Харрингтона «этот бесстыдный поэт, мой крестник», а иногда «этот веселый поэт».
38 Inventory of effects of Robert Dudley, Earl of Leicester.
39 Hughes B. and T. Three Centuries of English Silver.
40 К 1600 году в Лондоне стали делать маленькие часики. В Музее археологии и искусства Оксфордского университета можно увидеть два прекрасных экземпляра таких часов.
41 Nichols J. Op. cit.
42 По этому поводу Харрингтон написал: «Королева осталась довольна, увидев меня в моем новом байковом камзоле, и сказала, что "он хорошо скроен". Я сошью еще один, похожий на этот. Я помню, как она обругала бахромчатое одеяние сэра Мэтью Эрандела, сказав, что ум глупца ушел на лоскутки. Спаси меня Боже от подобных сравнений».
43 См. работу: Neale J. Е. Elizabeth and Her Parliaments.
44 Harrison W. Op. cit.
45 Vaugban W. The Golden Grove (1600).
46 Rye W.B. Op. cit.
47 Ibid.
48 Nichols J. Op. cit.
49 Harrison W. Op. cit.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ancaster MS. Accounts: as quoted by M. St. Clair Byrne.
54 Harrison W. Op. cit.
55 Shakespeare W. The Merry Wives of Windsor.
56 Bo время коронации Екатерины Валуа, жены Генриха V, Олдерман Фабиан записал, что «из угощения была только рыба, поскольку было уже 24 февраля и начался Великий пост, и на столе не было никакого мяса, кроме засоленной свинины с горчицей». Возможно, что солонина была разрешена во время поста в предреформаторской Франции. Харрисон должен был быть в курсе этого, но он всегда был не прочь бросить камень «в огород» иностранцев и католиков, даже если для этого требовалось проигнорировать пару фактов.
57 Harrison W. Op. cit.
58 Ibid.
59 Nichols J. Op. cit.
60 Ibid.
61 Gerard J. The Great Herbal (1597 edition).
62 Существует несколько версий того, как картофель попал в Англию. Среди них есть и версия о Дрейке и монахе Иерониме Кордане.
63 Gerard J. Op. cit.
64 Ibid.
65 Nichols J. Op. cit.
66 Ibid.
67 Burton R. The Anatomy of Melancholy. 1883.
68 Burton R. Op. cit.
69 Boorde A. Op. cit.
70 Ibid.
71 Возможно, автором трактата был Джордж Витстоун.
72 Кроме всего прочего, Тимоти Брайт в 1588 году написал работу, посвященную забытому искусству стенографии, которое он заново открыл.
73 Гаддесден, личный врач Маргариты Французской — второй жены Эдуарда I, — зафиксировал свое «красное лечение» Эдуарда Кэрнарвона, первого принца Уэльского.
74 Black J. The Reign of Elizabeth. Oxford History of England, V. VIII. 1936.
75 ртуть (mercury, quicksilver) и другие металлы стали использоваться в фармакологии Парацельсом. Он также изобрел спиртовые настойки; считается, что он умер, возможно, выпив одно из своих лекарств. Главным сторонником учения Парацельса в Англии был алхимик Роберт Фладд (1574—1637). Многие сторонники и последователи Парацельса в Англии и Германии были розенкрейцерами. Они продолжали его работу в течение нескольких столетий после его смерти в 1541 году.
76 Stubbs Ph. The Anatomie of Abuses, edited F.J. Furnivall. 1879.
77 Markham G. Country Contentments.
78 Strickland A. Lives of the Queens of England, V. III (Mary Tudor). 1847.
79 Nichols J. Op. cit.
80 Rye W.B. Op. cit.
81 Peck F. Desiderata Curiosa. 1735.
82 Rye W.B. Op. cit.
83 Ibid.
84 По моему подсчету количество новых деревьев, кустарников, трав и цветов, привезенных в Англию между 1548 и 1597 годами, составляло 121 наименование. Я не претендую на абсолютную точность, но это отражает тот импульс к развитию, который получило садовое искусство после расширения границ мира. Поскольку в то время считалось, что все растения обладают целебными свойствами, то большинство садовников были одновременно и аптекарями.
85 Bu Uein W. Book of Simples (1562).
86 Donne J. Paradox II.
87 Sir Hugh Platt. Delight for Ladies. 1609.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Musgrave MS., Британский музей.
91 Stubbs Ph. Op. cit.
92 Strickland A. Op. cit.
93 Lansdowne MS.
94 Nichols J. Op. cit.
(обратно)Иллюстрации
Дворец Ричмонд — летняя королевская резиденция.
Па переднем плане — танцоры, исполняющие «мореску»[99].Гринвич (графство Кент) — дворец.
Гринвич (графство Кент) — дворец, где появилась на свет королева Елизавета. (обратно)Нонсач. 1582 г.
Нонсач. 1582 г.Большой эал дворца Хэмптон Корт.
Большой эал дворца Хэмптон Корт.Камин во дворце Хэмптон Корт.
Камин во дворце Хэмптон Корт. Эскиз Г. Гопьбейна. (обратно)Лoнглит (графство Уилтшир)
Лoнглит (графство Уилтшир) яркий пример влияния классической традиции в английской архитектуре XVI века. 1572—1580 гг.(см. о нем в тексте) (обратно)Лoнглит камин в большом зале.
Лoнглит камин в большом зале. (обратно)Уоллатон-холл.
Уоллатон-холл построен шерифом Ноттингемшира Ф. Уиллоуби в 1580—1588 годах в ожидании визита королевы Елизаветы.Хардвик-холл.
Хардвик-холл и хозяйка Хардвик-холла Эличабет Тэлбог, графиня Шрусбери, известная как Бэсс Хардвикская (1527—1608)(см. о ней в тексте). (обратно)Усадебный дом в Теобальдсе.
Усадебный дом в Теобальдсе.Хэтфилд-хаус.
Хэтфилд-хаус. На переднем плане—типичный тюдоровский сад с клумбами в виде замысловатых узоров и лабиринтов. (обратно)Праздник в Бермондси.
Праздник в Бермондси. На заднем плане—Темза и Тауэр. Г. Хофнагель.Типичный фермерский дом XV—XVI веков (Оксфордшир).
Типичный фермерский дом XV—XVI веков (Оксфордшир).Причудливые постройки католика Г. Трэшема: Ливеден (Нортгемптоншир)
Причудливые постройки католика Г. Трэшема: Ливеден (Нортгемптоншир) Пятиугольный дом, воспроизводящий конфигурацию пяти ран Христовых. Около 1604—1605 гг.Раштон (Нортгемптоншир).
Треугольный дом, символизирующий Троицу.Лусли (Сассекс). Усадьба семейства Моров.
Лусли (Сассекс). Усадьба семейства Моров. Характерная для елизаветинской архитектуры Е-образная постройка.Вид на Лондонский мост
Вид на Лондонский мост, единственный каменный мост через Темзу.Район Лондона Саутверк с двумя аренами для травли и боев животных
Район Лондона Саутверк с двумя аренами для травли и боев животных, на противоположном берегу — Тауэр. План Лондона. (Фрагмент.) 1572 г.Вид на Вестминстерское аббатство со стороны Темзы.
Вид на Вестминстерское аббатство со стороны Темзы. Первая половина XVII в.
Выезд лорда-мэра Лондона. Начало XVII в.
Выезд лорда-мэра Лондона. Начало XVII в.Бассейн для купания во дворце Уайтхолл.
Бассейн для купания во дворце Уайтхолл.Печь для подогрева воды для купания.
Печь для подогрева воды для купания. Обнаружена в ходе раскопок во дворце Хэмптон Корт.Дубовое кресло. Рубеж XVI—XVII вв.
Дубовое кресло. Рубеж XVI—XVII вв.Низкий стул для фрейлины.
Низкий стул для фрейлины. Подушка вышита королевой Елизаветой (?). (обратно)Дубовый сундук. Конец XVI в.
Дубовый сундук. Конец XVI в.Стульчак
Стульчак. Дворец Хэмптон Корт.Семейство лорда Коэма за столом. 1567 г.
Семейство лорда Коэма за столом. 1567 г.Столовый сервиз. Свадебный подарок испанского посла.
Столовый сервиз. Свадебный подарок испанского посла Марии Тюдор и принцу Филиппу. Работа Бенвенуто Челлини (?).Тарелка с видом Лондона.
Тарелка с видом Лондона Надпись: «Роза — красна. Трава — зелена. Боже, храни Елизавету, нашу королеву». Образчик «агитационного фарфора» елизаветинских времен.Изображение призов — парадной утвари различных форм, шпалер, денег.
Изображение призов — парадной утвари различных форм, шпалер, денег. Плакат, рекламирующий первую английскую лотерею. Вторая половина XVI в.Серебряная чаша для вина с изображением античного воина.
Серебряная чаша для вина с изображением античного воина. 1557—1558 гг.Кубок из кокосового ореха
Кубок из кокосового ореха украшенный изображением корабля и гербами Екатерины I и Френсиса Дрейка. Принадлежал Дрейку (?). Около 1597. (обратно)Декоративный сосуд в виде барса
Декоративный сосуд в виде барса. Дар русскому царю Михаилу Федоровичу. 1600—1601 гг.Серебряная солонка.
Серебряная солонка с изображением римского воина. 1594—1595 гг.Домашнее театрализованное представление.
Домашнее театрализованное представление. Картина, воспроизводящая основные вехи жизни английского дипломата Генри Антона. (Фрагмент.) Около 1596 г.Интерьер лондонскою театра «Лебедь».
Интерьер лондонскою театра «Лебедь». Рисунок пером И. де Витти. Около 1596 г.Макбет, Банко и три ведьмы.
Макбет, Банко и три ведьмы. «Хроники» Р. Холиншеда, источник сюжета «Макбета» У. Шекспира. Гравюра издания 1577 г.Сцена из шекспировскою «Тита Андроника».
Сцена из шекспировскою «Тита Андроника». Единственное подлинное свидетельство о сценографии спектакля и костюмах актеров. Рисунок пером. Около 1595 г.Музыканты, участвующие в спектакле. 1588 г.
Музыканты, участвующие в спектакле. 1588 г.
Пирам и Фисба. Сцена из популярной легенды
Пирам и Фисба. Сцена из популярной легенды, использованной У. Шекспиром. Вышитое панно. 1560 1570 гг.Елизавета I, танцующая на придворном балу.
Елизавета I, танцующая на придворном балу.Елизавета, играющая на лютне.
Елизавета, играющая на лютне. Миниатюра II. Хиллиарда. Около 1580 г.Верджинел и орфарион
Верджинел и орфарион (шестиструнная лютня), принадлежавшие королеве Елизавете. (обратно)Семейство лорда Виндзора за игрой в шахматы и карты. Около 1568 г.
Семейство лорда Виндзора за игрой в шахматы и карты. Около 1568 г.Игроки в «примеро».
Игроки в «примеро».Водная феерия в честь королевы в 1591 году.
Водная феерия в честь королевы в 1591 году.Охотники.
Охотники.Курильщики табака.
Курильщики табака.Игроки в мяч. Гравюра. 1634 г.
Игроки в мяч. Гравюра. 1634 г. Игрок в теннис. Акварель. 1580 г.Костюмы английских горожан. 1577 г.
Костюмы английских горожан. 1577 г.
Т. Грешем. Елизаветинский финансовый гений
Т. Грешем. Елизаветинский финансовый гений одет в традиционный купеческий костюм. Около 1550 г. (обратно)
Кольцо-печатка Т. Грешема с изображением кузнечика. 1575 г.
Кольцо-печатка Т. Грешема с изображением кузнечика. 1575 г.
Обувь
«Венецианские» туфли на каблуках. Пара кожаных сапог для верховой езды, принадлежавших королеве Елизавете.
Перчатки, шляпа и первая в Англии пара шелковых чулок
Перчатки, шляпа и первая в Англии пара шелковых чулок, принадлежавшие королеве Елизавете.
Придворная дама Элизабет Вернон за туалетом.
Придворная дама Элизабет Вернон за туалетом.Мужской бархатный дублет Начало XVII в.
Мужской бархатный дублет Начало XVII в.Вышитая мужская рубашка.
Вышитая мужская рубашка.Лина Вавасор
Лина Вавасор, фрейлина Елизаветы I, в платье, расшитом цветами.Щеголь. Молодой аристократ среди роз.
Щеголь. Молодой аристократ среди роз. И. Xиллиард. 1587 г.Вышитый переплет молитвенника.
Вышитый переплет молитвенника. Работа принцессы Елизаветы, преподнесенная отцу в качестве новогоднего дара.Библия в расшитом переплете
Библия в расшитом переплете Новогодний подарок королеве в 1583/84 году от печатника К. Баркера.Подвесные часы с корпусом в виде чаши
Подвесные часы с корпусом в виде чаши — один из новогодних подарков королеве.Подвеска-пеликан
Подвеска-пеликан, аллегория христианского самопожертвования и любимый атрибут королевы Елизаветы. Вторая половина XVI в.Подвеска в виде корабля.
Подвеска в виде корабля. Вторая половина XVI в.Украшение для шляпы в виде саламандры.
Украшение для шляпы в виде саламандры.Кольцо с камеей — портретом королевы.
Кольцо с камеей — портретом королевы. Последняя четверть XVI в.Сцена oxoты. Вышивка для подушки.
Сцена oxoты. Вышивка для подушки. Середина XVI в.Настольное покрывало со сценами сельской жизни.
Настольное покрывало со сценами сельской жизни. Вышивка конца XVI в.Титульная страница «Травника» Джона Герарда.
Титульная страница «Травника» Джона Герарда. 1597 г.Сезонные работы в саду.
Сезонные работы в саду.Королева Елизавета в Уонстеде в гостях у графа Ленстера
Королева Елизавета в Уонстеде в гостях у графа Ленстера. Попираемый меч и оливковая ветвь символизируют стремление королевы к миру, а собачка у ее ног — преданность Лейстера государыне. М. Гирертс Старший. Около 1585 г.Постраничные примечания
1
Rowse A. L. The England of Elizabeth. L., 1950; Idem. An Elizabethan Garland. L., 1953. Idem. The Expansion of Elizabethan England. L., 1955.
(обратно)2
В 1534 году Генрих VIII разорвал отношения с Римом, провозгласив себя главой англиканской церкви. В 1536 и 1539 годах им была проведена секуляризация монастырских земель.
(обратно)3
Об актуальности этой категории для исторического сознания послевоенной поры свидетельствует вынесение этого термина в заглавие книги известного историка культуры Н. Певзнера «The Englishness of English Art» (L, 1956).
(обратно)4
Автор имеет в виду Марию Тюдор (1516—1558), которую также называли Марией Католичкой и Марией Кровавой. В 1554 году она вступила в брак с будущим королем Испании Филиппом II. (Здесь и далее прим. пер.)
(обратно)5
Гарольд II (ок. 1020—1066), прозванный Годвинсоном, — последний саксонский король Англии, второй сын Годвина, эрла Уэссекского. Погиб в битве с нормандскими войсками при Гастингсе.
(обратно)6
Грешем Томас (1518—1579) — английский купец, финансовый агент Елизаветы I в Нидерландах, основатель Лондонской биржи.( его портрет).
(обратно)7
Эдуард VI (1537—1553) — король Англии и Ирландии, единственный законный сын Генриха VIII.
(обратно)8
Бог и мое право (фр.).
(обратно)9
Непобедимая армада — название испанского флота, разбитого англичанами в 1588 году.
(обратно)10
Срединный путь (лат.).
(обратно)11
Джон Нокс (1505 или ок. 1514—1572) — проповедник и историк шотландской Реформации, основатель шотландской пресвитерианской церкви.
(обратно)12
Пауль Хенцнер — учитель из Бранденбурга, путешествовал по Англии в конце XVI века и оставил записки: «Paul Hentzner's Travels in England, During the Reign of Queen Elizabeth», transl. Richard Bentley (1797).
(обратно)13
Хоукинс Джон (1532—1595) — английский мореплаватель и военачальник. В начале своей карьеры поставлял африканских рабов в испанские колонии Нового Света. В период англо-испанского морского противостояния стал одним из видных деятелей флота, занимал посты казначея и контролера флота. Хоукинс был инициатором реформирования английских военно-морских сил, ему принадлежал проект нового типа быстроходного и маневренного военного корабля.
(обратно)14
Дрейк Френсис (1540?—1596) — мореплаватель, совершивший кругосветное плавание, знаменитый пират и адмирал английского флота.
(обратно)15
Бушель — мера объема жидкостей и сыпучих веществ, равная в Англии 36,4 л.
(обратно)16
Уолси Томас (1475?—1530) — кардинал, лорд-канцлер Англии, всесильный министр Генриха VIII.
(обратно)17
Елизавета II (р. 1926) — королева Великобритании с 1952 года, дочь Георга VI.
(обратно)18
У елизаветинцев XVI века не было ни карт, ни дорожных указателей — это утверждение Э. Бартон не соответствует действительности. Именно в елизаветинскую эпоху картограф Кристофер Сэкстон создал точные карты всех графств Англии, которые составили первый национальный атлас этой страны. Кампания по картографированию была проведена при поддержке правительства, одним из ее горячих сторонников был У. Берли.
(обратно)19
Тайберн — место в Лондоне, где по традиции совершались публичные казни.
(обратно)20
Джейн Грей (1537—1554) — правнучка короля Генриха VII, известна в истории как «девятидневная королева». Герцог Нортумберлендский убедил Эдварда VI объявить ее наследницей престола. Однако уже через девять дней после смерти короля королевой стала Мария Тюдор, а леди Джейн Грей была заключена в Тауэр и казнена.
(обратно)21
Шекспир В. Ричард III. Действие 4. Сцена 4. Пер. А. В. Дружинина
(обратно)22
Шекспир В. Ричард II. Акт III. Сцена 2. Пер. M. Донского.
(обратно)23
Шекспир В. Ричард II. Акт IV. Сцена 1. Пер. M. Донского.
(обратно)24
Хейворд Джон (15б4?—1б27) — историк, автор «Начала царствования Елизаветы».
(обратно)25
Никакой войны! Никакой войны! (фр.)
(обратно)26
Пипс (Пепис) Самюэль (1633—1703) — политик и государственный деятель, автор знаменитого «Дневника» — пятидесяти рукописных тетрадей с закодированным текстом, — который после расшифровки оказался ценнейшим источником по истории политической и культурной жизни Англии XVII века. Сокращенный перевод на русский язык Пипс С. Домой. Ужинать и в постель / Сост., пер. с англ. и прим. А Ливер-ганта. М.: Текст, 2001. 157 с.
(обратно)27
Уоттон Генри (1568—1639) — английский дипломат и поэт, популяризатор классицизма в Англии, автор трактата «Элементы архитектуры» (1624).
(обратно)28
7 сентября.
(обратно)29
Школа Святого Павла — одна из лучших английских грамматических школ, основанная в начале XVI века видным оксфордским гуманистом Джоном Колетом при соборе Святого Павла в Лондоне.
Преподавание в ней отличалось гуманностью, а учебный план предполагал изучение текстов классических авторов. Упомянутая ниже Вестминстерская школа (при Вестминстерской церкви Святого Петра) в елизаветинскую эпоху также считалась одним из самых престижных учебных заведений, где преподавали классическую латынь и греческий.
(обратно)30
Холиншед Рафаил (1529?—1580?) — историк, автор популярных «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», которыми, в частности, активно пользовался У. Шекспир при написании своих пьес на исторические темы.
(обратно)31
...она не взимала с него налогов — утверждение о том, что Елизавета I не взимала налогов с подданных, ошибочно. За время своего правления она созывала парламент десять раз, и всякий раз депутатам приходилось вотировать налоги, размеры которых неуклонно возрастали. Автора, по-видимому, ввели в заблуждение демагогические заявления королевы о том, что она не желает обирать своих подданных.
(обратно)32
Термин «экстраординарный» всегда применялся к налогам, которые соглашался предоставить короне парламент. Он был призван подчеркнуть, что в обычных обстоятельствах государь должен рассчитывать только на собственные ресурсы — регулярные доходы от своих земельных владений. Только в случае угрозы для безопасности государства или открытой войны парламент соглашался обложить население налогом, который именовался «экстраординарным».
(обратно)33
Монополии — исключительные права в сфере производства или торговли, даровавшиеся короной частным лицам или компаниям, приносившие им большие доходы.
(обратно)34
Лонглит (графство Уилтшир) — один из лучших усадебных домов елизаветинской эпохи, построенный архитектором Робертом Смитсоном в ренессансном стиле в 60-80-е годы XVI века. (см.илл.)
(обратно)35
Война Алой и Белой розы (1455—1485) — война за английский престол между двумя линиями королевской династии Плантагенетов: Ланкастерами (в гербе — алая роза) и Йорками (в гербе — белая роза). Завершилась битвой при Босворте (22 августа 1485), когда Ричард III потерпел поражение и был убит. Королем стал Генрих VII Тюдор, основатель династии Тюдоров.
(обратно)36
Екатерина Арагонская (1485-1536) — первая жена Генриха VIII. Развод с ней (официально в 1533 году) и женитьба на Анне Болейн послужили поводом для разрыва отношений с папой римским и началом Реформации в Англии.
(обратно)37
Шекспир В. Король Лир. Акт II. Сцена 2. Пер. Б. Пастернака.
(обратно)38
Джон Харрингтон (1561—1612) — поэт, переводчик, придворный. Племянник королевы Елизаветы: его отец был женат на незаконной дочери Генриха VIII.
(обратно)39
1 шиллинг до 1971 года равнялся 12 пенсам; 1 фунт стерлингов — 20 шиллингам.
(обратно)40
Александр Каммингс усовершенствовал изобретение Харрингтона и запатентовал его в 1775 году.
(обратно)41
Платт Хью (1552—1611?) — писатель, специалист в области агрикультуры и изобретатель, автор трактатов «Сокровища Искусства и Природы» (1605) и «Рай Флоры» (1608).
(обратно)42
История Сусанны — часть Книги пророка Даниила, присутствует только в Септуагинте и основанных на ней переводах Библии, в протестантской традиции причисляется к апокрифам. Сусанну, прекрасную жену Иоакима, обвинили в прелюбодеянии два старца, домогательства которых она отвергла. На основании их свидетельства Сусанну приговорили к смерти. Однако Даниил доказал ее невиновность, допросив старцев поодиночке и сравнив их показания.
(обратно)43
Торп Джон (1570—1610) — видный английский архитектор, принимавший участие в проектировании и строительстве многих архитектурных жемчужин — Кирби Холла в Нортгемптоншире, Лонгфорд Касла в Уилтшире, Холланд-хауза в Кенсингтоне (Лондон).
(обратно)44
Трешем Томас (1543?—1605) — известный католик, сын Т. Трешема-старшего, приора ордена Святого Иоанна Иерусалимского в Англии. Приверженность к католицизму определяла символизм и причудливые архитектурные формы домов, которые он заказывал.
(обратно)45
Джон Перро (1527—1592) считался сыном Генриха VIII и Мери Беркли, впоследствии вышедшей замуж за Томаса Перро.
(обратно)46
Елизавета Йоркская — старшая дочь Эдуарда IV из рода Йорков, жена Генриха VII.
(обратно)47
Ю.Дебора (Девора) — ветхозаветная пророчица, восстановившая дом Израилев, ниспровергнувшая языческие идолы (IV и V Книги Судей). Елизавету I, восстановившую в Англии протестантскую веру, нередко сравнивали с Деборой.
(обратно)48
Старинная английская монета XVI века.
(обратно)49
Вышедшими из моды (фр.).
(обратно)50
Этот обычай сохранялся по другую сторону Атлантики до тех пор, пока не изобрели аэрозоль от моли. (Прим. авт.)
(обратно)51
Автор имеет в виду драму У. Шекспира «Король Генрих IV».
(обратно)52
Имеются в виду церковные таинства, против которых выступали пуритане.
(обратно)53
Мария Стюарт (1542—1587) — королева Шотландии.
(обратно)54
Уолсингем Френсис (1530—1590) — государственный секретарь в 1573—1590 годах, организатор английской разведки и контрразведки.
(обратно)55
Сторонники королевской власти в Англии.
(обратно)56
Автор имеет в виду историю, когда Уолтер Рэйли бросил плащ на землю перед королевой, чтобы она не запачкала грязью обувь.
(обратно)57
Цезарь Юлий (1558—1636) — юрист и государственный деятель, судья Адмиралтейства, канцлер казначейства.
(обратно)58
Франсуа Анжуйский (1554—1584) — младший сын Генриха II Французского и Екатерины Медичи. Просил руки Елизаветы, дважды бывал в Лондоне (1579, 1581-1582).
(обратно)59
Хлодвиг I (ок. 466—511) — король салических франков из рода Меровингов, основатель Франкского государства.
(обратно)60
Современники королевы Виктории (1819—1901), правившей Великобританией с 1837 года, последней из Ганноверской династии.
(обратно)61
Товит и Товия — герои ветхозаветного предания, изложенного в Книге Товита, которая протестантской традицией причисляется к апокрифам.
(обратно)62
Простой англичанке (англ.).
(обратно)63
Это выражение обозначает английскую традицию высмеивания мужей, которые во всем слушаются жен. Мужчину сажают на лошадь позади женщины задом наперед, дают в руки прялку, а за ними следуют соседи, распевающие издевательские песенки.
(обратно)64
Шекспир В. Укрощение строптивой. Акт II. Сцена 1. Пер. Н. Гнедича.
(обратно)65
Этот эпизод в переводе на русский язык Ариосто Л. Неистовый Роланд / Пер. свободным стихом М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1993. Т. 2. Песня XXVIII. С. 55-73.
(обратно)66
Янтарное яблоко (фр.).
(обратно)67
Георг I (1660—1727) — английский король с 1714 года, первый из Ганноверской династии.
(обратно)68
В середине XVII века, когда после свержения Карла I Республикой Англии, Шотландии и Ирландии правил лорд-протектор Оливер Кромвель (1599—1658).
(обратно)69
Одна унция равняется 28,35 грамма.
(обратно)70
В год своего восшествия на трон в 1558 году Елизавета приказала, чтобы ее главным золотых дел мастерам Роберту Брендону и Аффабелю Патриджу было выплачено 11 тысяч фунтов за серебряную утварь весом в 3,098 унции по 7 шиллингов и 6 пенсов за унцию. Вся утварь была раздарена на Новый год — некоторые экземпляры можно увидеть в Москве и Петербурге. (Прим. авт.)
(обратно)71
В марте 1599 года граф Эссекс (1566-1601) отправился в качестве наместника в Ирландию с поручением подавить разгоравшееся восстание против английского господства, однако не справился со своей задачей и вернулся в Лондон.
(обратно)72
Под единорогом следует, вероятно, понимать носорога или арктического нарвала. Современник и корреспондент Елизаветы I, русский царь Иван Грозный, также высоко ценил скипетр из рога «единорога», купленный у купцов Аугсбурга. Об этом пишет в своей известной книге Джером Горсей: Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 85—86.
(обратно)73
Верджинел — клавишно-струнный щипковый инструмент прямоугольной формы, обычно без ножек (его просто ставили на стол). Внутри ящика были одинарные струны, которые располагались по диагонали, слева направо. Мануал был один, а диапазон не превышал четырех октав.(см.илл.)
Верджинел был очень популярен на рубеже XVI—XVII веков в Англии, а затем и на континенте. Название происходит от латинского virgule — «палочка, стержень». Имеется в виду способ звукоизвлечения, когда специальный стержень из вороньего пера цеплял нужную струну при нажатии клавиши. По-английски эту деталь окрестили jack, именно так называет ее Шекспир в 128-м сонете, описывая игру своей возлюбленной на верджинеле.
По принципу устройства и манере звукоизвлечения верджинел был одним из предшественников фортепиано. Но по качеству звучания он скорее приближался к арфе и лютне. Его тембр отличался мягкостью, нежностью и приглушенной окраской.
Верджинел дал название одной из самых блистательных страниц в истории английской музыки. Написанное для верджинела композиторами второй половины XVI — первой половины XVII века до сих пор имеет непреходящее значение. Английскую верджинельную музыку елизаветинской эпохи называют первым золотым веком клавишной музыки.
Королева Елизавета очень любила этот инструмент. До нас дошло множество свидетельств ее исключительной музыкальности. Чарлз Бёрни, крупнейший английский историк музыки, констатировал: «Если она могла играть все пьесы из «Верджинельной книги Фицуильяма», она должна была быть очень хорошей исполнительницей, поскольку пьесы эти столь трудны, что едва ли найдется во всей Европе мастер, который отважится сыграть хоть одну из них, не поучив ее с месяц».
(обратно)74
Сэр Джеймс Мелвилл, посланник королевы Шотландии Марии при английском дворе, писал: «После обеда лорд Хантсден увлек меня с собою на тихую галерею, где я мог слышать, как королева играет на верджинеле. Я застыл, восхищаясь ее игрой...»
(обратно)75
Оскорбление величества (фр.).
(обратно)76
Имеется в виду религиозный обряд, совершавшийся над женщиной, приходившей в церковь впервые после родов.
(обратно)77
Праздник начала пахоты, приходившийся на первый понедельник после Крещения.
(обратно)78
Кориат Томас (1577?—1617) — известный путешественник, любитель розыгрышей, слывший при дворе шутом. Путешествовал по Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландам, бывал в Константинополе, Греции, Египте, Персии, Индии. Оставил остроумные заметки о своих путешествиях, которые некоторые исследователи считают вымышленными.
(обратно)79
Белое сухое вино типа хереса.
(обратно)80
Вода жизни или пламенная вода (лат.).
(обратно)81
Герард Джон (1545—1612) — ботаник, создатель ботанического сада в Холборне (Лондон), автор «Травника» (1597).
(обратно)82
Отмели близ острова Ньюфаундленд — район богатейших рыбных промыслов в Северной Атлантике.
(обратно)83
Шекспир В. Виндзорские насмешницы. Акт V. Сцена 5. Пер. С. Маршака, M. Морозова.
(обратно)84
Шекспир В. Виндзорские насмешницы. Акт V. Сцена 5. Пер. С. Маршака, M. Морозова.
(обратно)85
Сэр Джон Вино и Сахар (англ.).
(обратно)86
Роберт Бартон (1577—1640) — английский ученый, писатель, астролог, священник англиканской церкви, автор «Анатомии меланхолии» (1621).
(обратно)87
Буквально: трава для легких (англ.).
(обратно)88
Трава или растение (англ.).
(обратно)89
Об изготовлении божественного эликсира или философском камне (лат.).
(обратно)90
К чему паук, когда лихорадка? (лат.).
(обратно)91
Шекспир В. Троил и Крессида. Акт V. Сцена 1. Пер. Т. Гнедич.
(обратно)92
Священный огонь (англ.).
(обратно)93
Эдмунд Спенсер (ок. 1552—1599) — английский поэт, автор «Календаря пастуха» (1579), незаконченной поэмы «Королева фей» (1590—1596), прозаического трактата «О современном состоянии Ирландии» (изд. в 1633).
(обратно)94
Бальдассаре Кастильоне (1478—1529) — итальянский поэт, автор лирических стихов, поэм, элегий и эпиграмм на латинском языке.
(обратно)95
Шекспир В. Сон в летнюю ночь. Действие IV. Явление 1. Пер. М. Лозинского.
(обратно)96
Э. Бартон явно принимает собачек, изображенных на официальных портретах королевы, за реальных домашних животных, окружавших королеву. На самом деле в средневековой и ренессансной живописи собака — устойчивый символ верности. Именно в этом качестве она появляется в наброске Цуккаро, венчая собой колонну (еще один символ постоянства). Очевидно, собачка указывала на преданность королеве графа Лейстера, принимавшего Елизавету в своем поместье. Граф был заказчиком упоминающегося ниже портрета королевы работы Маркуса Гирертса. Маленькая собачка у ее ног выполняет ту же символическую функцию.
(обратно)97
Кобыла в болоте (англ.).
(обратно)98
Противоположные (англ.).
(обратно)99
Мореска (мориска, танец моррис) — средневековый танец, при исполнении которого танцоры привязывают к ногам колокольчики и вооружаются ветками или палками, увитыми цветами. Его название и характер служат отсылкой ко временам Крестовых походов и противостояния христиан и мавров. Ритуальная «битва с маврами», которую разыгрывали по случаю христианских праздников, со временем превратилась в перепляс — состязание между группами танцоров.
(обратно)100
В римской мифологии основательница Карфагена, супруга Энея. Ей посвящена пьеса К. Марло и Т. Нэша «Трагедия Дидоны» (1594).
(обратно)101
Персонаж трагедии У. Шекспира «Король Лир».
(обратно)102
Джордж Чепмен (1559—1634) — английский драматург, поэт и переводчик Гомера.
(обратно)103
Марло Кристофер (1564—1593) — выдающийся поэт и драматург, писавший пьесы для труппы лорда-адмирала.
(обратно)104
Харви Габриэль (1545?—1б30?) — поэт, «отец английского гекзаметра», теоретик риторики и участник памфлетной «войны поэтов» в 90-е годы XVI века.
(обратно)105
Мандей Энтони (1553—1633) — поэт, драматург, автор сценариев живых картин, ставившихся в лондонском Сити.
(обратно)106
Пил Джордж (1558?—1597?) — поэт и драматург.
(обратно)107
Вебстер Джон (1580?—1625?) — драматург, нередко работавший в соавторстве с М. Дрейтоном, Т. Деккером, Т. Миддлтоном.
(обратно)108
Донн Джон (1573—1631) — поэт, принадлежавший к так называемым метафизикам, священник, настоятель собора Святого Павла.
(обратно)109
Фатом — морская сажень, равняется 6 футам, приблизительно 1,83 метра.
(обратно)110
Шекспир В. Король Генрих IV. Часть I. Акт II. Сцена 4. Пер. Б. Пастернака.
(обратно)111
Уильям Кент (ок. 1685—1748) — английский архитектор и дизайнер, один из основоположников «английского стиля» в садово-парковом искусстве. О нем говорили: «Магомет придумал рай, Кент создавал их во множестве».
(обратно)112
Ланселот Браун (1715—1783) — знаменитый садовод, прозванный «Капабилити» (от англ. capability — возможности), потому что его любимой поговоркой была: «В этом ландшафте есть возможности». С 1764 года стал королевским садоводом в Хэмптон Корте. Он перестроил десятки регулярных парков в ландшафтные. Один из его современников пошутил, что хотел бы умереть раньше Брауна, чтобы увидеть райский сад, пока тот еще не переделан.
(обратно)113
Парная (Двойная) Гора (англ.).
(обратно)114
Певзнер Николай (1902—1983) — немецкий историк искусства, эмигрировавший в Англию в 1933 году. Автор работы «Английское в английском искусстве» (1956).
(обратно)115
Большой ботанический сад в западной части Лондона. Основан в 1759 году.
(обратно)116
Древний курган близ Эйвбери, графство Уилтшир; является самым большим в Европе: высота 40 метров, ров глубиной 6 метров.
(обратно)117
Публий Элий Адриан (76-138 годы н. э.) — римский император.
(обратно)118
По-английски pink обозначает и гвоздику, и розовый цвет.
(обратно)119
Иезавель — жена израильского царя Ахава, прославившаяся тем, что с помощью лжи и коварства уничтожала своих врагов (Первая — Четвертая книга Царств).
(обратно)120
Шекспир В. Зимняя сказка. Действие 5. Сцена 3. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)121
Свидина — род кустарников или невысоких деревьев семейства кизиловых.
(обратно)122
Шекспир В. Венецианский купец. Акт III. Сцена 2. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)123
Шекспир В. Король Генрих IV. Часть I. Акт I. Сцена 3. Пер. Б. Пастернака.
(обратно)124
Шекспир В. Виндзорские насмешницы. Акт II. Сцена 2. Пер. С Маршака, M. Морозова.
(обратно)125
Елизавета. Королева (лат.).
(обратно)




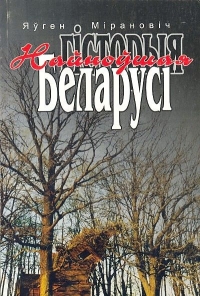
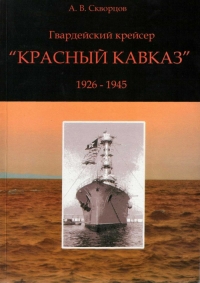
Комментарии к книге «Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира», Элизабет Бартон (историк)
Всего 0 комментариев