Александр Каревин РУСЬ НЕРУССКАЯ (Как рождалась «рідна мова»)
«Нет! Это в самом деле не украинский язык! Такого языка у нас не разберут и ничего из него не поймут, а если что-то и разберут, то в голове останется что-то невыразительное, каламутное, какая-то муть».
И. С. Нечуй-Левицкий {1}Необходимое предисловие
В мае 2000-го года известный политик (ныне глава Национального союза писателей Украины) Владимир Яворивский жаловался в своей авторской радиопрограмме, что на всю многомиллионную Украину лишь несколько десятков тысяч человек по-настоящему владеют украинским языком. Действительно, язык, объявленный у нас «родным языком украинцев» (и на этом основании получивший статус единственного государственного) не очень-то популярен в народе. Люди общаются преимущественно на русском языке или на так называемом «суржике». Почему? Украинцы отреклись от родного языка? Предали его? Или, может быть, этот язык оказался слишком уж оторванным от народной почвы, а значит,— для большинства не родным? Об этом и пойдет речь.
Из-за обилия цитат эту книгу можно упрекнуть в компилятивности. Дело, однако, в том, что автор и не претендует на роль первооткрывателя. То, что изложено в моей работе — давно известно [1]. Но известно, к сожалению, лишь узкому кругу специалистов. Между тем, в силу ряда причин, языковая проблема на Украине вышла далеко за чисто научные рамки. Что представляет собой украинизация? Что это такое? Возврат к истокам, восстановление естественных прав украинского языка или, наоборот, попытка оторвать Украину и украинцев от общерусского корня? Эти вопросы интересуют не только ученых. Ответить на них можно только опираясь на факты. Факты, изложенные в документах и специальной литературе, но старательно замалчиваемые сегодня. Привлечь внимание читателей к таким фактам и является задачей книги.
Наверняка, она (книга) будет воспринята неоднозначно. Не исключено, что в адрес автора последуют обвинения в «шовинизме», «украинофобии», подрыве «украинской национальной идеи». Поэтому хотелось бы оговориться сразу: данная работа ни в коей мере не направлена против украинского языка. На этом языке создана большая научная литература, написаны художественные произведения (в том числе и талантливые). Есть люди, которые считают этот язык своим, желают развивать его дальше. И это их право.
Тем более здесь нет украинофобии. Наоборот, «Русь нерусская» написана в защиту права подавляющего большинства украинцев пользоваться действительно родным языком. Что же касается обвинений в «подрывной деятельности», то нужно напомнить навешивателям ярлыков слова выдающегося русского писателя (украинца по происхождению) Всеволода Крестовского: «Прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно. А если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию».
Глава 1. Возникновение наречий
«Русь не русская видится мне диковинкою, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с собачьей головой» {2},— заметил как-то Григорий Сковорода.
К сожалению, именно в такую диковинку превращают ту часть Руси, которая сегодня зовется Украиной. Нападкам подвергается все русское — русский язык, русская культура, даже русская (православная) Церковь. Административными методами проводится тотальная украинизация. Украинизируются детские сады, школы, вузы и т. д., вплоть до высших органов государственной власти.
Сами украинизаторы, ненькопатриоты (как когда-то назвал их один из публицистов) объявляют происходящее «национальным возрождением», «пробуждением национальной сознательности украинцев» (мнения которых, между прочим, никто не спрашивает), «преодолением последствий трехсотпятидесятилетней русификации». Они уверяют, что хотя многие украинцы считают русский язык родным, но в глубине души в них все равно сидит та самая мова, возврат к которой приведет к более полному раскрытию потенциала личности, а значит — к расцвету науки и культуры.
Так ли это? Действительно ли украинизация — это благо?
«Зри в корень»,— советовал незабвенный Козьма Прутков. Попробуем же, углубившись в прошлое, разобраться в сути происходящего на Украине сегодня.
Как известно, все населявшие Киевскую Русь восточнославянские племена пользовались одним русским языком, и приехавший в Суздаль, Смоленск или Новгород галичанин в переводчике не нуждался. «Летопись приводит множество примеров, когда на вечевых собраниях Новгорода и его пригородов выступали киевские послы и князья, а к киевлянам обращались с речью представители Новгорода, Суздаля, Смоленска» {3},— констатирует украинский ученый П. П. Толочко. Начало языковому расколу положило разделение политическое. Польско-литовское господство, установившееся в Юго-Западной Руси с XIV века, способствовало постепенному ополячиванию населения. Местные говоры все более пополнялись польскими словами. «Как поляки в свой язык намешали слов латинских, которые тоже и простые люди по привычке употребляют, так же и русь в свой язык намешали слов польских и оные употребляют» {4},— свидетельствовал анонимный автор «Перестороги», антиуниатского полемического произведения, написанного на Украине и датируемого 1605—1606 гг.
Так возникли отличные от разговорного языка обитателей Северо-Восточной Руси западнорусские наречия — белорусское и малорусское. (Нужно сказать, что названия «Малая Русь», «Малороссия» не являются чем-то оскорбительным, как это утверждает современная пропаганда. Употреблявшиеся сначала константинопольскими патриархами, а затем и в официальных актах галицко-волынских князей, казацких гетманов, вошедшие в научную литературу, названия эти обозначали территорию первоначального обитания русских племен, по аналогии с названиями «Малая Греция» — место зарождения греческой цивилизации и «Великая Греция» — острова, на которые греки расселились позднее; «Малая Польша» — родина польской нации и «Великая Польша» — места дальнейшего расселения поляков. «Малая Армения» и «Великая Армения» и т. д.).
Но и оформившись в отдельные диалектные группы, говоры Малороссии, Великороссии и Белоруссии оставались разновидностями одного языка. Посетивший в 1523—1524 годах великие княжества Литовское и Московское посол римского папы Климента VII Алберт Кампензе писал в Рим, что жители Руси как Литовской, так и Московской считаются одним народом, поскольку «говорят одним языком и исповедуют одну веру» {5}. На засилье «московского языка» в Литве жаловался литовский писатель XVI века Михалон Литвин {6}, а польский король Ян Казимир (вошедший в нашу историю как противник Богдана Хмельницкого), выступая в сейме, указывал, что главная угроза для Речи Посполитой заключается в тяготении населения малорусских и белорусских земель к Москве, «связанной с ними языком и верой» {7}.
Языковая близость Великой и Малой Руси ярко проявилась после их воссоединения. Многие украинские писатели, переселившись в столицу, приняли деятельное участие в литературной жизни Русского государства. Они существенно обогатили московский говор, внеся в него немало южнорусских особенностей. В результате, как отмечал П. А. Кулиш, на основе малорусского и великорусского наречий выработался общерусский литературный язык, «составляющий между ними средину и равнопонятный обоим русским племенам» {8}.
Столь мощное (на первом этапе даже преобладающее) влияние малороссов на формирование русского литературного языка впоследствии дало повод некоторым ненькопатриотам обвинять великороссов в том, что они чуть ли не украли этот язык у украинцев. «Богатые запасы языка малорусской нации в течение двух последних столетий были систематически эксплуатируемы в пользу московского наречия» {9}. Так, к примеру, утверждал в 1880 году ярый украинофил Омелян Огоновский.
Естественно, что поскольку главные культурные центры Российской империи (Петербург, Москва) располагались на территории Великороссии, в процессе дальнейшего развития литературного языка усиливалось влияние на него великорусской языковой среды. Примерно в середине XVIII века преобладающим стало уже оно. Однако и тогда малорусское влияние оставалось значительным. «Для развития литературной речи „малорус“ Григорий Сковорода сделал не меньше „великоросса“ Михаила Ломоносова,— замечал выдающийся русский историк Н. И. Ульянов.— А потом следуют поэты — Богданович, Капнист, Гнедич, вписавшие вместе с Державиным, Херасковым, Карамзиным новую страницу в русскую литературу. И так вплоть до Гоголя» {10}. «Великорусская литература (Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Державин) сама тогда омалорусилась,— писал Иван Нечуй-Левицкий Михаилу Грушевскому.— …Эти великорусские писатели пошли на Украину почти как свои по языку: их понимали» {11}. И даже оголтелый русофоб М. Антонович (внук известного историка) в своей «Истории Украины» (изданной в 1941—1942 гг. в оккупированной гитлеровцами Праге), объясняя причины распространения на Украине русского литературного языка, вынужден был признать: «Созданный в значительной мере самим украинским образованным слоем — тем духовенством, что массово отправлялось на службу в Россию — воспринимался этот язык как свой и им пользовались будто родным» {12}.
Как видим, малороссы (украинцы), как и великороссы, имели все основания считать русский литературный язык родным. Таковым он и был. И не только для образованной части украинского общества, но и для простого народа. Говорившие «по-благородному» помещики, в том числе и великороссы, в глазах украинских крестьян не являлись иноземцами, в отличие от панов польского или немецкого происхождения. Сами же крестьяне и в Великороссии, и в Малороссии говорили «по-простому», но и свои сельские говоры, и господскую речь считали разновидностями одного русского языка. «У нас, как это бывает и во всех почти странах, одна часть народонаселения говорит на своем образованном языке, а другая употребляет только свое местное просторечие» {13},— отмечал профессор Киевского университета Сильвестр Гогоцкий и подчеркивал: «Ежедневно мы говорим в деревне с простым народом по-русски без всяких переводчиков, и не только примера не было, чтобы нас не понимали, но даже сами же эти простые люди рассмеялись бы, если бы мы, говоря с ними, стали их уверять, что они нас не понимают и приводили бы к нашему разговору переводчика» {14}. Крупный ученый, выдающийся педагог, малоросс по происхождению, Гогоцкий авторитетно свидетельствовал: «Русский язык — наш язык; а потому мы учимся и учим на нем, как на своем языке» {15}, этот язык «наш во всей силе этого слова», «это наш язык, выраставший вместе с нами, вместе с историческою нашею жизнью и ее развитием, язык, вырабатывавшийся общими и долговременными трудами деятелей Великой и Малой (преимущественно — юго-западной) России» {16}.
Русскоязычными были и украинские писатели — И. П. Котляревский, Е. П. Гребенка, Г. Ф. Квитка-Основьяненко, П. П. Гулак-Артемовский, за что впоследствии накликали на себя обвинение в «пренебрежительном» отношении к «рідной мове». «Пренебрежительное отношение к родному языку, как это ни странно, было даже у „возродителей“ украинской литературы: Квитки, Котляревского и др., которые также смотрели на язык украинский как на „малороссийское наречие“, а на русский язык — как на „общий язык“» {17},— сокрушался один из активистов украинского движения. «Сознательности национальной украинцам не хватало. Квитке еще не приходил в голову вопрос о национальном языке» {18},— печалился другой «национально сознательный» автор.
«Недостаток национальной сознательности» и «пренебрежение к родному языку» тут, конечно, ни при чем. Следует помнить, что в то время малороссы вместе с великороссами и белорусами составляли одну русскую нацию, подобно тому, как великополяне, малополяне и мазуры составляли нацию польскую, пруссаки, баварцы, саксонцы — нацию немецкую и т. п. Теория о «трех братских народах», якобы возникших из «древнерусской народности» после распада Киевской Руси, вошла в обиход позднее. Некоторое время именно эта теория господствовала в отечественной историографии. Однако сегодня большинство исследователей склоняются к мысли о ее несостоятельности. Действительно, нации (народности) не распадаются вслед за государствами. История народов Европы — наглядное тому подтверждение. Северные области Италии долгое время находились под немецким владычеством, южные — под испанским, а в центре Апеннинского полуострова существовала под управлением римских пап самостоятельная Папская область. Веками эти территории были отделены друг от друга государственными границами, жили каждая своей политической и культурной жизнью, их население говорило на разных наречиях. Но сегодня итальянцы — единая нация, а не три братских народа. Веками и Германия была расколота на множество государств, а разные ее части входили в состав испанских, датских, шведских владений. Но и немцы сохранили национальное единство. Раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией не привел к распаду польской нации на «три братских народа». Греки Балканского полуострова, Малой Азии и различных островов, разбросанных в Восточном Средиземноморье, сознавали себя единой нацией, хотя разделялись не только государственными границами, но и морем.
Сознавали себя единой нацией и все три ветви русского народа — великороссы, малороссы, белорусы. Один народ — не значит одинаковый народ. Различия в обычаях и языке у великороссов, малороссов и белорусов, конечно же, имели место. Но различия эти все-таки были меньшими, чем разница между теми же малополянами, великополянами и мазурами в Польше, пруссаками, саксонцами и баварцами в Германии, пикардийцами, ильдефрансцами и провансальцами во Франции и т. д. Соответственно, вышеупомянутые Котляревский, Гребенка, Квитка-Основьяненко считали себя русскими, а русский язык — родным. Создавать еще один литературный язык, «возрождать украинскую литературу» они не собирались, а простонародные говоры (в данном случае диалекты Полтавской и Харьковской губерний) использовали в своем творчестве для лучшей передачи местного колорита или для комических эффектов. «По господствующему тогда образу воззрений, речь мужика непременно должна смешить и, сообразно с таким взглядом, Котляревский выступил с пародией на „Энеиду“ Вергилия, составленную по-малорусски, где античные боги и герои изображены действующими в кругу жизни малорусского простолюдина, в обстановке его быта, и сам поэт представляет из себя также малорусского простолюдина, рассказывающего эти события» {19},— пояснял Н. И. Костомаров. Кстати сказать, в «возродители» украинской литературы И. П. Котляревский попал лишь в конце XIX века, когда деятелям украинского движения потребовалось доказать, что пропагандируемое ими «українське відродження» происходит не от поляков. До этого Ивана Петровича таковым не считали. Например, еще в 1861 г. П. А. Кулиш называл его выразителем «антинародных образцов вкуса», осмеявшем в «Энеиде» украинскую народность, выставившем на показ «все, что только могли найти паны карикатурного, смешного и нелепого в худших образчиках простолюдина», а язык поэмы именовал «образцом кабачной украинской беседы» {20}. Также и Е. П. Гребенка писал, что народный язык представил «на суд публики г-н Котляревский в трактирно-бурлацких формах» {21}. А один, к сожалению, не названный по имени в научной литературе, украинофил в письме к украинскому поэту Я. Щёголеву даже заявил, что автор «Энеиды» «издевается над украинским говором и преимущественно подбирал вульгарные слова, наверное, на потеху великорусам и на радость армейским офицерам и писарям» {22}.
Не задавался целью «национального возрождения» и Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Все было проще. «Живя в Украине, приучаясь к наречию жителей, я выучился понимать мысли их и заставил их своими словами пересказать их публике. Вот причина вниманию, коим удостоена „Маруся“ и другие, потому что писаны с натуры без всякой прикрасы и оттушевки. И признаюсь Вам, описывая „Марусю“, „Галочку“ и проч., не могу, не умею заставить их говорить общим языком, влекущим за собою непременно вычурность, подбор слов, подробности, где в одном слове сказывается все. Передав слово в слово на понятное всем наречие, слышу от Вас и подобно Вам знающих дело, что оно хорошо» {23},— сознавался писатель в письме к великорусскому ученому и поэту П. А. Плетневу.
Действительно, было бы странно, если бы персонажи произведений Квитки — казаки и крестьяне из малорусских сел и местечек — общались бы между собой изысканным литературным языком, принятым в аристократических салонах. Как не могли общаться таким языком и персонажи произведений великорусских писателей — мужики из Вятской, Рязанской или Псковской губерний. «Мы — пскопския» звучит не так, как «мы — псковские», но и то, и другое — русский язык.
Нечто подобное происходило и в других европейских литературах. В Германии сочинители комедий на швабском или нижненемецком наречиях, при всей любви к своим местным говорам, не отрекались от немецкого литературного языка. Поэты юга Франции, творившие на провансальском диалекте, не переставали от этого быть французскими литераторами. В тогдашнем литературоведении такой вид творчества назывался областной литературой, которая являлась оригинальной частью литературы общенациональной. Представителями такой областной литературы были и Котляревский, и Гребенка, и Квитка-Основьяненко, и их более поздние последователи. Никто из них не отделял себя от русской культуры. Вспомним, что даже Т. Г. Шевченко при всей любви к малорусскому слову свои прозаические произведения писал на русском литературном языке, русского поэта А. В. Кольцова называл «поэтом нашим» {24}, а М. Ю. Лермонтова — «наш великий поэт» {25}. «Во времена котляревщины, гулаковщины, артемовщины и т. п. украинская литература была лишь провинциальной литературой, дополнительной к русской, это была литература гопака, горилки, дьяка и кумы. Этого характера украинская литература не лишилась даже во времена Шевченко, Кулиша, Марка Вовчка и других» {26},— вынужден был признать видный украинизатор, нарком просвещения УССР Н. А. Скрыпник. Он справедливо считал, что самостоятельная украинская литература возникла в конце XIX века благодаря стараниям галицких литераторов (об этих «стараниях» речь пойдет дальше).
Таким образом, еще в XIX веке русско-украинского двуязычия на Украине не существовало. Литературная речь и народные говоры мирно уживались, будучи лишь разными ступенями развития одного и того же русского языка. «Тесная внутренняя связь и близкое родство между малорусским языком, с одной стороны, и великорусским, белорусским и общерусским литературным языками, с другой, настолько очевидны, что выделение малорусского из русской диалектической группы в какую-либо особую группу в такой же степени немыслимо, в какой немыслимо и выделение, например, великопольского, силезского и мазурского наречий из польской диалектической группы, или моравского наречия — из чешской диалектической группы, или рупаланского наречия — из болгарской диалектической группы…— отмечал выдающийся ученый, профессор Киевского университета Т. Д. Флоринский.— В частных сторонах и явлениях своей жизни, в языке, быте, народном характере и исторической судьбе малорусы представляют немало своеобразных особенностей, но при всем том они всегда были и остаются частью одного целого — русского народа» {27}.
Так же и другой крупнейший ученый, филолог, профессор Варшавского университета А. С. Будилович подчеркивал принадлежность малорусского и великорусского наречий к одному русскому языку. Ученый указывал, что малорусские и великорусские группы говоров гораздо ближе друг к другу, чем, например, нижненемецкие и верхненемецкие говоры в немецком языке, или северофранцузские и провансальские — во французском. «Это доказывается тем, что шваб вовсе не понимает фриза, а нормандец — гасконца, тогда как великорус и малорус всегда поймут друг друга, говоря на своих просторечиях» {28}.
По мере распространения просвещения возрастало количество пользующихся литературным языком, общим для малорусов и великорусов, и, соответственно, сокращалось число говорящих на просторечиях. Никакая «русификация» к этому процессу отношения не имела. Запреты и гонения, о которых сегодня модно говорить, касались совсем другого.
Глава 2. «Не было, нет и быть не может»
XIX век прошел на Украине под знаком борьбы двух культур — русской и польской. Заветной мечтой польских патриотов было восстановление независимой Речи Посполитой. Новая Польша виделась им не иначе, как «от моря до моря», с включением в ее состав Правобережной (а если удастся — то и Левобережной) Украины и Белоруссии. Но сделать это без содействия местного населения было невозможно. И руководители польского движения обратили внимание на малороссов.
Поначалу их просто хотели ополячить. Для этого в панских усадьбах стали открываться специальные училища для крепостных, где крестьянских детей воспитывали на польском языке и в польском духе. В польской литературе возникла так называемая «украинская школа», представители которой воспевали Украину, выдавая при этом ее жителей за особую ветвь польской нации. Появился даже специальный термин — «третья уния». По мысли идеологов польского движения, вслед за первой, государственной Люблинской унией 1569 г. (соединившей Польшу и Литву с включением при этом малорусских земель великого княжества Литовского непосредственно в состав Польши) и второй, церковной Брестской унией 1596 г. (оторвавшей часть населения Малороссии и Белоруссии от Православной церкви и поставившей эту часть под контроль католичества), «третья уния» должна была привязать к Польше (естественно, с одновременным отмежеванием от Великороссии) Украину (Малороссию) в сфере культуры. В соответствующем направлении прилагали усилия и чиновники-поляки (их в то время немало служило на Украине, особенно по ведомству министерства просвещения).
Как это ни странно, но такой почти неприкрытой подрывной деятельности власти препятствий не чинили. Что такое «психологическая война», тогда просто не знали. А поскольку открыто к восстанию до поры до времени поляки не призывали, царя вроде бы не ругали, то и опасности в их деятельности никто не усматривал.
Однако откровенная полонизация не удалась. Слишком живы были еще в народе воспоминания о былых обидах, нанесенных коренному населению польской властью, слишком многое разделяло крестьян (почти сплошь по происхождению малороссов) и помещиков (которые на Правобережье, за небольшим исключением, были поляками по национальности). На переодетых в народные украинские костюмы польских пропагандистов (а были и такие) в селах смотрели, по меньшей мере, подозрительно.
С другой стороны, гонористая шляхта совсем не желала брататься с холопами, считать их единокровными и одноплеменными. Малороссы были для них русскими, такими же ненавистными москалями, как и великороссы. Характерен пример с украинским художником И. М. Сошенко (бывший друг Т. Г. Шевченко). Когда он женился на девушке из бедной, но шляхетной польской семьи, родители его жены долго не могли смириться с тем, что «их Марцеся омоскалилась, вышедши замуж за хлопа-схизматика» {29}.
Все это вынудило польских вождей сменить тактику. Раз не получилось превратить жителей Украины в поляков, следовало хотя бы добиться того, чтобы они перестали считать себя русскими. «Если Гриць не может быть моим, то пускай, по крайней мере, не будет он ни моим, ни твоим» {30},— так сформулировал эту политику видный польский деятель ксендз В. Калинка. Еще откровеннее был военный лидер польского движения генерал Мерославский: «Бросим пожар и бомбы за Днепр и Дон, в сердце России. Пускай уничтожат ее. Раздуем ненависть и споры в русском народе. Русские будут рвать себя собственными когтями, а мы будем расти и крепнуть» {31}.
Новое идеологическое течение получило наименование украинофильского. Его проповедники особое внимание сосредоточили на малорусской интеллигенции. Малороссам внушали, что они представляют собой национальность, отдельную от великороссов и порабощенную последними, призывали отказаться от русского литературного языка и разрабатывать «свой» особый литературный язык, самостоятельную культуру и т. д.
Нельзя сказать, что пропаганда эта пользовалась успехом. Образованные малороссы всей душой любили народные обычаи, песни, говоры, но при этом, несмотря на усилия украинофилов, оставались русскими. Новыми идеями соблазнились единицы. «У нас в Киеве только теперь не более пяти упрямых хохломанов из природных малороссов, а то (прочие) все поляки, более всех хлопотавшие о распространении малорусских книжонок,— сообщал видный малорусский общественный деятель К. Говорский галицкому ученому и общественному деятелю Я. Головацкому.— Они сами, переодевшись в свитки, шлялись по деревням и раскидывали эти книжонки; верно пронырливый лях почуял в этом деле для себя поживу, когда решился на такие подвиги» {32}. То, что потом было названо «украинским национально-освободительным движением», на начальном этапе своего развития состояло преимущественно из поляков (В. Антонович, Т. Рыльский, Б. Познанский, К. Михальчук и др.), поддержанных очень немногими малороссами.
Среди таких немногих оказался и писатель П. А. Кулиш. Позднее, осознав себя орудием польской интриги, Пантелеймон Александрович разойдется с бывшими единомышленниками. Он напишет замечательную книгу «История воссоединения Руси», где покажет, что Малая и Великая Русь фактически составляют единый национальный организм, будет отстаивать право малорусских детей обучаться в школах на русском литературном языке, а не на местных наречиях. Но в молодости видный деятель Украины трудился в ином направлении. В соответствии с замыслом вытеснить из церковной, общественной и научной жизни на Украине русский литературный язык, он взялся превращать в культурный язык малорусское наречие, сочинил для него особое правописание (так называемую «кулишивку»), стал переводить «на украинский» Библию. Дело оказалось не из легких. Наречие, употреблявшееся исключительно крестьянами, включало в себя только слова, необходимые в сельском быту, и для изложения Священного Писания являлось совершенно непригодным. Писатель вынужден был выдумывать недостающие слова или прибегать к заимствованиям из польского языка. Перевод получился непонятным (к примеру, фраза «Да уповает Израиль на Господа» превратилась у Кулиша в «Хай дуфае Сруль на Пана» {33}). Позднее, после того как книга вышла в свет, даже украинофилы признали его неудачным.
Таким же курьезом обернулась попытка перевести «для народа» Высочайший манифест об отмене крепостного права. Представив свой труд на утверждение в канцелярию Государственного Совета, Кулиш получил его обратно вместе с резолюцией, где переводчику не без иронии рекомендовалось «держаться сколь возможно ближе к тому языку и тем выражениям, кои употребляются ныне малороссийскими крестьянами» {34}. Но, потешаясь над подобными переводами, правительственные чиновники не были расположены что-либо запрещать.
Положение изменилось в 1863 году. В Польше вспыхнуло антирусское восстание, к которому поспешили присоединиться многие украинские поляки. Напрасно В. Антонович и другие украинофилы предупреждали, что на Украине открытое вооруженное выступление обречено. Гордые шляхтичи рвались в бой.
Мятеж закончился катастрофой. Сознавая себя русскими, малороссийские крестьяне справедливо усмотрели в польском выступлении против русской власти угрозу собственным интересам. Вооруженные косами и вилами мужики, собравшись в отряды, бросились истреблять польских повстанцев. Фактически восстание на Украине было подавлено самим народом почти без участия армии. Часто, прибыв в какую-нибудь волость, где действовали мятежники, солдаты лишь принимали от населения связанных бунтовщиков и тела убитых повстанцев. Это был крах польского движения в Малороссии.
Восстание наконец-то заставило власти обратить более пристальное внимание на деятельность поляков, в том числе и на их украинофильские потуги. Тут-то и выяснилось, что литературные усилия и языковые эксперименты над малорусским наречием не так безобидны, как это казалось ранее. Требовалось принимать меры. Так появилось на свет знаменитое «не было, нет и быть не может», которое приписывается министру внутренних дел П. А. Валуеву. Большинство современных публицистов, упоминающих о «валуевском циркуляре», выдергивают из него именно эту фразу и старательно избегают более подробного цитирования. Между тем знакомство с этим интересным документом приводит к несколько иным выводам, чем, те, которые навязывают сегодня общественному мнению борцы с «насильственной русификацией».
«Давно уже идут споры в нашей печати о возможности существования самостоятельной малороссийской литературы,— писал Валуев.— Поводом к этим спорам служили произведения некоторых писателей, отличившихся более или менее замечательным талантом или своею оригинальностью. В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих отношения к интересам собственно литературным».
Далее министр касался распространяемых украинофилами идей о желательности обучать школьников в Малороссии не на общем для всей Руси русском литературном языке, а на местном, малороссийском наречии. «Возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка нет, не было и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами, и в особенности поляками, так называемый украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказать противное, большинство самих малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных к России и гибельных для Малороссии. Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков».
Принимая во внимание «с одной стороны, настоящее тревожное положение общества, волнуемого политическими событиями, а с другой стороны — имея в виду, что вопрос об обучении грамотности на местных наречиях не получил еще окончательного разрешения в законодательном порядке», Валуев считал необходимым «впредь до соглашения с министром народного просвещения, обер-прокурором Святейшего Синода [2] и шефом жандармов относительно печатания книг на малороссийском языке, сделать по цензурному ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы» {35}.
Как следует из документа, министр внутренних дел П. А. Валуев вовсе не являлся украиноненавистником, каким хотят представить его сегодняшние украинизаторы. Он был знаком с литературой на малороссийском наречии, отмечал «более или менее замечательный талант» некоторых писателей и не имел ничего против издания по-малорусски художественных книг («изящной литературы»). Мнение «не было, нет и быть не может» принадлежало не министру, а самим украинцам и, конечно же, относилось не к народным говорам, а к «новому украинскому литературному языку», спешно сочиняемому украинофилами.
Не мог не учитывать Валуев и настроения жителей Малороссии. А они требовали, чтобы детей учили именно русскому литературному языку, а не местным просторечиям, непригодным для книги, школы, церкви (и уж тем более не «украинскому» языку). «Пробывал я,— рассказывал видный украинский ученый М. А. Максимович, живя на моей горе (хутор Михайловская Гора в Полтавской губернии.— Авт.) давать нашему деревенскому люду книжицы на нашем просторечии, что же выходило? Каждый раз очень скоро возвращали, прося наших русских книг» {36}. «В России после столиц первые губернии, которые потребляют книги и журналы более всех,— губернии малороссийские (Херсонская, Екатеринославская, Киевская, Полтавская, Таврическая, Черниговская…), а малорусских книг, кроме Шевченко, почти никто не покупает» {37},— писал М. П. Драгоманов галицкому украинофилу В. Навроцкому.
О непопулярности украиноязычных книжек проговорился (видимо, сам того не желая) и известный украинофильский деятель Хведір Вовк (Федор Волков), вспоминавший, как во время учебы в нежинской гимназии ему и другим гимназистам такие книжки — тоненькие копеечные «метелики», учитель-украинофил всучивал в нагрузку, выдавая вместо сдачи при покупке учениками в гимназиальной книжной лавке учебников {38}. Широкую известность получил также случай с приехавшим в малорусское село молодым священником, который обратился к крестьянам с проповедью на народном наречии. Крестьяне очень обиделись, потому что батюшка говорил о Боге тем языком, каким они «в шинке лаются меж собой» {39}.
«Несмотря на литературное предложение, несмотря на весьма замечательные таланты, предлагавшие свои услуги, народ упорно игнорировал свою народность,— с сожалением писал украинофил Ф. М. Уманец.— Ему твердят о том, что из него может выйти нечто великое, а он упорно держится набитой дороги (т. е. не отделяется в национальном и культурном отношении от великороссов.— Авт.). Даже в Подольской губернии, как известно, всего менее испытавшей великорусское влияние, народ не только не стоял за малорусскую грамотность в народных школах, но, как положительно известно людям непредубежденным и поставленным в близкие отношения к народу, был почти против нее. Отцы более чем равнодушно отнеслись бы к грамотности, если бы она преподавалась на малорусском языке, говорили священники, в былое время не чуждые украйнофильства. Дети коверкали свой отлично составленный малорусский букварь для того, чтобы подделаться под общерусский тип» {40}.
Так же и другой запретительный акт — Эмский указ 1876 года был направлен не на малорусское наречие, а на использование его в политических целях. (Одним из непосредственных поводов к запрету явилось издание украинофилами тенденциозного перевода повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», где слова «Россия», «русская земля», «русский» были заменены на «Украина», «украинская земля», «украинец» и даже словосочетание «русский царь» оказалось замененным на «украинский царь» {41}.) Указ запрещал ввоз в пределы Российской империи малорусских книг, изданных за границей (подразумевались, прежде всего, австрийские издания), и пресекал попытки искусственно распространить сферу действия простонародных говоров на науку и общественную жизнь. В то же время употребление этих говоров не запрещалось там, где их использование было естественным, к примеру, в начальной школе. «Не подлежит сомнению, что было бы крайне вредно как для общенационального, так и для практического образования детей, если бы школа ограничивалась местным наречием; напротив, собственно учебным предметом в народной школе должен быть, как сказано выше, литературный язык. Но в то же время было бы ошибочно, если бы учитель вздумал или совсем не обращать внимания на наречие детей, или старался вовсе искоренить его, или даже стал бы осмеивать его. Такая ревность учителя сбить детей с толку сделает их застенчивыми и молчаливыми. Учитель не должен поселять в детях презрения к их родному наречию, но должен только показывать им, как слова и выражения, употребляемые ими, говорятся и пишутся на литературном языке. Поэтому необходимо, чтобы учитель был знаком с наречием той общины, того округа, в котором находится школа его, но в то же время он должен вполне владеть литературным языком» {42},— отмечалось в одобренной министерством народного просвещения и изданной в том же 1876-м году «Методике первоначального обучения», книге, по которой велось преподавание в учительских семинариях.
«Мы вовсе не исключаем целесообразных средств к облегчению первоначального обучения, определяемых различными приспособлениями к местному южнорусскому просторечию. Но в то же время мы указываем и пределы этих приспособлений, так как повсюдными и общеобязательными, даже в этой сфере обучения, они быть не могут» {43},— отмечал и уже упоминавшийся Гогоцкий.
Не коснулись запреты и литературы (кроме переводной). Художественные сочинения, этнографические сборники, популярные брошюры и т. п. как издавались до запретительных актов, так и продолжали издаваться. Помимо прочего, выходили очередные тома «Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край», хотя выяснилось, что экспедиция осуществлялась под руководством ярых украинофилов, к ее научным целям были примешаны политические, а редактировал «Труды…» П. П. Чубинский (автор гимна «Ще не вмерла Україна»), об антиправительственных настроениях которого властям было прекрасно известно.
Правда, был наложен запрет на «интеллигентские сюжеты» (т. е. на такие произведения, где представители высших классов изъяснялись на украинском языке). Но, как признавали сами украинофилы, этот запрет лишь удерживал украинскую литературу в рамках реализма, поскольку культурных людей, говоривших на мове, просто не существовало в природе. «Многие сознательные украинцы не умели говорить по-украински, и даже вожди украинского движения по-украински только шутили, а в серьезных общественных делах пользовались московским языком,— писал, например, видный политический деятель, один из организаторов Центральной Рады, заместитель ее председателя, министр в одном из центральнорадовских правительств, а позднее — историк украинского театра Д. В. Антонович (сын В. Антоновича).— Фактически перед 1876 годом, перед запрещением интеллигентских сюжетов, украинская литература, за очень небольшим процентно исключением, не выходила за рамки простонародных сюжетов, так как не чувствовала в этом надобности. Украинские писатели, взявшись за сюжеты не сельской жизни, употребляли московский язык. В конце концов, в те времена и в тех обстоятельствах выработалось в обществе такое настроение, что и пьеса из интеллигентской жизни на украинском языке, и просто интеллигенты в европейской одежде, которые заговорили бы на сцене по-украински, вызвали бы смех у зрителей, и это не только у врагов украинского движения, а и у сторонников его, даже иногда у людей, которые считали себя сознательными украинцами. Сама недоделанность украинского языка была тогда препятствием интеллигентскому сюжету, а обычный в наши времена литературный язык даже со стороны самих интеллигентных украинских граждан вызвал бы возмущение своей искусственностью и выкованностью» {44}.
Что правительственные «репрессии» не были направлены против украинской культуры, доказывается еще и тем фактом, что в том же 1863 году, когда был издан «валуевский циркуляр», на сцене Мариинского театра в Петербурге впервые была поставлена опера С. С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», имевшая необычайный успех. Правда, в следующем сезоне оперу сняли из репертуара, но не потому, что кто-то хотел ущемить украинское искусство. Просто выяснилось, что музыку для «своей» оперы С. С. Гулак-Артемовский большей частью «позаимствовал» у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»), лишь добавив туда несколько народных мелодий и чуть-чуть переработав отдельные места. Разразился скандал. Театральные критики обвиняли композитора в плагиате. Но, несмотря на конфуз в Петербурге, на Украине опера стала очень популярной. Как отмечал тот же Д. В. Антонович, фрагменты из этого произведения «часто поют украинские любители пения, не подозревая, что они исполняют музыку Моцарта. Опера Моцарта „Похищение из сераля“ на Украине никогда не исполняется, а „Запорожца за Дунаем“ хорошо знает каждый украинский театрал» {45}.
Нужно отметить, что тема плагиата неразрывно связана с «антиукраинскими репрессиями царизма». Во второй половине XIX — начале XX вв. главной целью «национально сознательных» писателей являлось доказывание самостоятельности украинской литературы. Лучшим средством для этого, по мнению украинофилов, было «кропание» литературных произведений, которых требовалось создать как можно больше. Работали не на качество, а на количество. А поскольку таланта катастрофически не хватало, сюжеты частенько заимствовались у других авторов (в основном, у пишущих на русском), действие переносилось на украинскую почву, литературные герои переименовывались на местный манер и таким образом создавался очередной «шедевр» «самостоятельной литературы». Естественно, когда все раскрывалось, вспыхивали скандалы, доходило даже до судебных процессов. Это вынуждало цензуру более внимательно относиться к сочинениям украинских авторов, что и трактовалось украинофилами как «преследование украинского слова».
Наиболее пышным цветом расцвел плагиат в драматургии. На этом поприще «трудились» М. П. Старицкий, М. Л. Кропивницкий, И. К. Карпенко-Карый (Тобилевич), Н. К. Садовский (Тобилевич) (все, кроме Старицкого, по происхождению польские шляхтичи) и др. «Одалживали» сюжеты они у А. Н. Островского, А. Ф. Писемского и других русских писателей. Особенно «прославился» М. П. Старицкий. Литературоведы позднее установили, что сюжеты всех пьес этого «автора», кроме одной, определенно «позаимствованы» у других (не только у общерусских литераторов, но и у деятелей провинциальной малорусской литературы). Лишь по поводу пьесы «Не судилось», очень похожей по содержанию на пьесу М. Кропивницкого «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», специалисты не пришли к точному выводу — кто у кого украл {46}.
Старались не отставать украинофильские деятели и в других отраслях литературы. Так, при рассмотрении цензурой в 1894 г. рукописи басен Л. И. Глибова было установлено, что из 107 помещенных там произведений 87 заимствованы у И. А. Крылова и лишь переведены на малорусское наречие (потом выяснилось, что цензор еще не все заимствования обнаружил), а остальные взяты у других, менее известных русских авторов {47}. Между тем издатели (сам Глибов к тому времени умер) пытались выдать эти басни за оригинальные сочинения «украинского байкаря». Цензура книгу запретила, после чего посыпались жалобы на притеснения, и (самое интересное) украинофилы добились-таки разрешения издать сборник басен, хоть и в несколько сокращенном виде.
Поднимая тему «преследований», нельзя не коснуться еще одной стороны проблемы, также тщательно сегодня замалчиваемой — о сроках действия правительственных запретов. Мало кто знает, что «Валуевский циркуляр» утратил силу сразу же вслед за подавлением в середине 1864-го года польского мятежа. Уже во время судебной реформы (начатой в ноябре того же года) на малорусском наречии вышла брошюра, посвященная новым принципам судоустройства. Брошюру издали в Екатеринославе (нынешний Днепропетровск). Цензура пропустила ее беспрепятственно.
В 1865 году вступил в действие новый закон о печати, теперь уже и формально отменивший распоряжение Валуева. «По тому закону,— объяснял позднее М. П. Драгоманов,— совсем запретить книгу мог только суд, и такой порядок сохранялся до 1873 года (после этого мог уже задерживать книгу и кабинет министров). А суд был гласный и обязан был опираться на законы. Таким образом, про украинские книги не было (да нет и до сих пор) явного закона, чтобы нельзя было их печатать,— а валуевский запрет 1863 г. был только тайный циркуляр цензорам от министра». Как отмечал Драгоманов (которого никак нельзя заподозрить в желании обелить тогдашние порядки), достаточно было сочинить книгу на украинском языке и отдать ее в печать. «Пусть цензор, если хочет, в суд посылает, чтобы задержать. Суд не мог бы найти закона, чтобы такую книгу задержать… Но украинофилы оказались не в состоянии сделать такую попытку. Так обнаружилось, что украинофильство было самым слабым из всех свободных ростков 1860-х годов в России» {48}.
Причины этой слабости ясны. Потерпевшим сокрушительное поражение полякам было не до создания «украинского языка». А без их помощи украинофильство оказалось ни на что не способным. Как вспоминал Драгоманов, в разговоре с ним один из главных деятелей движения (Драгоманов не называет его по фамилии, сообщает только, что это один из «важнейших работников» украинофильского журнала «Основа») признался, что когда стало известно о «валуевском циркуляре», активисты украинофильства «не очень печалились по этому поводу, и даже обрадовались, так как книг готовых не было, и они думали избежать позора и наготовить книг» {49}, объясняя пока что их отсутствие запретами со стороны властей. Но время шло, поляки приходили в себя медленно (более-менее оправились они лишь к началу 70-х годов), а без них ничего не получалось. Вот и пришлось прикрывать творческое бесплодие ссылками на давно утративший силу циркуляр.
Несколько большим был срок действия Эмского указа. Официально он утратил силу в 1905 г. Однако, как признавали сами украинофилы, некоторые положения указа остались только на бумаге и на практике никогда не применялись, другие — применялись непоследовательно и фактически были упразднены еще до формальной отмены Эмского акта. «В течение тридцати лет своего существования закон 1876 г., оставаясь, как общее правило, грозой для малорусского литературного движения и притом все усиливая раскаты своего грома и силу удара своих молний, в тоже время фактически, отдельными отступлениями цензорской практики, был в разное время отменен во всех своих частях» {50},— указывал, например, П. Я. Стебницкий. Д. В. Антонович вынужден был констатировать, что запрет на украинские спектакли (наложенный, кстати сказать, не за украиноязычные пьесы, а за устраиваемые на спектаклях украинофильские демонстрации) «фактически не был воплощен в жизнь» {51}. В 1880 г. это положение указа было отменено. В том же 1880 году специальным указом Александра II Императорской Академии наук была основана премия имени Н. И. Костомарова, которая предназначалась для будущего составителя (или составителей) словаря малорусского наречия.
Был запрещен ввоз украиноязычных австрийских книг (также на практике часто не соблюдавшийся), но разрешался ввоз издававшихся в Австрии украинских газет, принималась подписка на такие газеты. Одно время российские украинофилы даже издавали свою газету на украинском языке (официально эта газета считалась приложением к одной из галицких газет и печаталась в Австрии, но редакция находилась в Киеве).
Неплохо обстояло дело и с украинским книгоизданием. Цензура часто пропускала книги, которые должны были бы попасть под запрет (например, переводы на малорусское наречие с русского и иностранных языков, сделанные М. П. Старицким, как раз в то время развернувшим бурную языкотворческую деятельность). Указ запрещал издание украиноязычных научных книг, но, как свидетельствовал уже упоминавшийся Омелян Огоновский, цензоры «не очень цеплялись к авторам, и как бы потакали немного, позволяя печатать иногда научные книжки украинские» {52}. Исследовавший этот вопрос известный литературовед, крупный деятель украинофильства С. А. Ефремов констатировал, что уже в начале 80-х годов выходит «суррогат периодического издания» — два тома сборника «Рада» (1883 и 1884 гг.). Кроме того, «снова прорываются сквозь цензуру популярно-научные издания: „Про обкладки (дифтерит)“ — Ми-ча (1881), четвертое издание брошюры „Дещо про світ божий“ (1882), „Оповідання про комах“ О. Степовика (О. Комарова) (1882), „Про дифтерит або обкладки“ М. Хведоровского (1882), „Земля і люде в Росії“ К. Гамалии (1883), „Про грім та блискавку“ В. Чайченка (1883); проскакивают даже опыты учебников, как „Граматка“ (1883) А. Кониского и „Читанка“ Хуторного-Лубенця (1883)» {53}.
В 1890-х годах в России действовали уже четыре издательства, специализировавшиеся на выпуске украинских книг. Особенно большой размах приняла издательская деятельность Б. Д. Гринченко в Чернигове. С 1894 по 1901 год он издал более 50 названий книг, по 5—10 тыс. экземпляров каждого названия. Помимо собственных сочинений, Гринченко издавал произведения Т. Г. Шевченко, М. М. Коцюбинского, Е. П. Гребенки, П. А. Грабовского, Ю. Федьковича и др., а также «целый ряд научно-популярных работ — по медицине, технике, истории, естествознанию» {54}. «Украинских книжек выходит у нас много: изданы сочинения Марка Вовчка, Кулишевой (имелась в виду Ганна Барвинок, вдова П. А. Кулиша.— Авт.), поэтов Крымского, Чернявского, Свидзинского, Руданского, „Літературний збірник“ в Киеве и множество популярных книжечек» {55},— сообщал в частном письме от 13 января 1903 года И. С. Нечуй-Левицкий.
Таким образом, в период так называемых «гонений на украинское слово» выходили и художественные, и научные, и популярные книги, и даже учебники на украинском языке. Другой вопрос, что вся эта печатная продукция не пользовалась спросом. Тот же Б. Д. Гринченко, распространявший украинские книги через книжный склад черниговского губернского земства, пошел на открытый конфликт с женщиной, занимавшей должность директора книжного склада, поскольку та жаловалась, что издания на украинском языке плохо продаются и не хотела связываться с их распространением как с делом заведомо убыточным. «„Бабушку Марфу или за Богом молитва, а за царем служба не пропадает“, хвалебные „жизнеописания“ царей: Петра, Екатерины II, Николая I, безграмотные „Песенники“ и всякий другой лубочный и нелубочный мотлох она хотела иметь в книжном магазине, так как такие книжки и рисунки давали большую прибыль, а украинскими книжками брезговала, потому что с них выгода маленькая» {56},— возмущалась позднее М. Гринченко, жена и соратница украинского деятеля.
Используя свои связи в губернской земской управе, Б. Д. Гринченко принялся откровенно выживать несговорчивую директрису. И ведь добился своего: женщина вынуждена была уволиться, а на ее место взяли «сознательную украинку» (все это происходило во время «гонений на украинское слово»!). После такой замены украинские книжки, конечно, не стали продаваться лучше, но легальное прикрытие для своей пропагандистской деятельности украинофилы получили.
В том же Чернигове, когда в феврале 1897 года на заседании комиссии по народному образованию губернского земства рассматривался языковой вопрос, председатель комиссии, симпатизировавший украинофилам Рудановский, признался, что лично «накупил кипу малорусских книг Гринченко и еще какого-то Харьковца и передал в школу. Но, по отзыву учительницы, они мало читаются» {57}. Практически о том же свидетельствовал ярый украинофил Д. И. Багалей, возглавлявший в 1890-е годы издательский комитет «Общества грамотности» в Харькове. Комитет издавал книги в основном на русском языке и только несколько брошюрок выпустил по-украински. В «Автобиографии», написанной уже в советское время да еще в период оголтелой украинизации, Багалий, как и положено украинскому деятелю, объяснял малое количество изданных его комитетом украиноязычных книжек все теми же «гонениями на украинское слово», но тут же проговаривался: «Русский язык господствовал в изданиях комитета еще и потому, что среди населения Харьковщины — даже сельского, и ее городов, особенно таких больших, как Харьков, был значительный процент русских и тех, которые называли себя „русскими“, то есть, получив русское школьное образование, читали и писали литературным русским языком, несмотря на то, что сами или родители их и деды были украинцами по происхождению» {58}. Пытаясь затушевать неблагоприятную для «национально сознательных» деятелей картину, Багалий пишет только о «значительном проценте» русскоязычного населения, но каков был этот процент, видно из изданий возглавляемого им комитета: из 95 книг — 90 напечатаны на русском языке и 5 — на украинском {59} (причем украиноязычные книги печатались лишь из «идейных» соображений, а не потому, что на них был спрос).
Непопулярность украиноязычной печатной продукции можно проиллюстрировать и на примере распространения Библии (во многих крестьянских домах это была единственная книга). Известно, сколько крокодиловых слез было пролито украинофилами по поводу того, что из-за запрета властей украинские крестьяне не имеют возможности читать Священное Писание «рідною мовою». В украинской прессе живо описывали, как ждет не дождется этой возможности сельский люд, как страдает из-за ее отсутствия. При этом указывали на подготовленный еще в 1860-х годах украинский перевод Евангелия, который не был издан из-за наложенного властью запрета. Такой перевод действительно был подготовлен Ф. С. Морачевским. И действительно был признан Святейшим Синодом не нужным народу, что дало украинофилам повод для жалоб на «притеснения». Правота Синода выяснилась позднее. Как свидетельствует известный украинский деятель Ю. Липа, «когда это Евангелие было напечатано в 1906 г. — оно не имело большого успеха» {60}.
Не повезло украинофилам со Священным Писанием и еще раз. Во второй половине XIX века на Украине получила некоторое распространение штунда — еретическое учение протестантского толка, первоначально занесенное сюда немецкими колонистами, обратившими затем в свою веру и кое-кого из украинских крестьян. Украинофилы (сами, как правило, бывшие атеистами) попытались использовать обеспокоенность Православной церкви сложившейся ситуацией. Распространение ереси они объясняли исключительно тем, что штундисты свои молитвенные собрания якобы проводят на украинском народном языке, а в православных храмах богослужение ведется на языке церковнославянском, будто бы не совсем понятном необразованным крестьянам. По уверениям «национально сознательных» деятелей, для противодействия штунде следовало немедленно перевести на украинский язык все богослужебные тексты, ввести проповедь по-украински, издать украинский перевод Евангелия и т. д.
Конфуз получился, когда выяснилось, что молитвенные собрания последователи штунды действительно проводят на народном языке, но этот язык — русский. На русском же вели они пропаганду своего учения. Получило огласку письмо украинских крестьян-штундистов из сел Косякивка и Чаплинка киевскому губернатору, в котором они заявляли, что распространяют то же Христово учение, что и православные, но только не на церковнославянском, а на русском языке и пропагандируют Священное Писание этим «понятным народу языком». «Очевидно, что эти люди даже не понимают, что можно еще им более понятным, родным языком читать св. письмо» {61},— возмущался Б. Д. Гринченко. Но возмущение его было пустым звуком. «Рідна мова» просто оказалась не нужной ни штундистам, ни, тем более, православным. Украинофилам не осталось ничего другого, кроме как вновь затянуть старую «песню» о «притеснениях».
Ссылками на «притеснения» «национально сознательные» деятели прикрывали все свои неудачи. Стоит указать на пример с украиноязычным учебником «Аритметика» (арифметика), написанным видным активистом украинского движения А. Я. Конисским, пытавшимся внедрить свое произведение в образовательные заведения Малороссии вместо русскоязычных пособий. Учебник был издан в 1863 году, но учебным начальством в школы не допущен, что, естественно, было объявлено украинофилами очередным «преследованием украинского языка». В 1907 году «Аритметику» переиздали, но в школы она снова не попала из-за запрета властей. Лишь в 1918 году, после провозглашения независимости Украины и начавшейся тотальной украинизации, ненькопатриоты получили возможность «осчатливить» школьников так долго недоступным для них учебником.
К счастью для учащихся, в министерстве просвещения у кого-то хватило ума, прежде чем запускать «Аритметику» в школы, отдать ее на проверку специалистам. Результат проверки оказался шокирующим. «Это первый курс арифметики, написанный на украинском языке,— отмечалось в рецензии на учебник.— Написана эта книжка известным украинским деятелем, но дилетантом в математике, и содержание ее неудачно даже для тех времен, когда она составлялась. Поэтому совсем непонятно, зачем „Учительська спілка“ выпустила эту книгу вторым изданием в 1907 году… Для низших школ такая книжка не нужна, для гимназий она совершенно непригодна. Не удовлетворяет она ни требованиям современной педагогики, ни требованиям науки». Перечислив недостатки сорокастраничного «учебника», среди которых — неудачно придуманные (лишь бы не так, как в русском языке) термины, рецензент высказывал пожелание, «чтобы эта книжка никогда больше не печаталась» {62}.
Аналогичная история случилась и с «Граматкой» (букварем), составленным Б. Д. Гринченко. Уже в 1920-х годах видный ненькопатриот В. Ф. Дурдукивский признавал, что «в грамотке есть много недостатков». В частности, «не везде выдержана методическая последовательность в расположении материала, заметна с первых же параграфов перегруженность материалом, материал размещен довольно однообразно, что может вызвать у детей усталость и пригасить их интерес к работе, материал между собой не связан никакой одной мыслью или идеей, иногда случаются странные, искусственные предложения, слова для ознакомления с новым материалом не везде подобраны удачно» и т. д. Рецензент оправдывал автора «Грамотки» тем, «что Гринченко никогда не считал себя методистом, что его педагогические интересы были не в сфере методических вопросов, что, составляя свою грамотку, он жил далеко от культурных и методических центров, что это была чуть ли не первая попытка дать действительно украинский букварь, что работа над учебниками вовсе не была его постоянной работой, что, издавая грамотку (1907 г.), он уже давно (с 1893 г.) отошел от практической и методической работы в школе» и др. К тому же, указывал Дурдукивский, «„Граматка“ Гринченко имеет и много положительного» (как пример такого «положительного» он подчеркивал, что в учебнике отсутствует проповедь православного вероисповедания) {63}. Стоило ли обижаться на «царский режим», отказывавшийся использовать в системе образования такую макулатуру?
Как видим, утверждения о притеснении украинского слова «несколько преувеличены». Фактически таких притеснений не было. Были преследования политиков, пытавшихся использовать искусственно создаваемый украинский язык для борьбы с государством. И это прекрасно сознавали сами политики. «Так завелось с 1863 г. в России, что по-украински можно было печатать стихи, поэмы, повести, да хоть бы философию Гегеля переводить на украинский язык. Только того, что было бы правдивой пищей для народа, нельзя стало печатать» {64},— писал М. П. Драгоманов. Революционер-демократ и по совместительству деятельный украинофил, Драгоманов «правдивой пищей для народа» считал направленные против религии и самодержавия брошюрки, которые действительно запрещали и за распространение которых наказывали. Но к культуре это отношения не имело.
Тех же, кто не занимался революционной пропагандой, репрессии не касались. «Из всех либеральничавших в России кружков и направлений никто менее не был „мучим“, как украинофилы, и никто так ловко не устраивался на доходные места, как они»,— признавал тот же М. П. Драгоманов и продолжал: «Из „мучимых“ теперь украинофилов я никого не знаю, кроме Ефименко, который сидит в ссылке в Холмогорах Архангельской губернии, но он был выслан за участие в революционном кружке харьковцев, более герценовском, чем украинофильском, и сидит долго в Холмогорах за взятый им псевдоним — Царедавенко» {65}. Касаясь же жалоб украинофилов на мифические «преграды», якобы сооружаемые властями на пути их «культурнической» деятельности, Драгоманов с иронией замечал, что если внимать этим жалобам, то «придется считать великим препятствием для украинофильства то, что за него не дают звезд и крестов» {66}.
Другой ярый украинофил, поэт Я. И. Щёголев, особенно много потрудившийся на ниве сочинения особого украинского языка и хваставшийся тем, что «двинул язык вперед и русским уже непонятен» {67}, в письме к молодой девушке, спрашивавшей у него совета в своих литературных занятиях, указывал: «Беда была бы в том, если бы вы попали в крокодиловы руки тех народников, которые в мутной воде рыбу ловят, которые бессердечно погубили немало нашей молодежи. Перестаньте мордовать себя мыслями, что народ на Украине задушен, замучен, что всюду угнетение, нищета, бедность и прочие ужасные вещи». Как отмечал Я. И. Щёголев, малорус «имеет равные права со всеми русскими подданными, когда ж забито украинское слово, то виноваты тут сами украинофилы, ибо слишком ревностно забегают вперед не по очереди» {68} (т. е. поднимают политические лозунги преждевременно, когда почва для них еще не подготовлена «культурной» работой).
И даже видный украинизатор 1920-х годов историк М. И. Яворский признавал: «Акт от 18 июля 1863 г. был реакцией не так против украинского языка, как против использования его в качестве средства революционной пропаганды, которая тогда проводилась хлопоманами. Только с этой стороны и были мотивы акта Валуева» {69}.
Кроме того, известно, что валуевский циркуляр открыто поддержал крупнейший на то время украинский писатель А. П. Стороженко. Вряд ли он стал бы это делать, если б запрет был направлен против литературы (представителем которой Стороженко являлся), а не против политики.
Вероятно, будет уместно привести и упоминание о «преследовании украинства», содержащееся в мемуарах М. С. Грушевского. В 1876 г., как раз через несколько недель после Эмского указа, он приехал с родителями на Украину. О новом запрете уже было известно (не опубликованный в печати, текст указа был разослан по всем инстанциям и быстро стал достоянием гласности). Грушевский пребывал еще в совсем юном возрасте, но, по собственному признанию, «тогда уже имел ухо достаточно настроенное на все украинское и видел людей, которые любили свою украинскую стихию». Тем не менее, он так и не услышал, чтобы кто-то возмущался «варварским запретом». Как ни в чем ни бывало, люди собирались, пели народные песни, обсуждали новости, в том числе и политические, но никто не выглядел угнетенным. «Я не припоминаю себе, что б кто-нибудь говорил про какое-то ошеломление от этого удара. Вспоминали разные курьезы, на которые приходилось пускаться, обходя запреты, но долгими и фатальными их, кажется, никто не считал». М. С. Грушевский объяснял это тем, что «люди редко оценивают или даже чувствуют правильно то, что происходит перед ними», а также тем, что это были обычные люди («обыватели»), пусть и любящие Украину, но далекие от политики {70}.
Позднее Михаил Сергеевич пообщался и с представителями украинских политических кружков, много узнал об их тогдашней работе, планах, направленных на отрыв Украины от Великороссии, и (об этом он тоже напишет в своих воспоминаниях) признал, что все эти планы и «тактические линии» были «разбиты и спутаны зловещим указом 1876 года» {71}. Так были ли оправданы валуевский циркуляр и Эмский указ с точки зрения государственных интересов, а не интересов политиканствующих демагогов? Вопрос, думается, риторический.
«Поднимать малорусский язык до уровня образованного, литературного в высшем смысле, пригодного для всех отраслей знания и для описания человеческих обществ в высшем развитии — была мысль соблазнительная, но ее несостоятельность высказалась с первого взгляда,— констатировал Н. И. Костомаров.— Язык может развиваться с развитием самого того общества, которое на нем говорит; но развивающегося общества, говорящего малороссийским языком, не существовало; те немногие, в сравнении со всею массою образованного класса, которые, ставши на степень, высшую по развитию от простого народа, любили малорусский язык и употребляли его из любви, те уже усвоили себе общий русский язык: он для них был родной; они привыкли к нему более, чем к малорусскому, и как по причине большего своего знакомства с ним, так и по причине большей развитости русского языка перед малорусским, удобнее общались [3] с первым, чем с последним. Таким образом, в желании поднять малорусский язык к уровню образованных литературных языков было много искусственного. Кроме того, сознавалось, что общерусский язык никак не исключительно великорусский, а в равной степени и малорусский… При таком готовом языке, творя для себя же другой, пришлось бы создать язык непременно искусственный, потому что, за неимением слов и оборотов в области знаний и житейском быту, пришлось бы их выдумывать и вводить предумышленно» {72}.
«На наш взгляд, в школе и учебной литературе почти нет места малорусскому наречию, и народ сам, становясь грамотным, чувствует инстинктивное влечение к усвоению общерусского литературного языка и нередко интересуется более произведениями на последнем, чем малорусскими книжками» {73},— вторил Костомарову известный украинский литературовед и языковед Н. П. Дашкевич.
Многим ли отличаются эти мнения знаменитых ученых-украинцев, которых невозможно заподозрить в желании притеснить язык и культуру своего народа, от точки зрения, высказанной в циркуляре Валуева и подкрепленной Эмским указом? Очевидно, что распространенность на Украине русского литературного языка и нераспространенность сочиненного по инициативе польских деятелей «украинского литературного языка» объяснялась вполне естественными причинами, а не какими-либо запретами и преследованиями. Малорусскую литературу никто не запрещал. Произведения украинских писателей, не только представителей российской Украины (Тараса Шевченко, Марка Вовчка, Панаса Мирного, Ивана Нечуя-Левицкого и других), но и галичан (Ивана Франка, Юрия Федьковича) печатались и распространялись и в Малороссии, и в Великороссии. Видный участник украинофильского движения Д. И. Дорошенко, составивший библиографический указатель произведений «народной украинской литературы», изданных в 1894—1904 годах (когда еще действовали положения Эмского указа), признавал, что в этот период «вышло довольно значительное количество украинских книг» {74}.
Другое дело, что авторы таких книг, пропагандируя украинский язык, сами оставались русскоязычными. Невероятно, но факт: русский язык был родным для большинства украинских писателей дореволюционной поры от Ивана Котляревского до Панаса Мирного. (Сомневающиеся могут открыть хотя бы собрание сочинений того же Панаса Мирного и посмотреть, на каком языке переписывался он со своими детьми. Или почитать опубликованные черновики писателя, чтобы убедиться, на каком языке составлял он планы своих украиноязычных произведений {75}.) И известный украинофил поэт Павло Грабовский имел все основания написать Ивану Франко: «У нас по Украине много таких, которые пишут по-украински, а говорят по-московски» {76}. Грабовский спрашивал, так ли обстоит дело в Галиции? А в Галиции с языком была особая история.
Глава 3. Птенцы «гнезда» Франца-Иосифа
Сегодня трудно представить, что еще в конце XIX — начале XX веков коренное население западноукраинских земель (Галиции, Буковины, Закарпатья), находившихся тогда в составе Австро-Венгрии, в национальном отношении не отделяло себя от великороссов и признавало родным русский язык. На русском языке творили местные писатели, выходили газеты, издавались книги. «Русский литературный язык различается от нашего галицко-русского наречия (говора) единственно немногими меньше понятными словами и иным выговором где-яких букв…— отмечалось в галицких учебниках грамматики.— Но мимо тех различий народ на всем том неизмеримом пространстве (речь шла о территории от Карпат до Камчатки.— Авт.)… говорит одним и тем же русским языком, лишь одни с одним выговором, а другие — с другим» {77}.
Все это очень тревожило австрийское правительство, не без оснований опасавшегося, что языковая близость восточных провинций Австрийской империи с Россией в конце концов приведет к их воссоединению. Еще в начале XIX века, когда львовский митрополит обратился к властям с просьбой разрешить преподавать в народных школах для галицко-русского населения на местном наречии (а не на польском языке), галицкий губернатор Гауер ответил, что такая мера нежелательна по «политическим причинам», поскольку народные говоры галичан являются «разновидностью русского языка» {78}. В том же духе высказался позднее наместник австрийского императора в Галиции граф Голуховский (поляк по национальности). Он заявил, что введение в галицкие школы народного языка будет стимулировать интерес учащихся к произведениям русской литературы, усилит тяготение населения к России, даст «лозунг к русификации края» и, в конце концов, приведет к воссоединению галицких земель с Россией {79}.
Австрийское правительство всячески препятствовало распространению в стране книг на русском языке. В 1822 году был даже запрещен их ввоз из России (за 54 года до того, как Эмский указ запретил ввоз книг из Австрии в Россию), что, однако, не считается сегодня притеснением украинской культуры. Когда в 1837 году М. С. Шашкевич, Я. Ф. Головацкий, И. М. Вагилевич выпустили знаменитый впоследствии сборник «Русалка Днестровая», власти конфисковали весь его тираж (кроме нескольких десятков экземпляров, которые удалось спрятать), а издателей обвинили в русофильстве. (Нынешние «национально сознательные» авторы старательно пытаются записать Шашкевича, Головацкого и Вагилевича в активисты украинского движения и также старательно умалчивают о русской позиции этих деятелей, которая, однако, была столь очевидной, что современники даже называли их «николаевцами», сторонниками российского императора Николая I.) Точно так же попал под подозрение австрийских властей и первый галицкий историк Д. И. Зубрицкий, еще в 1830 году опубликовавший во Львове оду Гавриила Державина «Бог» и заявивший, что язык Державина и есть тот самый литературный язык, на который стоит равняться галичанам. Одним словом, вся австрийская политика была направлена на то, чтобы заставить жителей Галицкой, Буковинской, Угорской Руси (Угорской Русью называлось Закарпатье) забыть о своем русском происхождении. Так продолжалось до 1848 года.
Вспыхнувшая в этом году революция смела запретительные барьеры и способствовала национальному возрождению всех населявших Австрийскую империю народов. Затронул этот процесс и Галицию. Но если активизация здесь польского национального движения вылилась в революционные выступления против австрийцев, то русские галичане, отчасти потому, что были проникнуты консервативными настроениями, отчасти из-за нежелания поддерживать поляков, в волнениях не участвовали.
Это обстоятельство натолкнуло правительственных чиновников на мысль использовать русско-польские противоречия в своих целях. Глава австрийской администрации в Галиции граф Ф. С. Стадион фон Вартгаузен вызвал к себе представителей русского движения и заявил им, что если галичане будут по-прежнему считать себя одной нацией с великороссами, то властям не останется ничего другого, кроме как договориться с поляками и вместе бороться с русскими. Однако в случае согласия галицко-русского населения объявить себя самостоятельной национальностью оно может рассчитывать на помощь Вены и лично его, графа Стадиона.
В тогдашних условиях у галичан не было выбора. Появилось на свет заявление: «Мы — не русские, мы — рутены», провозглашавшее существование отдельной «рутенской» народности (наименование «украинцы» было пущено в ход позднее). Помимо чисто политических обещаний верности австрийскому императорскому дому, представители русских галичан брали на себя обязательство вырабатывать самостоятельный литературный язык, отличный от принятого в России. Со своей стороны, власти поддерживали «рутенов», используя их против поляков. При этом некоторое время Вена колебалась между двумя вариантами: создавать из галичан совершенно независимую народность или признать их национальное единство с русскими малороссами и «творить» малорусскую нацию. Остановились на втором варианте, который, по мнению венских стратегов, позволял не только защититься от русской угрозы в Галиции, но и, при благоприятном стечении обстоятельств, присоединить к Австрии часть российской Малороссии. Однако жизнь очень скоро разрушила теоретические построения австрийских политиков. В 1849 году само существование Австрийской империи оказалось под угрозой из-за венгерской революции. Потерпев поражение в битвах с восставшими, австрийцы вынуждены были обратиться за помощью к России.
Николай I двинул армию против революционеров. Пути русских войск пролегали через Галицию и Закарпатье, где они были восторженно встречены населением. «Чем глубже проникали мы в Галицию, тем радушнее встречали прием не только от крестьян, но и со стороны интеллигенции…— вспоминал участник похода П. В. Алабин.— Нас ждала, нами восхищалась, нами гордилась, торжествовала и ликовала при нашем вступлении в Галицию партия русинов, составляющих три части всего населения Галиции». П. Алабин свидетельствовал, что, несмотря на то, что в говоре галичан ощущались польские языковые влияния, русские солдаты и местные жители хорошо понимали друг друга. «Русский народ в Галиции все время польского над ним владычества хранил неприкосновенно свои обычаи, свой русский язык, конечно, несколько в искаженном виде (на котором теперь пишутся, однако, стихи, песни, значительные литературные произведения, учебники, даже издается газета „Зоря Галицка“), но религия его предков исказилась унией. Впрочем, униатские ксендзы русинов, может быть, разделяя сочувствие к нам своей паствы, по-видимому, искренно нам преданы. Многие из них приходили поближе познакомиться с нами, откровенно нам высказывая, что они гордятся нами, как своими братьями, перед немцами и поляками и сопровождали нас приветами и благословениями» {80}.
О том же писал крупнейший закарпатский краевед П. Сова, который отмечал, что обстановка вокруг русской армии в Закарпатье была такова, что «многие солдаты были даже убеждены, что они находятся еще в России, и спрашивали, где ж будет, наконец, земля неприятельская, мадьярская» {81}. Национальное единство галичан и угрорусов с остальными частями русского народа было наглядно продемонстрировано еще раз. Многие жители Галиции, Закарпатья и Буковины надеялись, что Россия использует благоприятный момент и включит в свой состав эти земли. Но император Николай I, выполняя свои обещания, не стал покушаться на владения австрийского монарха Франца-Иосифа. Подавив революцию, русские войска покинули территорию соседнего государства.
Тем не менее, русское (именно русское, а не «рутенское» или «украинское») возрождение продолжалось. Особенно заметно это было в литературной жизни. «Едва начала Русь в Австрии возрождаться, оказалось, что ее литература не ступит ни шагу без словаря Шмидта (русско-немецкий словарь.— Авт.), что этот словарь русский как для Львова, так и Петербурга, что в нем собраны сокровища действительно литературного, письменного языка» {82},— отмечала галицкая пресса.
Вена терпела происходящее несколько лет. Власти даже стали издавать в Галиции печатный орган «Вестник краевого правительства», где рядом с текстом указов и распоряжений на государственном немецком языке для местного населения публиковался их перевод на народный язык, близкий к русскому литературному. Но стоило России в 1854 году подвергнуться соединенной англо-франко-турецкой агрессии, поведение Австрии резко переменилось.
Даже закоренелые русофобы были удивлены черной неблагодарностью, проявленной императором Францем-Иосифом по отношению к стране, только что спасшей его от революции. Австрийская армия была направлена к границам России, а Петербургу предъявлен ультиматум: уступить требованиям интервентов. (Позиция Австрии сыграла решающую роль в неблагоприятном для Российской империи исходе Крымской войны.)
Резко изменилась и национальная политика. Стали закрываться русскоязычные газеты. На галицко-русских общественных деятелей оказывалось давление. Их вновь пытались заставить отказаться от единства с Россией, изменить свой язык, сделав его непохожим на русский, упрекали в нарушении обещаний 1848 года. «Рутены не сделали, к сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского, так что приходится правительству взять на себя инициативу в этом отношении» {83},— заявил наместник Франца-Иосифа в Галиции А. Голуховский.
Галичане оправдывались, объясняли сложившуюся языковую ситуацию объективной реальностью. «Что наш язык похож на употребляемый в Москве, в том мы не винны,— говорил на заседании галицкого сейма выдающийся писатель и общественный деятель священник Иоанн Наумович.— Похожесть нашего языка с московским очевидна, потому что они оба опираются на общие основания и правила». И. Г. Наумович напоминал, какой огромный вклад в разработку русского литературного языка внесли малорусы, и пояснял, что, принимая этот язык, «мы берем назад свою собственность. Похожесть нашего языка с языком всей Руси не уничтожит никто в мире — ни законы, ни сеймы, ни министры» {84}.
Также и профессор Львовского университета, возглавлявший там кафедру малорусской литературы, бывший издатель «Русалки Днестровой» Я. Ф. Головацкий указывал: «Галицкие русины не пишут, да и не могут писать по-великорусски по той естественной причине, что не знают великорусского языка (т. е. народного наречия Великороссии.— Авт.) и не имеют возможности изучить его. Русины пишут таким языком, какой они успели выработать, приняв в основу свой народный язык и язык книжный русский, признавая этот последний языком не московским, а общерусским. Русины того мнения, что русский книжный язык возник в Южной Руси и только усовершенствован великорусами» {85}. Того же мнения придерживались и другие галицкие ученые, писатели, журналисты, общественные деятели (Н. Л. Устиянович, Б. А. Дедицкий, А. С. Петрушевич и др.) «Литературный русский язык должен быть один,— утверждал, например, редактор львовской газеты «Слово» В. Площанский.— …Что Русь делится на части, еще ничего не значит,— она всегда составляет одну целость, как Великая и Малая Польша составляют одну Польшу с одним литературным языком» {86}.
Но в Вене не желали слушать аргументы и объяснения. Выискав среди галичан нескольких морально нечистоплотных субъектов, соблазнившихся денежными подачками и обещаниями быстрой карьеры, власти принялись спешным образом создавать «рутенское» движение (австрийскую разновидность украинофильства), которое приняло название «молодой Руси». В противовес старорусской партии, исповедовавшей «старые» взгляды о национальном единстве малороссов, великороссов и белорусов, «молодые» признавали свое родство лишь с российскими малороссами и силились отмежеваться от остальных ветвей русской нации. С этой целью они провозгласили строительство самостоятельной малорусской литературы и языка.
Новое движение сразу же получило мощную поддержку правительства. В то время как «старорусов» подвергали всевозможным преследованиям, деятельность «молодых» протекала в атмосфере наибольшего благоприятствования. О них заботились, их щедро финансировали и, главное, натравливали на местных «кацапов», «москалей», «предателей» (как обзывала сторонников национального единства с Россией правительственная пропаганда). «Пустить русина на русина, дабы они сами себя истребили» {87},— так в узком кругу формулировал эту политику граф Голуховский.
Но как ни старались «молодые рутены» приобрести влияние среди местного населения, как ни помогали им в этом представители властей, все попытки заканчивались провалом. Галичане, за очень небольшим исключением, оставались русскими и подчеркивали это при каждом удобном случае. Например, когда после разгрома в России польского восстания 1863 года галицкие поляки объявили траур по погибшим повстанцам, галицко-русское население Тернополя устроило грандиозный «русский бал» в честь победы, что до крайности обострило отношения между русскими и польскими жителями города.
«Трехмиллионный народ наш русский, под скипетром австрийским живущий, есть одною только частью одного и того же народа русского, мало-, бело- и великорусского» {88},— говорилось в принятой в марте 1871 года программе «Русской Рады» — организации, представлявшей тогда интересы всего галицко-русского населения (лишь в 1885 году галицкие украинофилы образовали отдельную «Народну Раду»).
Убедившись в бессилии «молодых», Вена обратилась за помощью к деятелям польского движения. Справедливости ради надо сказать, что поляки (успевшие после революции 1848 года помириться с властью) восприняли рутенскую затею без энтузиазма. Они хотели видеть Галицию исключительно польской, и если русское движение вызывало у них ненависть, то рутенское (украинское) — насмешку («рутенская национальность» была для них выдумкой графа Стадиона и ничем больше). «О, как могущественны были бы государства, если бы министерскими декретами можно было высиживать народы, как курица высиживает цыплят,— упражнялся в остроумии на заседании галицкого сейма польский депутат Лешек Борковский.— Тогда можно бы указом сотворить национальность перемышльскую, тернопольскую, бережанскую и т. д.» {89}.
Лишь вмешательство польских эмигрантов из России побудило галицких поляков принять участие в австрийских замыслах. Специально прибывший в Галицию из Парижа один из лидеров польского движения Генрих Яблонский (уроженец российской Малороссии) объяснил местным соратникам выгоду, которую можно извлечь из создания «рутенской нации». По его словам, вместо насмешек над «рутенами», следует «прививать у них сознание национальной отдельности от великороссов для солидарной деятельности против России» {90}.
Уже в XX веке, после восстановления независимой Польши, об этом же напишет другой известный польский деятель, соратник Ю. Пилсудского В. Бончковский. Он заявлял, что для поляков не имеет значения, действительно ли существует отдельная украинская народность или это только этнографическая разновидность русской нации: «Если бы не существовал украинский народ, а только этнографическая масса, то следовало бы помочь ей в достижении национального сознания. Для чего и почему? Потому, чтобы на востоке не иметь дела с 90 млн. великороссов плюс 40 млн. малороссов, неразделенных между собой, единых национально» {91}.
Поляки взялись за «розбудову» малорусской (украинской, рутенской) нации и прежде всего, за создание «самостийного» украинского языка. «Все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксендзы стали заниматься по преимуществу филологией, не мазурской или польской, нет, но исключительно нашей, русской, чтобы при содействии русских изменников создать новый русско-польский язык» {92},— вспоминал крупнейший общественный деятель Угорской Руси А. И. Добрянский.
Начали с правописания. Поначалу просто хотели перевести всю письменность в Галиции, Буковине и Закарпатье на латинский алфавит. Но массовые протесты населения и сознание, что все-таки нужно создавать самостоятельный язык, а не сливать местные наречия с языком польским, заставили отказаться от таких намерений. Тогда взялись за «реформирование» грамматики. Из алфавита были изгнаны буквы «ы», «э», «ъ», введены буквы «є» и «ї», а чтобы население признало перемены, измененный алфавит приказом сверху завели в школах. Целесообразность этой азбучной «реформы» мотивировалась тем, что подданным австрийского императора «и лучше, и безопаснее не пользоваться тем самым правописанием, какое принято в России» {93}.
Интересно, что против «реформаторов» выступил сам изобретатель самостийного правописания П. А. Кулиш, чье изобретение (правда, в несколько модернизированном виде) теперь активно использовалось в Галиции. «Клянусь,— писал Пантелеймон Александрович галицкому украинофилу О. Партицкому,— что если ляхи будут печатать моим правописанием в ознаменование нашего раздора с Великой Русью, если наше фонетическое правописание будет выставляться не как подмога народу к просвещению, а как знамя нашей русской розни, то я, писавши по своему, по-украински, буду печатать этимологической старосветской орфографией. То есть — мы себе дома живем, разговариваем и песни поем не одинаково, а если до чего дойдет, то разделять себя никому не позволим. Разделяла нас лихая судьба долго, и продвигались мы к единству русскому кровавой дорогой и уж теперь бесполезны лядские попытки нас разлучить» {94}.
Однако мнение прозревшего Кулиша поляков уже не интересовало. «Реформа» продолжалась. Вслед за правописанием настал черед лексики. Из литературы и словарей изгонялось все, что хоть отдаленно напоминало русский язык. Образовавшиеся пустоты заполнялись заимствованиями из польского, немецкого и других языков или просто выдуманными словами. «Большая часть слов, оборотов и форм из прежнего австро-рутенского периода оказалась „московскою“ и должна была уступить место словам новым, будто бы менее вредным,— рассказывал о том времени один из бывших украинофилов.— „Направление“ — вот слово московское, не может дальше употребляться — говорили „молодым“, и те сейчас ставят слово „напрям“. „Современный“ — также слово московское и уступает место слову „сучасный“, „исключительно“ заменяется словом „выключно“, „просветительный“ — словом „просвітний“, „общество“ — словом „товариство“ или „суспільство“…» {95}
Усердие, с каким подстрекаемые властью украинофилы отрекались от слов родного языка, вызывало удивление ученых-филологов, причем не только русских. «Галицкие украинцы не хотят принять в соображение, что никто из малороссов не имеет права древнее словесное достояние, на которое в одинаковой мере Киев и Москва имеют притязание, легкомысленно оставлять и заменять полонизмами или просто вымышленными словами,— писал профессор славистики Берлинского университета А. Брикнер (поляк по национальности).— Я не могу понять, для чего в Галичине несколько лет назад анафемизировано слово „господин“ и вместо него употребляется слово „добродій“. „Добродій“ — остаток патриархально-рабских отношений, и мы его не выносим даже в польщизне» {96}.
Но причины языковых перемен нужно было, конечно, искать не в филологии, а в политике. (Надо сказать, что «изобретение» отдельного «украинского языка» вовсе не было чем-то из ряда вон выходящим. Когда немцы принялись германизировать захваченную ими Силезию, они начали с гонений на польский литературный язык и с создания на основе местных народных говоров отдельного «силезского языка». Точно также, после захвата Австро-Венгрией Боснии, австрийские правящие круги пытались отделить в национальном отношении боснийских сербов от сербов в самой Сербии и стимулировали создание «боснийского языка», отдельного от сербского. Украинский языковой проект не был ни первым, ни последним, а только самым далеко зашедшим.)
Затронула языковая «реформа» и сферу управления. В 1891 году Краевый выдел (правление) Галиции, состоявший в основном из поляков, обратился со специальным меморандумом в министерство внутренних дел. В документе отмечалось, что издававшийся в Вене специально для Галиции «Вестник законов державных» и другие официальные публикации печатаются на «языке, составляющем смесь церковнославянского и великорусского языков». Чиновники указывали, что государственный интерес Австро-Венгрии «настоятельно требует очищения галицко-русского языка от великорусского влияния» и просили МВД «о скорейшем устранении доказанных несообразностей» {97}. Разумеется, «несообразности» были устранены.
Об изменениях в австрийской языковой политике наглядно можно было проследить на примере мемориальных досок на здании черновицкой ратуши. Если на водруженных в 1873 и 1888 гг. (соответственно в ознаменование 25-летия и 40-летия со дня восшествия на престол Франца-Иосифа) мемориальных досках надписи были сделаны на немецком, румынском и русском языках, то на третьей доске, водруженной в 1898 г. (на 50-летие), место русского языка занял украинский {98}.
В сфере образования в Галиции непосредственно за «чисткой» языка надзирал польский деятель Ян Добжанский, обращавший особое внимание на школьные учебники. Он проявил чрезвычайное усердие, и после тотальной проверки всех учебных книг все еще не мог успокоиться, ему продолжало казаться, что «в учебниках школьных остались «москвитизмы» {99}. Напрасно конференции народных учителей, состоявшиеся в августе и сентябре 1896 года в Перемышлянах и Глинянах, отмечали, что после массовых замен одних слов другими и «реформы правописания» школьные учебники стали непонятны не только для учащихся, но и для учащих. Напрасно заявляли они, что теперь «необходимо издание для учителей объяснительного словаря» {100}. Польские реформаторы галицко-русского наречия были непреклонны. Недовольных учителей увольняли из школ. Чиновников, указывающих на абсурдность «перемен», смещали с должностей. Писателей и журналистов, упорно придерживающихся «дореформенного» правописания и лексики, объявляют «москалями» и подвергают травле. «Наш язык идет на польское решето,— замечал И. Г. Наумович.— Здоровое зерно отделяется как московщина, а высевки оставляются нам по милости» {101}.
В этом отношении интересно сопоставить первые и последующие издания сочинений Ивана Франко. Многие слова из произведений писателя, изданных в 1870—1880—е годы: «взгляд», «воздух», «войско», «вчера», «жалоба», «много», «невольник», «но», «образование», «ожидала», «осторожно», «переводить», «писатель», «сейчас», «слеза», «случай», «старушка», «угнетенный», «узел», «хоть», «читатели», «чувство» и многие другие в позднейших изданиях оказались замененными на «погляд», «повітря», «військо», «вчора», «скарга», «багато», «невільник», «але», «освіта», «чекала», «обережно», «перекладати», «письменник», «зараз», «сльоза», «випадок», «бабуся», «пригноблений», «вузол», «хоч», «читачі», «почуття» и т. д. {102} «Франкознавцы» потом поясняли, что Иван Яковлевич сделал это для того, чтобы его произведения стали понятными не только в Галиции, но и по всей Украине. Вряд ли такое объяснение можно признать удовлетворительным. Если слова «писатель», «много», «угнетенный» и др. были понятны галичанам, то уж тем более понимали их на Востоке Украины.
Известно и другое. Молодой, еще не заполитизированный Франко писал тем языком, какой слышал в народе, и не отделял себя от русской (общерусской) культуры. Позже, увлекшись политикой, он поддержал создание нового языка и стал «чистить» свои сочинения от «устаревших» слов. Всего в 43 проанализированных специалистами произведениях, вышедших при жизни автора двумя и более изданиями, насчитали более 10 тыс. (!) изменений {103}. Причем не все они сделаны лично писателем. Иван Яковлевич не успевал уследить за всеми тонкостями австро-польской языковой политики и часто не знал, какое из народных слов еще можно считать родным, а какое уже объявлено «москализмом». Поэтому он вынужден был принимать «помощь» «национально сознательных» редакторов, которые, конечно, старались вовсю.
После смерти классика украинской литературы выпестованные польско-австрийской школой «мовознавцы» посчитали необходимым провести полную ревизию его творчества, чтобы «научно проверить и исправить язык и стилистику Франко» {104}, распространив «правки», сделанные в отдельных произведениях, на все им написанное.
История с И. Я. Франко неоригинальна. Филологи из «гнезда» Франца-Иосифа коверкали («исправляли») и сочинения других местных писателей, а затем занялись также творчеством литераторов из российской Украины, пишущих на малорусском наречии. «Коррекции» (часто даже без ведома авторов) подверглись изданные в Галиции произведения М. М. Коцюбинского, И. С. Нечуя-Левицкого, П. А. Кулиша, Леси Украинки, В. К. Винниченко и других. Постепенно новый язык стали экспортировать через границу в Киев, Чернигов, Харьков, знакомя тамошних украинофилов с галицкими языковыми «реформами». Когда же в 1905 году в Российской империи отменили действие Эмского указа, австро-польские филологи сочли, что настал момент для настоящего «крестового похода» против русского языка в Украине. Тем более что в самой России определенные силы обещали поддержку осуществлению этих планов. Во главе похода встал львовский профессор Михаил Грушевский, командированный в свое время в Галицию российскими украинофилами для координации действий с «молодыми» рутенами. Теперь профессор собрался вернуться назад на белом коне.
Глава 4. «Чертовщина под украинским соусом»
Затрагивая вопрос об украинском языке, современные борцы за «права рідної мови» часто ссылаются на записку «Об отмене стеснений малорусского печатного слова», составленную в 1905 году от имени Российской Императорской академии наук. Дескать, вот какое солидное учреждение признало самостоятельность малорусского языка! Между тем, к науке вообще и к Российской академии наук в частности эта записка имеет весьма отдаленное отношение. Комиссия, действительно созданная на академической конференции для рассмотрения вопроса о малорусском слове, фактически к работе не приступала. Из семи ее членов четверо — зоолог В. В. Заленский, археолог А. С. Лаппо-Данилевский, ориенталист С. Ф. Ольденбург и ботаник А. С. Фаминцын как не специалисты в области славянской филологии самоустранились от работы. Не принимал участия в деятельности комиссии и пятый академик — Ф. Ф. Фортунатов, хотя его специализация соответствовала рассматриваемому вопросу. Заинтересованность проявили только двое — Ф. Е. Корш и А. А. Шахматов, известные привычкой подгонять результаты научных исследований под заранее определенные политические цели. Для подмоги себе вышеуказанные деятели выписали (уже без конференции Академии наук) группу украинофилов — А. И. Лотоцкого, П. Я. Стебницкого, М. А. Славинского и других. Эта-то компания и состряпала соответствующую записку, переполненную, как установили потом объективные исследователи, подтасовками и передергиванием фактов {105}.
Остальные же члены комиссии, будучи людьми либеральных взглядов и выступая против стеснений печатного слова в принципе (все равно — украинского, общерусского или любого другого), подписали предложенный им текст, не вникая в подробности. Так потуги кучки политиканов, большинство из которых ничего общего с академической наукой не имело, были выданы (и выдаются до сих пор) за официальное научное мнение. (Попутно заметим, что к тому времени сама Академия наук давно уже не была чисто научным учреждением. В немалой степени она превратилась в центр либерального движения и политические соображения там часто доминировали над интересами науки. Достаточно вспомнить неизбрание в академики великого ученого, но «реакционера», монархиста по убеждениям Д. И. Менделеева или избрание в «почетные академики» безусловно талантливого, но все же необразованного Максима Горького.)
Конечно, не «Записка Академии наук», тенденциозность которой бросалась в глаза, определила судьбу малорусского книгопечатания. Решение о снятии прежних ограничений было принято еще до ее составления, и к академикам обратились лишь для того, чтобы подкрепить это решение научными аргументами. С таковой задачей авторы записки не справились. Министр народного просвещения В. Г. Глазов в специальном меморандуме отметил слабость «академической» аргументации, неубедительность и даже ошибочность многих положений «мнения Академии наук». Указывал он и на необоснованность утверждения составителей записки о возможности «поднять умственный горизонт малорусских крестьян новым литературным языком». «Мы видим,— констатировал министр,— что в Галиции этот подъем проявился на развалинах русской церкви, русской школы и русской народности с пользой только для ультрамонтанства, социал-демократии и атеизма. Не грозит ли и нам то же самое, хотя и в иной, быть может, форме? Нелишне при этом отметить, что крестьяне немецкие, французские и английские, насколько известно, развиваются путем школы и популярной литературы на языках общих — немецком, французском, английском, а не на диалектах Швабии, Прованса, Уэльса».
Как отмечал Глазов, «малороссийский язык как язык народа вполне удовлетворяет его несложные потребности; он превосходен в поэзии, воспевающей природу и общечеловеческие чувства, но он вовсе не пригоден, точнее говоря — беден для современного образованного общества». Поэтому «искусственное развитие украинско-русского языка под немецко-польско-интернациональным воздействием» в Галиции, попытка превратить народные говоры в язык культуры и образования «влечет к необходимости заимствований из других языков — польского или немецкого, или заставляет некоторых писателей изобретать слова, результатом чего является „искусственность“ языка или такое разнообразие, при котором язык становится иногда неудобнопонятным».
Министр признавал, что распространяемый в Галиции язык, «искусственно создающийся в формах, тенденциозно удаляющихся от общерусского языка, является врагом последнего» и что «возникновение и распространение его не вызывается какими-либо естественными стремлениями и потребностями южнорусского населения» {106}. Тем не менее, он не видел ничего страшного в том, чтобы официально разрешить тем, кто этого хочет, издавать на таком языке не только художественную, но и научно-популярную литературу (на практике это уже осуществлялось), а также печатать газеты и журналы. Исходя из этого, Глазов предлагал отменить Эмский указ, что и было сделано.
Таким образом, на отмену ограничений малорусского печатного слова «Записка Академии наук» влияния не оказала. Ее значение состояло в другом. Сам факт появления такого документа показал кому следует в Вене, что внутри России есть на кого опереться, добавил уверенности в успехе языковым «крестоносцам».
С началом профинансированного австрийским правительством «крестового похода» (в 1906 году) в Киеве, Харькове, Полтаве, других городах Малороссии стали основываться «украиноязычные» газеты и издательства. Туда хлынул поток соответствующей литературы. Сотни пропагандистов «украинской национальной идеи» наводнили города и села.
Оправдались и ожидания на помощь изнутри. Подсчитав, что ослабление позиций русской культуры на Украине повлечет за собой ослабление позиций здесь государственной власти («царского режима»), российская оппозиция бурно приветствовала «крестоносцев» как «братьев по борьбе» и оказала им всяческое содействие. Трудности возникли с другой стороны.
Новый язык, с огромным количеством включенных в него польских, немецких и просто выдуманных слов, еще мог при поддержке властей кое-как существовать в Галиции, где малороссы долгое время жили бок о бок с поляками и немцами, под их управлением и понимали польскую и немецкую речь. В российской Украине дело обстояло иначе. На придуманную за границей «рідну мову» смотрели как на какую-то абракадабру. Печатавшиеся на ней книги и газеты местные жители не могли читать.
«В начале 1906 года почти в каждом большом городе Украины начали выходить под разными названиями газеты на украинском языке,— вспоминал один из наиболее деятельных «крестоносцев» Ю. Сирый (Тищенко).— К сожалению, большинство тех попыток и предприятий кончались полным разочарованием издателей, были ли то отдельные лица или коллективы, и издание, увидев свет, уже через несколько номеров, а то и после первого, кануло в Лету» {107}. Причина создавшегося положения заключалась в языке: «Помимо того маленького круга украинцев, которые умели читать и писать по-украински, для многомиллионного населения российской Украины появление украинской прессы с новым правописанием, с массой уже забытых или новых литературных слов и понятий и т. д. было чем-то не только новым, а и тяжелым, требующим тренировки и изучения» {108}.
Но «тренироваться» и изучать совершенно ненужный, чужой язык (пусть и называемый «рідной мовой») украинцы, естественно, не желали. В результате — периодические издания «крестоносцев» практически не имели читателей. Например, по данным того же Ю. Сирого, судя по всему — завышенным, даже «Рідний край», одна из самых распространенных украиноязычных газет, имела всего около двухсот подписчиков (в основном — самих же «крестоносцев»). «И это в то время, когда такие враждебные украинскому движению и интересам украинского народа русские газеты, как „Киевская мысль“, „Киевлянин“, „Южный край“ и т. д., выходившие в Украине, имели огромные десятки тысяч подписчиков, и это подписчиков — украинцев, а такие русские журналы дешевого качества, как „Родина“, „Нива“ и т. д., выходили миллионами экземпляров и имели в Украине сотни тысяч подписчиков» {109}.
«Украинские периодические издания таяли как воск на солнце»,— вспоминал другой «крестоносец» — М. М. Еремеев (впоследствии — секретарь Центральной Рады) и рассказывал, как «один остроумный киевлянин напечатал на своей визитной карточке вместо специальности или титула — „подписчик "Рады"“ («Рада» — украиноязычная газета.— Авт.), что было значительно более редким явлением, чем университетские или докторские дипломы» {110}. Один из немногочисленных читателей украиноязычной прессы в письме в газету «Громадська думка» выражал благодарность газетчикам за то, что «хлопочутся о нас и трудятся, чтобы мы имели свой родной язык на Украине», но тут же сокрушался: «Лишь жалко, что бедные люди моего села не хотят и знать о таких газетах, как ваша и „Наша жизнь“ или другие прогрессивные газеты, они влюбились в „Свет“ и „Киевлянин“ и другие черносотенные» {111}. «Свои духовные потребности большинство украинцев удовлетворяет русской литературой,— жаловалась украиноязычная газета «Сніп».— Когда же спросишь: „Почему это вы читаете русскую? Разве ж на украинском языке нет журналов или газет соответствующей ценности?“, то услышишь такой ответ: „Я не привык читать по-украински“» {112}.
Не помогло ни разъяснение отдельных слов, ни регулярно публикующиеся в прессе указания, что букву «и» следует читать как «ы», букву «є» — как «йе», а «ї» — как «йі». Даже активисты украинофильского движения заявили, что не понимают такого языка и засыпали Грушевского просьбами вместе с газетами и книгами присылать словари. «То, что выдается теперь за малороссийский язык (новыми газетами), ни на что не похоже,— в раздражении писал украинской писательнице Ганне Барвинок известный литературный и театральный критик, щирый украинофил В. Д. Горленко.— Конечно, эти господа не виноваты, что нет слов для отвлеченных и новых понятий, но они виноваты, что берутся за создание языка, будучи глубоко бездарны. Я получаю полтавский „Рідний край“ и почти не могу его читать» {113}.
«Рождение украинской прессы после первой революции, рост политической сознательности — а по этой причине рост читательской массы — поставили перед современным литературным языком украинским требования, значительно превышающие его тогдашние ресурсы,— признавал позднее «сознательный украинец» Кость Довгань.— Это обусловило интенсивное развитие языка: создавались поспешно новые слова и обороты, еще больше заимствовалось их у соседних языков, более развитых,— и все это беспорядочно, по-кустарницки, без определенного руководства со стороны какого-нибудь учреждения научного. Обогащаясь таким способом, пренебрегая самыми элементарными законами фразеологии и синтаксиса украинского, украинский язык — книжный и газетный — часто-густо представлял собой печальную картину языковой мешанины, пеструю лексическую массу, чуждую органично и непонятную читателю-украинцу» {114}.
«Язык галицкий, как непонятный украинскому народу, не может иметь места ни в учреждениях, ни в школах на украинской территории,— вынуждены были занести в свою программу члены революционного Украинского республиканского союза «Вільна Україна».— УРС будет ратовать за свой родной язык — язык Шевченко, который должен получить самое свободное развитие, чтобы сделаться культурным языком, а до тех пор общегосударственным языком остается язык русский» {115}.
Непонятность для народа нового языка сознавал и такой ярый украинофил, как Н. Ф. Сумцов, хотя и склонен был винить в этом российское правительство. В записке, подготовленной возглавляемой Сумцовым специальной комиссией Харьковского университета (которая занималась вопросом «о малорусском слове» параллельно с комиссией Академии наук), признавалось, что «малорусский язык в лингвистическом отношении представляет наречие русского языка», и что раньше язык украинской литературы (проза Квитки, поэзия Шевченко) стоял «близко к русскому». Затем, по мнению Сумцова и его коллег, из-за запретов и гонений (имелся в виду Эмский указ) центр украинской литературной жизни переместился в Австро-Венгрию. В итоге «изгнанная в Галицию украинская литература неизбежно усвоила себе такие элементы сравнительно далеких галицко- и угорско-русских наречий, и подвергалась таким немецким и польским влияниям, которые внесли много новых слов, новых понятий, новых литературных оборотов и приемов, чуждых русской литературной речи». И теперь «коренные украинцы с грустью будут вспоминать об изящной простоте и чистоте языка Квитки и Шевченко, и долго еще сохранится память о тяжких судьбах прожитого сорокалетия» {116}.
Между тем, как известно, художественной литературы Эмский указ не касался. Причина непонятности «украинского языка» состояла в том, что он создавался не естественным путем, а, по признанию прекрасно информированного на сей счет М. П. Драгоманова, «в кабинете». «Если бы я не боялся наложить грубо палец на недавние факты, на живых и близких людей, я мог бы не мало рассказать фактов из недавней практики украинофильства, которую я видел во всей ее немощи и большой частью которой я и сам был,— вспоминал этот деятель.— Обходя такие факты, как то, что началом национального возрождения и пропаганды украинофильства было возбуждение расовых ненавистей (признаемся нелицемерно в этом хоть перед собой), я остановлюсь на таких фактах, как работа над словарем русско-малорусским» {117}. Как признавался Драгоманов, создание «украинского литературного языка» диктовалось не культурными потребностями народа, а политическими целями. Главная задача состояла в том, чтобы создать язык как можно более далекий от русского, чтобы ни у кого не возникло сомнения в самостоятельности новой мовы. «Для украинской литературы брались слова, формы и т. п. польские, славянские (т. е. церковнославянские.— Авт.), да и латинские, лишь бы только выработался самобытный язык». Упор делался на «оригинальность языка, а не на его понятность» {118}. И в Галицию основная «языкотворческая» работа была перенесена не из-за запретов, а потому, что такая работа могла быть выполнена только галицкими украинцами. «Что касается украинцев российских, то поскольку они издавна сжились с русской литературой и сами затянулись в работу в ней, то поэтому они имеют менее всего шансов выработать рядом с русской литературой свою» {119}.
Как видим, Н. Ф. Сумцов, обвиняя во всем правительственную политику «притеснений», мягко говоря, лукавил. Гораздо ближе подошел к истине украинофильский деятель, чье письмо опубликовал львовский журнал «Літературно-науковий вісник», главный на то время орган украинского движения. «Вы, русины,— отмечал автор письма,— думаете по-польски и переводите дословно свою мысль по-русински, и то не все слова переводите, а многое оставляете без перевода в польском первоисточнике, так точно мы думаем по-русски, а переводим дословно по-украински… Таким образом, вырабатывается двуязычие галицкое и украинское; вы мало понимаете наш язык, а мы — еще меньше того ваш» {120}.
Зачем людям, думающим по-польски или по-русски, искусственно создавать еще один язык? Такого вопроса в «национально сознательной» голове не возникало. Да и ответ на него пришлось бы искать за пределами литературы и языкознания — в большой политике, в которой одурманенные своими вождями рядовые приверженцы «украинской национальной идеи» не разбирались. Не разбирался в политике и украинский писатель Иван Семёнович Нечуй-Левицкий. Он просто говорил то, что думал. А потому решительно выступил против «крестоносцев» Грушевского.
Следует отметить, что И. С. Нечуй-Левицкий являлся убежденным приверженцем создания нового литературного языка, отличного от общерусского. Еще в 1891 году в статьях, опубликованных (под псевдонимом И. Баштовый) во львовской газете украинофильской ориентации «Діло», а затем изданных отдельной книгой, он обосновывал право украинцев на независимое от великороссов национальное, языковое, литературное развитие. Писатель указывал на примеры других стран Европы. По его мнению, в ходе своего исторического развития литературные языки европейских государств слишком оторвались от народных говоров, и теперь настало время на основании этих самых говоров создавать новые литературные языки. Так, «омертвелость языка Данте в современной Италии явилась причиной того, что начали выходить книжки на неаполитанском и венецианском народных языках, и эти книги на живых языках в Италии хорошо идут в общество, как раз вдвое лучше, чем писанные омертвелым книжным литературным итальянским языком. В Германии язык Лютера и книжный язык Лессинга уже устарел и далеко отошел от народного. И там выступили писатели с живым народным языком, с произведениями на народных языках» {121}. Точно также «возникла в Европе новая провансальская литература в южной Франции» {122}. И даже «в 1860-х годах в самой Великороссии была попытка обновить книжный великорусский язык» {123}. Правда, в Великороссии, замечал Иван Семёнович, эту попытку подняли на смех и она не удалась.
«Как видим, движение языковое и литературное началось не в одной Украине, а и в Великороссии и в Европе» {124},— подводил итог писатель и считал необходимым развивать народные украинские говоры, превращая их в литературный украинский язык. Этот язык со временем должен был вытеснить «устаревший» русский литературный язык, по примеру того, как на соответствующих территориях вытесняются («старый Нечуй» был в этом уверен) венецианским и неаполитанским языками — итальянский литературный язык, нижненемецкими народными языками — немецкий литературный язык, провансальским языком — французский литературный язык и т. д.
Стоит заметить, что на те же примеры, но делая прямо противоположные выводы, указывал и уже упоминавшийся крупный ученый, профессор Т. Д. Флоринский: «Рядом с общефранцузским литературным и образовательным языком, в Южной Франции употребляется провансальское наречие, имеющее свою литературу; рядом с общенемецким языком держится в живом употреблении и письменности нижне-немецкое наречие; общеитальянский литературный язык (основанный на тосканском наречии) не устраняет употребления в народных массах и простонародной литературе частных наречий — неаполитанского, сицилийского, венецианского и др. Но все эти областные диалекты указанных народов не заявляют ни малейшего стремления вступать в какое-либо соперничество с общими литературными и образованными языками и присваивать себе принадлежащие последним функции языков науки, школы, государственной и общественной жизни» {125}.
Но к мнению ученого с мировым именем украинофилы старались не прислушиваться. И. С. Нечуй-Левицкий трудился в соответствии со своими представлениями о развитии языков. Первоначально он ориентировался на языковой продукт, создаваемый в Галиции. «Выпишите „Діло“ да и читайте, чтобы приучиться к литературному украинскому языку,— советовал он в 1884 году молодому Михаилу Грушевскому.— Язык „Діла“ сначала покажется Вам немного странным, но все-таки это уже литературный» {126}.
Классик украинской литературы, насколько мог, помогал галицким украинофилам «очищать» язык от «русизмов». «В Вашей автобиографии, в 4 № „Зори“ («Зоря» — львовская украиноязычная газета.— Авт.), очень много великорусских (или, как у нас говорят, литературных — книжных слов),— делал он замечание известной галицкой писательнице Наталье Кобринской.— Может они в Галиции не бросаются в глаза, но у нас они очень заметны». Далее шло перечисление таких слов: «борьба», «взаимно», «движение», «двоякий», «личность», «не скриваючи», «объем», «объяснялись», «окружали», «переводить», «по поводу», «постепенно», «представила», «разговор», «способність», «условия», «чувство» и др., вместо которых, по мнению Нечуя-Левицкого, следовало бы употреблять: «боротьба», «обопільна», «рух», «подвійний», «особість», «не ховаючи», «обсяг», «вияснювались», «огортали», «перекладати», «з причини», «поступіново», «уявила», «розмова», «здатність», «умовини», «почування» и т. д. «Эти слова очень вредят чистоте Вашего языка» {127},— поучал он. (Между тем, не лишне задуматься, откуда эти русские слова взялись у галичан, да еще стали такими привычными, что «не бросаются в глаза». Ведь пресловутой «насильственной русификации» в Галиции не было.)
Точно так же, получив галицкое издание «украинского перевода» Библии, писатель шлет во Львов свои замечания: «В „Библию“ вставлено много великорусских слов» (далее вновь следует перечисление: «поступок», «просьба», «упрямо» и т. д., вместо «вчинок», «прохання», «уперто») {128}.
Не забывал И. С. Нечуй-Левицкий «исправлять» и собственные сочинения, издаваемые в Галиции. В этом случае он сам чутко прислушивался к указаниям галицких украинофилов, меняя «русизмы» на «правильные» слова. Переписка писателя дает множество примеров такой замены. Слова: «бистро» («быстро» — если писать это слово традиционным, а не новопридуманным правописанием), «восток», «голоса», «жизнь», «запад», «зонтик», «красавиця», «кухарка», «любимий», «молитвенник», «наготовивши», «ножницями», «облагородитися», «подбородок», «писатель», «пожар», «показалось», «покой», «похожий», «привикла», «пройдохи», «серьезна», «скучати», «славяне», «слідила», «стид», «уже», «ходили в церкву», «шептала», «язык» и т. д. заменялись на «швидко», «схід», «голоси», «життя», «захід», «парасолька», «красуня», «куховарка», «любий», «молитовник», «наготувавши», «ножицями», «зшляхетніти», «підборіддя», «письменник», «пожежа», «здалось», «спокій», «схожий», «звикла», «пройдисвіти», «поважна», «нудитись», «славяни», «слідкувала», «сором», «вже», «ходили до церкви», «шепотіла», «мова» и т. д. {129}
И. С. Нечуй-Левицкий даже благодарил галицких издателей за заботу о «чистоте» его языка. «Цензор пропустил для меня галицкое издание „Хмар“ и „Гуморесок“. Спасибо за то, что поисправляли некоторые неточности и такие слова, как „жизнь“ и т. д.» {130},— писал он еще в начале 1905 года тому же М. С. Грушевскому, давно уже перебравшемуся в Австро-Венгрию. Лишь иногда «старый Нечуй» не соглашался с галичанами и предлагал компромиссы. «…„Тісточка“ у нас никто не поймет. Напишите: „пирожні чи тісточка“. Будет и нашим, и вашим» {131},— обращался он, например, к редактору «Зори» В. Лукичу. А в уже цитировавшемся письме к Грушевскому сомневался в целесообразности употребления буквы «ї», тут же, правда, оговариваясь, что сомнения эти происходят, наверное, от того, что «я давно уже читал галицкие книжки и совсем отвык от нее» {132} (т. е. от этой буквы).
Однако время шло, и вскоре И. С. Нечуй-Левицкий с удивлением заметил, что языковых «исправлений» становится слишком много (особенно это стало очевидным с началом «крестового похода»). Получалась уже не чистка от «русизмов», а подмена всего языка. Писатель обратился к галичанам с просьбой не переусердствовать, но от него просто отмахнулись. «Я по опыту знаю, что народ читает слова „ии“ (йіі), „их“ (йіх) по великорусски, а слова с галицкими значками сверху опять-таки читает по-русски: „сим’и“, „на подвирр’и“ (сими, на подвирри),— жаловался Иван Семёнович украинофилу М. Ф. Комарову по поводу правописных нововведений (буквы «ї», апострофа и др.).— Значки эти ничего не говорят крестьянам, как и мне. Для народа не должно быть никаких ребусов в книжке. Все должно быть ясно и выразительно. Но наша спилка (украинофильское издательство.— Авт.) уперлась не отступать от галицкого правописания и ничего и слушать не хочет» {133}.
«У нас в Киеве г. Чикаленко тоже думает издавать украинскую газету,— сообщал «старый Нечуй» Панасу Мирному.— Но он ставит редактором Ефремова. А я уже хорошо знаю и Ефремова, и Гринченко, и Лотоцкого, которые заводят у нас правописание галицкое, а украинские народные формы решили выбросить — даже в книжках для народа, еще и напихают язык временами чисто польскими словами и падежами» {134}. «Везде лучшие авторы заводят правописание, а у нас это заводят теперь не украинские авторы, а галицкие газетки» {135},— писал он П. Я. Стебницкому. А в письме к М. М. Коцюбинскому отмечал: «Теперь наши газеты пишутся не украинским языком, а галицким. Получилось же, что эти газеты навредили нашей литературе, отбили и отклонили от наших газет и книжек широкую публику и даже ту, что читает и покупает украинские книжки. В редакцию „Громадськой думки“, наиболее обгаличаненной, шлют письма даже подписчики с укором: что это за язык? Читать и понимать нельзя!» {136}
Тем временем «крестовый поход» набирал темп. Масштабы языковых «исправлений» все увеличивались. Чтобы успокоить И. С. Нечуя-Левицкого, к нему лично явился глава языкового «воинства» М. С. Грушевский. Он объявил Ивану Семёновичу, что для создания нового литературного языка, полностью независимого от русского, просто необходимо множество новых слов и новое правописание, что нужно не спорить, а внедрять новшества в народ через книги, газеты, журналы. Как сообщил вождь «крестоносцев» писателю, большинство владельцев и редакторов украинских газет, журналов, книжных издательств, а также многие литературные деятели уже пришли к соглашению по этому поводу, поэтому Нечую-Левицкому следует присоединиться к ним и вместе бороться за насаждение нового языка, вытесняя тем самым язык русский.
Однако договориться не удалось. Потеряв надежду вразумить оппонентов не поднимая шума, классик украинской литературы выступил в печати. Сам не безгрешный по части выдумывания слов, «старый Нечуй» считал торопливость тут недопустимой, т. к. слишком большого количества нововведений народ «не переварит» {137}.
Писателя возмущало искусственное введение в оборот «крестоносцами» огромного числа польских и выдуманных слов, которыми заменялись народные слова. Так, вместо народного слова «держать» Грушевский и К° пропагандировали слово «тримати», вместо народного «ждать» — слово «чекати», вместо слова «поізд» — «потяг», вместо «предложили» — «пропонували», вместо «ярко» — «яскраво», вместо «кругом» — «навколо», вместо «обида» — «образа» и т. д. Известное еще из языка киевских средневековых ученых слово «учебник» австро-польские выкормыши заменили на «підручник», «ученик» — на «учень», «процент» на «відсоток», вместо «на углу» пишут «на розі» («и вышло так, что какие-то дома и улицы были с рогами, чего нигде на Украине я еще не видел» {138}), вместо «разница» вводят «різниця», вместо «процент» — «відсоток», вместо слишком уж похожего на русское «одежа» — «одяг», вместо «война», как говорит народ Украины, употребляют «війна», вместо «приданне» — «посаг» и т. д. {139} И. С. Нечуй-Левицкий пояснял, что в основе таких замен лежит желание сделать новый литературный язык как можно более далеким от русского. «Получилось что-то и правда, уж слишком далекое от русского, но вместе с тем оно вышло настолько же далеким от украинского» {140}.
Не соглашался Иван Семёнович и с тем, что букву «с» в предлогах и приставках всюду заменили на «з», по польскому образцу: «з тобою» вместо «с тобою», «розходиться» вместо «росходиться» и т. п. Такая же участь постигла приставку и предлог «од» (в сущности, это было все то же русское «от», но, будучи украинофилом, Нечуй-Левицкий предпочитал писать букву «д», чтобы все-таки отделиться от русского литературного языка), а также окончание «ть», уступившие место соответственно приставке (предлогу) «від» и окончанию «ти» («відкрити», «відгоняти», «ходити» вместо действительно народных «одкрыть», «одгонять», «ходить»). Польским влиянием объяснял писатель введение падежных форм «для народу», «від синоду», «без закону», «з потоку», «такого факту», в то время как на Украине говорят: «для народа», «од синода», «без закона», «с потока», «такого факта». Крайне возмущала его и «реформа» правописания с введением апострофа и буквы «ї»: «Крестьяне только глаза таращат и всё меня спрашивают, зачем телепаются над словами эти хвостики» {141}.
Классик украинской литературы настаивал на том, что украинский литературный язык нужно создавать на основе приднепровских народных говоров, а не галицкой говирки, «переходной к польскому языку со множеством польских слов» {142}, к которой добавляют еще «тьму чисто польских слов: передплата, помешкання, остаточно, рух, рахунок, рахувать, співчуття, співробітник»… {143} (Кроме того, писатель категорически возражал против введения в употребление таких польских слов как: «аркуш», «брак» (в смысле — нехватка), «бридкий», «брудний», «вабити», «вибух», «виконання», «віч-на-віч», «влада», «гасло», «єдність», «здолати», «злочинність», «зненацька», «крок», «лишився», «мешкає», «мусить», «недосконалість», «оточення», «отримати», «переконання», «перешкоджати», «поступ», «потвора», «прагнути», «розмаїтий», «розпач», «свідоцтво», «скарга», «старанно», «улюблений», «уникати», «цілком», «шалений» и многих других.) Как заявлял Иван Семёнович, в Галиции слишком сильны польское, еврейское, немецкое языковое влияние, а потому «во Львове нельзя научиться украинскому языку, а можно только утратить свой чистый украинский язык окончательно» {144}.
«Грушевский как будто издевается над языком украинских писателей» {145},— отмечал Нечуй-Левицкий и предупреждал, что «крестоносцы» (он называл их «языковыми оборотнями» {146}) своим стремлением навязать украинцам «смешной, чудной и непонятный» псевдоукраинский язык («чертовщину под якобы украинским соусом» {147}) только вредят делу развития украинской культуры и образования, вредят «хуже, чем старая цензура» {148}. Именно в этом неудачном языке видел он причину того, что украинцы не читают украинских книг и газет. «Всё это несчетное множество напханых польских слов, нахапаных из галицких книжек наугад, всякие галицкие чудные слова, все эти галицкие правописные значки и точки,— это же настоящие ружья и пушки, которыми газетные писатели отгоняют украинскую широкую публику от украинской литературы» {149},— констатировал «старый Нечуй». Мало того, он сравнивал такую «рідну мову» с пулей, выстреленной по украинцам: «В Берлине во время революции 1848 года после того, как король повелел стрелять из пушек по толпе людей на площади, одна пуля застряла в стене на самом углу одного дома. Какой-то искусник ночью прилепил на этой пуле листок бумаги с надписью: „Моему любимому народу“. Такую же надпись можно было бы применить для нашего украинского новоязычия: „Нашему любимому украинскому народу“» {150}.
Одновременно те же вопросы Иван Семёнович продолжал затрагивать в своих письмах. «Спасибо Вам, что Вы сочувствуете тем мыслям и положениям в моих статьях, которые я изложил про „Сьогочасну часописну мову“ на Украине, страшно испорченную польскими и галицкими книжными словами через влияние галицких газет и журналов,— обращался Нечуй-Левицкий к писателю Михаилу Лободе (Лободовскому).— И действительно, как Вы пишете, это не язык, а какой-то жаргон. А когда Кулиш говорил Вам, что галицкий письменный язык следует выбросить на мусорник, то он говорил правду… Это дело заговора немногих украинцев, которые захватили в свои руки издания и от которых зависит корректура… Вы говорите правду, что обыкновенное старое книжное правописание (т. е. правописание с использованием букв русской азбуки.— Авт.) лучше для народа, потому что он сразу будет читать как говорят: ходили, робили и т. д. Но и кулишевка не так-то уже трудна для него… А вот желиховка (желиховкой называлась кулишевка, «усовершенствованная» галицким деятелем Е. Желиховским в сторону еще большего отличия от русского правописания.— Авт.) со своими двумя точками над „і“ и с апострофом, так совсем не годится» {151}.
«С этого газетного языка публика просто смеется,— замечал он в другом письме тому же адресату.— А все же партия (т. е. сторонники Грушевского.— Авт.) издала три галицкие грамматики для украинцев с галицкими падежами. Я знаю главных сообщников этой партии, так как они и на меня наседали, чтобы и я так писал. Был у меня и проф. Грушевский и точно также просил и уговаривал меня, чтобы я писал галицкими формами. Галичанских книжек у нас на Украине не читают; их трудно читать. Поднял я бучу не зря, раз мы теряем так широкую публику» {152}.
«Галицкий язык убьет украинскую литературу» {153},— предупреждал писатель Ганну Барвинок, а в письме к издателю газеты «Рада» Е. Х. Чикаленко указывал на конкретные польские, галицкие и выдуманные слова, употребляемые в газете и непонятные простому народу: «злочинство», «також», «майже», «окремо», «землетрус» («Земля трясется, а трусятся люди с перепугу или в лихорадке. Лучше б сказать — землетрясіння» {154},— замечал «старый Нечуй», но «национально сознательные» языковеды, конечно, не могли с ним согласиться. Слишком уж «землетрясіння» напоминало русское слово «землетрясение»).
Следует еще раз подчеркнуть: И. С. Нечуй-Левицкий был убежденным украинским сепаратистом и не менее австрийских «крестоносцев» хотел вытеснить с Украины русский язык. Но, стиснув зубы и скрепя сердце, он вынужден был признать, что этот язык все же понятнее и ближе украинцам, чем «тарабарщина» Грушевского и Ефремова.
Иван Семёнович не открывал Америки. О том, что новый украинский литературный язык, сочиняемый из политических соображений, с помощью выдуманных («выкованных») слов и иностранщины, не понятен украинцам, предупреждали до него Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, М. М. Коцюбинский (последний, правда, не желая портить отношений с галицкими деятелями, предпочитал публично не выступать, сокрушаясь по поводу отрыва новейших писателей от живого народного языка только в частной переписке, и лишь однажды обмолвился в печати, что галицкая ветвь малорусского народа «в силу своей политической обособленности от корня народного организма, питается в известной степени чужими соками, влияние которых отразилось и на характере созданной в Галиции письменности» {155}).
Тем не менее, выступление «старого Нечуя» вызвало в среде «крестоносцев» шок. В отличие от Костомарова и Кулиша (к тому времени уже покойных), он был живым классиком украинской литературы. И не отмалчивался, в отличие от Коцюбинского, который в письмах к Ивану Семёновичу полностью его поддерживал, но на публике помалкивал, а когда «крестоносцы» набрали силу, стал, по их указке, коверкать собственные сочинения, меняя, например, «темноту» на «темряву», «метелицу» на «хуртовину», «согласно» на «у згоді» и т. д. {156} (Тут следует заметить, что к тому времени в произведениях М. М. Коцюбинского оставалось сравнительно немного «русизмов». Дело в том, что еще в начале своей литературной деятельности Михаил Михайлович попал под влияние некоего Ц. Неймана, жителя Винницы и активиста польского движения. Нейман стал первым оценщиком творчества молодого писателя и принялся «чистить» язык его произведений от русского влияния, призывая Коцюбинского «не калічити святу нашу мову» {157}. Влияние этого местечкового любителя «рідной мовы» сказалось на всем последующем творчестве будущего классика).
К тому же на Нечуя-Левицкого нельзя было навесить ярлык «великорусского шовиниста» или «объянычарившегося малоросса», что обычно делали (и делают до сих пор) «национально сознательные» деятели по отношению к своим идейным противникам. Невозможно было обвинить писателя и в «незнании украинского языка» или просто замолчать его выступление. Требовалось отвечать и как можно быстрее. Тем более что позиция Ивана Семёновича была поддержана другими видными деятелями украинского движения. «Вашего литературного языка мы не понимаем» {158},— заявлял, например, обращаясь к галицким украинофилам Б. Д. Гринченко.
«Несмотря на единство названия „украинский язык“, фактически существует не один, а два разных литературных языка: украино-австрийский и украино-русский,— признавал позднее А. Е. Крымский.— Некоторые деятели, например, обгаличаненный проф. М. С. Грушевский, видели спасение в том, чтоб российские украинцы и галичане делали один другому взаимные филологические уступки (но преимущественно все-таки в сторону галицкой традиции) и таким образом пусть бы выработали компромиссный, средний тип литературного украинского языка, а правописание пусть бы приняли галицкое (аж до варварства антинаучное)… Галицкий журнал „Літературно-науковий вісник“, который проф. Грушевский перенес было из Львова в Киев, не только не привел к литературному объединению и единодушию между российскими украинцами и галичанами, а наоборот — он сделался в глазах широкой, средней украинской публики чужеедным наростом, надоедливым паразитом и только обострил недоразумения» {159} [4].
С критикой навязываемого «крестоносцами» языка выступила писательница Олена Пчилка (мать Леси Украинки). Она отмечала, что заимствование слов из других языков или создание новых слов (неологизмов) само по себе явление естественное: «Писатели имеют право творить слова по необходимости, преобразовывать язык по требованию своей мысли, своего замысла; но все-таки тут должна быть определенная мера, должны быть определенные условия… При создании неологизмов наш писатель не должен далеко отходить от народной основы, от корней и обычных форм своего народного языка,— для окончания разных слов, для складывания их вместе и т. п. Тут не следовало бы пренебрегать законами языка народного».
Между тем, по признанию писательницы, эти законы как раз и нарушаются. «Пускай наши периодические издания имеют немного читателей, но эти читатели,— сколько уж их есть,— могут привыкать к ежедневно употребляемым литературным словам — и при этом одинаково могут привыкнуть как к хорошим словам, так и к плохим, то есть плохо созданным, или не соответственно употребленным… Наш газетный язык полон неологизмов, но не в том еще дело, что это новые слова, а в том, что они плохие, плохо созданные. Язык получается неряшливым, сухим, полным чужих, или неудачных, даже непонятных слов». «Кто знает, сколько вредит нам, нашему писательскому успеху, наш новейший язык» {160},— задавалась она вопросом.
Действительно, книги украинских писателей не пользовались спросом, газеты и журналы почти не имели читателей, и главная причина этого заключалась в языке. «Омоскаленное ухо тогдашних украинцев из-за Днепра не переваривало „галицкого языка Грушевского“» {161},— злобно вспоминал потом один из украинских деятелей. «Всем известно… с каким недоверием относятся крестьяне к украинской книжке» {162},— констатировал другой украинофил. «Язык нашей газеты для них (украинцев.— Авт.) совсем чужой, им возмущаются и люди, которые искренне хотели бы, чтобы развивалась наша пресса» {163},— сознавался Е. Чикаленко (речь в данном случае шла о газете «Громадська думка»). Представитель украинской диаспоры А. Животко в своей изданной в Мюнхене «Истории украинской прессы» признавал, что ни одно украиноязычное периодическое издание тех времен не окупало себя. «Все они издавались путем идейной поддержки и едва могли сводить концы, часто ценой неимоверных усилий». Как признает А. Животко, если бы все газеты и журналы перевели на самоокупаемость, то «в короткое время украинская пресса совсем исчезла бы с украинских земель» {164}.
Не лучшим для украинофилов образом сложилось и положение дел в украинском театре. С треском провалились на сцене пьесы Владимира Винниченко («Брехня»), Леси Украинки («Камінний господар»), Александра Олеся («Осінь», «Танець життя») и др.
«Крестовому походу» явно грозило фиаско, «крестоносцы» теряли веру в своих предводителей. «Приверженцы проф. Грушевского и введения галицкого языка у нас очень враждебны ко мне,— отмечал И. С. Нечуй-Левицкий,— хотя их становится все меньше, потому что публика совсем не покупает галицких книжек, и проф. Грушевский лишь теперь убедился, что его план подогнать язык даже у наших классиков под страшный язык своей „Історії України-Руси“ потерпели полный крах. Его истории почти никто не читает» {165}.
М. С. Грушевский вынужден был оправдываться, заявлять, что хотя язык, который он пытается насадить на Украине, действительно многим непонятен, «много в нем такого, что было применено или составлено на скорую руку и ждет, чтобы заменили его оборотом лучшим», но игнорировать этот «созданный тяжкими трудами» язык, «отбросить его, спуститься вновь на дно и пробовать, независимо от этого „галицкого“ языка, создавать новый культурный язык из народных украинских говоров приднепровских или левобережных, как некоторые хотят теперь,— это был бы поступок страшно вредный, ошибочный, опасный для всего нашего национального развития» {166}.
«Крестоносного» вождя попытались поддержать соратники. Галицкий деятель М. Пачовский в специальной статье, посвященной языковым спорам, отмечал, что население российской Украины «несознательное». Дескать, называют себя русскими, интересуются русской литературой и даже крестьяне считают свои говоры «мужицкой» разновидностью русского языка. В общем, нет в российской Украине ни украинского общества, ни украинской жизни. «Только будто в чужом краю по углам работают единицы» {167}. А потому, как считал Пачовский, приоритет в создании единого для всей Украины литературного языка должен принадлежать не «несознательному» Приднепровью, а Галиции, где существуют украинские школы, которые готовят «национально сознательную» молодежь. О том, что эти «украинские школы» насильно навязаны галичанам австрийской властью вместо русских школ, галицкий украинофил, естественно, умалчивал.
Еще дальше пошел другой галицкий деятель — Владимир Гнатюк. Он объявил, что разговорный язык российских украинцев засорен «русизмами», а «украинский литературный язык в России попросту гибнет под игом российщины» {168}. Среди писателей, язык которых попал под русское влияние, Гнатюк называл Ивана Котляревского, Григория Квитку-Основьяненко, Тараса Шевченко и, конечно же, Ивана Нечуя-Левицкого. Последнего галицкий защитник «рідної мови» обвинил еще и в том, что он сам «употребляет полонизмы, за которые так позорит галичан» («стосунки», «набрякла», «принаймні», «зграя» и т. д.), а также искусственно созданные и непонятные народу слова («завада», «зловживає» и др.) {169}. Отсюда Гнатюк делал вывод, что украинский литературный язык просто обязан опираться не на говоры российской Украины, а на говоры галицкие, «намного более чистые» {170}.
«Не стоит также российским украинцам придерживаться мнения — которое кое-кто провозглашает уже теперь — что нас столько-то миллионов, а галичан лишь столько, поэтому они должны идти за нами, а не мы за ними… Тут не большинство решает, а только ум, знание и врожденное чувствование красоты родного языка» {171},— заявлял он, скромно полагая, что эти «ум, знание и врожденное чувствование» ему присущи больше, чем российским украинцам. Правда, Гнатюк все же признавал, что галичане употребляют «и полонизмы, и германизмы, но, во-первых, их не очень большой процент, а, во-вторых, они больше всего проявляются в лексике, а это еще не большая беда» {172}.
Бросился на помощь Грушевскому также литератор из российской Украины Модест Филиппович Левицкий. В статье, опубликованной в редактируемом вождем «крестоносцев» «Літературно-науковому віснику», он обрушился на «этих странных „патриотов“ и „тоже малороссов“, которые считают себя непогрешимыми знатоками украинского языка и требуют непременно, чтобы украинский литературный язык был обязательно таким же, каким говорят люди в их Свинюхах и Жабинцях» {173}. (Весьма характерно: требования, чтобы вновь создаваемый литературный язык не очень-то отрывался от языка народного, неизменно вызывали у «крестоносцев» ярость. Они стремились тут же высмеять «провинциалов», оглядывающихся на говоры своих сел, а не на «украинскую национальную идею».) «Крестоносец» задел «многих наших писателей» (фамилии не назывались, но явно имелся в виду И. С. Нечуй-Левицкий и те, кто его поддерживал), которые, «пусть не прогневаются на меня, имея большой талант писательский, не очень хорошо знают язык наш и не очень заботятся о чистоте его» {174}.
Правда, М. Ф. Левицкий признавал, что при создании «украинского литературного языка» действительно были допущены кое-какие «ошибки». «Что касается некоторых „кованных“ слов,— отмечал он,— то я должен сказать, что они не совсем удачные». В качестве примера таких «неизвестных и неупотребляемых в народном языке» слов, которые (в отличие от их русских аналогов) непонятны простым людям, приводились «відносини», «зносини», «обставини» и др. {175} Соглашался сторонник Грушевского и с тем, что напечатанные на созданном в Галиции языке книги в российской Украине не понимают: «Харьковский крестьянин начнет читать какое-нибудь издание львовское и бросит книжку, скажет, что она „не по нашему написана“» {176}. Из-за этого «наши враги, в основном эти „истинно-русские“ „-енки“ используют «наши неудачные литературные слова и формы» для того, чтобы «насмехаться над нашими ошибками и кричать привселюдно, что, мол „малорусский народ вовсе не понимает так называемого "украинского" книжного языка“» {177}.
Выход М. Ф. Левицкий видел в том, чтобы создать при «Украинском научном обществе» (украинофилы организовали такое под руководством того же М. С. Грушевского) специальную комиссию, которая бы все неудачные слова заменила на другие, лучшие. Главное, считал Модест Филиппович, всесторонне обсудить, «какое б лучше слово можно было бы придумать» {178}. Объяснять, зачем что-то придумывать, если народ прекрасно пользуется словами из русского литературного языка, «крестоносец», естественно, не стал. Вместо этого он объявил: несмотря на отдельные ошибки, в том, что слова придумываются неудачно или берутся из иностранных языков — большой беды нет. «А беда, что много употребляется у нас таких слов, по большей части русских, вместо которых можно было бы поставить наши собственные» {179}.
Именно на борьбе с «москализмами» и предлагал М. Ф. Левицкий сосредоточить основное внимание. Правда, он тут же признавался, что слова, с которыми нужно бороться — не совсем «москализмы», так как широко распространены в украинском народе, особенно на Левобережной Украине, но тем энергичнее, по его мнению, нужно очищаться от них. Далее следовал перечень примеров таких широко употребляемых народом, но «неправильных» с точки зрения «национальной сознательности», «полумосковских» слов: «город» (Левицкий рекомендовал употреблять тут «правильное» слово — «місто»), «год» (по Левицкому, нужно: «рік»), «хазяйка» («господиня»), «спасли» («врятували»), «колодязь» («криниця»), «погибло» («згинуло»), «льод» («крига»), «можно» («можна»), «приятний» («приємний»), «клад» («скарб»), «бочонок» («барильце»), «грахвин» — т. е. «графин» («сам не знаю какое, но должно быть наше древнее слово») {180}, «зділай милость» («литературный „москализм“, вместо нашего „будь ласка“, постоянно, к сожалению, встречается у такого знатока языка, как Карпенко-Карий» {181}). «Наконец, это придуманное, взятое у русских слово „еврей“. Оно не наше, оно — „москализм“, а заведено оно в наш язык только для того, чтоб не гневались на нас жиды, которые не умеют отличить наше обычное, необидное слово „жид“ от русского черносотенного ругательства. Я протестую против такого калечения нашего языка только из-за того, что другие люди не понимают его хорошо… Если уж некоторые наши писатели так очень боятся, чтобы жиды на них не гневались и из-за непонимания не записали бы их в черносотенцы и для этого непременно хотят выбросить из употребления наше древнее слово „жид“ и поставить вместо него „еврей“, то пусть бы уже они писали его „яврей“ — все-таки оно более украинизировано» {182} (т. е. пишите как угодно, только не так, как в русском языке).
Модест Филиппович всячески бранил «москализмы», бранил и «этих оборотней крестьян, которые стыдятся своего собственного языка и пытаются говорить „по-русски“» {183}. А вот что касается сочинителей произведений на «украинском литературном языке», то их, по мнению «крестоносца», если и надо критиковать, то не за искусственное, в ущерб пониманию народа, отгораживание от русского языка, а за то, что отгораживаются недостаточно.
Указанная статья М. Ф. Левицкого была опубликована в августе 1909 года. Однако спустя три года, когда провал «крестового похода» стал очевиден самым отъявленным фанатикам «украинской национальной идеи», литератор существенно «скорректировал» свои взгляды. В новой статье (подписанной, правда, не собственной фамилией, а псевдонимом «М. Пилипович»), опубликованной на этот раз не в рупоре Грушевского, а в украинском педагогическом журнале «Світло», он уже называл И. С. Нечуя-Левицкого в числе знатоков народного языка (и послал эту статью самому Ивану Семёновичу в знак солидарности).
Теперь Модест Филиппович признавал, что «постоянно приходится слышать упреки в том, что „украинского литературного языка“ „наш народ не понимает“, а книжек наших читать не может и не хочет» {184}. Упреки эти, замечал он, раздаются не только из лагеря «врагов наших», которые «говорят, что это выдуманное польско-галицкое „язычие“, „жаргон“, даже „тарабарщина“, что народ наш лучше понимает русский язык, чем „так называемый "украинский" язык“» {185}. И не только от тех, кто «не враги, а вроде бы друзья наши, которые сами называют себя „тоже малороссы“; от таких людей часто приходится слышать вот такое: — „Помилуйте, что это за язык в ваших книгах и газетах? Я ведь тоже малоросс, но никак не могу понять такого языка; возьмешь эту вашу "Раду" и что ни строчка, то и зацепишся… Я сам очень люблю малорусский язык, песни, с удовольствием читаю и Шевченку, и Котляревского, но ваших книг и газет читать не могу“» {186}. Критикуют «украинский язык» за непонятность даже «сознательные украинцы». «Про них,— отмечал М. Ф. Левицкий,— за исключением очень немногих, нужно сказать, что всякий из них считает себя знатоком украинского языка и немилосердно критикует язык наших газет и книжек, но как сам напишет что-нибудь, то, в основном, очень плохеньким языком» {187}.
«А крестьяне? Это же для них издается большинство наших книжек и периодики; значит, и приговор их для нас должен быть самым интересным. Крестьянин — очень строгий и немилосердный критик: он поставит нам на вид все обвинения, которые мы слышали и от врагов, и от „тоже малороссов“, и от сознательных украинцев. Если крестьянин не разберет в книжке или газете сколько-то слов и из-за этого не поймет написанного, он бросит и скажет, что оно „не по-нашему“ написано… Еще и посмеются крестьяне с этих чудацких писаний» {188}.
«Таким образом,— подводил итог Модест Филиппович,— получается, что наш литературный язык не может угодить ни врагам, которые не хотят признавать нашего возрождения, ни равнодушным людям „тоже малороссам“, которые пошли в батраки в чужую хату; не всегда устраивает он своих сознательных людей, сердце которых болит за него и которые рады были б, что б наше было не хуже, чем людское, но мало что делают сами для выработки хорошего своего языка; не всегда устраивает он и крестьян, и это, по моему мнению, самое печальное: так как в том народе, в демосе, вся наша сила и будущность наша. Очевидно, что наш литературный язык имеет дефекты, болеет» {189}.
Как и положено «национально сознательному» деятелю, вину за столь печальное положение «рідной мовы» Модест Левицкий возлагал на «запрет 1876 года». Дескать, из-за этого запрещения основная литературная деятельность была перенесена на галицкую почву, «а эта почва многим отличалась от нашей, особенно левобережной, так как очень сильно влиял на нее польский язык». И «когда с 1906 г. появилась возможность издавать периодику и на российской Украине, то пришлось перенести из Галиции чуть ли не весь тот лексический материал, который был создан там на протяжении 30 лет. Поэтому-то газетный язык наш отдает галицизмами и кажется трудным и необычным российским украинцам, которые не читали и не читают галицких изданий» {190}.
М. Ф. Левицкий предлагал конкретные меры, которые необходимо принять для исправления бедственного положения, чтобы помочь «рідной мове» и «спасти ее» {191}. Прежде всего, он признавал неудачным изобретением апостроф, так как слова с этим значком простым людям непонятны. «Проще не заводить этот апостроф, так как вместо него мог бы служить „ь“». Например, указывал Модест Филиппович, лучше и понятнее писать «пьяний», а не «п’яний», «а апостроф совсем выбросить из употребления» {192}. Необходимо также выбросить из языка такие полонизмы, как «властивість», «вплив», «закидати» (упрекать), «зарозумілість», «засада» (основа), «затримати», «каже», «крок», «ліпший», «мешкати», «освідчусь», «очікування», «приходити в захват», «тлумачити», «цівільна», «якість» и др. {193} «Не подумайте,— замечал „крестоносец“,— что я исчерпал здесь весь запас странных слов из галицкой литературы, это только образцы» {194}.
Точно так же, по мнению М. Ф. Левицкого, следует заменить «некоторые новые, „кованные“ слова, которые не совсем удачны» (такими неудачно выкованными словами, помимо слов «відносини», «зносини», «обставини», он называл слова: «майбутній», «впливати», «скількість» и др.). «Правда,— писал Модест Филиппович,— не легкое это дело „выковать“ меткое слово так, чтобы оно было „в духе“ языка, но хоть оно трудно, а надо стараться» {195}.
Вместе с тем, М. Ф. Левицкий все-таки требовал не забывать и про «москализмы», которые «также досадны и нежелательны, как „полонизмы“» {196}. Очищение от тех и от других, был уверен литератор, позволит создать язык, приемлемый для всех «сознательных украинцев». Пока же «эти москализмы и полонизмы очень приближают наш современный литературный язык к еврейскому (современному) языку. Тот язык есть испорченный немецкий (швабский) язык с некоторыми отличиями в фонетике, с добавлением небольшого числа слов древнееврейских; но как не хватает в разговоре какого слова или трудно вспомнить его, то наши евреи сразу берут польское или русское слово, иногда перекручивают его фонетику, добавляют в конце „-ес“ и пускают в употребление» {197}.
Однако главное препятствие на пути превращения украинского литературного языка в конкурентоспособный Модест Филиппович видел в самих украинских литераторах: «Кажется, что они думают чужим языком, польским или русским, а только рука их пишет по-украински» {198}. Опять же: о том, зачем думающим по-польски или по-русски нужен какой-то новый язык, «национально сознательный» деятель не распространялся. Вместо этого он призывал всех пишущих по-украински заботиться о чистоте языка, заявлял, что все украинские писатели «должны, пишучи или хотя бы переписывая начисто, обдумать всякое свое слово, поразмыслить, нет ли лучшего, по нашему ли оно сказано, должны думать по-украински, а не каким-то другим языком» {199}.
Несколько по-иному подошел к проблеме языка Иван Иванович Огиенко. Он решил исследовать, «как читают и пишут по украински наши крестьяне, что им читать и писать легче, что тяжелее, какие написания им понятны, какие нет» {200}. Исследования И. И. Огиенко проводил в Радомышльском уезде Киевской губернии (ныне территория Житомирской области), привлекая к ним крестьян различного уровня образованности и возраста, взрослых людей и школьников, тех, кто прошел курс обучения в каком-либо учебном заведении и тех, кто выучился грамоте самостоятельно.
Результаты оказались неутешительными для украинофилов. Читали крестьяне «на русский лад». «Украинское „и“, как правило, читают по-русски» {201}. «Что касается „ї“, то его сначала читают как „і“… Вообще, кто не имел в руках украинской книжки, тому удивительны были эти две точки над „і“, и меня часто любопытные спрашивали, что это за знак такой, что „так густо точек сверху“, а один мальчик, дойдя при чтении до слова „її“, остановился, долго внимательно присматривался и наконец прочитал „її“ как „п“ {202},— рассказывал исследователь.— „Е“, как правило, читают по-русски». «Букву „є“ читают почти все как русское „э“… Кто совсем не знал украинской книжки, тот останавливается на этом „є“ и долго его рассматривает, удивляясь, чего б это ему задом стоять, и не знает, как его произнести». «Нашу букву „ґ“ читают сразу как „г“ {203}. «На апостроф, как правило, не обращают никакого внимания, и читают, обходя его» (как пример Огиенко приводил слова: «дев’ять», «п’ять», которые читались крестьянами как «девять», «пять»). «Бывало иногда, что читающий на апострофе останавливается и спрашивает, что это такое; один крестьянин, дойдя до слова „п’ять“, остановился и спросил, куда относится „п“ — или к предыдущему слову или к следующему» {204}.
Кроме того, «родные слова, читая, частенько перекручивают на русский лад: слово „дівчинка“ читали „девочка“, „читання“ — „чтение“ и т. п.». Вообще же украинский язык оказался крестьянам мало понятен. «С простыми, короткими словами еще так-сяк справляются, подумавши, но слова длинные, мало им понятные — всегда путают, ломают и не понимают, что они означают». Когда же И. И. Огиенко объяснял, что это и есть их «рідна мова», мужики очень удивлялись и только пожимали плечами: «Трудно как-то читать по нашему,— всегда жалуются крестьяне.— Не привыкли, наверное, еще мы к таким книжкам» {205}.
Та же картина вырисовывалась при написании диктантов. «Всюду замечаем влияние русской грамоты. Ребенок или взрослый крестьянин всегда передают на письме родные слова привычным, русским правописанием». «Когда слово простое, такое, что для него хватает соответствующих русских букв, крестьяне пишут сразу, не задумываясь: дыня, косы, хмара и т. д. Не так бывает, когда слово, которое пишет крестьянин, нельзя русскими буквами целиком передать на письме: тогда крестьяне думают долго, много расспрашивают, повторяют слово и частенько пишут не то, что им надо писать». Иногда же крестьяне, столкнувшись с украинскими словами, просто заявляли: «Это слова уличные, мужицкие, их и писать незачем» {206}.
«Украинское „и“ всегда сразу передают через „ы“… Иногда, под влиянием русского языка, пишут „и“ (= „і“), когда оно есть в соответствующем слове русском: книжка, пирог, три». «Наше „і“ всегда означают на письме через русское „и“». «Украинское „ї“, как правило, обозначают сразу, не думая долго, через русское „и“… Слово „її“ кое-кто писал иі, іі, ии, кое-кто отказывался писать…» «Наше „є“, как правило, также не сомневаясь отображали в письме через русское „е“» {207}. «Украинское „ґ“ в письме отображали, как правило, буквой „г“. Чтобы написать слово с „ґ“, всегда долго думают, проговаривают себе это слово, смеются, крутят головой и частенько отказываются его написать. Слово „ґанок“ писали всегда „ганок“, один раз „канок“» {208}.
В общем, исследования И. И. Огиенко полностью подтверждали мнение И. С. Нечуя-Левицкого, хотя сам исследователь об этом не заявлял. Да и не мог заявить — его статья была опубликована в журнале, редактируемом М. С. Грушевским. Поэтому Огиенко ограничился лишь осторожным признанием, что украинское правописание нуждается в улучшении, и выражал казавшуюся тогда несбыточной надежду, что настанет время, когда будет возможность внедрять украинский язык в голову мужика через школу (как в Галиции). «Тогда и книжка на нашем языке будет ему родной и крестьянин не будет пугаться нашего правописания» {209}.
Сходную позицию занял Дмитрий Дорошенко. Откликаясь на печатные выступления Нечуя-Левицкого, он замечал: «Мы согласны с уважаемым автором, что вообще наш литературный язык еще очень неразвит и что язык, которым пишут в основном молодые украинские писатели из Галиции, а за ними и наши, таки действительно плохой, но нам кажется, что Левицкий не с того конца заходит, с какого бы следовало» {210}. Дорошенко признавал, что «когда рождалась новая украинская пресса, то, по правде говоря, мало кто обращал внимание на то, „каким языком писать“, потому что считали, что народ массами бросится к своему печатному слову и что наши газеты будут выходить в десятках тысяч экземпляров. В этом довелось разочароваться, как и во многом другом» {211}. Видный украинофил подчеркивал, что созданный в Галиции язык испытал на себе «очень сильное влияние языка польского и немецкого» {212}. Поэтому, считал Дорошенко, можно было предугадать, что этот язык «не очень-то будет пригоден для широких масс украинского народа в России» {213}.
«Проф. Грушевский думает, что этим языком совсем хорошо можно удовлетвориться, и потому считает, что „игнорировать этот культурный язык, созданный такими тяжкими трудами нескольких поколений, отбросить его, спуститься вновь на дно и пробывать независимо от "галицкого" языка создавать новый культурный язык из народных украинских говоров приднепровских или левобережных, как некоторые хотят теперь,— это был бы поступок страшно вредный, ошибочный, опасный для всего нашего национального развития“. С мнением уважаемого нашего ученого можно было бы совсем согласиться, если бы не одно обстоятельство, что очень уменьшает силу его доказательств: с украинской книгой и газетой приходится обращаться не только к небольшому обществу „сознательных украинцев“, которые все равно будут читать, каким бы языком и каким бы правописанием не печатать наши издания; будут читать кривясь, ругаясь, но будут читать, как читали перед тем книги и газеты, напечатанные в Галиции. Дело в том, что приходится обращаться к широким массам интеллигенции и простого народа на Украине. Давая им украинскую газету, говорим: „Читайте, это ваше родное, это для вас понятное, это не такое, как все то, что вы до сих пор по-чужому читали!“ И что же выйдет, если тот, к кому вы обращаетесь, скажет: „Нет, это не по нашему; правда, оно похоже на наше, но много что тут разобрать нельзя“. Проф. Грушевский говорит, что нужно учиться украинскому языку, потому что „все учатся своему родному языку“. Разумеется, надо учиться, чтобы владеть хорошо языком письменно и усно. Однако же язык должен быть таким, чтобы его понять можно было без специальной подготовки, чтоб, не считая тех чужих ученых слов, которые не понятны каждому неученому человеку в каждом языке, можно было разобрать смысл» {214}.
Дорошенко призывал учитывать разницу между положением украинского языка в Галиции и в российской Украине. В Галиции распространение этого языка поддерживает правительство. В российской Украине — не поддерживает. «У них (галичан.— Авт.) действительно можно издать декрет и будут слушаться, как когда-то было с правописанием. А у нас?» {215} «Если дать теперь нашему крестьянину такую книгу, которая написана хоть украинским языком, но крутым, с галицкими словами и формами, то он ее не разберет или еще скажет, что уж московскую книжку ему легче понять, чем такую украинскую. Что же тогда нам делать?» {216} Выход Дорошенко видел в том, чтобы не спешить с «очищением» украинского языка от «русизмов» (это можно будет сделать потом). Пока же следует постепенно «приучить народ к своему родному слову» {217}. Соглашаясь по сути с Нечуем-Левицким, он вместе с тем считал, что классик украинской литературы выступил слишком резко по форме, «очень остро и язвительно». И «эта едкая насмешка уважаемого писателя над своими же братьями-писателями украинскими принесла большую радость нашим врагам» {218}.
Поучаствовал в дискуссии и И. М. Стешенко, будущий министр просвещения в правительстве Центральной Рады. Он безоговорочно вступился за новый язык. По мнению Стешенко, «национально сознательные» галичане просто вынуждены были взяться за создание нового литературного языка, поскольку украинцы российской части Украины этим заниматься не хотели. Коренных жителей Центральной и Восточной Украины, «даже сознательных патриотов», вполне устраивал русский язык. Для них в сочинении особого украинского языка «не было нужды, потому что для него не было аудитории». Интеллигенция «обрусела», народу вполне хватало небольшого словарного запаса малорусского наречия. «И вот галицкие литераторы берутся за это важное дело. Создается язык для институций, школы, наук, журналов. Берется материал и с немецкого, и с польского, и с латинского языка, куются и по народному образцу слова, и все вместе дает желаемое — язык высшего порядка. И, негде правды деть, много в этом языке нежелательного, но что было делать?» {219}
Впрочем, уверял Стешенко, язык получился «не такой уж плохой». В том, что он непривычен для украинцев, нет ничего страшного. «Не привычка может перейти в привычку, когда какая-то вещь часто попадает на глаза или вводится принудительно. Так происходит и с языком. Его неологизмы, вначале „страшные“, постепенно прививаются и через несколько поколений становятся совершенно родными и даже приятными» {220}. В Галиции новый язык тоже был принят не сразу, но после введения в школы приказом сверху, с течением времени «сросся с душою галичан, стал ее содержанием. Может, плохим? Не спорю. Но содержанием — единственно возможным» {221}.
«Таким образом,— призывал «национально сознательный» деятель,— если хотим понимать язык, то возьмемся за словари и другие источники — ничего тут страшного, никакого стыда нет» {222}. Не смущал его даже тот факт, что на новом «украинском литературном языке» никто на Украине не разговаривает. Хоть «правда и то, что литература должна существовать для публики, но бывают такие эпохи в истории, как теперь у нас, что скорее приходится не иметь публики и нести потери, но дело свое делать» {223}.
Что эта за «рідна мова», на которой никто не говорит и которую надо изучать при помощи словарей, будущий министр не объяснял. Да никто и не требовал объяснений. Стешенко просто не приняли всерьез. О принудительном введении отстаиваемого им языка в то время (брошюра Стешенко вышла в 1912 году) не могло быть и речи. Мало кто предполагал, что ожидает страну через несколько лет.
Глава 5. Революция и украинизация. «Нестор Іванович, чому так вийшло?»
Все изменилось после революции. Дорвавшись до власти (сначала в роли ставленников Временного правительства, а затем и в качестве самостийных правителей), Грушевский и К° принялись украинизировать Малую Русь такими методами и темпами, что вызывали нарекания даже со стороны своих более цивилизованных единомышленников. Известный украинофил В. П. Науменко, всю жизнь положивший на утверждение «украинского языка», пытался образумить украинизаторов. «Украинизацию должно проводить тактично и осторожно» {224},— предупреждал он, но лишь накликал на себя обвинения в симпатии к «русским шовинистам» {225}.
Другой виднейший деятель украинофильского движения, крупный ученый профессор Н. П. Василенко также протестовал против попыток принудительно навязывать населению украинский язык. Он опасался, что насильственная украинизация только навредит новому языку и будет мешать «проникновению его в народную толщу». Как указывал Василенко, насильственные меры «диктуются скорей неверием в силу и способность украинского языка развиваться естественным путем и получить значение языка национального» {226}. В результате и этот украинофил был зачислен кампанией Грушевского во враги «украинского национального дела».
«Руководители украинского движения настаивают на введении в Украине особого государственного языка и притом такого, который бы не явился продуктом органического развития, но искусственно создан с определенным и ясным расчетом на то, чтобы сделать его возможно менее похожим на общерусский язык. С этой целью в него включено множество слов и форм, чуждых не только великорусскому, но и малорусскому языку, что делает его мало понятным даже и для малорусского населения. Стремление к замене общерусского литературного языка в будущей Украине таким искусственно созданным и недостаточно еще разработанным языком грозит задержкою развития образованности того народа, который вынужден будет им пользоваться» {227},— предупреждали профессора Киевского университета в своем «Протесте против насильственной украинизации Южной России».
«Малороссы не являются отдельным народом. Это часть русского народа, жившая некоторое время отдельной от него жизнью и потому выработавшая некоторые особенности своего быта и говора» {228},— говорилось в аналогичном протесте профессоров Киевской духовной академии.
Категорически возражал против украинизации и Русский Народный Совет Прикарпатской Руси, представлявший интересы русского населения Австро-Венгрии, часть территории которой в ходе первой мировой войны была занята русскими войсками. Русский Народный Совет этот вопрос особенно интересовал, потому что Временное правительство всячески потакало украинизации подконтрольных тогда России восточных частей Галиции и Буковины, назначая туда на административные должности заядлых ненькопатриотов. В резолюции Совета по «украинскому» вопросу отмечалось: «Приветствуя торжество права народов на свободное самоопределение, за которое русский народ Прикарпатья издавна боролся под австро-венгерским владычеством и стоя твердо и непоколебимо за него, а также за полную свободу развития особенностей каждого русского племени, Русский Народный Совет Прикарпатской Руси указывает на то, что русская культура и русский литературный язык созданы общими усилиями всех русских племен и составляют их общее достояние, и высказывает свое глубокое убеждение, что ни одно русское племя не вправе отказываться от созданных при его участии русской культуры и общерусского литературного языка; что образование из отдельных племен единого русского народа новых самостоятельных народов является начинанием искусственным, противоестественным и антикультурным; что таким же начинанием следует признать также все теперешнее „украинское“ движение, которое, не считаясь с национальным сознанием народных масс и оставаясь под сильным внешним влиянием, стремится из южно-русского или малорусского племени создать отдельный и самостоятельный „украинский“ народ; что теперешнее отношение Временного правительства к украинскому движению является роковым заблуждением, кроящем в себе грозные опасности для России и русского народа» {229}.
В другой резолюции — «По поводу украинизации Галичины и Буковины», отмечалось: «Русский Народный Совет Прикарпатской Руси со всей решительностью осуждает украинизирующую политику оккупационных властей в занятых областях Прикарпатской Руси, которые в последнее время для местного русского населения вводят насильственное название „украинский“, русское население занятых областей подчиняют киевской „Украинской Центральной Раде“, ставя от ее удостоверений в зависимость разрешение на въезд уроженцев страны в занятые области, издеваются над русским сознанием местного русского населения, объявляя его национальное сознание „недопустимым москвофильством“, русских общественных деятелей страны преследуют и подвергают остракизму, одних не допуская в занятые области, другим угрожая высылкой из родной страны. Русский Народный Совет Прикарпатской Руси требует скорейшего отозвания из занятых областей администраторов украинских агитаторов-шовинистов с Дорошенком во главе, оскорбляющих национальные чувства местного русского населения, и замены их образованными, честными и беспристрастными русскими деятелями, которые, предоставляя населению полную свободу национального самоопределения и ни в чем не задевая его национального самосознания, занимались бы только управлением и устройством исстрадавшейся и разоренной страны» {230}.
Протесты слышались отовсюду. Против украинизации выступали общественные организации и частные лица, преподаватели вузов и учителя гимназий, студенты и школьники, чиновники различных учреждений, многие газеты. «В свободном российском государстве, построенном на точно соблюдаемых правовых основах, всем гражданам должна принадлежать свобода культурно-национального самоопределения, и поэтому тем из малороссов, которые считают себя украинцами, то есть представителями полностью отдельного народа, должна принадлежать широкая свобода культурно-национального самоопределения, но только при условии недопущения никаких проявлений принудительной украинизации тех малороссов, которые считают себя русскими» {231},— отмечалось в одном из опубликованных в печати заявлений представителей коренного населения Малороссии. Однако малороссов, считающих себя украинцами, то есть представителями отдельной от великороссов нации, за исключением кучки «национально сознательных» деятелей просто не существовало. Это прекрасно понимали как противники украинизации, так и ее сторонники. «Наше несчастье было, что политические возможности открылись перед нами ранее, чем были созданы твердые культурные национальные основы. Вы справедливо сожалеете о недостатке национальной сознательности» {232},— писал одному из своих соратников М. С. Грушевский.
Сложившаяся ситуация очень беспокоила украинских деятелей, особенно в связи с приближением выборов в Учредительное Собрание, которое должно было определить судьбы народов России. «В будущем Учредительном Собрании украинский вопрос станет на совершенно особую ступень, чем любая другая из национальностей, населяющих Россию,— предупреждали активисты украинского движения своих единомышленников.— В то время как к латышам, армянам, полякам, литовцам и т. д. Учредительное Собрание отнесется, хоть бы и вопреки желанию великороссов, благосклонно и предоставит им право широкого национального самоопределения,— по поводу украинцев встанет вновь тот же исторический вопрос: „существует ли украинский народ?“ Уже согласно исторической традиции Учредительное Собрание России поиск этого народа поставит на повестку дня. Решая же раз поставленный вопрос, это собрание потребует доказательств (это вполне понятно!) существования его. Таким образом, мы вплотную подошли к вопросу о том, как нам себя вести ранее, чем соберутся представители разных народов в Учредительное Собрание».
Ответ на этот вопрос украинофилам был ясен: «Мы становимся не только свидетелями, но активными участниками значительных исторических событий. Звучит лозунг: „Укрепляемся на тех позициях, которые не нам принадлежали. Берем себе все захватным порядком“. Не стоит ли между прочим и украинцам большее свое внимание обратить на этот лозунг?» {233}
Именно стремлением «захватить не свое», спешно создать «доказательства» существования «отдельного украинского народа» и объяснялась проводимая «национально сознательными» деятелями оголтелая украинизация, вызвавшая массу протестов. Сам академик А. А. Шахматов заявил, что если бы знал, во что выльется изобретение нового языка, то никогда не стал бы ему содействовать {234}.
Но раскаяние известного фальсификатора запоздало. Ни протестов, ни предостережений новые властители Украины не слушали. Мова силой вводилась повсюду: от вузов до магазинных вывесок. «Наверное, еще нигде в мире не было такого, что наблюдаем мы сейчас на Украине; наверное, нигде сразу столько людей не училось новому для себя языку, как учатся сейчас украинскому языку. Это неслыханное в истории явление, это одна из самых больших побед порабощенного народа, который ломает свои вековые пута» {235},— восторженно писала украинофильская пресса.
Не забыли поквитаться и с И. С. Нечуй-Левицким. Лишенный всех средств к существованию, писатель умер в апреле 1918 года в полной нищете в одной из киевских богаделен, так и не дождавшись обещанной пенсии от «украинского правительства». (Между прочим, царское правительство пенсию ему платило.)
Вот только сводить счеты с отдельными людьми оказалось легче, чем заставить всех или хотя бы большинство малороссов признать чуждый им язык «рідной мовой». Интересные в этом отношении факты приводятся в мемуарах члена Центральной Рады М. И. Мандрыки, посланного новообразованным украинским правительством (генеральным секретариатом) летом 1917 года украинизировать Радомышльский уезд Киевской губернии. Эта задача, как пишет Мандрыка, «была мне очень по душе» {236}. «Национально сознательный» деятель самодовольно вспоминал, как «чистил» управленческий аппарат уезда «от московского элемента и верных Москве малороссов». С каким-то садистским наслаждением описывает он, как уволил из земской управы проработавшего там многие годы старика, который, хоть и происходил из знатного украинского рода, но не симпатизировал приверженцам «украинской национальной идеи» и до революции называл их «мазепинцами». «Таким образом,— пишет Мандрыка,— я имел чрезвычайное удовольствие выбросить его из его гнезда в земстве, несмотря на его слезы» {237}.
Со стариком украинизатор справился. «Печальной неожиданностью», однако, для него стало то, что даже после проведенной «чистки» оставшиеся сотрудники земской управы, все по происхождению украинцы, объявили «забастовку против украинского языка. Мотив — „нам трудно привыкнуть к украинскому языку, хотим вернуться к русскому“» {238}. Через несколько дней власти все-таки заставили забастовщиков «согласиться с украинским языком», но языковый вопрос оказался проблемой далеко не местного значения. Мандрыка столкнулся с этим и в Киеве, когда по делам уезда поехал в центральнорадовский генеральный секретариат финансов. Нужно было подготовить некоторые документы, но начальник департамента в этом ведомстве «не умел по-украински — диктовал машинистке по-московски (она также не знала языка). Когда же она напечатала продиктованное, отдала переводить хлопцу из Галиции, который был официальным украинизатором бумаг. Наконец, в течение половины дня, бумаги были подготовлены на украинском языке» {239}.
Такой же была ситуация в других местностях. «Украинцы у нас хотят во что бы то ни стало украинизировать город и все его учреждения… Но вся беда в том, что все рабочие, украинского и неукраинского происхождения, определенно высказываются против украинизации» {240},— сообщал, например, из Луганска в газету «Правда» председатель местного комитета РСДРП(б) К. Е. Ворошилов. Печатные органы украинского движения признавали, что не только интеллигенция и рабочие в «русифицированных городах», но и крестьяне по селам требовали сохранения для своих детей в школе преподавания на русском языке и выступали против украинизации, поверив «тем врагам народа, которые нападали на наш язык и насмехались над ним» {241}.
Проведенное при Центральной Раде по всей Украине анкетирование родителей школьников выявило, что подавляющее их большинство против перевода системы образования на украинский язык. Категорически против украинизации высказался и Всеукраинский съезд родительских организаций, состоявшийся в июне 1918 года в Киеве. Как отмечалось на съезде, «русская культура в то же время и наша, украинская», а «ослабление русской культуры на Украине привело бы к общему понижению культуры, что гибельно отразится на всех сторонах жизни Украины» {242}.
Такое «враждебное отношение родительских комитетов к украинизации» {243} вызвало бурное возмущение ненькопатриотов. «Государство имеет свои нужды, свои интересы, свою волю и эту волю объявляет через свои общегосударственные органы, а не через мнение случайной части населения — родителей нынешних учеников,— писал один из «национально сознательных».— Государственные школы не для тех только, кто сегодня учится, а для всего народа» {244}.
Любопытно, что когда противники украинизации предложили как раз и выяснить мнение всего народа, вынеся вопрос о языке на всенародный референдум (плебисцит), ненькопатриоты тут же заявили, что народ на Украине «не сознательный», представляет из себя «амфорную этнографическую массу», а не нацию. Поэтому-де спрашивать его незачем. «Раз признан принцип обучения на родном языке, как принцип единственно педагогический, никаким плебисцитам, анкетам не место. А если уж и проводить плебисциты, то нужно сначала создать соответствующие психологические условия, нужно после того, как украинскому народу веками прививалось презрение к родному языку, сначала поднять сознание народа, а тогда уже проводить плебисцит» {245}.
Вопрос о том, какой язык в действительности родной для украинцев, «национально сознательные» старались обходить. Но жизнь сама поставила этот вопрос. На состоявшихся в 1918 году всеукраинских съездах учителей и журналистов отмечалось, что крестьяне, собираемые на сельские сходы, не понимают украинского языка и часто после выслушивания речей правительственных уполномоченных на «державной мове» требуют перевести сказанное на русский язык {246}. «Новые законы… деревенское население не в состоянии усвоить по официальному тексту, и оно ждет русского перевода» {247},— подчеркивалось в направленном в Киев сообщении «Союза хлеборобов Полтавщины». С аналогичными трудностями столкнулись «национально сознательные» и в Подолии. Как вынужден констатировать современный украинский исследователь, украинизацию этого региона сильно сдерживало то обстоятельство, что «большинство населения слабо владело украинским литературным языком» {248}.
«Почти все образованные люди на Украине, за немногочисленным исключением, употребляли русский язык,— признавал Д. И. Дорошенко, занимавший при Скоропадском должность министра иностранных дел.— …Да и в народе уже исчез тот чистый украинский язык, который мы видим в произведениях Мирного, Левицкого, Гринченко. Его приходится возрождать главным образом с помощью школы» {249}. На самом деле «чистый украинский язык» вышеуказанных писателей не «уже исчез», а никогда не употреблялся народом, но такого самоубийственного признания ненькопатриот позволить себе не мог. Он только проговорился, что даже с помощью школы возрождать «рідну мову» оказалось затруднительным — ее не знали не только ученики, но и учителя-языковеды. «Нельзя было одними декретами заводить украинский язык в школе, так как они все равно оставались бы на бумаге, нужно было дать возможность самим учителям овладеть языком, подготовиться к преподаванию на нем, подготовить все необходимые учебники, установить терминологию и т. д.» {250}
Знаменитый «батько» Махно в написанных уже в эмиграции мемуарах вспоминал, что когда агитаторы Центральной Рады на митингах пропагандировали идею борьбы с «кацапами — гнобителями мови», то «такая идея оскорбляла крестьян. Они стягивали с трибуны проповедников и били как врагов братского единения украинского народа с русским» {251}. Нестор Иванович, наверное, и представить себе не мог, что спустя десятилетия некоторые публицисты его самого будут выставлять борцом за «украинскую национальную идею».
Другому «батьке», красному командиру В. Н. Боженко, памятному людям старшего поколения по кинофильму «Щорс», как-то пришлось решать вопрос о показе украинского спектакля. (Время тогда было такое, что деятельность театров зависела от усмотрения контролировавшего соответствующую территорию «батьки».) Посетив репетицию, Боженко вынес «вердикт»: «Пьесу разрешаю, но запрещаю как написанную на контрреволюционном языке». Иными словами, не имея претензий к содержанию пьесы, коренной украинец, уроженец глухого села Васыль Боженко, в отряде которого в основном находились украинские крестьяне, посчитал язык, на котором собирались ставить спектакль (то есть ту самую «рідну мову»), выдумкой Петлюры. Об этом случае на заседании Союзного ЦИК рассказал В.П. Затонский {252}.
Уместно привести и строки из воспоминаний В. К. Винниченко, возглавлявшего правительство Центральной Рады и петлюровской Директории. В январе 1918 года, спасаясь от наступающих красных отрядов, он бежал из Киева и, выдавая себя за обычного гражданина, восемь дней провел в поезде, тесно общаясь с крестьянами, рабочими и солдатами. «Я рекомендовал бы всем правителям и правительствам время от времени проехаться по своей земле в вагонах для скота, набитых их народом и, смешавшись с ним, послушать его,— писал потом украинский премьер-министр.— Это полезнее, чем несколько десятков совещаний с парламентскими фракциями. Я в то время уже не верил в особую симпатию народа к Центральной Раде. Но я никогда не думал, что могла быть в нем такая ненависть». Побеседовав с простыми украинцами, Винниченко был поражен тем, «с каким презрением, злостью, с каким мстительным издевательством говорили они о Центральной Раде, о генеральных секретарях, об их политике. Но что было в этом действительно тяжелое и страшное, так это то, что они вместе высмеивали и все украинское: язык, песню, школу, газету, книгу украинскую» {253}.
О том же пишет в воспоминаниях большевик И. К. Михайлов, возглавивший в начале 1918-го года (после установления советской власти) Таращанский уезд Киевской губернии. Ему пришлось налаживать там работу аппарата управления. Сделать это было чрезвычайно трудно, поскольку почти вся интеллигенция (т. е. образованная часть общества, из которой должны черпаться управленческие кадры) была против большевиков. Сотрудничать с новой властью согласились лишь несколько «национально сознательных» учителей, выдвинувших при этом условие, чтобы в работе органов власти использовался украинский язык. Договорились, что все воззвания к населению будут печататься на украинском языке (как пишет Михайлов: «на украинском-галицийском языке»), а внизу под украинским текстом будет расположен русский.
Именно так и было напечатано «воззвание главнокомандующего Красной гвардии товарища Крыленко с призывом вести самую отчаянную борьбу с немцами» (тогда как раз началось наступление германских войск, приглашенных на Украину удравшей из Киева Центральной Радой). Воззвание было разослано по всему уезду, а сам И. К. Михайлов вышел прогуляться по Тараще, чтоб посмотреть, «как будет относиться местное население к призыву. Останавливаюсь на улице у толпы, читающей на заборе наше воззвание. Читает кто-то громко по-галицийски. Все слушают.
— На яком же это собачьем языке напечатано? — спрашивают многие.
Кто-то начал читать воззвание по-русски.
— Во це по нашему напечатано,— как бы в один голос заявляют слушатели.
— Читай громче, теперь понимаем, а то не по нашему было. Будем бить немца, нам его не жалко! — заключают в конце собравшиеся» {254}.
Думается, вышеприведенные примеры дают четкий ответ на вопрос: какой язык народ Малороссии на самом деле считал своим и как он воспринимал «рідну мову»? Неудивительно поэтому, что несмотря на все усилия и насилия Центральной Рады, гетмана Скоропадского и петлюровской Директории, быстрой украинизации не получилось.
Настоящий успех пришел к украинскому языку уже в советское время. Социалистический период истории Украины сегодня оценивается по-разному. Несомненно, однако, что именно за годы советской власти украинский язык, говоря словами видного мовознавца, пылкого украинизатора А. Н. Синявского, «из языка жменьки полулегальной интеллигенции до Октябрьской революции волей этой последней становится органом государственной жизни страны» {255}.
Разумеется, все случилось не в один миг. До революции малороссы сознавали себя такими же русскими, как и великороссы. Они и слышать не хотели о каком-то «украинском языке» и «украинской национальной идее». «Всякую украинофильскую пропаганду мы отвергаем, ибо никогда не считали и не считаем себя нерусскими, и с какой бы хитростью ни старались услужливые гг. Милюковы вселить в нас сознание розни с великороссами, им это не удастся. Мы, малороссы, как и великороссы, суть люди русские» {256},— говорил на заседании Государственной Думы депутат от Подольской губернии, крестьянин Андрийчук в ответ на попытку лидера российских либералов П. Н. Милюкова организовать в российском парламенте поддержку языковых «крестоносцев». «Мы — русские, и никто не вправе про нас сказать иначе» {257},— подчеркивал другой крестьянский депутат (и почти однофамилец предыдущего), представитель Волынской губернии Андрейчук.
Самостийные правители Украины столкнулись с острым нежеланием малороссов отделять себя в национальном отношении от великороссов. Отсутствие поддержки в народе вынудило вождей украинского движения отказаться от свободных всеукраинских выборов в Центральную Раду. «Мы на это не посмели решиться» {258},— признал М. С. Грушевский. Рада так и осталась сборищем «национально сознательных» деятелей, никого, кроме самих себя, не представлявших («Банда фанатиков, без всякого влияния» {259},— так охарактеризовал ее французский консул в Киеве).
Когда летом 1917 года Временное правительство предложило передать под контроль Центральной Рады все территории, население которых через свободно избранные органы местного самоуправления (как раз проходили выборы в местные органы власти) выскажется за автономию Украины, Грушевского и его соратников охватила паника. Они-то прекрасно знали о подлинной «популярности» в народе «украинской национальной идеи». В результате Рада быстро сговорилась с правительством Керенского, получив в свое распоряжение, вместо всей Украины, только часть ее (без Екатеринославской, Таврической, Харьковской и Херсонской губерний), зато без учета мнения населения.
Впрочем, мнение это выявилось во время начавшейся скоро гражданской войны. Большинство украинцев, принявших в ней участие, воевали в рядах красной или белой армий. Лозунги «самостийной Украины» почти не находили приверженцев. «„Самостийничество“ как политическая идея было настолько непопулярно,— свидетельствовал член Центральной Рады, а позднее — заместитель премьер-министра и министр внутренних дел в одном из петлюровских правительств А. Ф. Саликовский,— что даже в прошлом (т. е. 1917-м.— Авт.) году в начале октября на всеукраинском военном съезде в Киеве самостийники составляли самый маленький процент, и их появление на трибуне вызвало возмущение» {260}.
«Наша беда в том, что у украинского селянства еще совершенно нет национального самосознания,— жаловался большевику А. Мартынову еще один украинский деятель.— Наши дядьки говорят: мы на фронте из одного котла ели кашу с москалями, и нам незачем с ними ссориться. Чтобы создать свою Украину, нам необходимо призвать на помощь чужеземные войска. Когда иностранные штыки выроют глубокий ров между нами и Московией, тогда наше селянство постепенно привыкнет к мысли, что мы составляем особый народ» {261}.
«Разве все украинцы за Украину стояли? Нет, еще были миллионы несознательного народа по городам и селам, который ратовал за Россию, выдавал себя за русских, а украинство, вслед за московской пропагандой — за „немецкий вымысел“» {262},— свидетельствовал петлюровский министр Н. Е. Шаповал. А крупнейший историк из украинской диаспоры О. Прицак констатировал, что «в 1917—1920 гг.… украинцы-крестьяне не сознавали ни необходимости, ни возможности создания своего собственного государства» {263}.
Интересный эпизод, наглядно демонстрирующий тогдашние взгляды украинских крестьян, приводит в своих воспоминаниях некий Яков Струхманчук (очевидно, его настоящая фамилия — Струхман), служивший в Украинской галицкой армии (УГА). В 1919 году остатки разгромленной поляками УГА покинули Галицию и перешли на территорию Подольской губернии, влившись в ряды петлюровского войска. В одном из сел галичане обнаружили памятник императору Александру II, о чем Струхман тут же донес начальству. Однако военное командование, опасаясь вызвать недовольство населения, распорядилось «не трогать царя». Струхман никак не мог успокоиться по этому поводу. В конце концов, он «позволил себе на собственную руку „сделать в селе революцию“ и приказал стрельцам снять царя», что и было исполнено. Возмущение крестьян было так велико, что петлюровское командование вынуждено было назначить расследование инцидента, обещая строго наказать виновных. И хотя виноватых, естественно, «не нашли», в частном порядке командиры упрекали Струхмана за самоуправство, поссорившее стрельцов с крестьянами {264}. Видимо, память о русском царе (кстати, том самом, который подписал Эмский указ) была для подольских селян дороже «украинской национальной идеи».
И во времена Киевской Руси, и позднее, когда Русь стали подразделять на Малую, Великую и Белую, на всем протяжении тысячелетней истории русичи в национальном отношении являлись одним народом. Разве что казаки (донские и запорожские) одно время объявляли себя особой «казацкой нацией» и отделялись таким образом от малорусских и великорусских крестьян (например, крестьян-малороссов малороссы-казаки презрительно именовали «гречкосіями» и, конечно, не собирались родниться с ними). Но та казацкая вольница в термины «нация» и «народ» вкладывала совсем иной смысл, чем вкладывает в эти термины наука.
Наука же (этнография, история, филология, этническая психология, антропология) вполне определенно установила, что между великороссами и малороссами гораздо меньше разницы, чем между до сих пор считающимися одними нациями великополянами и малополянами в Польше, немцами Верхней и Нижней Германии, северными и южными французами. Мнения о малороссах и великороссах как двух ветвях одной нации вплоть до XX века единодушно придерживалось абсолютное большинство ученых как отечественных, так и зарубежных. К примеру, крупнейший чешский историк-славист, профессор Пражского университета Л. Нидерле отмечал, что между малороссами и великороссами «столь много общих черт в истории, традиции, вере, языке и культуре, не говоря уже об общем происхождении, что с точки зрения стороннего и беспристрастного наблюдателя это только две части одного великого русского народа» {265}. (Вышеприведенное положение, содержащееся в чешском и французском изданиях книги профессора Нидерле «Обозрение современного славянства», таинственным образом исчезло из русского издания, осуществленного в 1909 году Академией наук. Либеральные академики готовы были идти на сокрытие истины, лишь бы не навредить своим «крестоносным» союзникам).
Польский ученый, этнограф Я. Ящуржинский, рассматривая этнографические типы великоросса и малоросса, указывал: «Индивидуальные особенности, которыми обрисовывается тот и другой, не представляют столь резких черт, на основании которых можно было бы сделать вывод о совершенной противоположности этих двух племен. Черты, различающие их, в общей сложности своей уступают количеству сходных сторон, которыми они соприкасаются между собою и составляют таким образом одно этнографическое целое» {266}. В свою очередь, немецкий ученый А. Геттер подчеркивал, что русские «представляют собой один народ, но так же, как французы и немцы, распадаются на несколько ветвей». «Подобно тому, как есть разница между северными и южными французами или северными и южными немцами, так существует она между северо- и южнорусскими» {267} (северорусскими А. Геттер называл великороссов, южнорусскими — малороссов).
Противоположного мнения придерживались лишь некоторые австрийские и немецкие ученые, близкие к правительствам этих стран. Однако в данном случае «ученые мужи» занимались не наукой, а пропагандой, пытаясь расколоть и ослабить крупнейшего геополитического противника Германии и Австро-Венгрии — Российскую империю. Точно так же австро-германские политики от науки боролись против другого геополитического соперника — Франции, пытаясь популяризировать теорию об отдельной южно-французской (провансальской) нации, «порабощенной» северными французами, и о «провансальском национальном возрождении» (о силезском и боснийском «национальных возрождениях», имеющих аналогичное происхождение, уже упоминалось).
Трудно сказать, как сложилась бы судьба Франции, если бы там в 1917 году произошла революция, в результате которой власть в Провансе захватили бы тамошние грушевские и петлюры. Как бы там ни было — этого не случилось. На юге Франции не провозглашалась «Провансальская народная республика», не проводилась насильственная провансализация, не объявлялся вне закона французский язык. После поражения Германии в первой мировой войне поддерживаемое из Берлина провансальское движение сошло на нет.
В России все сложилось иначе. Первую мировую войну она проиграла. В результате вышвырнутые с Украины собственным народом вожди Центральной Рады вскоре вернулись в обозе немецких оккупационных войск. В течение года украинофилы насаждали здесь самостийническую идеологию. Правда, несмотря на активную помощь немцев, особого успеха все-таки не достигли. «Трудность положения на Украине состоит в том, что центральная рада, кроме наших войск, не имеет за собой никого. Как только мы уйдем, все пойдет насмарку», {268}— записывал в своем дневнике 12 марта 1918 года генерал М. Гофман, начальник штаба германского Восточного фронта.
Осознав, что имеют дело с политическими банкротами, немцы разогнали Раду и вручили власть гетману П. П. Скоропадскому, надеясь, что при нем строительство «незалежной державы» пойдет быстрее. Но надежды не оправдались. «Я боюсь только, как бы созданная с таким большим трудом Украина не пошла опять насмарку» {269},— записывал Гофман в дневник 6 мая. «Никакого украинского национального движения мы на Украине не видим… Для того, чтобы оно существовало, нужно проводить соответствующую работу на селе, а такой работы что-то не видно» {270},— заявили представители германского командования делегации ненькопатриотов. «Дело национальной государственности переходило в очень опасное состояние,— вспоминал А. Ф. Саликовский.— Помимо сознательных элементов народа, которых было пока что не так много, как, скажем, в Галиции, и помимо демократических кругов украинской интеллигенции, идея национального украинского государства не имела сторонников» {271}.
Еще хуже «розбудова державы» пошла после захвата власти С. В. Петлюрой. Формально восстание, в ходе которого в декабре 1918 года был свергнут гетман Скоропадский, возглавлялось Директорией. Но фактически, как признает все тот же А. Ф. Саликовский, основную массу повстанцев составляли большевистски и анархически настроенные элементы. Устоять с таким войском против красных у Петлюры не было ни единого шанса. «Армия народной республики билась с большевиками неохотно и отступала даже без всякого повода. Единственной опорой Республики были галицкие воинские части, но их было очень мало и с ними нужно было обращаться очень бережно, чтобы не остаться и без этой небольшой силы» {272}.
Итог петлюровской авантюры известен. В начале 1919 года Красная Армия, не встречая серьезного сопротивления, заняла большую часть Украины. Петлюровцы бежали в западном направлении. Именно к этому времени относится известная поговорка: «В вагоне — Директория, под вагоном — территория» (т. е. территория, контролируемая петлюровским правительством, ограничивалась землей под железнодорожным вагоном, где это правительство помещалось). Правда, в конце лета 1919 года, когда силы большевиков были отвлечены на борьбу с Деникиным, Директории удалось вновь захватить часть Правобережной Украины, но ненадолго. Осенью того же года петлюровцев разгромили деникинцы. Когда же (в декабре 1919 г.) белогвардейцы потерпели поражение от большевиков, Красная Армия без труда разбила вновь попытавшегося высунуться Петлюру. Не имевшее никакой опоры в народе, жовто-блакитное воинство не являлось серьезным противником ни для белых, ни для красных.
Крах «национально-освободительной» борьбы вызвал в украинских кругах шквал критики по адресу С. В. Петлюры и его ближайшего окружения. Но причина поражения самостийников была не в том, что петлюровское правительство состояло из «законченных идиотов» {273} (так считал Степан Баран, заместитель председателя Украинского Национального Совета, представительного органа, созданного украинскими политическими партиями вместо парламента), из людей «прямо страшных по своему интеллектуальному убожеству» {274} (так характеризовал украинских министров А. Доценко, личный адъютант Петлюры) или из деятелей, не способных к «мудрой политике» {275} (точка зрения А. Ф. Саликовского). Хотя и с вышеприведенными мнениями трудно не согласиться (кто же еще, кроме умственно отсталых субъектов, мог в то время поверить в «украинскую национальную идею»?). Главная причина краха петлюровщины заключалась в том, что абсолютное большинство коренного населения Малороссии просто не воспринимало идею национального и политического сепаратизма, отделения от Великороссии. «Приходилось иметь дело с темными, необразованными массами, которых со всех сторон окружают элементы, враждебные национально-демократическим идеалам, написанным на знамени украинской народной власти» {276},— объяснял Саликовский. «Невысокой национальной сознательностью народных масс с рабской психологией» {277} оправдывал неудачу Петлюры А. Доценко. А сам С. В. Петлюра, сбежавший в Польшу и обозленный отсутствием народной поддержки, назвал украинцев «недозрелой нацией» {278}.
Крупнейший теоретик украинского самостийничества Вацлав Липинский (старательно именуемый современными «национально сознательными» публицистами Вячеславом) жаловался, что 99 % украинского народа составляют «денационализированные малороссы» {279} и, следовательно, «большинство украинцев — это как раз наиболее наглядное и яркое доказательство невозможности существования Украины» {280}. В другой работе он отмечал: «Нации украинской еще нет и — пока не будет на Украинской Земле отдельного и суверенного государства — ее не может быть. Ни одна нация в мире — нация, как факт реальный, а не идеологический — не родилась ранее государства: всегда сначала было государство, а потом была нация. Точно так же и украинская нация не может начать родиться с конца, так как такие „рождения“ и „возрождения“ существуют только в фантазиях беллетристов. Эти — которые сегодня зовут себя „украинской нацией“ — это только часть местного украинского общества, причем часть как раз к строительству государства наименее пригодная» {281}.
Строки эти были написаны в середине 1920-х годов. Гражданская война уже завершилась, надежды украинских деятелей на построение своего государства рухнули и, как считал В. К. Липинский, «украинская национальная идея» надолго лишилась перспектив. По его мнению, пока держится на Украине советская власть, ни об украинском государстве, ни, тем более, об украинской нации не может быть и речи. Но Вацлав Казимирович ошибся — украинское государство создали именно большевики.
К оценке того, как разрешался национальный вопрос на Украине в советское время, следует подходить взвешенно. Вряд ли можно возражать против лозунга самоопределения наций, провозглашенного революцией. Другое дело, что при осуществлении этого лозунга на практике не удалось избежать ошибок и перегибов. Отчасти сказалась неопытность ряда руководителей молодого государства, отчасти — и об этом тоже надо сказать — наличие среди этих руководителей злобных русофобов (Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин и др.). Необходимо учесть и те условия, в которых приходилось принимать решения. Сначала жесточайшая гражданская война и интервенция. Затем государственное строительство в условиях враждебного внешнего окружения и постоянной угрозы военного вторжения. Сложная внутриполитическая ситуация.
Значительно отразилась на национальной политике ультрареволюционная идеология, стремление «весь старый мир разрушить до основанья». Партийные идеологи отмечали, что идеи социализма легче прививать вновь возникшим нациям, лишь начинающим культурное развитие, чем нациям с уже устоявшимися культурными традициями, проникнутыми «монархическим и черносотенным или буржуазным содержанием». Народы, только осознающие себя как национальности, приобщаясь «к новой, создающейся у них культуре», «имеют счастье получить сразу здоровую, марксистскую, революционную пищу, не испытывая в то же время влияния чуждых и вредных идеологических течений (не считая религии)» {282}. Оторвать малорусскую ветвь русского народа от корней, создать из нее нечто новое, более податливое для восприятия социалистических идей — такая перспектива привлекала революционеров.
«Что может навредить ясности развития пролетарской литературы в России — ее своеобразному расцвету?» — ставил вопрос сторонник революционной украинизации А. М. Лейтес и тут же отвечал на него: «Этому мешают великие традиции старой русской литературы. Пролетарский поэт, который творит вчерашним языком помещичьей и буржуазной культуры, неосознанно (и психологически неизбежно) заражается языком этой культуры, эмоциональными наслоениями, которые оставила старая культура в русском литературном языке. Бытие определяет сознание. Это касается и „общественного бытия языка“. Не только поэт обрабатывает слова, но и слова, которыми пользуется поэт, обрабатывают этого поэта. Бытие русского литературного языка очень часто создает депролетаризацию сознания многих талантливых пролетарских поэтов, которые этим языком пишут… Нигде так не крепок закон наследования, как в области культуры. Ничто так постепенно не прорастает, как новая культура из культуры старой». Поэтому, считал Лейтес, социалистическую культуру на Украине лучше строить опираясь на украинский литературный язык, «не загипнотизированный мертвой культурой прошлого» {283}.
На те же преимущества для строителей социализма указывал ярый украинизатор В. М. Ганцов, замечавший, что «главная разница» между украинским и русским литературными языками состоит в том, что украинский язык — язык новый, лишенный «тех давних традиций, которые неразрывной цепью вяжут русский литературный язык со старыми веками… В новом украинском литературном языке, который сделался органом новой литературы, мы не видим уже старых традиций, какими питался язык предыдущих веков» {284}. Действительно, украинский язык нельзя было назвать «языком буржуазно-помещичьей культуры», и с этой точки зрения он вызывал у революционеров большие симпатии.
Свою роль в выборе курса на украинизацию сыграло и то обстоятельство, что большинство украинских «национально сознательных» деятелей объявили себя сторонниками социализма. Они готовы были идти на компромисс с советской властью в обмен на уступки в языковом вопросе. «Я убежден, что нам очень нужно взаимопонимание с большевиками, а не их падение, которое принесет Украине новую руину и реакцию» {285},— заявлял в начале 1920-х годов М. С. Грушевский. В то же время противники украинства, как правило, придерживались правых убеждений и были непримиримыми противниками установившейся власти. (К примеру, отделения Всероссийского учительского союза на Украине пытались бороться с большевиками, организовывая акты саботажа и бойкотируя представителей новой власти. А вот Центральное бюро украинофильской «Всеукраинской учительской спилки», наоборот, разослало в свои местные организации специальную инструкцию, призывавшую «национально сознательных» учителей «принять самое ближайшее участие в культурно-просветительской работе Советской власти, обходя всякие намеки на саботаж и невмешательство» {286}.)
Кроме того, украинофилы имели репутацию пострадавших от царизма и новая революционная власть не хотела обижать тех, кто и так «настрадался» при «царском режиме». «Первоначальная борьба за украинскую народную школу и родной язык, которая проводилась буржуазными и мелкобуржуазными идеологиями украинофильства (украинского национализма), являлась по своей сути революционной, так как ее удары были направлены против царского правительства и помещичьего гнета» {287},— говорилось в партийных документах.
Была образована отдельная, формально самостоятельная Украинская Советская Социалистическая Республика, правительство которой оказывало развитию украинского языка всяческую поддержку. В специальном постановлении народного комиссариата просвещения Рабоче-крестьянского правительства Украины, принятом в 1919 году, отмечалось, что украинцы являются национальностью, отличной от русской, «сами того не сознавая». В связи с этим перед органами советской власти была поставлена задача «активно работать в сторону развития украинского языка и украинской культуры» {288}.
Правда, не все было так однозначно. Как отмечает «национально сознательный» историк, «советская власть стояла на почве самоопределения наций и полного свободного их развития, отбрасывая всякую национальную несвободу. Такой была принципиальная позиция, но проведение в жизнь этого принципа поручено было местам. Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) предоставил право населению на местах определять язык, на котором следует вести обучение в школах» {289}. Этим, ошибочным, с точки зрения ненькопатриотов, решением Наркомпрос «одной стороной» приближался к той части общества, которая «требовала решения дела о языке обучения с помощью плебисцита». Но все же «другой стороной» он стоял на другой позиции, заявив в том же декрете, что «ставит своей целью активно работать в пользу развития украинского языка и украинской культуры». На практике все зависело «от тех, кто стоял во главе местных органов народного образования. На Полтавщине, части Черниговщины и Киевщины украинская школа и образование продолжали свое развитие полным темпом (т. е. так же, как при Петлюре.— Авт.), украинское учительство фактически близко стояло к просветительной работе Советской власти. На периферии было иначе… Широкая децентрализация и вышеупомянутый принцип перенесения дела об языке обучения на усмотрение местного населения давали возможность элементам, враждебно или неприязненно настроенным к украинской школе, использовать обстоятельства и фактически разрушать украинскую школу и образование» {290}.
Таким образом, как признает «национально сознательный» автор, украинский язык могли насаждать только силой. Там, где решение вопроса ставилось в зависимость от волеизъявления народа, украинизаторы неминуемо терпели поражение.
И все-таки общее направление советской политики было в пользу ненькопатриотов. Во «Временной инструкции» Наркомата просвещения УССР для учреждений образования, датированной 27 февраля 1920 года, от администраций школ требовалось вести «решительную борьбу… с вольной или невольной инерцией русификации» и сосредоточить на поддержке обучения на украинском языке «все усилия» {291}. 9 сентября 1920 года на заседании политбюро ЦК КП(б)У рассматривался проект закона об украинизации. Ввиду серьезности планируемых мер, проект отправили на доработку.
Нельзя сказать, что руководители партии и правительства не разбирались в украинском вопросе. Сам В. И. Ленин еще в январе 1917 года получил на этот счет прекрасную информацию, встретившись в Швейцарии с бежавшим из немецкого плена солдатом-малороссом. Как писал Владимир Ильич Инессе Арманд, солдат этот (малорусский крестьянин, родом из Воронежской губернии) «пробыл год в немецком плену (вообще там тьма ужасов) в лагере из 27 000 чел. украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России; украинцам подослали ловких лекторов из Галиции». Однако, несмотря на все старания агитаторов, только 2 тыс. военнопленных согласились последовать за самостийническими лозунгами (причем большинство таких новоявленных самостийников просто стремились добиться улучшения условий своего содержания и забывали о самостийничестве сразу же по освобождении из лагеря). Остальные 25 тыс. человек «впадали в ярость при мысли об отделении от России». «Факт знаменательный! Не верить нельзя. 27 000 — число большое. Год — срок большой. Условия для галицийской пропаганды — архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх!» {292} — замечал Ленин.
В свою очередь, видный деятель КП(б)У, ярый украинизатор В. П. Затонский (неоднократно занимавший пост наркома просвещения УССР) вспоминал, что в 1918 году «широкие украинские массы относились с таким презрением к Украине. Почему это так было? Потому что тогда украинцы были с немцами, потому что тянулась Украина от Киева аж до империалистического Берлина. Не только рабочие, но и крестьяне, украинские крестьяне не терпели тогда „украинцев“ (мы через делегацию Раковского в Киеве получали протоколы крестьянских собраний, протоколы в большинстве были с печатью сельского старосты и все на них расписывались — вот видите, какая чудесная конспирация была). В этих протоколах крестьяне писали нам: мы все чувствуем себя русскими и ненавидим немцев и украинцев и просим РСФСР, чтобы она присоединила нас к себе» {293}.
Во время гражданской войны многие большевики, работавшие на Украине, отмечали, что все так называемое «украинское национальное движение» — фикция. «Игры» в создание отдельной Украинской ССР они считали ненужными, поскольку население Украины вовсе не требует отделения от России. Не только рабочие, но и «99 процентов украинского крестьянства абсолютно не интересуются вопросом о самостоятельном украинском Совнаркоме» {294}. Тем не менее руководство советской России (в том числе председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин и нарком по делам национальностей И. В. Сталин) настаивало: отдельная (по крайней мере административно) советская Украина должна существовать. («Недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская национальность — выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов» {295},— заявлял И. В. Сталин на X съезде РКП(б), не приводя, впрочем, никаких доказательств существования такой национальности.)
Эта позиция вызывала удивление. И не только у местных, украинских партработников, но даже у некоторых «столпов» международного рабочего движения. Известная немецкая социал-демократка, позднее — одна из основательниц Коммунистической партии Германии, Роза Люксембург в специальной статье о русской революции, написанной после Брестского мира и оккупации немцами Украины, отмечала: «Большевики несут часть вины за то, что военное поражение России превратилось в крушение и распад страны. Они сами же в большей степени обострили трудности положения своим лозунгом, который они поставили во главу угла своей политики, так называемым правом наций на самоопределение или тем, что в действительности скрывалось за этой фразой — государственным развалом России… Поражают прежде всего упорство и жесткая последовательность, с которой Ленин и его товарищи держались за этот лозунг, который резко противоречит и их обычно ярко выраженному централизму политики, и их отношению к прочим демократическим принципам. В то время как они проявили весьма холодное пренебрежение к Учредительному Собранию, всеобщему избирательному праву, свободе печати и собраний, короче, ко всему ареалу основных демократических свобод для народных масс, образующих в совокупности „право на самоопределение“ для самой России, они обращались с правом наций на самоопределение как с сокровищем демократической политики, перед которым должны умолкнуть все практические возражения реальной критики» {296}.
Как подчеркивала Р. Люксембург, «реальные классовые противоречия и соотношение военных сил привели к германской интервенции. Но большевики создали идеологию, которая маскировала этот поход контрреволюции, усилили позиции буржуазии и ослабили позиции пролетариата. Лучшее доказательство — Украина, которой довелось сыграть столь роковую роль в судьбах русской революции. Украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский, не более чем просто причудой, кривляньем нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции, ибо Украина никогда не была ни нацией, ни государством, без всякой национальной культуры, если не считать реакционно-романтических стихотворений Шевченко. Буквально так, как если бы в одно прекрасное утро жители „Ватерканте“ (побережье Северного моря в районе Гамбурга—Бремена, где население говорит на нижненемецком диалекте.— Авт.) вслед за Фрицем Рейтером (известный литератор, писавший на нижненемецком диалекте.— Авт.) захотели бы образовать новую нижненемецкую нацию и основать самостоятельное государство! И такую смехотворную шутку нескольких университетских профессоров и студентов Ленин и его товарищи раздули искусственно в политический фактор своей доктринерской агитацией за „право на самоопределение вплоть“ и т. д. Первоначальной шутке они придали значимость, пока эта шутка не превратилась в самую серьезную реальность, впрочем, не в серьезное национальное движение, которое, как и прежде не имеет корней, но в вывеску и знамя для собирания сил контрреволюции! Из этого пустого яйца в Бресте вылезли германские штыки» {297}.
Лидеры партии большевиков ознакомились с мнением Р. Люксембург, но не согласились с ним. Национальная политика на Украине не изменилась. Украинский язык вводили в работу государственных учреждений, перевели на него большинство школ. Об интересной подробности этой политики рассказала Лидия Новгородцева (супруга известного русского ученого П. И. Новгородцева), оказавшаяся в конце гражданской войны в Полтаве и работавшая там учительницей в женской гимназии. После разгрома деникинцев и прочного установления в городе советской власти, в гимназию пришел приказ: украинизироваться. «Родительский комитет высказался единогласно против украинизации. Члены комитета указали между прочим на то, что они считают русский язык своим и что даже нет учебников, написанных на „украинском“ языке. Вскоре был получен вторичный приказ украинизировать школу и был прислан ящик с учебниками, напечатанными в Австрии для галицких школ. Большевицкое начальство даже не удосужилось вырвать из учебников портреты „найяснішого пана цісаря“ Франца-Иосифа. Члены родительского комитета заявили, что они своих детей в такую школу посылать не будут и объявили бойкот гимназии. За это они были арестованы ЧК» {298}.
Дальнейшая судьба арестованных Новгородцевой не была известна, так как ей удалось тайно выехать за границу. Можно, однако, заметить, что австрийскими учебниками гимназисткам пришлось пользоваться недолго. Вопрос решался на самом высоком уровне. В октябре 1921 года в еще не оправившейся от гражданской войны стране, в условиях голода и разрухи советское правительство выделило 500 тысяч рублей золотом на печатание за границей украиноязычных учебников. Позднее по инициативе В. И. Ленина на эти цели было выделено еще 250 тысяч рублей {299}. Членам партии вменялось в обязанность изучать украинский язык и всячески содействовать его становлению и развитию. Украиноязычные коммунисты получили преимущество при назначении на ответственные посты.
Однако партийное руководство очень скоро убедилось, что трудящиеся массы Украины вовсе не считают украинский язык родным. «Решение национального вопроса на Украине осложняется исторически сложившейся обстановкой. Помещики, городская буржуазия и городской пролетариат в своем абсолютном большинстве являлись на Украине русскими. Крестьянство в своем подавляющем большинстве — украинское, но благодаря русской школе и церкви, находилось под сильным влиянием русификации» {300},— отмечалось в Директиве Октябрьского (1922 г.) пленума ЦК КП(б)У по национальному вопросу. Большевики вынуждены были скорректировать свою языковую политику. Пленум признал необходимым для распространения в украинском селе коммунистических идей издавать газету «Селянська правда» не только на украинском, но и на русском языке, поскольку умеющие читать украинские крестьяне «недостаточно привыкли к украинскому литературному языку» {301}. Пленум также постановил, что «язык преподавания в школах должен вводиться в соответствии с организованным волеизъявлением населения» {302}.
Впрочем, «передышка» продолжалась недолго. Новый виток украинизации начался уже через полгода. Причины его были чисто политическими. 14 марта 1923 года Совет послов стран Антанты принял решение о включении Галиции в состав возрожденной Польши (фактически эта территория была оккупирована польскими войсками еще в 1919 году, но формально ее судьба оставалась нерешенной). Деятели украинского движения пребывали в растерянности. Их надежды на то, что Антанта разрешит создать на западноукраинских землях независимое государство, не оправдались. А тем временем польская власть проводила активную полонизацию галицкого населения. В сложившейся обстановке ненькопатриотам не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в Москву (Грушевский мечтал тогда, что Красная Армия силой присоединит Галицию к Советскому Союзу). «Национально сознательные» деятели предложили Кремлю свою помощь в противоборстве СССР с Польшей. Взамен советская власть должна была провести полномасштабную украинизацию УССР.
В свою очередь, советское руководство собиралось использовать украинское движение для разжигания пожара мировой революции. «Есть еще один фактор украинизации Украины,— отмечали партийные идеологи.— Перед нами украинская Галиция с ее украинской литературой, украинской школой, украинскими университетами, никто не станет отрицать, что революция в Галиции — это дело самого ближайшего времени. Галиция сбросит ярмо польской шляхты. Никто не станет отрицать, что революционная Галиция неизбежно объединится с Советской Украиной. Объединенная Советская Социалистическая Украина будет самым мощным двигателем социально-революционного движения в славянских странах Европы» {303}. Соглашение было достигнуто.
Нельзя не отметить, что это была далеко не первая попытка союза коммунистов с украинскими партиями. В революцию и гражданскую войну украинствующие деятели неоднократно пытались договориться с большевиками. В 1917 году они вели переговоры о совместных действиях против контрреволюционных сил. Вместе с большевиками центральнорадовцы приняли участие в Октябрьском восстании в Киеве, направленном против войск уже свергнутого в Петрограде Временного правительства. Правда, будучи уверенной, что советская власть установилась в столице России ненадолго, Центральная Рада затеяла тайные переговоры и с представителями контрреволюции. М. С. Грушевский думал перехитрить и белых, и красных, но в конечном счете перехитрил сам себя. Двуличие Центральной Рады обнаружилось, и она получила врагов в лице и тех, и других. В результате Киев был взят красногвардейцами, а «национально сознательные» сбежали под защиту немецких войск.
В 1918 году отвергнутые уже и немцами (сделавшими ставку на гетмана Скоропадского), бывшие вожди Центральной Рады вновь завязали переговоры с красными. Они обещали превратить Украину в советскую республику, если большевики помогут им вернуться к власти. Единственная оговорка, сделанная обанкротившимися центральнорадовцами, состояла в том, что эта советская республика должна быть украинизирована. «Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине»,— заявил В. К. Винниченко советским эмиссарам Х. Г. Раковскому и Д. З. Мануильскому. Когда Раковский передал эти слова Ленину, лидер большевиков заметил: «Разумеется, дело не в языке. Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка, но, что касается их советской платформы — они нас надуют» {304}.
Тем не менее, контакты между красными и жовто-блакитными продолжались. Если дело тогда не дошло до заключения союза, то не из-за каких-то разногласий, а из-за выявившегося отсутствия за «национально сознательными» деятелями реальной силы. Как уже отмечалось, основная масса повстанцев, участвовавших под формальным руководством петлюровской Директории в антигетманском восстании, боролась именно против гетмана и немцев, а не за «Украинскую Народную Республику» (УНР). После свержения Скоропадского Петлюра оказался генералом без армии. Такой союзник большевикам был не нужен. Советскую власть они установили и без его помощи.
По той же причине сорвалось заключение красно-петлюровского соглашения и осенью 1919 года, когда большую часть Украины заняла армия Деникина. Предложение о сотрудничестве петлюровцы передали через друга В. И. Ленина, швейцарского социалиста Ф. Платтена, как раз пробиравшегося в Москву через Украину. Вслед за тем С. В. Петлюра направил делегацию к большевикам. Согласно проекту соглашения, подготовленному Директорией, все войско УНР переходило в подчинение командованию Красной Армии, а два петлюровских представителя включались в состав Реввоенсовета РСФСР.
В середине октября 1919 года, в самый разгар военного противоборства красной и белой армий (Деникин как раз взял Орел и, казалось, безостановочно двигался на Москву), петлюровцы начали наступление против белых. Вероятно, С. В. Петлюра надеялся на численный перевес своего войска. Почти все силы деникинцев были сосредоточены на фронте против большевиков. 35—40-тысячной армии УНР (более 20-ти тысяч из которой составляли галичане) противостояли лишь 8—10 тысяч белогвардейцев, часть которых была отвлечена на борьбу с бандами Махно. Однако белогвардейские части (укомплектованные, кстати сказать, уроженцами Украины) разбили петлюровцев, перешли в контрнаступление и в короткое время заняли большую часть еще остававшейся под контролем Петлюры территории. Галицкие отряды перешли на сторону Деникина, а Директория и ее вождь сбежали, на сей раз под защиту поляков. Военное и политическое бессилие петлюровщины выявилось вновь. В то же время Красная Армия в результате упорных боев нанесла основным силам деникинцев поражение и, прорвав фронт, успешно развивала наступление. Трезво оценив соотношение сил, большевики отказались от услуг Петлюры за ненадобностью. Переговоры были прерваны.
Таким образом, союз большевиков и ненькопатриотов, планируемый еще в гражданскую войну, стал реальностью только после ее окончания. Новый курс национальной политики обсуждался на XII съезде РКП(б), проходившем 17—25 апреля 1923 года. В своих выступлениях сторонники украинизации жаловались, что их намерения не встречают поддержки на Украине. Дескать, местные партийные работники считают украинский язык непонятным народу и т. д. На запрос Агитационно-пропагандистского отдела ЦК РКП(б) о ведении среди украинцев работы на украинском языке, ответ о ненужности такой работы дали не только партийные органы тех губерний РСФСР, где компактно проживало украинское население (Воронежский, Кубанский, Курский, Царицынский губкомы партии), но «такие же ответы о ненужности вести работу на украинском языке давали многие парткомы и в самой Украине. Говорят, можно вести работу и на русском языке» {305}.
«Весьма часто личными впечатлениями хотят подменить анализ общественных фактов,— возмущался один из ярых сторонников «нового курса» Г. Ф. Гринько.— Ответственнейшие товарищи из Украины говорят так: я всю Украину изъездил вдоль и поперек, я разговаривал с крестьянами, и я вынес впечатление, что они не хотят украинского языка. Вместо того, чтобы анализировать крупнейшие общественные движения, эпоху Центральной Рады, петлюровщины, национальных восстаний и т. д., довольствуются некритическими методами личных впечатлений и на этом строят политику в национальном вопросе» {306}.
Съезд провозгласил курс на украинизацию, а любое сопротивление этому курсу было объявлено «пережитками великорусского шовинизма», решительная борьба с которыми «является первой очередной задачей нашей партии» {307}. Иными словами, партийным работникам на Украине предлагалось не верить своим глазам и ушам (отказаться от «некритических методов личных впечатлений»), а руководствоваться указаниями партии. 1 августа 1923 года Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР приняли совместное постановление, в котором объявлялось, что «признававшееся до сих пор формальное равенство» русского и украинского языков на Украине «недостаточно», так как «жизнь, как показал опыт, приводит к фактическому преобладанию русского языка» {308}. Украинский язык был поставлен в привилегированное положение.
Глава 6. «Батько Тарас» или «батько Лазарь»?
Духовным отцом украинского национального возрождения, а также отцом украинского литературного языка принято считать Тараса Григорьевича Шевченко. Нет в нашей истории фигуры, более прославляемой. Мало кто знает, однако, что язык, на котором писал «батько Тарас» (а «национальное возрождение» понимается у нас, прежде всего, как возрождение языка), существенно отличается от нынешнего украинского. На пути к читателю многое из написанного Кобзарем оказалось «подправленным».
Еще М. П. Драгоманов отмечал, что «Шевченко, например, еще не имел мысли непременно создавать отдельную литературу украинскую, так как он писал свои повести по-московскому, так же писал даже свой „Дневник“, сценарий к „Стодоле“ и т. п. Видимо, Шевченко выбирал себе язык в каждом случае для него более легкий и соответствующий, а не думал непременно создавать особую, самостоятельную литературу и язык, как некоторые позднейшие украинолюбцы» {309}. (По подсчетам специалистов, почти половина того, что написано Т. Г. Шевченко, написано по-русски — 319 страниц украинского текста и 315 русского.) {310}
Естественно, такая позиция «великого Кобзаря» не устраивала ненькопатриотов. И, провозгласив Шевченко своим «батькой», они взялись за «исправление» его творчества. Содержавшиеся в шевченковских рукописях слова «осень», «камень», «семья», «всего», «чернило», «явор», «царь», «Киев», «Польша» и другие при публикации заменялось на «осінь», «камінь», «сім’я», «всього», «чорнило», «явір», «цар», «Київ», «Польща» и т. д. Буква «с» в приставках заменялась на «з». И даже слово «кобзарь», которое Тарас Григорьевич писал с мягким знаком, как это принято в русском языке, украинофилы поменяли на «кобзар» {311}. (Надо сказать, что язык Т. Г. Шевченко не был свободен от полонизмов. Нельзя забывать, что Правобережная Украина, уроженцем которой являлся Тарас Григорьевич, лишь за 20 лет до его рождения освободилась от польского ига и воссоединилась с Россией. Полонизация продолжалась здесь фактически до 1860-х годов и, безусловно, отразилась на творчестве Кобзаря. Поэтому язык его произведений был иногда не совсем понятен левобережным украинцам. «Пока вернулся в Ахтырку, и тут появились и такие школьники, которые, читая „Тополю“, запинаются — „Чабан в ранці з сопілкою сяде на могилі“. О чабане и не спрашиваю, а про ранок спрашиваю, а мне и говорят: „Это ранец, что солдат носит на спине“» {312},— писал «национально сознательный» учитель В. С. Гнилосыров. Однако и такой язык украинофилы решили «подправить».)
Подвергалось «коррекции» и правописание. Поэт не знал букв «ї», «є», тем более «ґ», апострофов и использовал русский алфавит (с «ы», «э», «ъ»), который был для него родным. (Желающим удостоверится в этом можно порекомендовать обратиться хотя бы к пятитомному изданию «Творів» Шевченко (К., 1970—1971), где в качестве иллюстраций помещены фотокопии некоторых автографов Тараса Григорьевича). В 1860 году «батько Тарас» составил «Букварь южнорусский» для обучения детей грамоте на малорусском наречии. Алфавит в «Букваре» был русским без всяких отклонений и «реформ» {313}. Но если Т. Г. Шевченко считал возможным строить малорусскую грамоту на алфавите, общем с русским литературным языком, то «национально сознательные» деятели с ним согласиться не могли и переписывали сочинения поэта по-своему.
Справедливости ради надо сказать, что не все «исправители» творчества Тараса Григорьевича фальсифицировали его творения без всякого стыда. Некоторые из них испытывали нечто похожее на угрызения совести. «Вообще не знаю, не грех ли нам, что у нас „кобзар“, „цар“ и т. п., у Шевченко везде „рь“ {314},— писал видный активист украинского движения, издатель «Кобзаря» В. Н. Доманицкий другому крупному украинофильскому деятелю П. Я. Стебницкому. Но Доманицкого убедили, что фальсификация — не грех. Речь ведь шла о таком «патриотическом» деле, как взращивание «украинской национальной идеи».
Последующие издатели произведений самого выдающегося из украинских поэтов сомнений уже не испытывали. «Серый кардинал» советской украинизации А. Н. Синявский давал совершенно конкретное указание: «Все то в языке и правописании шевченковских произведений, что может быть выдержано, уоднообразнено в соответствии с современными литературными нормами без нарушения сущности шевченковского языка, в частности, без вреда для стихов и рифм, и нужно последовательно уоднообразить». (Далее следовали рекомендации насчет «осени», «явора», «кобзаря», «шинкаря», «семьи» и т. д.) {315}
И сегодня подлинный Шевченко скрыт от абсолютного большинства читателей. (Произведения «великого Кобзаря» не исключение. Точно также фальсифицирован текст пьесы И. П. Котляревского «Наталка Полтавка». Как пояснял один из «национально сознательных» критиков, язык персонажей «Наталки Полтавки» «частично русифицирован». Произошло это потому, что «тяжело было ему (И. П. Котляревскому.— Авт.) победить русскую традицию» {316}. Поэтому «на помощь» автору пришли украинофилы. Слова «вечер», «виноват», «ей», «кровавым», «крылья», «одинаковый», «он», «они», «покорна», «равны», «старость» и многие другие «исправили» на «вечір», «винуватий», «ій», «кривавим», «крилля», «однаковий», «він», «вони», «покірна», «рівні», «старість» и т. д. {317} Таким образом, если вспомнить об уже упоминавшихся «исправлениях» творчества И. Я. Франко, И. С. Нечуя-Левицкого и др., можно сделать вывод о тотальной фальсификации произведений украинской литературы).
Но и такой «подправленный» Кобзарь не соответствовал языку, навязываемому Украине «крестоносцами». Это вызвало удивление даже в среде искренних почитателей «украинской национальной идеи». Отмахиваясь от их недоуменных вопросов, М. С. Грушевский возмущался: «Язык Шевченко — на меньшее они не согласятся. И, наверное, тут ничего не поделаешь. Нужно оставить их так. Пусть ждут, пока Шевченко встанет и будет писать им в газетах, переводить популярные книжки, писать исторические и критические труды» {318}. Другой защитник «рідної мови» — Николай Сумцов, позабыв, что сам еще недавно грустил «об изящной простоте и чистоте языка Квитки и Шевченко», теперь огрызался, дескать, в языковых вопросах «батько Тарас» ему не указ: «Часто говорят: „Пишите, как писал Шевченко“, будто Шевченко в проявлениях научного и литературного развития такой дорожный указатель, что все время всегда на него нужно равняться» {319}.
Иван Стешенко ничтоже сумняшеся объявил свою мову «выше и шире» языка Тараса Григорьевича {320}. В том же духе высказался Борис Гринченко: «Шевченко и Марко Вовчок не писали бы как Шевченко и М. Вовчок, когда б их теперь посадить писать не стихи и сельские рассказы, а научные исследования или публицистику: они или совсем ничего не писали бы, или написали бы так, как мы, а может еще и хуже» {321}. А Агатангел Крымский договорился до того, что назвал шевченковский язык похожим на украинский не больше, чем хорошо сделанная статуя похожа на живого человека, «без той колоритности, которой будет блистать живописный рисунок, и без той детальной точности, которую может дать фотография» {322}. Очевидно, что к «возрождению» мовы Крымского и Грушевского Тарас Григорьевич отношения не имел. Духовным отцом этого процесса можно назвать другого человека.
Фигура Лазаря Моисеевича Кагановича до сих пор должным образом не освещена отечественными историками. Ученые и публицисты предпочитают говорить о его участии в репрессиях 1930-х годов, о голодоморе, конфликте с Хрущёвым. Все это, конечно, интересно, но не менее интересно и другое.
Л. М. Каганович стал генеральным секретарем ЦК КП(б)У в апреле 1925 года, когда украинизация уже была провозглашена и всеми силами проводилась в жизнь. При предшественнике Лазаря Моисеевича на посту руководителя КП(б)У Э. И. Квиринге число школ с преподаванием на украинском языке росло быстро и неуклонно. Так же быстро и неуклонно сокращалось количество русскоязычных школ. В то же время Квиринг сознавал, что навязать малороссам чужой язык в кратчайшие сроки будет затруднительно. Он предупреждал, что украинизация — «долговременный, постепенный процесс», требующий «еще не одного пятилетия», что необходимо подготовить «соответствующие кадры учителей», вырастить новое поколение вузовских преподавателей. Партийный лидер даже допускал колкости в адрес «национально сознательных» деятелей, заявляя, например: «Каждый шовинист-украинец будет вопить о принудительной русификации аж до того времени, пока останется хоть один профессор музыки или гистологии, который читает лекции на русском языке» {323}. Такая «умеренность» пришлась инициаторам украинизации не по вкусу. На посту руководителя украинских коммунистов Квиринга сменил Каганович.
Убежденный русофоб с диктаторскими замашками, Лазарь Моисеевич вполне подходил для выполнения функций главного украинизатора Малороссии. Только такой деятель, жестокий и беспощадный, мог решить поставленную задачу. Задача, между тем, была непростая. Южная (малорусская) ветвь русского народа, теперь официально называемая украинцами, украинизироваться не желала. Нового языка население не понимало, не принимало и не хотело принимать. «Особенно нужно знание украинского языка, потому что его никто хорошо не знает, а часто и не хочет знать»,— жаловался один из украинизаторов и предупреждал: «Не овладев как следует своим языком, общество не сможет осуществить великие задачи нашей эпохи, не сможет, как говорит т. Троцкий, „объять своею мыслью всю природу, всю жизнь до самых ее основ“» {324}. (И вновь-таки, почему общество должно считать своим язык, которого «никто хорошо не знает, а часто и не хочет знать», не пояснялось.)
Как отмечалось в Отчете Киевского губернского комитета КП(б)У, проверка знания украинского языка сотрудниками различных учреждений губернии выявила, что по прошествии более чем полутора лет с начала нового витка украинизации 25 % проверенных «абсолютно не знают» украинского языка, 30 % — «почти не знают», 30,5 % — «слабо знают» и лишь 14,5 % оказались более-менее знающими {325}. При этом значительный процент среди слабо знающих, почти не знающих и даже абсолютно не знающих украинский язык составляли украинцы по происхождению.
Та же проблема поднималась на 1-м Всеукраинском учительском съезде, где констатировалось, что украинцы упорно не хотят учить «рідну мову». «Они оправдываются тем, что говорят: это язык галицкий, кем-то принесенный, и его хотят кому-то навязать; шевченковский язык народ давным-давно уже позабыл. И если б учили нас шевченковскому языку, то, может быть, еще чего-то достигли, а галицкий язык никакого значения не имеет» {326}.
О нежелании коренного населения украинизироваться свидетельствовал и С. А. Ефремов. «Наиболее серьезно к украинизации отнеслись служащие-евреи. И действительно, за эти полгода выучились»,— записал он в своем дневнике в октябре 1924 г. В то же время, замечал С. А. Ефремов, украинцы («тоже малороссы») вслед за великороссами всячески противились украинизации и упорно не желали учить «рідну мову» {327}. Подобное положение вынуждало власти при проведении украинизации в значительной мере опираться на евреев. Выступая на съезде работников искусства, нарком просвещения УССР Н. А. Скрипник сам поднял вопрос о том, что во главе многих украинизированных театров поставлены евреи, и пояснил: «Когда я говорил про украинизацию театров и про потребность притянуть украинцев к этой работе, я ни в коей мере не имел в виду украинцев по крови. Только шовинисты и наши враги говорят об украинцах по крови, а мы говорим про таких граждан Украины, которые могут в дальнейшем принять участие в творении украинской культуры, независимо от того, какая бы у них кровь была. Нам нужна от них не их кровь, а их культурная работа» {328}.
Сознавая, что навязываемый украинцам язык не является для них родным, второй секретарь ЦК КП(б)У Д. З. Лебидь попытался указать на негативные последствия новой национальной политики. Он заявлял, что прежде чем форсировать украинизацию, «партия должна в украинских условиях проверить, дает ли украинский язык возможность ускорить культурный процесс в украинском народе, особенно в отсталом крестьянстве, или он этот процесс тормозит и не помогает овладеть культурой, а мешает» {329}. Но на самом верху слушать ничего не желали. Д. З. Лебидя обвинили в «русотяпстве», «великодержавном шовинистическом уклоне» и т. п. Не помогли ни прежние заслуги, ни высокий пост. Высказавшего «крамольную» мысль партийного функционера сместили с должности (произошло это еще до назначения Кагановича), а курс на форсирование украинизации был продолжен.
«Нам необходимо приблизить украинский язык к пониманию широких масс украинского народа» {330},— торжественно объявил Председатель Совета народных комиссаров УССР Влас Чубарь. Но «приближать» начали не с той стороны. На вооружение был взят тезис Агатангела Крымского: «Если на практике мы видим, что люди затрудняются в пользовании украинским языком, то вина падает не на язык, а на людей» {331}. Иными словами, не язык стали приближать к народу, а народ — к языку. Достигнуть этой цели без принуждения было невозможно. Тут-то и пригодились «способности» Кагановича.
Лазарь Моисеевич взялся за дело со свойственной ему решительностью. Всем служащим предприятий и учреждений, вплоть до уборщиц и дворников, было предписано перейти на украинский язык. Замеченные в «отрицательном отношении к украинизации» немедленно увольнялись без выходного пособия (соблюдения трудового законодательства в данном случае не требовалось). Исключений не делалось даже для предприятий союзного подчинения. Тотальной чистке подвергнулся аппарат управления. Главным критерием, которым руководствовались при назначении на высокие посты, стала «национальная сознательность». Львовская газета «Діло», ведущий печатный орган украинского движения в Галиции, восторженно писала о положении в советской Украине: «Возобладала там какая-то лихорадочная работа вокруг втягивания на ответственные должности партийных, а в советскую работу (т. е. работу в органах советской власти.— Авт.) вообще всяких, значит и беспартийных украинцев, с подчеркиванием, чтобы они были не территориальными, но национально сознательными украинцами» {332}.
На украинский переводилась вся система образования. Мова стала главным предметом везде — от начальной школы до технического вуза. Только на ней разрешалось вести педагогическую и научно-исследовательскую работу. Изучение русского языка фактически было приравнено к изучению языков иностранных. Административными методами украинизировалась пресса, издательская деятельность, радио, кино, театры, концертные организации. Запрещалось дублировать по-русски даже вывески и объявления.
Ход украинизации тщательно контролировался сверху. Специальные комиссии регулярно проверяли государственные, общественные, кооперативные учреждения. Контролерам рекомендовалось обращать внимание не только на делопроизводство и на прием посетителей, но и на то, на каком языке работники общаются между собой. Когда, например, в Народном комиссариате просвещения обнаружили, что в подведомственных учреждениях и после украинизации преподавательского состава технический персонал остался русскоязычным, то немедленно распорядились, чтобы все уборщицы, извозчики и курьеры перешли на украинский. А поскольку «рідной мови» они не знали, то должны были пройти курсы по ее изучению, причем деньги на эти курсы вычитались из их зарплаты {333}.
Население сопротивлялось как могло. Если была возможность, детей из украинизированных школ родители переводили в те учебные заведения, где преподавание еще велось по-русски. В результате, как с сожалением констатирует современный «национально сознательный» исследователь, в школах с русским языком обучения «большей была наполняемость классов», чем в школах украиноязычных, и это снижало эффективность украинизаторских усилий. Например, в Киевской губернии приказным порядком украинизировали 91,8 % всех школ, в Волынской — 90,1 %, в Екатеринославской — 79,1 %. «Цифры в целом вроде бы и неплохие». Но когда исследователь подсчитал количество учеников, охваченных украинизацией, результат получился не такой внушительный: 83,9 % — на Киевщине, 76,2 % — на Волыни, 70 % — на Екатеринославщине {334}.
Украинизированные газеты катастрофически быстро теряли читателей, предпочитавших русскоязычные московские издания. «Обывательская публика желает читать неместную газету, лишь бы не украинскую,— возмущенно записывал в дневник С. А. Ефремов.— Это отчасти и естественно: газету штудировать нельзя, ее читают, или, точнее, пробегают глазами наспех, а даже украинизированный обыватель украинский текст читать быстро еще не привык, а тратить на газету много времени не хочет. Шутя можно было предложить нашим властям, чтобы сделали второй шаг: украинизировав местную прессу, нужно запретить привоз из Московщины,— тогда обыватель уже не удрал бы от „своей“ газеты» {335}. (Как видим, даже такой фанатичный последователь «украинской национальной идеи», как С. А. Ефремов, сознавал, что украинский язык чужд населению. Еще и иронизировал на этот счет. Но это не мешало ему оставаться сторонником украинизации. И, признавая на страницах дневника, что украинизацию «проводят люто» {336}, «много глупостей делают», «просто стон и крик стоит в учреждениях», он тут же отмечал: «Хотя без принуждения тут, очевидно, ничего сделать нельзя» {337}.)
Та же картина наблюдалась в театрах. Зрители переставали посещать украинизированные спектакли, в частности, оперу. Причем, как отмечал нарком просвещения Н. А. Скрыпник, «не только русская и еврейская буржуазия выступала против украинской оперы, но на такой путь вступила и украинская мелкая буржуазия» {338}. (Стоит напомнить, что в разряд «буржуазии» тогда зачисляли почти всю интеллигенцию.) Исключение составила лишь кучка «национально сознательных» деятелей, посчитавшая, по словам М. С. Грушевского, «своей обязанностью» поддержать украинизацию театров. Как признавался Михаил Сергеевич в частном письме, «первый раз в течение десятков лет я ходил этой зимой (т. е. зимой 1925—1926 гг.— Авт.) на оперу, потому что первый раз украинская государственная опера… Особенно приятно было послушать Собинова в „Евгении Онегине“» {339}. Вождь украинства, по-видимому, не осознавал всю противоестественность ситуации: в опере великого русского композитора, написанной по мотивам произведения великого русского поэта выдающийся русский певец в городе с русскоязычным населением поет на украинском языке.
На сопротивление населения политике украинизации указывали преподаватели специальных украинизаторских «курсов украинознавства», принудительно заведенных для служащих государственных, общественных и кооперативных учреждений. Перед преподавателями была поставлена задача заинтересовать слушателей «необходимостью возрождения многомиллионной нации» {340}. Но, жаловался один из украинизаторов, «не секрет, что много слушателей наших относятся к нам и задаче нашей временами с давно имеющимся предубеждением (ведь для многих все наши задачи — „му́ка“), злорадствуют, когда, попав на какого-то слабознающего преподавателя, и опозорят, и дискредитируют его вконец. Примеров таких „усилий“ подорвать авторитет не только преподавателя, а и самого дела можно не приводить — их достаточно в жизни». Причем, указывал ненькопатриот, верховодит такими попытками сопротивления «возрождению многомиллионной нации», как правило, «наш „малоросс“, этот знаменитый кобеляцкий патриот, который понимает только „Шевченковский“, а не „галицкий“ язык» {341}. Другой преподаватель-украинизатор сокрушался, что в сознании слушателей укоренилось враждебное отношение к украинизации и существует даже «иммунитет против украинской культуры вообще, образовавшийся там как последствие исторического наследия» {342}.
На «тяжелые» последствия исторического наследия жаловались и прочие украинизаторы. «Инерция силы, данной долгими годами дореволюционной жизни Украины, хоть какие меры ни принимаются, ослабевает очень медленно, неохотно дает место украинскому, которому нужно прилагать много усилий, чтобы добиться своего: для многих дерусификация является разрывом целого мировоззрения, всей суммы взглядов, созданных долгими годами и крепкой традицией, внешне подтверждаемых зависимым состоянием Украины с ее нелегальной дореволюционной культурой»,— писал, например, один из «национально сознательных» в журнале «Голос українізатора» (выходил в то время и такой). «Таким образом,— делал он вывод,— трудности, которые встречает украинизация, заключаются в объективных причинах, с одной стороны и в субъективных — с другой, так как много людей, живущих на Украине, имеют противоположное ей мировоззрение» {343}.
В самом деле, историческая традиция очень мешала национальной политике властей. Украинский язык прививался с большим трудом. «Украинизированные граждане», по признанию преподавателей «курсов украинознавства», продолжали оставаться под «влиянием русского языка» из-за слишком большого распространения последнего {344}. Вводимая принудительно «рідна мова» оказалась «парадным языком» {345}. На ней проводились заседания, собрания и т. д., но как только официальные мероприятия заканчивались, их участники тут же переходили на русский язык, который безраздельно господствовал в частной жизни. «Научиться немецкому языку лучше всего и быстрее всего можно в Германии среди немцев, французскому — во Франции. Не так обстоит дело с украинским языком в русском или русифицированном городе на Украине» {346},— сокрушались «национально сознательные». Они настаивали: «Нужно, чтобы города стали украинскими, нужно, чтобы масса городского населения в своей повседневной работе приняла новый язык» {347}.
Не намного лучше «обстояло дело» и в селах. «Было бы ошибочно думать, что процесс украинизации, в частности в части продвижения украинской книжки, не является актуальным и для села,— отмечалось в украинской печати.— Ведь русификация, проводимая на протяжении многих лет царским правительством, пустила корни и среди сельского населения. Украинская книжка на селе, хоть и не в такой мере, как в городе, должна еще завоевать себе место» {348}. «Наша украинская газета еще мало распространяется на селе,— констатировал на 1-м Всеукраинском учительском съезде делегат из Харьковской губернии (столичной в то время).— Почему? Возьму пример: у нас на Харьковщине на селе русская газета „Харьковский пролетарий“ по каким-то причинам лучше распространяется, почему-то ее больше выписывают, чем „Селянську правду“» {349}. О том же говорил делегат Киевщины: «Украинская литература широко не идет, приходится силой распространять ее» {350}.
Проверка «состояния украинизации» в Киевском сельскохозяйственном институте выявила, что хотя этот вуз «имеет в своих стенах почти полностью крестьянский местный элемент», более 25 % студентов вообще не знали украинского языка. Остальные могли изъясняться по-украински, однако язык большинства из них был «похож на своеобразный русско-украинский жаргон» (т. е. на обычный простонародный малорусский говор). Несколько лучше было положение с преподавательским составом. 36,5 % преподавателей, согласно проверке, хорошо знали украинский язык. Правда, 26 % — совсем не знали его. Остальные попали в категорию слабознающих и почти не знающих {351}.
Следует подчеркнуть, что в институте проверялось только знание устной речи. Что касается грамматических правил, то, признавали украинизаторы, даже «среди тех, кто вроде бы в никакой украинизации не нуждается, среди старых сознательных украинцев в массе господствует недостаточное или даже полное незнание „грамматики“ своего языка» {352}.
«Над нами тяготеет еще влияние бывшей официальной русской культуры, наши языковые инстинкты вообще ослабели» {353},— вынуждены были констатировать подручные Л. М. Кагановича. Это касалось даже самых украинизированных субъектов, занимавшихся на «курсах украинознавства» высшей категории. (Существовали курсы четырех типов: «ликбезовские группы, так называемые нормальные, повторноповышенные и самые высокие» {354}.) Слушатели курсов такого типа уже прошли обучение на курсах более низких категорий и получили статус «хорошо знающих» украинский язык. К тому же на «наивысшие курсы», в отличие от остальных курсов, записывались добровольно (из карьеристских соображений, а иногда — по причине «пробудившейся» «национальной сознательности»). Казалось бы, эти «курсанты» должны были составлять гордость украинизаторов. Однако, признавали преподаватели курсов, «словарный материал нашего слушателя в большинстве так загрязнен русизмами, жаргонизмами и т. п., что приходится в курс самой высшей группы вводить специальные часы, чтобы культивировать правильную лексику и искоренить все чужое украинскому языку» {355}.
Очень медленно проникала в народ украинская литература. Украинские писатели, сегодня считающиеся классиками, еще в 1920-х годах были, в большинстве своем, непопулярны и даже неизвестны на Украине. Их произведения были включены в обязательную программу «курсов украинознавства», но слушатели не интересовались ими и, как правило, уклонялись от изучения. Для иллюстрации можно привести признания одного из украинизаторов, проверившего в 1925—1929 годах на предмет знания украинской литературы около 3,5 тыс. слушателей «курсов украинознавства» (разных категорий): «Как общее явление, массовый читатель еще и до сих пор не знает не то что всего минимума по украинской литературе, он не знает его даже в третьей, часто в четвертой, пятой доле».
«Программа „требует“ знать образцы устного народного творчества украинского — наши думы,— конкретизировал украинизатор далее.— Масса слушателей знает их в основном тогда, когда сам преподаватель прочитает их во время одной из бесед, а так как преподаватель это выполняет редко, то и выходит, что слушатель сам не читает, значит и не знает… Выяснено, что такое творчество знает не более 4—5 % всех проверенных слушателей. Но не лучше дело выглядит и с новой украинской литературой. „Энеиду“ Котляревского знает очень незначительная часть слушателей (хорошо, если хоть отрывки из хрестоматии Плевако). Масса слушателей, как это ни странно, жалуется обычно на непонятность „Энеиды“… Всю „Энеиду“ среди проверенных слушателей знает 5—7 %» {356}.
«Существует очень распространенный взгляд, что творчество Шевченко для наших слушателей и вообще для всех читателей — самое популярное среди всех писателей украинских, что его знают больше всего. И действительно, вся масса слушателей — от самых ответственных до самых мелких, от самых образованных до элементарно грамотных служащих, все говорят, что знают Шевченко, понимают его, однако же выяснилось, что все это очень и очень далеко от настоящего знания творчества Шевченко. Тут совсем придется обойти множество курьезов, как переводят слушатели (ведь слушатель массовый вообще все переводит (т. е. переводит с языка чужого, украинского, на родной — русский язык. Весьма ценное признание.— Авт.)) не то, что целые выражения, но и отдельные слова из „Кобзаря“… Все курьезы проверки сознательно тут обходим, но одновременно особенно следует подчеркнуть, что масса слушателей Шевченко не знает, не понимает, и это не только сильных, глубоких и сложных образов шевченковских, но и зачастую и обычных слов. Тут чуть ли не лучше всего опровергается мысль о понятности „Шевченковского языка“» {357} (следует помнить то, что уже говорилось выше о языке Т. Г. Шевченко и его «исправлениях».— Авт.).
Не вызвали интереса у слушателей И. С. Нечуй-Левицкий и Панас Мирный, от изучения произведений которых они уклонялись с «наивностью-хитростью» {358}. Также и творчество М. М. Коцюбинского украинизируемые знали «поверхностно», «если не из чтения, то, по крайней мере, из бесед во время лекций» {359}. Единственным исключением оказалась Марко Вовчок, творчеству которой «на курсах „повезло“» {360}. Зато «не повезло совсем или в очень незначительной мере повезло популяризации на наших курсах западноукраинской литературы. Не говоря уже о второстепенных писателях Западной Украины, наши слушатели очень мало знают таких писателей как Бордуляк, Яцкив, Кобылянская, Черемшина, Стефаник и даже такого гиганта, как Франко» {361}. «Творчество Федьковича не знает и один процент наших слушателей» {362}.
«До сих пор только отдельные слушатели так-сяк знают творчество Леси Украинки и даже в далеко меньшей мере, чем требует этого программа. Как ни печально, но надо, однако, сказать, что украшение нашей литературы — Лесю Украинку, творчеством которой могла бы гордиться и более богатая, чем украинская литература,— не знает наш массовый слушатель, и даже тот, что более-менее солидно знает украинскую литературу» {363}. В то же время, как признавал украинизатор, произведения русской литературы кто лучше, кто хуже, знали все слушатели. Он даже составил специальную таблицу, из которой следовало, что около 45 % проверенных обладают «элементарными знаниями по русской классической литературе», 35 % «более солидными знаниями русской классической и новейшей литературы» и 20 % «доскональными знаниями русской и элементарными знаниями мировой литературы» {364}. Кроме того, проверяющий выяснил, что украинизируемые почти не читают украинскую прессу. «Проверка того, как и что именно читает наш слушатель из периодики украинской, то и дело давала очень плохие результаты. Конечно слушатель говорит, что читает „Комуніст“, „Вісті“ или рабочую газету „Пролетар“, но это в основном не искренне — в лучшем случае он просматривает кое-как и то очень поверхностно эти газеты, а доказательством этому то, что редко какой слушатель мог назвать хоть одного-двух постоянных сотрудников той или иной газеты» {365}.
Итак, реальное положение дел было весьма неутешительным для украинизаторов. В ответ они только ужесточали свою деятельность. «Бывает, приходится слышать разговоры, что, дескать, украинизация слишком остро проводится, что массам она не нужна, что крестьянство вроде бы хорошо и русский язык понимает, что рабочие не хотят усваивать украинскую культуру, потому что это отдаляет их от их братьев русских»,— заявлял известный украинизатор Г. Ф. Лапчинский и почти открыто угрожал: «Все такие разговоры — в какие бы ультра-революционные и „интернационалистические“ наряды не одевались — партия в лице своих руководителей и каждый отдельный разумный партиец — считают проявлением антирабочего и антиреволюционного влияния буржуазно-нэповских и интеллигентских настроений на рабочий класс… Но воля Советской власти является непоколебимой и она умеет, как это показал уже почти десятилетний опыт, доводить до конца любое дело, признанное полезным для революции, и преодолеет всякое сопротивление против своих мероприятий. Так будет и с национальной политикой, которую постановил провести в жизнь авангард пролетариата, его выразитель и вождь — Всесоюзная Коммунистическая партия» {366}.
«Каждый член партии, каждый гражданин должен знать одно: что национальная политика в действительно ленинском понимании на Украине неминуемо ведет к полной украинизации всего рабочего класса на Украине, украинизации прессы, школы, научной работы» {367},— вторил Лапчинскому зав. отделом прессы ЦК КП(б)У А. А. Хвыля (Олинтер). «Мы считаем,— отмечал он,— что дело проведения украинизации, решения культурно-национальной проблемы нужно поставить на такое же место, как и дело социалистического строительства в отрасли хозяйства. Таким образом украинизация, в широком понимании этого слова, является частью социалистического строительства новой советской Украины» {368}. «Украинизацию студента и вообще его муштру на элементарно-языковом участке нужно целиком приравнять к военизации, с дисциплиной наистрожайшей» {369},— требовал видный украинизатор М. Ф. Сулима, занимавшийся проблемой изгнания русского языка из вузов.
Ненькопатриоты рангом поменьше засыпали органы власти доносами на противников «национальной политики партии». «Стучали» не только на еще неукраинизированных сотрудников, но и на их непосредственных начальников, которые, по мнению «национально сознательных», относились к украинизации «с недостаточной серьезностью». «В ряде округов, несмотря на постановления окркомиссий (окружных комиссий по украинизации.— Авт.) об увольнении работников за незнание языка, руководитель учреждения оставляет таких на работе. Такое отношение является недопустимым, и с этим нужно повести решительную борьбу» {370},— сигнализировал один из особо бдительных борцов за права «рідной мовы». (Подобные случаи действительно были: некоторые начальники, руководствуясь профессиональными интересами, не торопились увольнять высококвалифицированных специалистов и закрывали глаза на их русскоязычность.) «Часть профессуры, особенно реакционеры тайные и явные, упорно сопротивляются переводу преподавания на украинский язык, особенно таких дисциплин, как математика и дисциплин специальных. Правления институтов часто потакают саботажу украинизации» {371},— доносил другой ревнитель мовы. «Правительство обязано уничтожить остатки русского шовинизма и русотяпства, которые мешают культурному росту Украины, поставив изучение украинского языка в школе на соответствующий уровень, и, наконец, дать материальные средства на издание необходимой литературы и обеспечение работников, отдающих свое время и силы для этой работы» {372},— объявлял третий.
Кстати сказать, о своем кармане украинизаторы никогда не забывали и выделения материальных средств для собственного обеспечения требовали постоянно, хотя обеспечены они были лучше самых высокопоставленных советских чиновников. Как признавал один из виднейших представителей галицкого украинства К. Студинский, посетивший УССР во времена хозяйничанья там Л. М. Кагановича, «партийный, хоть и комиссар (министр) получает самое большее 210 руб. в месяц, когда украинизатор, работающий в пяти кружках, зарабатывает 500 руб.» {373}
Власти чутко реагировали на все требования деятелей «национального возрождения». Их щедро финансировали и выполняли все рекомендации, направленные на насаждение украинской «национальной сознательности» и языка. В украинизаторских целях были «скорректированы» методы проведения на Украине всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года. В инструкции для переписчиков, принятой к исполнению на всей территории СССР, указывалось: «Отмечается, к какой народности причисляет себя отвечающий. В случаях, если отвечающий затрудняется ответить на вопрос, предпочтение отдается народности матери. Так как перепись имеет целью определить племенной (этнографический) состав населения, то в ответах на вопрос 4 не следует заменять народность религией, подданством, гражданством или признаком проживания на территории какой-либо республики» {374}. Однако в Украинской ССР к этому указанию было сделано существенное дополнение: «Чтобы точнее записывать о лицах, которые, может, будут называть себя „русский“, нужно, чтобы эти лица точно определяли, кем именно — русскими (россиянами), украинцами или белорусами они себя считают. „Россиянин“ (великоросс) считается за то же самое, что и „русский“, и в личных карточках записывается „русский“» {375}. Получалось, что в русские могли записывать только великороссов. Малороссов и белорусов относили к отдельным, новосозданным национальностям.
Такое же указание записывать малороссов в украинцы получили переписчики в других республиках. В результате, например, в Донецком округе РСФСР (центр — г. Миллерово, не путать с нынешним Донецком, который тогда назывался Сталино) согласно переписи 1920 года украинцы составляли 2,5 % населения, а в 1926 году уже 63 % {376}. Но если во всем СССР такое указание было облечено в форму отдельного приложения к переписной инструкции, то в УССР внесли изменения в сам текст инструкции. Такое изменение, по мнению украинизаторов, было необходимо, так как значительная часть украинского (и белорусского) населения «ассимилирована», «не имеет достаточно развитого национального чувства… На вопрос о национальности в этих случаях мы зачастую можем услышать ответ, который отождествляет ассимилированных с ассимиляторами. В наших культурно-бытовых условиях это чаще всего будет причисление украинцев и белорусов к русским» {377}.
«Многие украинцы совершенно искренне считали себя русскими и язык свой с некоторыми, скажем, уклонами и особенностями, не большими все же, чем и в первой попавшейся другой губернии, русским»,— печалились «национально сознательные».— «Что означает „русский“, а особенно на языке человека, воспитанного в условиях старой России? „Хохол“, „малоросс“ — русские или не русские? На этот вопрос многие и теперь отвечают: русские. В лингвистике русскими и до сих пор часто называют все три восточно-славянские племенные группы: русских, украинцев и белорусов» {378}.
Так все, считавшие себя представителями малорусской ветви русского народа, а заодно и многие проживавшие на Украине великороссы были во время переписи 1926 года насильно записаны в украинцы. (Сегодня некоторые псевдоученые «национально сознательные» деятели пытаются использовать эти «подправленные» результаты для своей пропаганды. Сопоставляя итоги переписи 1926 года с итогами переписи 1939 года и констатируя уменьшение численности украинцев, они пускаются в рассуждения о голоде 1933 года как «этноциде украинской нации». Между тем, уменьшение числа назвавших себя украинцами имеет другую причину. В 1939 году не было такого огульного зачисления в украинцы, как в 1926-м, хотя общие украинизаторские тенденции сохранялись).
Активно использовались силовые методы и в других сферах деятельности украинизаторов. «Советские органы привлекали к ответственности ряд лиц за уклонение от украинизации и уволили многих с работы»,— с удовлетворением отмечалось, к примеру, в тезисах доклада «Национально-культурное строительство на Киевщине», подготовленных известным украинизатором Самуилом Щупаком и утвержденных XV Окружной партийной конференцией Киевской организации КП(б)У. Правда, как подчеркивалось в тех же тезисах, несмотря на все украинизаторские потуги, в учреждениях «между собой служащие еще в большой мере разговаривают на русском языке», с чем, по мнению участников окрпартконференции, следовало «решительно бороться» {379}.
«Решительная борьба» с русским языком дошла до того, что сбылась «мечта» С. А. Ефремова — было серьезно ограничено распространение на Украине центральных газет и даже главного печатного органа ВКП(б) — газеты «Правда». «Я хочу остановиться на деле распространения центрального органа нашей партии — „Правды“,— рассказывал на Киевской окружной партийной конференции один из старых большевиков.— Я распространял ее, когда она еще была маленькой газетой, когда ее начали только издавать. Должен сказать, что сейчас ее намного труднее распространять, чем при меньшевиках» (т. е. при Временном правительстве). Как рассказывал большевик, когда он обращался в партячейки на киевских заводах с просьбой посодействовать в проведении подписки на газету среди рабочих, то неизменно натыкался на отказ. «Говорят, что нужно украинизироваться, распространять украинские газеты, а поэтому „Правда“ не нужна» {380}. Вместо центральной партийной газеты секретари заводских партячеек распространяли украиноязычную «Пролетарську правду».
Характерно, что участники конференции, выслушав жалобщика, не поддержали его. Наоборот, было решено «увеличить подписку на украинскую прессу и провести дальнейшую украинизацию заводской прессы» {381}, «еще больше распространять украинскую прессу среди рабочего класса» {382}.
Постоянно усиливалась «чистка» учреждений от русских специалистов (великороссов и «несознательных» малороссов). Их места занимали «в первую очередь украинцы («национально сознательные».— Авт.), отчасти евреи» {383}. Русофобия фактически была возведена в ранг государственной политики, что вызвало справедливое возмущение, в том числе и в самой партии. С. А. Ефремов приводит в дневнике слова об украинизации «выдающегося коммуниста» (не называя его фамилии), сказанные в частной беседе: «Хотя это и постановление партии, но все же это петлюровщина» {384}. Так же оценивали украинизаторскую политику КП(б)У «национально сознательные» деятели. «Я тут, несмотря на все недостатки, чувствую себя в Украинской Республике, которую мы начали строить в 1917 г.» {385},— писал одному из своих соратников вернувшийся из эмиграции М. С. Грушевский. (В отличие от представителей русских контрреволюционных сил, к деятелям украинского движения большевики широко применяли амнистию, приглашая их вернуться на Украину для совместной работы в деле «культурно-национального строительства» и борьбы с «великодержавным шовинизмом». К М. С. Грушевскому обратились сразу после XII съезда РКП(б), предлагая поддержать новый курс национальной политики и объяснив, что «по желанию Ленина теперь национальный вопрос решен в пользу нерусских народов твердо и бесповоротно, но в партии есть еще определенная оппозиция новому курсу, провозглашенному Троцким, Сталиным и другими» {386}.)
«На Украине происходит великий и могучий сдвиг в сторону украинского национализма» {387},— отмечала львовская газета «Діло». Правда, некоторых окопавшихся в Галиции активистов украинского движения огорчала слишком большая роль, которую в украинизаторских процессах играли евреи. «Жидовский элемент начал вдираться в саму украинскую литературу. Жиды А. Хвыля, И. Кулик и С. Щупак диктуют украинским писателям пути и нормы» {388},— недовольно бурчал один из ненькопатриотов. Но в целом украинофилы были очень довольны проводившейся украинизацией.
А Каганович все не унимался. Особую ненависть вызывало у него не желающее украинизироваться коренное население. Если к выходцам из Великороссии хотя бы на первом этапе допускались методы убеждения, то на малороссов (украинцев) Лазарь Моисеевич требовал «со всей силой нажимать в деле украинизации» {389}. Украинцы отвечали взаимностью. «Национально сознательный» историк «рідной мови», представитель диаспоры Юрий Шерех (Шевелёв) констатировал, что последствия политики Кагановича «были далеко не простые. С одной стороны, больше, чем когда-либо, людей овладело украинским языком, ознакомилось в определенной мере с украинской литературой и культурой, кое-кто даже начал говорить по-украински. На улицах больших городов украинский язык звучал чаще, чем перед тем, хоть и не заменил русский как способ ежедневного общения. С другой стороны, присущий политике элемент принудительности и искусственности возбуждал чувство враждебности к украинскому языку. Появилась масса анекдотов, к сожалению, не собранных и не изданных, поднимавших украинский язык на смех» {390}.
«Имеем огромное количество эпизодов, которые возникли в процессе украинизационной работы, анекдотов, имеющих свою эволюцию, вредительских поступков разоблаченных и неразоблаченных, активных и пассивных протестов» {391},— писал «Голос українізатора». «Такие случаи, когда украинизация принималась с неохотой, хотя б и было осознание политического значения этой меры и разделялось ее принципиальное обоснование, без сомнения, достаточно часто случались» {392},— свидетельствовали «национально сознательные» деятели. Как признавал Шерех, украинизация не получила массовой поддержки в народе. «Рабочие и средний класс были, в лучшем случае, равнодушны. Не сохранилось никаких сведений про какой-либо энтузиазм крестьянства» {393}.
Все это вызывало у одних украинизаторов «печаль, неуверенность и даже разочарование в творческих силах нации» {394}, у других — ярость и ожесточение. «Тип „малоросса“ не умер и до сих пор на Украине» {395},— писал ярый сторонник украинизации, известный украинский литературный критик В. Г. Коряк (Блумштейн). «Презренный шкурнический тип малоросса, который… бравирует своим безразличным отношением ко всему украинскому и готов всегда оплевать его» {396},— клеймил на заседании ЦК КП(б)У А. Я. Шумский. «Нужно, чтобы сгинуло это рабское поколение, которое привыкло только „хохла изображать“, а не органично чувствовать себя украинцами» {397},— записывал в дневник С. А. Ефремов.
Но Лазаря Моисеевича отсутствие массовой поддержки не волновало. Он опирался не на народ, а на «национально сознательных» субъектов, преимущественно австрийской закваски, выписанных из Галиции. Уже к концу 1925 года в УССР орудовала 50-тысячная армия галицких «янычар», подготовленных еще при Франце-Иосифе {398}. Их число увеличивалось с каждым месяцем. (Тут надо заметить, что иного выхода, кроме привлечения галичан, у инициаторов украинизации просто не было. Только в Галиции, где насаждать «украинскую национальную идею» начали несколько десятков лет назад, могли существовать в достаточном количестве «национально сознательные» кадры, способные оказать деятельную помощь Кагановичу. В бывшей российской Украине, 99,9 % населения которой до революции не отделяли себя в национальном отношении от великороссов, таких кадров быть не могло. С. А. Ефремов отмечал, что и самые ярые украинизаторы — это в основном «случайные люди, которые и сами украинизировались года 3—4 назад, а во всяком случае до 1917 года и не думали, что они украинцы» {399}.)
Одновременно, чтобы придушить всякое недовольство действиями украинизаторов, официально было объявлено, что «некритическое повторение шовинистических великодержавных взглядов о так называемой искусственности украинизации, непонятном народу галицком языке и т. п.» является «русским националистическим уклоном» {400} (обвинение, грозившее в то время серьезными неприятностями). Фактически противников украинизации приравняли к классовым врагам. Когда на одном из партсобраний сотрудник Украинского института марксизма Скрипченко попробовал указать на возраставшую опасность украинского шовинизма, то накликал на себя гнев всесильного в то время партаппаратчика А. А. Хвыли. «Говорить так…— заявил Хвыля,— это не видеть на Украине русского нэпмана, кулака, буржуа, бывшего царского чиновника, попа, городского мелкого буржуа-мещанина, который когда-то составлял часть армии русской черной сотни на Украине. Разве эта реакционная сила на Украине сгинула? Разве она не проводит всюду, каждый день своей работы? Разве шахтинское дело (имелся в виду сфабрикованный шахтинский процесс «над антисоветски настроенными специалистами, проводившими вредительскую деятельность в каменно-угольной промышленности Донбасса».— Авт.), имевшее по своей сути корни на Украине — ни про что не свидетельствует тов. Скрипченко? А раз эти контрреволюционные силы русского шовинизма имеют на Украине почву, то, значит, они и действуют. Они проводят активную работу против социализма не только по линии хозяйства, они ее проводят и по линии культурно-национальной». И далее: «Они, эти классовые враги наши, есть. Они живут, организуются, меняют лицо, кожу, но живут со старым сердцем в груди, со старыми мечтами в голове. Как симптоматично, что расстрелянный контрреволюционер, один из главарей шахтинского дела, работая в Донугле, в столице Украины, говорил: „Плевать мне на вашу украинизацию“» {401}.
Всякий несогласный с национальной политикой Кагановича подвергался травле. Особенно доставалось литераторам. На них лежала обязанность развивать самостоятельную литературу на украинском языке, но они, как и большинство украинцев, нового языка не знали и накликали на себя обвинения в «неуцтві», «рабской зависимости» от «русской языковой, буржуазной по сути своей, традиции» {402}. В числе прочих критике за употребление «русизмов» подвергались Павло Тычина, Владимир Сосюра, Максим Рыльский, Юрий Яновский, Петро Панч, Иван Ле, Андрей Головко, Валерьян Пидмогильный, Григорий Косынка, Семён Скляренко, Иван Микитенко, Мыкола Хвылевой, Юрий Смолич, Юрий Шовкопляс и другие. «Современный писатель украинский, за небольшим исключением, украинского языка не знает. Ему нужно взять в руки „Изюмова“» {403} (имелся в виду «Словник», составленный известным украинизатором, мовознавцем Изюмовым); «даже выдающиеся поэты и писатели-стилисты нарушают правильность и чистоту и портят эффекты художественного достижения ненужными ошибками и абсолютно противными духу украинского языка русизмами» {404}; «даже в языке самых лучших современных писателей рядом с прекрасными неологизмами случаются совсем не нужные москализмы» {405},— били тревогу подручные Лазаря Моисеевича и категорически требовали: «Писатели должны выучить язык» {406}.
Писатели, безусловно, старались. Они «исправляли ошибки», благодарили за «критику», брали на себя повышенные обязательства. Кто искренне, кто вынужденно, «бойцы литературного фронта» стремились избавиться от «тяжкого наследия» русской культуры, скорее выучить новый для себя украинский язык. Но выучить его было непросто. «Величавый рост украинского литературного языка в последние послереволюционные годы доставляет много хлопот всем тем, кто в силу своего звания должен языком интересоваться. Имею в виду учителей украинского языка и украинских работников пера — журналистов и писателей» {407},— свидетельствовал «национально сознательный» деятель. «Рідна мова» не стояла на месте. Из нее старательно вычищались слова русского происхождения, которые заменялись словами польскими, немецкими, выдуманными, какими угодно, лишь бы сильнее отделиться от великороссов. Украинизаторы объясняли, что украинское «национальное возрождение» тормозится (также как и белорусское) по причине «близости украинского и белорусского языка к русскому, а из этого делают достаточно распространенный вывод, который в кровь и плоть вошел еще с давних времен, что украинский язык есть „испорченный русский язык“, значит, украинское население нуждается, мол, в массовой русской школе» {408}.
Таким образом, «очищению» от русизмов придавалось политическое значение. «Украинский язык до революции развивался в ненормальных условиях. По известным причинам техническая, экономическая и политическая лексика была очень русифицирована. После революции встала задача создать, очистив язык от негативных разрушительных элементов, собственную лексику, которая могла бы обслуживать все отрасли современной жизни» {409},— писал видный украинский мовознавец Н. Каганович.
Создавали «собственную лексику» «национально сознательные» филологи под бдительным контролем не менее «национально сознательной» общественности, подгонявшей специалистов, заставлявшей их тщательнее «очищать» «рідну мову» от русизмов. Так, после выхода в свет «Словника технічної термінології», мовознавец В. Фаворский отмечал, что «к сожалению, укр. техники — народ малоопытный в словарных тонкостях», а потому очень ценной была помощь представителей общественности, «товарищей-читателей», высказывавших свои советы и замечания. «Среди них самый активный тов. Беренбойм. Он недоволен тем, что словарь неполный, потому что нет в нем подробных пояснений» {410}.
«Решительная национальная политика, начатая компартией три года назад,— заявлял К. Довгань,— сразу обусловила буйный расцвет украинского — газетного и книжного — производства. Именно в этой отрасли нашей „промышленности“ — легче и решительней, чем во многих других, мы достигли довоенных норм и превзошли их. И именно из-за этого на протяжении последних трех лет литературный язык украинский должен неслыханно быстро развиваться. Новые условия, отношения и темы требовали нового — широченного ассортимента лексическо-фразеологического. Двумя путями — единственно законными и возможными — путем заимствования и оригинального творчества — шел украинский язык в процессе этого развития» {411}. Про «оригинальное творчество» все было понятно без лишних объяснений. А чтобы у читателей не возникло сомнений на счет того, откуда можно и откуда нельзя заимствовать слова, украинизатор тут же обрушился на тех писателей и журналистов, которые еще «не очистили» свой язык от русизмов.
«Украинский язык, не считая Галиции, был только языком литературы и прессы. Только с революцией развернулись перед ним широкие перспективы, и начался процесс его могучего стихийного роста, процесс интенсивного, напряженного творчества, какого, может, не знает история. За короткое время сделаны большие достижения, обнаружена непобедимая воля к культурному бушеванию»,— отмечал В. М. Ганцов, призывая и дальше «творить слова или, как говорят, „ковать слова“» {412}. «Культурное бушевание» и массовое «кование» слов в УССР приняли такие масштабы, что даже виднейшие в прошлом «национально сознательные» деятели, оказавшиеся после гражданской войны в эмиграции, не успевали следить за языковыми переменами. Когда видный украинофил Е. Х. Чикаленко (до революции бывший в числе активнейших борцов за «чистоту» украинского языка) обратился с письмом к С. А. Ефремову, прося взять для него в архиве какую-то справку, Сергей Александрович мягко поправил его: «Теперь у нас говорят „довідка“» {413}.
Не поспевали за переменами в языке не только эмигранты. Как отмечал убежденный сторонник украинизации С. М. Диманштейн, считавшийся крупным знатоком национального вопроса в СССР, «с одной стороны язык обновляется, черпает новые материалы из глубины масс или забытого прошлого, а иногда, с другой стороны, все-таки становится часто непонятным массам» {414}. Также и К. Довгань признавал, что «газета украинская отталкивает крестьянина непонятным языком» {415}. Но особенно по этому поводу не тревожились. Диманштейн объяснял происходившее тем, что «массы больше знакомы с тем, я бы сказал, старым обиходным жаргоном, с той языковой смесью, которая у них была раньше в употреблении, чем с чистым языком» {416}. Довгань все сводил к отдельным ошибкам, нехватке грамотных писателей и журналистов и отсутствием научного руководства языковым творчеством. А еще один ярый украинизатор, украинский поэт, первый глава Союза писателей Украины, Израиль Юделевич Кулик (переименовавшийся по случаю украинизации в Ивана Юлиановича) просто потребовал «решительно отбросить» «обывательскую болтовню „русотяпского“ порядка, людей, которые с одной стороны говорят, что, дескать, шевченковский язык они понимают, а современного украинского они не понимают, а с другой — проявляют презрительное отношение к Шевченко» {417}.
Специально для украинизаторских целей был основан журнал «Червоний шлях», перед которым была поставлена задача «мобилизовать литературные и научные силы для работы над выковыванием украинского языка» {418}. Первоначально журнал возглавляли бывшие и действующие наркомы просвещения (Г. Ф. Гринько, А. Я. Шумский, В. Г. Затонский), а затем это важное дело доверили видному украинскому литературному критику Н. Калюжному (Науму Шайтельману).
В этих же целях группа академиков ревизовала словари, снова и снова реформировалась грамматика. На специальной правописной конференции (при участии большого количества представителей Галиции) всерьез обсуждался вопрос о переходе на латинский алфавит. Однако большинством голосов это предложение было отклонено как преждевременное. Опасались, что в тех частях Украины, где еще не установлена советская власть, население не примет латиницы. Мог получиться культурный раскол, что явно противоречило планам украинизаторов. «Радикальные изменения в правописании может себе позволить только единый народ, живущий одной государственной жизнью, не подвергаемый всяким возможным попыткам денационализации. Для украинцев, разделенных и разбитых, это время еще не настало» {419},— пояснял один из участников конференции.
Впрочем, и без латиницы правописных нововведений хватало. «С правописанием совещание намудрило, став на путь компромисса, и напутало еще больше с смягчением „л“, „г“ и т. д.; одно будет мягко, другое твердо, писать генерал, но ґенератор и т. п.,— записывал в дневник С. А. Ефремов.— Теперь эту путаницу должны наново редактировать и потом декретировать. Не знаю, найдется ли тогда хоть одна грамотная душечка на всю Украину, кроме разве что Скрыпника, неожиданно открывшего в себе наклонности филологические» {420}. (Стоит напомнить, что во время премьерства В. А. Ющенко близкие к нему круги попытались вновь завести это самое правописание 1928 года.) Но замечания Ефремова касались деталей, а не принципов украинизаторской политики. Сама эта политика вызывала у «национально сознательных» деятелей бурный восторг. «Советская власть, как никакая другая за всю историю Украины, распространяет украинизацию» {421},— говорилось в Манифесте Всеукраинского съезда пролетарских писателей. «За годы революции украинский язык значительно развился, обогатился, стал более гибким и более подвижным» {422},— радовался видный украинизатор И. Гехтман. «Небольшой промежуток времени дал такой широкий размах развитию украинской культуры, что подобного нельзя заметить в истории ни одного другого народа за всю предыдущую историю человечества» {423},— восхищался Н. А. Скрыпник.
«Ни один литературный язык, кроме украинского, не претерпел в процессе своего развития такого внезапного изменения за недолгое время, только с революции 1917 года. Это понятная вещь. Родилась украинская государственность, родилась украинская школа. И тут быстро нужно было дать выражения этим новым культурно-национальным формам жизни, нужно было творить новые слова, новые синтаксические, новые фразеологические обороты» {424},— заявляла крупный украинский языковед Олена Курило. (Эта ярая украинизаторша написала специальную книгу с целью, как она выразилась, «оказать услугу современному литературному языку тем, чтобы помочь ему сойти с русской основы» {425}.)
«Никакая национальная шовинистическая петлюровская жовто-блакитная власть не могла бы сделать столько, сколько сделала Коммунистическая партия и Советская власть» {426},— восторгался ненькопатриот Рачко. «Бурный поток украинизации школ, прессы, отпечаток его в формировании новых кадров культурных работников, процесс овладения языком среди пролетариата — разве это не самая лучшая демонстрация всему миру на протяжении всей истории, что единственный класс — пролетариат под руководством коммунистической партии — может и уже решает с большими достижениями национальный вопрос на Украине? Какой класс, какая партия, где и когда сделали для решения болезненного всемирно-исторического национального вопроса столько и с таким темпом?» {427} — вопрошал А. А. Хвыля и выражал уверенность, что «широкие рабоче-крестьянские массы в скором времени овладеют украинским языком, как основным своим культурным орудием» {428}.
Украинизаторы с удовлетворением отмечали, что в украинский язык за короткий срок «включены десятки, даже сотни тысяч новых слов. Это величайшее событие. От этого не только изменится лексика украинского языка, но это имеет также колоссальное значение для целого процесса дальнейшего развития украинской пролетарской культуры» {429}. «Мы теперь переживаем времена мощного языкового творчества, которого, может, еще не знала история» {430},— хвастались подручные Кагановича.— «Много новых понятий и слов вошло в украинский язык, который в связи с украинизацией целой государственной жизни УССР претерпел невиданных до сих пор в истории темпов своего развития. Шесть лет украинизаторского процесса в условиях социалистических темпов развития целой нашей культурной жизни есть колоссальная эпоха, которая последствиями своими может быть сравнима с целыми столетиями» {431}.
Со своей стороны, находившийся в эмиграции И. И. Огиенко, внимательно следивший за происходившим в Украинской ССР, удовлетворенно констатировал: «„Украинизация Украины“ при господстве большевистской власти сильно отразилась на литературном украинском языке. За тяжелые эти годы пережито чрезвычайно много, а это все не могло не отразиться на нежном органе живой жизни,— на литературном языке. Действительно, язык сильно вырос и много в чем изменился» {432}. В то же время И. И. Огиенко отмечал, что в украинской советской литературе все еще присутствует «большое число русских выражений, или чистых, или немного украинизированных» {433}. В статье, опубликованной в им же издаваемом журнальчике «Рідна мова», Огиенко рекомендовал усилить влияние на украинскую советскую литературу «надднестрянского литературного языка» — «в западноукраинских говорах имеем немало интересного, что обогатило бы и язык надднепрянский» {434}. (Любопытно, что в частной переписке И. И. Огиенко отзывался о западноукраинских говорах гораздо менее восторженно. «Вы не можете себе представить, как тут засорен даже живой интеллигентский язык полонизмами,— писал он из Львова А. Е. Крымскому,— но вслух сказать про это тут все боятся» {435}.)
Вряд ли можно переоценить значение сделанного с Украиной при Кагановиче. Язык, созданный в Галиции австро-польскими «языковедами», в несколько дополненном виде был утвержден в УССР в качестве державной мовы. Его не любили, не признавали родным, но учить и употреблять его вынуждены были все. Как подчеркивает современный публицист (опять же из числа «национально сознательных»): «Ни одна демократическая власть не достигла бы либеральными методами таких успехов на протяжении такого короткого промежутка времени» {436}.
Не замедлили и последствия «успехов». Резко понизился уровень культуры. Многие ученые, не в силах привыкнуть к новому языку, покинули республику. «Насколько велико влияние русотяпов, это доказывают факты, что не только реакционеры, но и явно советские ученые начинают говорить, а кое-где уже и принимают меры, чтобы перевестись в Россию, другие республики, „где нет украинского наречия“. Есть русотяпство и среди студенчества» {437},— жаловались украинизаторы. На смену «несознательной» русской (в том числе и малорусской) интеллигенции приходила «интеллигенция» новая, «национально сознательная», но (это признавали сами украинизаторы) по сравнению с прежней «гораздо более слабая и числом, и квалификацией» {438}.
Украинский язык являлся новым и непривычным как для «старых», так и для «новых» специалистов. «Негде правды деть, большинство нашей как старой, так и новой двуязычной интеллигенции с нестираемым клеймом русификации, на украинской почве, за исключением немногих мастеров языка, впадает в языковую депрессию и болеет стилистической инерцией, слабостью, несостоятельностью» {439},— печалились «возродители национальной культуры». В связи с украинизацией возникла и проблема с учебными пособиями. Русскоязычные учебники использовать не хотели, а украиноязычные не успевали подготовить по причине, как отмечалось на коллегии Наркомата просвещения, «недостатка квалифицированных украинских авторов», «задержки перевода с русского на украинский язык», «неразработанностью украинской терминологии и торможением из-за этого переводов» {440} (т. е. «старые» русские слова использовать было нельзя, а новых «украинских» еще не придумали).
Председатель Всеукраинского ЦИК Г. И. Петровский еще хорохорился: «Всегда вновь рождающееся связано с болезнями, и это дело не составляет исключения. Пока дождешься своих ученых или приспособишь тех специалистов, которые должны будут преподавать у нас на украинском языке, несомненно, мы будем иметь, может быть, некоторое понижение культуры. Но этого пугаться нельзя» {441}. Однако в глубине души многие сознавали, что несет с собой украинизация.
Мощный удар был нанесен воспитанию подрастающего поколения. Попадая из русской среды в украинизированные учебные заведения, дети сильно калечили свою лексику. «Я имел возможность наблюдать язык подростков, мальчиков и девочек, учеников полтавских трудовых и профессиональных школ, где язык преподавания — украинский. Язык этих детей представляет собой какой-то уродливый конгломерат, какую-то не выговариваемую мешанину слов украинских и московских» {442},— замечал один из украинизаторов.
Бумерангом политика Кагановича ударила и по его подручным. Беспрестанная борьба с русским языком, постоянное «очищение» от русизмов стали навязчивой идеей в «национально сознательной» среде, сказывались на психике любителей «рідной мови». Многие из них заболели «мовной сверблячкой» (выражение видного украинофила А. В. Никовского, одного из основателей Центральной Рады, а позднее — петлюровского министра). Обнаружив «неблагонадежное» слово («русизм»), устранив его, заменив другими, мовознавцы вскоре начинали сомневаться — достаточно ли новое слово отделяется от русского языка, свободно ли оно от «русификаторских» влияний? Под подозрение попадали даже слова, совершенно непохожие на русские, так как они могли быть созданы с учетом принятых в русском языке правил словообразования. (Например, слово «насправді», которое «появилось как дословный перевод русского „на самом деле“» {443}; слово «стосовно», подозреваемое в том, что «выковано» по образцу русского «относительно» {444} и т. д.) «Фонетическая украинизация русских слов и выражений, конечно, самый легкий путь, но это же не творческий путь» {445},— заявляли ненькопатриоты. Следовала новая замена, а за ней — новые сомнения и так до бесконечности.
Та же картина наблюдалась в терминологии. Старые грамматические термины, выработанные киевскими учеными, «филологов со сверблячкой» не устраивали, так как те же термины были приняты в русской грамоте. Срочно требовалось придумать что-либо новое. Так, «имя существительное» превратилось в «ім’я суще», затем в «сущиник», «йменник», «іменник». «Имя прилагательное», стало «ім’ям приложним», потом «ім’ям призначним», «ім’ям прикметним», «прикметником». Такую же эволюцию совершили «местоимение» («містоімення» — «містойменник» — «заіменник» — «займенник»), «имя числительное» («ім’я числове» — «ймення чисельне» — «чисельник» — «числівник»), «запятая» («запята» — «запинка» — «кома»), «двоеточие» («двоеточка» — «двокрапка»), «сказуемое» («сказуєме» — «сказуюче» — «присудок») и другие термины. Мужской род стал «мужським», затем «мужеським» и, наконец, «чоловічим». Соответственно «женский» последовательно превратился «женський», «жінський», «жіночий» и т. д. Остановиться уже не могли и только спорили, какое название лучше обеспечивает независимость украинского языка от русского: «іменник» или «предметник», «прикметник» или «призначник», «присудок» или «присудень», «лапки» или «цятки», «перетинка» или «кома» и т. п {446}. (Например, И. И. Огиенко признавал, что «точка — старое наше название», «зап’ятая — название взято из крючковых нотных значков, слово известно с XV века», но все равно рекомендовал употреблять — «крапка» и «перетинка» {447}.)
Постепенно сами украинизаторы стали задаваться вопросом: «Куда ведет нас это буйное, но беспорядочное и ненаучное языковое творчество? Не время ли положить конец этой анархии твердой и плановой „языковой политикой“?» {448} Указывали и на «передовой» опыт Франца-Иосифа: «Галиция литературную норму себе создала, потому что там дело национальной культуры решено официальным путем и воплощено с помощью государственно-правительственного аппарата» {449}. В конце концов над данной проблемой задумались и наверху. Каганович был отозван с Украины, а «мовознавцам» предложено определиться с выбором слов и терминов.
Сегодня это предложение выдается за «конец украинизации». В действительности же она не прекращалась ни на один день. Сменивший Л. М. Кагановича на посту генерального секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косиор поставил задачу «усиления темпа украинизации», отмечая, что это «один из составных элементов социалистического строительства» {450}. «Я считаю, что ныне основной лозунг, который мы должны выдвинуть — это внедрение украинского языка в употребление» {451},— заявил новый генеральный секретарь, выступая на XIV Киевской окружной партконференции. Кроме того, партийный вождь объявил, что «крайне необходимо самым внимательным образом следить за всякими проявлениями великодержавного шовинизма, давать ему немедленный, систематический и решительный отпор» и требовал «создать такую атмосферу в наших учреждениях, чтобы проявления великодержавного шовинизма, откровенные или скрытые выступления против нашей национальной политики стали невозможны». Таким образом он собирался сломить сопротивление интеллигенции, которая «в основном негативно относится к украинизации. Выдающиеся специалисты позволяют себе даже почти открыто и [5] пренебрежительно относиться к этому делу» {452}.
Особенно беспокоила С. В. Косиора средняя и высшая школа. «Тут мы имеем сопротивление определенной части преподавателей, профессуры. Это сопротивление необходимо любой ценой преодолеть. Украинизация молодежи, а значит и работы комсомола, является основным нашим заданием, воплощение которого будет иметь для нас огромные последствия» {453}. (То же обстоятельство волновало и Н. А. Скрыпника. «Мы имеем профессоров, которые не хотят преподавать на украинском языке,— говорил он.— Это не только среди старой профессуры, но и новая профессура уже с академическими заездами. Только закончил вуз, идет в вуз преподавать и стрекочет таким же голосочком, как и старая профессура, тогда как он должен быть орудием украинизации вузов» {454}.) Одновременно генеральный секретарь ЦК КП(б)У похвалялся уже достигнутым: «Никогда еще на протяжении всей истории рост украинской культуры и внедрение ее в массы не совершалось в таком масштабе, как ныне» {455}.
Однако приблизительно с середины 1930-х годов украинизаторским процессам были преданы иные, более цивилизованные формы. Причин тому было несколько. Набиравшиеся опыта государственного строительства большевики осознавали, что одними революционными наскоками украинский вопрос разрешить не удастся. Между тем ненькопатриоты требовали еще большего применения насилия и, помимо того, желали получить безраздельную власть над Украиной, с чем КП(б)У согласиться не могла. Возникшие разногласия усугублялись сложной международной обстановкой. После государственного переворота 1926 года в Польше пришедший там к власти Ю. Пилсудский стал искать взаимопонимания с украинскими кругами. Последние, в свою очередь, проявили готовность к компромиссу. Если раньше они занимали однозначно просоветскую позицию, то с конца 1920-х ситуация меняется. «Национально сознательные» начинают вести торг с Варшавой, взвешивая «плюсы» и «минусы» союза с Пилсудским. В этих условиях Кремль уже не мог, в случае войны с Польшей, твердо рассчитывать на украинское движение.
Все вышеизложенное привело к некоторому смягчению украинизаторских мер. Были осуждены «перегибы» и «перекосы» в проведении украинизации. В частности, было признано чрезмерным языковое «творчество», «кование» в огромном количестве новых слов, приводившее к тому, что украинский язык не воспринимался народом и вызывал к себе насмешливое отношение. «Вредительством на языковом фронте» было названо «стремление оторвать украинский язык от языка, которым говорят широкие массы украинских рабочих и крестьян, путем устранения из него интернациональных терминов, путем насаждения искусственных, чужих для понимания широких масс „новых слов“» {456}.
Прекратилось неприкрытое насилие над русскоязычным населением. В 1938 году даже вновь открыли всеукраинскую газету на русском языке, получившую название «Советская Украина» (нынешняя «Правда Украины»). В городах, являющихся крупными научными центрами, населению предоставляли свободу выбора языка обучения в школах, и естественно, что выбор был в пользу русского языка. (В то же время в большинстве сел, где, как правило, имелось лишь по одной школе, такого выбора не было, и это обстоятельство, наряду с более низким, чем в городах, уровнем культуры, является одним из основных факторов, объясняющих большее распространение украинского языка в сельской местности.) Но, осуждая «отдельные ошибки» и «перегибы» украинизаторской политики, большевики и не думали отказываться от этой политики как таковой. Наказав некоторых рядовых и нерядовых перегибщиков, партийные руководители Украины продолжали восхвалять «ту величайшую работу вокруг проведения ленинской национальной политики, которую украинская парторганизация проводила под руководством т. Кагановича» {457}. Стратегический курс оставался неизменным.
Тем же, кто сегодня указывает на судебный процесс над некоторыми представителями некоммунистической части «национально сознательной» интеллигенции (так называемый процесс СВУ — «Спілки визволення України» 1930 года) как на доказательство поворота большевиков в сторону «великорусского шовинизма», стоит напомнить, что над русской интеллигенцией в то время таких процессов было организовано несколько и закончились они гораздо более суровыми приговорами. К тому же, как заявил в печати прокурор Л. Ахматов, поддерживавший на процессе СВУ государственное обвинение, «наши расхождения с украинскими контрреволюционерами касаются, в основном, не так моментов национальных, как классовых» {458}. Таким образом, вопрос стоял не о том — проводить или не проводить украинизацию, а о том, кто будет руководить ее проведением дальше.
«Исправляя перекручивания украинизации, мы должны одновременно продвинуть вперед саму украинизацию, которая является неотъемлемой частью нашего социалистического строительства» {459},— заявил на ноябрьском (1933) пленуме ЦК КП(б)У секретарь ЦК КП(б)У Н. Н. Попов. «Нужно решительно проводить и в дальнейшем ленинскую национальную политику, политику большевистской украинизации» {460},— требовал он же на собрании харьковского партактива. А другой секретарь ЦК КП(б)У и по совместительству первый секретарь харьковского (столичного) обкома КП(б)У П. П. Постышев предупреждал: «Нужно иметь в виду, что великодержавные элементы будут пытаться сейчас поднять голову, толковать в своих интересах разгром буржуазно-националистических, шовинистических элементов. Уже кое-где начинаются разговоры, что, дескать, закончилась полоса украинизации, пытаются позорить и клеймить всю ту величайшую работу над национально-культурным строительством, которую проделала и проводит наша партия. Мы должны против этих великодержавных элементов вести самую решительную, неумолимую большевистскую борьбу» {461}.
Украинизация продолжалась. Украинский язык пользовался полной государственной поддержкой, повсеместно пропагандировался как родной для украинцев, а на обсуждение вопроса о его подлинном происхождении был наложен строжайший запрет. Продолжалось и «языковое творчество», хоть насаждение «выкованных» слов шло теперь более разумными темпами и не в столь огромном количестве, как раньше. «Украинский язык, особенно за последнее десятилетие, чрезвычайно растет в своем словаре. Имеем немало современных писателей, в основном в Великой Украине (т. е. в УССР.— Авт.), которые пишут действительно богатым языком и не боятся смелых неологизмов» {462},— писал в 1939 году И. И. Огиенко, вряд ли ставший бы преувеличивать украинизаторские успехи, достигнутые в советских условиях.
Вмешательство власти в развитие украинского языка только пошло ему на пользу. Для сравнения укажем на Западную Украину, где поляки не давали детальных указаний языковедам. В результате еще в 1938 году любители «рідной мовы» жаловались: «Грустно нам, что наши языковеды не договорятся и до сих пор между собой, один пишет так, второй пишет иначе, один пишет „інший“, второй „инший“, а третий „иньший“… Если языковеды не договорятся между собой, что же должны делать остальные?» {463}
Одним словом, как пишет современный исследователь, «в период сталинизма и позднее успехи „украинизации“, несмотря на все попятные движения, репрессии, систематическую борьбу с „буржуазным национализмом“, были закреплены, Малороссия окончательно стала Украиной» {464}. Исключая слово «окончательно» (исторический опыт учит, что обращаться с этим словом надо более осторожно — слишком многое у нас в последние десятилетия объявлялось окончательным без достаточных на то оснований), со всем остальным в вышеприведенном утверждении можно согласиться.
По-иному сложились языковые отношения в регионах, где советская власть установилась позднее.
Глава 7. Русский погром
Вплоть до самого распада Австро-Венгрии власти прилагали невероятные усилия, чтобы насадить в Галицкой Руси «украинскую национальную идею» и язык. На национальные отношения существенно влияло отсутствие в стране свободы. Формально Австро-Венгрия являлась конституционным государством, где все сферы жизни регламентировались законом. Фактически трудно было найти в Европе другую державу (за исключением разве что Турции), где законы оставались простой бумажкой. По закону различные нации, населяющие империю, могли свободно развиваться. Однако Галиции, Буковины, Закарпатья это не касалось. Преподавание на русском языке в государственных школах было запрещено. Изучавшие русский язык самостоятельно подозревались в шпионаже в пользу России. Русские национальные организации преследовались, против русских деятелей (их называли «москвофилами») фабриковались надуманные обвинения в государственной измене, организовывались фальсифицированные судебные процессы. Русских детей третировали в школах (особенно усердствовали в этом учителя-украинофилы). По закону жители Австро-Венгрии свободно могли перейти из одной религии в другую. В действительности же каждый случай перехода в православие опять таки расценивался как государственная измена.
Формально население могло избирать в парламент и местный сейм своих представителей. На самом деле власти пускали в ход все средства давления на избирателей, включая открытый террор, чтобы не допустить избрания русских кандидатов. Когда давление не помогало, шли на откровенную фальсификацию, подтасовывая голоса. Если же фальсифицировать в нужных масштабах результаты по каким-либо причинам не удавалось и побеждал кандидат русской партии, часто (хоть и не всегда) итоги голосования просто объявляли недействительными. Даже современные «национально сознательные» историки, вообще-то весьма положительно отзывающиеся об австрийских порядках, признают, что выборы в Галиции «проходили в атмосфере невероятных избирательских злоупотреблений» {465}. При этом «злоупотребления» часто заканчивались кровопролитием. Зная, что фальсификация выборов вызовет возмущение населения, власти заранее направляли на участки, где должны были подтасовать голоса, жандармов, не останавливавшихся перед применением оружия. Так было, например, во время выборов 1907 года в селе Горуцко. «Все село проголосовало за русского кандидата, даже еврей-корчмарь. И вдруг ожидавшие результатов селяне узнают от „украинского“ священника, бывшего председателем избирательной комиссии, что якобы избран украинский депутат. Это вызвало естественное негодование. Внезапно в селе появляются никогда до того не бывавшие здесь жандармы, стреляют в толпу и убивают четырех человек, причем одного старика прямо в его доме, а 10 тяжело ранят» {466}.
Особый упор делался на кадровую политику. В школы назначались учителями исключительно адепты «украинской национальной идеи». В то же время педагоги с русскими убеждениями переводились в другие регионы империи, а то и просто оставались без места. То же самое творилось и в церкви. «Прием в духовные семинарии юношей русских убеждений прекращается,— вспоминал галицкий общественный деятель И. И. Терех.— Из этих семинарий выходят священниками заядлые политиканы — фанатики, которых народ называл „попиками“. С церковного амвона они, делая свое каиново дело, внушают народу новую украинскую идею, всячески стараются снискать для нее сторонников и сеют вражду в деревне. Народ противится, просит епископов сместить их, бойкотирует богослужения, но епископы молчат, депутации не принимают, а на прошения не отвечают. Учитель и „попик“ мало-помалу делают свое дело: часть молодежи переходит на их сторону, и в деревне вспыхивает открытая вражда и доходит до схваток, иногда кровопролитных. В одних и тех же семьях одни дети остаются русскими, другие считают себя „украинцами“. Смута и вражда проникают не только в деревню, но и в отдельные хаты. Малосознательных жителей деревни „попики“ постепенно прибирают к своим рукам. Начинается вражда и борьба между соседними деревнями: одни другим разбивают народные собрания и торжества,— уничтожают народное имущество, (народные дома, памятники — среди них памятник Пушкину в деревне Заболотовцы). Массовые кровопролитные схватки и убийства учащаются. Церковные и светские власти на стороне воинствующих „попиков“. Русские деревни не находят нигде помощи. Чтобы избавиться от попиков, многие из униатства возвращаются в православие и призывают православных священников. Австрийские законы предоставляли полную свободу вероисповедания, о перемене его следовало только заявить административным властям. Но православные богослужения разгоняются жандармами, православные священники арестовываются и им предъявляется обвинение в государственной измене» {467}.
Одновременно с политикой «кнута» Вена применяла и «пряник». Созданные под руководством украинофилов крестьянские кооперативы получали щедрую государственную поддержку. И наоборот — те кооперативы, в которых не культивировалась «украинская национальная идея», такой помощи лишались.
И все-таки прочно насадить украинство австрийским властям не удавалось. Ярый ненькопатриот М. Павлик (друг И. Франко) в ноябре 1884 года жаловался в польской газете «Курьер львовский», что «москвофильские настроения среди масс галицко-русской народности» намного сильнее украинофильства, а на Буковине и в Угорской Руси вообще «украинского чувства нет и до сих пор» {468}. В 1906 году тот же М. Павлик предупреждал, что на всех западно-украинских землях в душе «наших крестьянских масс» дремлет давнее «народное москвофильство», которое вот-вот проснется {469}.
В 1911 году о широком распространении «москвофильских» настроений писал М. С. Грушевский, в течение 20 лет (1894—1914) живший в Галиции. Правда, Михаил Сергеевич винил в этом вождей галицкого украинофильства, в частности, украинофильских депутатов австрийского парламента, которые вместо того, чтобы отстаивать интересы населения и тем самым зарабатывать политический капитал, занимались тем, что распевали хором в парламенте «Ще не вмерла Україна». «Пели, говорят, неплохо, но этими манифестациями, которые имели бы значение лишь при крайне напряженной борьбе, и вообще целой своей тактикой навыворот: на словах сердито, на деле слабо, они подорвали уважение к себе у парламента и у правительства. Оно почувствовало хорошо, с каким легкомысленным элементом имеет дело» {470}. А в то же самое время «крепло и вырастало вновь москвофильство, энергично ведя политическую работу в народных массах в свою пользу среди политического застоя украинского» {471}. «Тогдашние „украинофилы“ или „народовцы“ ограничивали свой патриотизм литературой, борьбой с кацапами, жизнью в сиянии австрийской лояльности» {472},— свидетельствовал и другой известный «национально сознательный» деятель А. Чайковский.
Не оправдывая галицких украинофилов, нужно все-таки признать, что иного выхода, кроме пребывания в «сиянии австрийской лояльности», у них не было. Эти деятели попадали в парламент только благодаря поддержке власти и уже поэтому не могли входить с ней в конфликт, что при борьбе за интересы народа было бы неизбежно. К тому же украинофилы считали, что нищего и бесправного мужика легче увлечь «украинской национальной идеей». «Если нашему хлопу дать немного достатка, то он будет лежать под грушкой и ничего не будет делать» {473},— говорил в узком кругу один из лидеров галицких «национально сознательных» К. Сушкевич.
Несколько на иную, чем М. С. Грушевский, причину распространения «москвофильства» указывают некоторые современные украинские (тоже «национально сознательные») историки. «Следует учитывать,— пишут они,— что феномен русофильства не исчерпывался политическим аспектом, а включал и многоуровневую философскую и психологическую систему мировосприятия. В этом смысле русофилы имели глубинную, иррациональную для современного понимания связь с тогдашним украинским обществом, соответствуя его склонности к традиции, размеренному ритму жизни. В глазах среднего галицкого русина это имело большее значение, чем политическая идеология. Поэтому старорусины-русофилы нередко оказывались ему более близкими, чем социально-радикальные и национально модерные народовцы» {474}.
Но какими бы ни были причины, факт оставался фактом: подавляющее большинство коренного населения Галиции исповедовало «москвофильские» взгляды и в национальном отношении считало себя одним народом с великороссами. «Как славянин не могу в Москве не видеть русских людей. А хотя я малорусин, а там живут великорусы; хотя у меня выговор малорусский, а у них великорусский, но и я русский, и они русские» {475},— писал И. Г. Наумович. «Галицко-русский народ по своему историческому прошлому, культуре и языку стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицией земли малорусским племенем в России, которое вместе с великорусским и белорусским составляет цельную этнографическую группу, т. е. русский народ,— говорилось в тексте коллективного прошения об официальном признании прав русского языка в Галицкой Руси (сто тысяч таких коллективных прошений из разных концов Галиции были в 1907 году посланы в австрийский парламент).— Язык этого народа, выработанный тысячелетним трудом всех трех русских племен и занимающий в настоящее время одно из первых мест среди остальных мировых языков, Галицкая Русь считала и считает своим и за ним лишь признает исключительное право быть языком ее литературы, науки и вообще культуры» {476}.
Как это часто бывает, давление со стороны власти встретило мощное противодействие населения. «Защитники Руси нашли самую сильную опору в массах галицкого народа,— вспоминал активный участник галицко-русского движения В. Р. Ваврик.— Крестьянину трудно было сразу перекреститься с русина на украинца. Ему тяжело было потоптать то, что было для него святым и дорогим. Еще тяжелее было ему понять, почему украинские профессора как-то туманно, хитро и блудно меняют Русь на Украину и путают одно имя с другим (в Галиции, где почти никто не знал наименований «Украина», «украинский», тем более — «украинец», а только «Русь», «русин», «русский», «руський» — украинофилы предпочитали использовать термины «Русь-Украина», «русько-украинский народ» и т. п.— Авт.). Всем своим существом народ осознал, что творится неправда, фальшь, измена… Чем сильнее был напор на Русь, тем упорней становилась ее защита на Карпатах» {477}.
Гонение на русский язык в государственных школах побудило жителей собирать средства и открывать частные русские гимназии. По свидетельству галицкого писателя С. Ф. Медвецкого, когда такая гимназия открылась в Бучаче, «наплыв учеников был настолько велик, что пришлось построить два больших здания — для гимназии и общежития» {478}. На собранные населением средства учебные заведения с русским языком обучения функционировали во Львове и других крупных городах. Влияние «москвофильства» ощущалось и в украинизированных государственных школах. Так, «национально сознательный» учитель черновицкой гимназии Шпойнаровский доносил начальству, что в письменных работах некоторые ученики употребляют запрещенные буквы «ы» и «ъ», неправильно произносят слова (например, говорят «мой» вместо «мій», «есть» вместо «є» и др.), пишут сочинения с примесью русских выражений, нелегально «учатся по-великорусски» и «не считают себя отдельным народом от великорусов» {479}. Доносы Шпойнаровского стали причиной исключения из гимназии пяти учеников и применения более мягких наказаний к еще тридцати учащимся, но окончательно победить «москвофильство» педагогическая администрация не смогла.
Массовым явлением было самостоятельное изучение русской литературы и языка, а также истории и географии России в существовавших при городских гимназиях общежитиях (бурсах), где проживали иногородние ученики и приехавшие на учебу дети крестьян. Как ни препятствовали этому власти и учебное начальство (в бурсах регулярно проводились обыски, и найденная у ученика русская книжка служила достаточным основанием для исключения из гимназии), общежития стали деятельными центрами русской жизни. В галицких селах миссию обучения крестьянской молодежи русскому литературному языку взяли на себя студенты. «На сельских торжествах парни и девушки декламировали стихотворения не только своих галицких поэтов, но и Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Майкова и др. По деревням ставили памятники Пушкину. Член Государственной Думы граф В. А. Бобринский, возвращаясь со славянского съезда в Праге через Галичину с галицкими делегатами этого съезда, на котором он с ними познакомился, и присутствуя на одном из таких крестьянских торжеств их деревни, расплакался, говоря: «Я не знал, что за границей России существует настоящая святая Русь, живущая в неописуемом угнетении» {480}.
В то же время украинская литература абсолютно не имела успеха в Галиции. «Десять-пятнадцать лет проходит, пока книга Франко, Коцюбинского, Кобылянской разойдется в тысяче-полторы тысяче экземпляров, покроет типографские расходы и какой-нибудь маленький гонорарчик, заплаченный автору. Возможна ли в таких обстоятельствах какая-нибудь литературная работа, какое-то энергичное движение книжное? Разумеется, совсем невозможна» {481},— жаловался М. С. Грушевский. Уместно привести и свидетельство галицко-русского деятеля О. А. Мончаловского: «Один Н. В. Гоголь, которого повесть „Тарас Бульба“ разошлась недавно между сельским народом Галиции в тысячах экземпляров, больше имеет значения, чем все „руско-украинские“ писатели в Галиции и России, вместе взятые» {482}.
«Национально сознательные» деятели откровенно презирались народом. Современные украинские историки (ненькопатриоты) отмечают, что «украинцев и социалистов» считали в Галиции «полонофильскими элементами». «Много наших забрали уже поляки, пусть берут и сих Иуд искариотских»,— говорили галичане об украинофилах. «Украинство — это детище поляков, любимое и ласкаемое ими, созданное именно для уничтожения русского движения, русского духа» {483},— писала галицкая пресса.
В ответ украинофилы штамповали доносы. «Москвофилы ведут изменническую работу, подстрекая темное население к измене Австрии в решительный момент и к принятию русского врага с хлебом и солью в руках. Всех, кто только учит народ поступать так, следует немедленно арестовывать на месте и предавать в руки жандармов» {484},— призывала в ноябре 1912 года украинофильская газета «Діло». «Каждый украинец должен быть добровольным жандармом и следить и доносить на москвофилов» {485},— требовал от своих соратников А. Барвинский, один из лидеров украинского движения в Галиции.
Трудно сказать, долго ли еще продолжалось бы противоборство русского населения с австро-польско-украинофильским блоком, если бы не разразилась мировая война. Обстоятельства военного времени высветили реальное положение дел. Насаждаемое властью украинство лопнуло, как мыльный пузырь. Как только начались боевые действия, из Вены в Галицию был направлен представитель австрийского МИДа при верховном командовании барон Гизль. Он встретился во Львове с лидерами украинофильских организаций, выслушал их верноподданнические заверения, однако этим не ограничился. Барон постарался внимательно изучить сложившуюся ситуацию. Изучив же — пришел в ужас. Те, на кого делало ставку австрийское правительство, оказались политическими банкротами, не способными хоть сколько-нибудь влиять на положение. «Украинофильское движение среди населения не имеет почвы — есть только вожди без партий»,— сообщал он 31 августа 1914 года. Через два дня Гизль вновь констатировал: «Украинизм не имеет среди народа опоры. Это исключительно теоретическая конструкция политиков». В следующем сообщении министру иностранных дел тот же чиновник отмечал, что подтвердилась информация о массовом переходе местного населения на сторону русских войск, «в результате чего наша армия брошена на произвол судьбы» {486}.
В свою очередь, било тревогу австро-венгерское военное командование: «Наступающие на восточной границе в районе Белзец—Сокаль—Подволочиск—Гусятин русские войска произвели на русофильское население Восточной Галиции, которое имело уже давно приятельские отношения с Россией, огромное впечатление,— говорилось в приказе от 15 августа 1914 года.— Государственная измена и шпионаж, с одной стороны, и террор относительно нерусского населения там, где оно было в меньшинстве,— с другой стороны (Сокаль, Залозцы, Гусятин), увеличиваются самым опасным и прямо угрожающим образом» {487}. «Не думал я, что наша армия окажется во вражеском крае»,— заявил командующий расположенного в Галиции 2-го корпуса генерал Колошрари галицкому наместнику Коритовскому и высказывал мнение, что прежде чем начинать войну с Россией, следовало перевешать все русское население Галиции. А комендант Перемышльской крепости генерал Кусманек предупреждал начальство, что «если в Перемышле останется хотя бы один русин, то я не ручаюсь за крепость» {488}.
«Были арестованы все русофильские элементы, известные еще в мирное время. Это должно было оградить нас также и от шпионажа,— вспоминал начальник разведывательного бюро австрийского Генерального штаба Макс Ронге.— Но эта зараза была распространена гораздо шире, чем мы предполагали. Уже первые вторжения русских в Галицию раскрыли нам глаза на положение дела. Русофилы, вплоть до бургомистров городов, скомпрометировали себя изменой и грабежом. Мы очутились перед враждебностью, которая не снилась даже пессимистам. Пришлось прибегнуть к таким же мероприятиям, как и в Боснии,— брать заложников, главным образом, волостных старост и православных священников» {489}.
Главнокомандующий австро-венгерской армией эрцгерцог Фридрих в докладной записке императору Францу-Иосифу указывал, что среди коренного населения восточной провинции существует «уверенность в том, что оно по расе, языку и религии принадлежит к России» {490}. В результате австро-венгерские войска оказались в Галиции в «атмосфере предательства» и «в собственном краю должны нести потери от шпионажа и измены русофильского населения, а наш враг, который выступал как освободитель, мог, безусловно, рассчитывать на полную поддержку» {491}.
Действительно, местные жители всячески содействовали русской армии, информировали ее о перемещениях противника, при необходимости служили проводниками русских частей, где могли, повреждали австро-венгерские линии связи. Насильно мобилизованные в австро-венгерскую армию галичане при первой возможности сдавались в плен. «Наши войска страдали от ненадежности русинов — главных обитателей этой местности,— свидетельствовал М. Ронге.— После побед русских население сильно симпатизировало врагу, причем влияние в этом направлении оказывали и летучки, исходившие от архимандрита Почаевского монастыря Виталия, освободившего „галицийских братьев“ от верности присяге австрийскому императору. Эти русофилы наносили нашим полкам немало вреда: так, на Сане ими были организованы тайные телефонные линии, благодаря которым враг имел возможность узнавать многие интересные подробности о положении и состоянии наших войск» {492}. Все это способствовало разгрому австро-венгров и быстрому продвижению русских войск.
Население торжественно встречало освободителей. Во многих селах навстречу им выходили крестьянские депутации с хлебом-солью. При вступлении во Львов огромная толпа забрасывала солдат цветами. Значительное число жителей Галиции, Буковины и Закарпатья вступило добровольцами в русскую армию. Ликование по случаю освобождения от шестисотлетнего иноземного ига было всеобщим. Радость и восторг царили повсюду, вплоть до галицкой диаспоры в Соединенных Штатах. «Наш Львов — русский, наш Галич — русский! Господи, слава Тебе, из миллионов русских сердец шлет Тебе вся Русь свою щирую молитву, Боже великий, могучий Спаситель, объедини нас, як Ты один в трех лицах, так Русь наша в своих частях одна будет во веки!» {493} — писала газета американских галичан «Світ».
Русское чувство пробудилось даже в отрядах так называемых «украинских сичевых стрельцов» (УСС), созданных украинофилами в помощь австрийцами. «Русские наступают. Мы терпим поражение. Происходят жестокие бои на Гнилой Липе. Твое холопское войско, твои УССы боев еще не видели, но, известно, что они собираются „доблестно“ сдаться в плен москалям» {494},— писал униатскому митрополиту, заядлому украинофилу Андрею Шептицкому его брат Станислав, генерал австрийской армии. Генерал не ошибся. Не слушая заклинаний ненькопатриотов, «сичевые стрельцы» стали переходить на сторону русских. В итоге австрийское командование просто отвело «усусов» в тыл и произвело в их частях «чистку». Это было банкротство «украинской национальной идеи».
Вена ответила террором. По доносам озлобленных поражением украинофилов за симпатию к России были казнены десятки тысяч людей. Сотни тысяч галичан, буковинцев и закарпатцев были брошены в концлагеря, сотни деревень сожжены, а их жители депортированы вглубь Австрии. (При этом многие из них погибли в дороге от голода, холода и болезней.) Австрийские офицеры получили право самостоятельно творить расправу среди населения, приговаривая к смерти заподозренных в измене. Никаких доказательств не требовалось. Казнить могли за одно неосторожно сказанное по-русски слово, за отказ признать себя украинцем, отречься от русского имени, за хранение русской книги, газеты, даже открытки, за наличие в доме иконы из России или портрета русского писателя. Солдатам выдавали специальные шнуры для виселиц. Часто перед смертью приговоренных подвергали пыткам. Родителей убивали на глазах у детей, детей — на глазах у родителей. Молодых женщин предварительно насиловали. Не щадили ни старого, ни малого (среди казненных были мальчики и девочки 5—7 лет и даже грудные младенцы).
Один из очевидцев впоследствии вспоминал о казни галицких крестьян: «Мы пришли на место, которое я буду помнить до конца моей жизни. Чистое поле, на котором вокруг одинокого дерева толпились солдаты. Тут же стояла группа офицеров. Насмешки и крики, вроде „русские собаки, изменники“, посыпались по адресу ожидавших своей участи крестьян. Вид стариков, женщин с грудными детьми на руках и плачущих от страха, голода и устали детей, цеплявшихся за одежду своих матерей, производил такое удручающее впечатление, что даже у одного из офицеров-немцев показались на глазах слезы. Стоявший рядом лейтенант спросил: „Что с тобой?“ Тот ответил: „Ты думаешь, что эти люди виновны в чем-нибудь? Я уверен, что нет“. Тогда лейтенант без малейшей заминки сказал: „Ведь это же русофилы, а их следовало бы еще до войны всех перевешать“. Далее совершилась обычная казнь. Всех вешали через одну и ту же петлю, предварительно ударив жертву в подбородок и в лицо. Повешенного прокалывали штыком на глазах у матерей, жен и детей» {495}.
Для разжигания русофобской истерии в Вене был устроен показательный судебный процесс по обвинению в государственной измене, на котором судили активистов галицко-русского движения (от депутатов парламента до простых крестьян). В числе «доказательств» измены обвинители указывали на русскоязычность подсудимых. «Кто употребляет русский язык, не может быть хорошим австрийцем, хорошими австрийцами являются лишь украинцы, поэтому все члены русско-народной партии — изменники, ибо они не украинцы» {496},— объявил один из «свидетелей-экспертов», некий Ф. Ваньо, адвокат из Золочева. (Кроме него, в качестве свидетелей обвинения на суде подвизались видные украинофилы К. Левицкий, Е. Петрушевич, С. Витык, А. Колесса, К. Студинский и др.) И хотя научный эксперт, крупный ученый-славяновед, профессор Венского университета В. Вондрак убедительно показал, что русскоязычность подсудимых не может вменяться им в вину, поскольку галицкие русины — это часть русского народа, а их народные говоры — разновидность русского языка, судьи прислушались не к ученому, а к украинствующим политиканам. Все подсудимые были признаны виновными и приговорены к смертной казни через повешение. Их спасло лишь заступничество испанского короля Альфонса XIII, который по просьбе Николая II добился замены казни пожизненным заключением.
Вопреки замыслам организаторов, Венский процесс послужил обличению украинского движения. «Цель украинства негативна, именно разбитие единой национальной культуры русских племен,— подчеркнул в последнем слове главный подсудимый, депутат парламента Д. А. Марков.— Я не считаю его культурным движением, я считаю его противным культуре, и уже по этим чисто культурным причинам не являюсь сторонником украинства» {497}.
Но судебный процесс был исключением. Как правило, «русских изменников» казнили без долгих разбирательств, по приговорам военно-полевых судов, а то и просто убивали, что можно было делать тогда совершенно безнаказанно. «Весь ужас и мучения, перенесенные русским населением в Австро-Венгрии, главным образом, на первых порах войны, т. е. до момента вытеснения русской армией австро-мадьярских войск за Дунаец и по ту сторону Карпатского хребта, не имели предела: это была сплошная полоса неразборчивого в средствах, бессистемного террора, через которую прошло поголовно все русское население Прикарпатья» {498},— вспоминал очевидец. Даже М. Ронге, признающийся, что для того, чтобы сбить волну русофильских настроений в Галиции, «от органов юстиции мы потребовали быстрых и решительных действий для устрашения населения», тут же отмечает: «Часто арестовывались ни в чем не повинные люди» {499}.
Не было ни одного населенного пункта, которого бы не коснулся кровавый террор. Так «национально сознательные» украинофилы (именно они указывали властям на «подозрительных») мстили своему народу за нежелание украинизироваться.
«Жажда славянской крови помрачила умы и помыслы военных и мирских подданных Габсбургской монархии. Наши братья, отрекшиеся от Руси, стали не только ее прислужниками, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа. Ослепленные каким-то дурманом, они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наемников. Достаточно взять в руки украинскую газету „Діло“, с 1914 года издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Волосы встают дыбом, когда подумаешь о том, сколько мести вылил на своих ближних не один украинский фанатик, сколько своих земляков выдал на муки и смерть не один украинский политик вроде кровавого Костя Левицкого, сколько жертв имел на своей совести не один „офицер“ в униформе сатаны Чировского. Не день, не два упивался страшный упырь Галицкой земли братской кровью. На каждом шагу виден он, везде слышен его зловещий вой. Ужасен вид его» {500},— писал В. Р. Ваврик, сам прошедший через ужасы австрийского концлагеря.
«В руки властей передали нас большей частью свои же украинофилы, которые тогда держали монополь австрийского патриотизма» {501},— вспоминал другой уцелевший галичанин.
«Если все чужие, инородные сограждане наши, как евреи, поляки, мадьяры или немцы, и пытались тут всячески тоже, под шумок и хаос военной разрухи, безнаказанно свести со своим беспомощным политическим противником свои старые споры и счета или даже только так или иначе проявить и выместить на нем свой угарный „патриотический“ пыл или гнев вообще, то все-таки делали все это, как-никак, заведомо чужие и более или менее даже враждебные нам элементы, да и то далеко не во всей организованной и сплошной своей массе, а только, пожалуй, в самых худших и малокультурных своих низах, действовавших к тому же большей частью по прямому наущению властей или в стадном порыве сфанатизированной толпы. А между тем свой же, единокровный брат, вскормленный и натравленный Австрией „украинский“ дегенерат, учтя исключительно удобный и благоприятный для своих партийных происков и пакостей момент, возвел все эти гнусные и подлые наветы, надругательства и козни над собственным народом до высшей, чудовищной степени и меры, облек их в настоящую систему и норму, вложил в них всю свою пронырливость, настойчивость и силу, весь свой злобный, предательский яд» {502},— отмечал видный галицко-русский деятель Ю. А. Яворский.
От полного истребления галичан спасло только быстрое наступление русской армии, в короткое время освободившей большую часть Зарубежной Руси. Освобожденные земли были объявлены воссоединенными с Россией. Вновь открылись русские организации и газеты (запрещенные сразу же после начала войны). Местные общественные деятели составили Русский народный совет, представлявший интересы коренного населения в сношениях с военными властями. Принимались меры для обеспечения жителей продовольствием и удовлетворения их культурных потребностей. Отношения русской администрации и населения Галиции были такими, что после войны галичане с тоской вспоминали о периоде российского владычества. «На сегодняшний день жалеют селяне о том, как говорят, времени, когда тут после российского наступления правили россияне, и, как они говорят, это были наши люди» {503},— доносил в 1919 году поставленный уже поляками староста Рава-Русского уезда польскому наместнику в Галиции.
С падением австрийской власти сами собою рухнули и запреты на употребление русского языка. В судопроизводстве литературная разновидность русского языка и его местные просторечия — гуцульское и лемковское — стали использоваться наравне с польским. В то же время из судов устранили «тот искусственный жаргон, который создан австрийским правительством» {504} (т. е. украинский язык). Так как в связи с военными действиями все государственные школы в Галиции не функционировали, русская администрация посодействовала открытию нескольких русских и польских школ. Поскольку прежний режим стремился держать галичан в темноте и невежестве, была разработана программа всеобщего народного образования, по которой предусматривалось открытие за 5 лет 9 тысяч народных школ (по 1800 ежегодно), а также 70 высших народных училищ, 60 курсов при этих училищах, 25 мужских и 25 женских гимназий, 10 учительских семинарий и двух учительских институтов {505}. Учительские кадры для воплощения этой программы планировалось подготовить из местных жителей. Во многих галицких городах были открыты специальные педагогические курсы (как государственные, так и частные).
Освобожденная от оков, русская народная культура в Галиции быстро развивалась. Побывавший «на второй день Рождества» на крестьянском собрании в одном из сел в окрестностях Львова журналист сообщал: «Публика была довольно серая. Преобладали женщины. Пелись песни, говорились импровизированные речи. Пели все — и женщины, и мужчины, и взрослые, и дети. Сначала пели рождественские малорусские колядки, а потом вдруг запели некрасовскую „Назови мне такую обитель… где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал“. Задушевные слова этой народнической и народной песни удивительно гармонировали с общим страдальческим тоном жизни этой несчастной страны, где столько убитых на поле брани, столько повешенных и расстрелянных венграми за одну принадлежность к русскому племени, столько арестовано и увезено австрийскими властями. Это торжественное исполнение некрасовской крестьянской песни крестьянским людом Галиции служит лучшим знамением тех возможностей, которые открываются для русской культуры в Галиции» {506}.
К сожалению, возможностям этим реализоваться было не суждено. Неудачи на фронте вынудили русскую армию оставить большую часть, казалось бы, уже навсегда освобожденных земель. Австро-венгерская оккупация, а вслед за ней и террор возобновились. Вновь сжигались деревни, вновь убивались или угонялись вглубь Австрии не успевшие убежать жители. Вновь оказалось под запретом употребление русского языка. Немного позже, в 1917 году, когда раздираемая на части Россия уже не представляла угрозы для противников, Вена позволила себе перевести дух. Сменивший умершего в конце ноября 1916 года Франца-Иосифа император Карл I приказал освободить заключенных в концлагерях галичан. Австрийский парламент предпринял расследования преступных действий австро-венгерской военщины (все-таки террор осуществлялся против граждан своей страны). Материалы этого расследования легли в основу ряда публикаций и исследований, вышедших за границей. В Украине же правда о чудовищном геноциде 1914—1917 годов замалчивается до сих пор. И сегодня о Бухенвальде, Освенциме, Майданеке у нас знают больше, чем о не менее ужасных концлагерях первой мировой — Талергофе и Терезине.
Между тем этот русский погром объясняет, что произошло с Галицией в дальнейшем. В ходе его более 60 тысяч человек было убито. Сотни тысяч галичан стали узниками концлагерей. Более 100 тысяч из них погибли там, не выдержав нечеловеческих условий заключения {507}. Количество жителей западно-украинских земель, погибших во время принудительной депортации вглубь Австро-Венгрии, не поддается исчислению. Сложно установить и число тех, кто при отступлении русской армии в 1915 году бежал в Россию. Тогдашняя пресса и русская, и австрийская называли цифры от 100 до 400 тысяч человек. Оценки историков разнятся от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек {508}. Все эти люди оказались разбросанными по бескрайним просторам России, охваченной вскоре пожаром революции и гражданской войны. Не многие смогли вернуться домой. Если учесть и тех, кто погиб на фронтах Первой мировой войны, то становится ясно, какие невосполнимые потери понесла Галицкая Русь. Почти все лучшие представители интеллигенции, духовенства, крестьян, рабочих были физически уничтожены.
Из уцелевших можно было лепить, что угодно. Чем и занялись вернувшиеся австрийцы. Первый после вторичного занятия Львова австрийский комендант города, генерал-майор Фр. Римль в секретном рапорте начальству одновременно с «беспощадным террором» против населения рекомендовал насаждать в крае украинофильство и сожалел, что «пока что украинская идея не совсем проникла в русское простонародье» {509}.
С крахом в 1918 году Австро-Венгрии, после кратковременного существования «Западноукраинской народной республики» (о которой ныне много говорят) и «москвофильской» «Лемковской республики» (о которой почти не вспоминают), Галиция оказалась насильно включенной в состав возрожденной Польши. Новые хозяева первое время яростно полонизировали оккупированную территорию. Запретив русские школы, польская власть взялась и за украинские. На опустевшие после русского погрома земли из центральной Польши переселяли крестьян-поляков. Государственная пропаганда трубила, что Галиция — исконно польская земля, а не Русь или Украина. Варшава рассчитывала, что обескровленный предыдущим террором край сопротивляться не сможет.
Карты польским политикам спутало русское движение. Оно возродилось неожиданно для многих, стало набирать силу и хотя, по понятным причинам, не достигло прежнего размаха, все-таки вызвало во властных структурах переполох. Наверху сочли за благо вернуться к прежней политике — «пустить русина на русина». После прихода к власти в мае 1926 года Юзефа Пилсудского полонизация резко сбавляет обороты. Русские школы по-прежнему под запретом, но украинские пользуются полной поддержкой властей. Украинский язык начинает изучаться даже в польских школах Галиции. Чиновники заговаривают о «польско-украинском братстве», направленном против России. Государство вновь берется за финансирование украинских организаций (хоть и не в таких размерах, как в австрийские времена).
Население сопротивлялось как полонизации, так и украинизации. Галицкая газета «Русский голос» отмечала, что оба эти явления взаимосвязаны — украинизация фактически ведет к полонизации (в Галиции), также как и к румынизации (в Буковине) и чехизации (в Закарпатье). Простому галичанину трудно пользоваться украинской газетой или книгой. «Так как украинский язык ему малопонятен ввиду его искусственности и так как этот язык не выдерживает культурной конкуренции с природными литературными языками других народов, то наш простолюдин, изучив чужой язык в школе и армии, становится объектом чужого культурного завоевания» {510}.
Состоявшийся во Львове съезд Русского народного объединения поднял вопрос о восстановлении в Галиции системы образования на русском языке. Но власти решительно воспротивились этому. Они всячески притесняли русское движение. Только природным национальным чувством галичан можно объяснить тот факт, что, пережив страшный погром, это движение возродилось, пользуясь поддержкой сотен тысяч местных жителей (только в Русской селянской организации (РСО) состояло до 100 тыс. человек {511}). При этом следует учитывать, что галицко-русским организациям приходилось не только противостоять давлению властей, но и выдерживать жесткое противоборство с украинским движением. «Национально сознательные» деятели как коммунистической, так и некоммунистической ориентации дружно выступили против возродившегося «москвофильства». «Москвофилы еще и теперь мечтают про „единую неделимую“ под покровительством „батюшки царя“» {512},— предупреждали они. «Галицкое москвофильство… представляет теперь серьезную опасность для западно-украинского революционного движения» {513},— отмечалось в тезисах пленума ЦК Коммунистической партии Западной Украины (КПЗУ).
Угроза для ненькопатриотов действительно была реальной. Со всех концов Галиции поступали сообщения о росте «москвофильских» настроений. «Часть украинских крестьян еще и до сих пор попадает под влияние реакционной москвофильской агитации, главным образом на Полесье и в округах Золочев, Львов, Перемышль» {514},— говорилось в резолюции III съезда КПЗУ (1928 год). Так называемая «Лемковская комиссия при обществе „Просвіта“» указывала на «москвофильско-православную деморализацию», охватившую население Лемковщины, «русификацию» этой части Галиции, и требовала немедленно принять меры «для спасения дальше всего на запад выдвинутого украинского бастиона» {515}. Обеспокоенность в украинских кругах вызывали также «сильный напор черной сотни» и «белогвардейская пропаганда» {516} Русского народного объединения на Бойковщине.
Рост русского движения в Галиции встревожил даже украинизаторов в УССР. «Г.Р.Н.О. (Галицко-Русская Народная Организация) — есть попытка втянуть часть украинского крестьянства в организацию похода мирового капитала против СССР» {517},— заявлял А. А. Хвыля и требовал: «Галицкое москвофильство — корень графов Бобринских, епископов Евлогиев, русской черной сотни — необходимо уничтожить. И сделать это нужно как можно быстрее» {518}.
Но несмотря на все нападки, галицко-русское движение продолжало расти и давать отпор своим противникам. «Мы отрицаем самостоятельную Украину в национальном и государственном значении, ибо знаем, что таковая Украина — не Украина, а притон своих проходимцев и чужих искателей легкой наживы»,— писала галицко-русская печать. И далее: «Мы верим в Русь, но не верим в Украину» {519}. Резко критиковали русские галичане политику украинизации в УССР: «Вот уже десять лет (написано в 1928 году.— Авт.) коммунисты не за страх, а за совесть украинизируют Малороссию, чтобы таким образом парализовать нормальный рост общерусской культуры и тем самым противодействовать росту общерусского национального сознания. Бесконечными экспериментами в области творения украинской культуры они измучили и до смерти надоели малорусскому народу» {520}.
В справочнике «Политические партии в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине», вышедшем в СССР в 1935 году, отмечалось: «РНО-РСО (Русское народное объединение — Русская крестьянская организация) существует в восточной Галиции еще с довоенного времени, когда она была сильной массовой партией. Сторонников этой партии называют москвофилами, так как у них ясно выраженная ориентация на белую Россию… В 1928 г. галицкие москвофилы объединились с „Русским национальным объединением“, которое распространяет свою деятельность на территорию всей Польши под названием РНО. РНО объединяет горсточку русской буржуазии, белоэмигрантскую и часть украинской буржуазии, которая называет себя русской, и некоторые более зажиточные прослойки мелкой буржуазии и интеллигенции. При помощи РСО, являющейся „крестьянским“ отделом партии, РНО объединяет часть украинских кулаков. Москвофилы отрицают само существование украинской нации. Украинский язык считают русским диалектом… В руках москвофилов находятся культурно-просветительные организации им. Качковского и около 300 кооперативов, которые не принадлежат к РСУК (Рев. Союз Укр. Кооп.)… Во время последних выборов в сейм два москвофила, Бачинский и Яворский, избраны депутатами» {521}.
Русское движение как массовое существовало в Галиции вплоть до второй мировой войны и было разгромлено репрессивными методами. Соответственно, полная украинизация Галицкой Руси была осуществлена уже после второй мировой войны. В 1920—1930-х годах этой цели украинофилам достигнуть не удалось, хотя прилагали они немалые усилия. Особенно много здесь потрудился И. И. Огиенко, который для насаждения украинского языка основал специальный журнал «Рідна мова». Нужно сказать, что читать произведения этого деятеля чрезвычайно интересно. Ученый в нем долгое время боролся с политиком. Как ученый И. И. Огиенко не мог не видеть, что великороссы и малороссы составляют одну нацию, что их говоры являются наречиями одного русского языка. Как политик — он не мог признать этого открыто. Как ученый он приводил в своих работах большое количество фактического материала, свидетельствующего о национальном и языковом единстве всех трех ветвей одного народа. Как политик — пытался трактовать этот материал с пользой для «украинской национальной идеи». (К сожалению, у нас нынче популяризируются только те огиенковские сочинения, где политик берет верх над ученым.)
В результате — Огиенко часто противоречил сам себе, путался в объяснениях, стремился доказать недоказуемое. Так, проанализировав множество памятников древнерусской («древнеукраинской» — ненькопатриот от науки уверял, что украинские язык и литература имеют более чем тысячелетнюю традицию) письменности, он вынужден был констатировать, что в древности «украинцы» писали в словах мужского рода множественного числа в именительном падеже окончание «-а»: «два года», «два воза», «три сына» и т. д. Это окончание, замечал Огиенко, до сих пор сохранилось в русском языке. «Под влиянием русским так временами пишут и у нас, но этого должно остерегаться и употреблять только формы „два вози“, а не „два воза“» {522}. Почему нельзя писать «два воза» и при чем тут русское (в смысле: великорусское) влияние, если у нас так писали еще в древности, он почему-то не объяснял.
Точно так же, на основе анализа письменных памятников средневековья, И. И. Огиенко вынужден был признать, что украинцы очень многие слова раньше писали одинаково с великороссами и белорусами. Писали именно так, как сегодня они пишутся в русском литературном языке. Но винил в этом политизированный ученый правописание, общее и для украинцев, и для великороссов, и для белорусов. «Украинцы писали „конь“, „шесть“, „читал“, а не „кінь“, „шість“, „читав“ только придерживаясь чрезвычайно крепко своего старого традиционного этимологического правописания, которое, например, в Галиции держалось аж до 90-х годов прошлого века (т. е. XIX в.— Авт.), а отчасти держится еще и теперь. Но читали ли этимологически, то есть так, как написано, этого утверждать нельзя» {523}.
С какой такой стати средневековым «украинцам» понадобилось писать по-одному, а читать по-другому — объяснить Огиенко не мог. Наоборот, он указывал, что, ка́к раньше произносили слова — «этого как раз и не знаем, так как традиционное правописание не дает возможности установить истинный тогдашний выговор» {524}. Таким образом, вся огиенковская концепция основывалась лишь на домыслах.
Приводил И. И. Огиенко и множество других фактов. Скажем, раньше украинцы писали: «бой», «вечер», «вол», «волк», «вчера», «гордость», «долгий», «запись», «камень», «метель», «монастырь», «мудрость», «нос», «он», «она», «оно», «осень», «печь», «писарь», «полный», «поп», «постель», «работа», «радость», «сельский», «сердце», «стол», «теперь», «тополь», «ходил», «царь», «чего», «четыре», «шелк» и т. п., а не «бій», «вечір», «віл», «вовк», «вчора», «гордість», «довгий», «запис», «камінь», «метіль», «монастир», «мудрість», «ніс», «він», «вона», «воно», «осінь», «піч», «писар», «повний», «піп», «постіль», «робота», «радість», «сільський», «серце», «стіл», «тепер», «тополя», «ходив», «цар», «чого», «чотири», «шовк» и др. {525}
Почему затем на Украине уклонились от традиционного написания этих слов, а в Великороссии такого не произошло, ученый политик опять-таки не пояснял. Он только указывал, что так получилось «с течением времени» {526}. Правда, Огиенко признавал, что поляки «безусловно сильно повлияли не только на украинский литературный, но и на народный язык» {527}, однако старался не связывать это обстоятельство с указанными изменениями. Нужно ли удивляться, что такой до крайности заполитизированный ученый (финансируемый к тому же польским правительством) оказался в авангарде украинизаторских потуг в Западной Украине?
По понятным причинам позиции украинского языка здесь были сильнее, чем в бывшей российской (позднее — советской) Украине. И все-таки полностью вытравить следы былого влияния русской культуры никак не удавалось, на что И. И. Огиенко обратил особое внимание. Он повел непримиримую борьбу с «устаревшими» русскими словами («архаизмами-русизмами»), выискивая их в большом количестве в галицкой украиноязычной прессе, произведениях западноукраинской литературы и даже у писателей из украинской диаспоры Канады. «Архаизмы-русизмы все еще не выводятся из языка нашей прессы, нередки они и в „Ділі“» {528}. «В „Мазепе“ (имелась в виду трилогия Богдана Лепкого.— Авт.) слишком уж много русизмов» {529}. «Бросается в глаза большое переполнение языка Тулевитрова (украинский поэт из Канады.— Авт.) русизмами» {530}. «По всему видно, что Е. Маланюк хорошо работает над усовершенствованием своего языка. Но в сборник («Перстень Полікрата».— Авт.) все-таки вошло и немного такого, чего следовало бы избегать. Это в первую очередь будут русизмы (временами это архаизмы)» {531}. «Леонид Мосендз (западноукраинский поэт.— Авт.) работает над усовершенствованием своего языка, но есть немного архаизмов-русизмов» {532} и т. д.
В качестве примеров таких «архаизмов-русизмов» приводились слова: «вечером» (вместо «правильного», по мнению Огиенко, «ввечері»), «внук» («онук»), «воздух» («повітря»), «возмездіє» («відплата»), «грудь» («груди»), «жизнь» («життя»), «житель» («мешканець»), «криша» («дах»), «мимоходом» («мимохідь», «побіжно»), «много» («багато»), «не стучи» («не стукай»), «оба» («обидва»), «по словам» («по словах», при этом Огиенко отмечал, что «древнеукраинский язык знал только: по словам, по домам, по делам и т. д.» {533}, однако тут же заявлял, что «формы на „-м“ — это архаизмы, господствующие в языке русском и еще нередкие в языке галицких писателей»), «постепенно» («поступово»), «птиця» («птах»), «сахар» («цукор»), «свободний» («вільний»), «стремиться» («прагне»), «судьба» («доля»), «торжество» («урочистість»), «тучі» («хмари»), «царила» («панувала») и др. Почему эти слова «устарели», если они продолжали использоваться в народных говорах и в литературе, И. И. Огиенко, конечно, объяснить не мог. Но, с упорством, достойным лучшего применения, продолжал «очищать» от них язык.
Впрочем, большого успеха в пропаганде «чистого» языка он так и не достиг, о чем свидетельствуют письма и заметки его соратников, опубликованные все в том же журнальчике «Рідна мова». «Крестьяне говорят, что „Рідной мови“ не понимают» {534},— сообщал один из них. «Наша книжка не имеет популярности среди наших же читателей»,— жаловался другой и добавлял, что в обществе укоренилось «ошибочное» мнение, что «наша публика не читает украинской книги потому, что она украинская» {535}. (Сам корреспондент считал, что все дело в отсутствии литературного опыта у украинских писателей.) Третий указывал, что навязываемый журналом «украинский литературный язык» многими не воспринимается. Некоторые «свое субъективное восприятие, хоть бы какое уязвимое, считают за святость и готовы за него бороться. Иные видят в ридномовном правописании коммунизм (неудивительно, так как журнал пропагандировал то же правописание, что и украинизаторы в УССР.— Авт.). Другие, видя отличие литературного языка, в частности ударений, от их языка, считают литературный язык чудаковатым, неестественным, языком людей, „у которых не все дома“, и смеются над ним» {536}. Еще один автор журнала подчеркивал, что противники «Рідной мови» указывают на «апостроф и некоторые слова, которые кажутся им ненашими» {537}.
Все это необычайно сердило И. И. Огиенко, заставляло его вслед за С. В. Петлюрой называть украинцев «недозрелой нацией» {538}, но изменить положение он так и не смог. Даже в последнем, сентябрьском номере за 1939 год (в связи с известными событиями, редактируемый Огиенко журнал прекратил свое существование) отмечалось, что единого украинского литературного языка, который был бы принят населением, до сих пор не существует: «У нас нет еще — одного литературного языка, как кто хочет, так пишет и говорит» {539}. Осенью 1939 года Галиция соединилась с советской Украиной, а в 1941 году была оккупирована гитлеровцами и вошла в состав «генерал-губернаторства Германской империи». Поддерживаемые оккупантами ненькопатриоты энергично продолжали украинизацию. Благоволение к ним фашистов было столь велико, что немецкая власть, несмотря на официальную политику антисемитизма, закрывала глаза на появлявшиеся в украинской прессе хвалительные отзывы о «научных трудах» уже упоминавшейся Олены Курило, еврейки по национальности.
Единственное, на что сетовали украинофилы, так это на свой народ, который, в отличие от оккупантов, не придает значения борьбе за «чистоту родного языка». Разговорный язык галичан, указывали «национально сознательные» деятели, «очень далек от образцового литературного языка». Очень много в нем (народном языке) «старых слов, которые уже вымерли и в литературном языке не употребляются (архаизмов, напр., „много“, „случай“)». Кроме того, сокрушались ненькопатриоты, разговорная речь населения изобилует провинциализмами, вульгаризмами и, самое печальное, чужими словами, которые «напрасно засоряют наш язык» {540}. В разряд чужих слов попадали теперь уже не только русизмы, но и полонизмы. В связи с изменившейся политической конъюнктурой украинофилы «забыли» об «украинско-польском братстве» и говорили о «братстве» украинско-немецком: «На протяжении столетий продолжается и крепнет духовная связь западного украинства с немецким миром. Сознание этой связи укореняется со временем в народных массах и становится причиной восторга, с которым украинская школьная молодежь льнет к языку немецкого народа» {541}.
Правда, ненькопатриотов сильно огорчало, что условия войны не способствовали проникновению в народ «рідной мовы» — трудно было организовать ее полномасштабное изучение в школах. Эту проблему они собирались разрешить после окончательной победы «великой Германии». Вышло, как известно, по-другому. Полная украинизация Галиции была проведена уже после 1945 года. «Советские власти,— замечает современный историк,— сразу же ориентировались на украинские и проукраинские элементы, хотя всячески открещивались от „украинского буржуазного национализма“» {542}.
Похоже складывались национальные отношения на Буковине, с той только особенностью, что в этой области, не испытавшей на себе полномасштабного польского влияния и унии, «украинская национальная идея» была еще менее популярна, чем в Галиции. Современные «национально сознательные» историки объясняют это тем, что «в отличие от Галиции, на Буковине и в Закарпатье украинство развивалось в противоборстве с неславянскими национальными движениями, поэтому тут долго сохраняла романтический ореол идея славянского единства. В свою очередь, русофильство, которое составляло органичную часть этой идеи, продолжительное время не давало возможности на этом пространстве выкристаллизоваться росткам „чистого“ украинского национального сознания, многократно, так сказать, „скошивало“ их» {543}.
«Русское население Буковины исстари считало себя русским и не имело никакого понятия о том, что существует какая-то украинская нация и что они должны превратиться в „украинцев“ и больше не называть ни себя, ни своего языка русским,— свидетельствовал видный буковинский деятель А. Ю. Геровский.— Когда, в конце прошлого (XIX-го) столетия, пришлые галичане начали пропагандировать в Буковине идею сепаратизма, они вначале, в течение нескольких десятилетий, не смели называть ни себя, ни свой новый „литературный“ язык украинским, но называли себя и свой язык руским (через одно „с“). Все русские буковинцы сочли это польской интригой… Во всей восьмиклассной гимназии в Черновцах среди русских учеников было только двое, считавших себя не такими русскими, как „москали“. Это были два галичанина: Бачинский и Ярошинский… Когда правительство решило упразднить в школах старое общерусское правописание и заменить его фонетическим, то оно встретило единодушное сопротивление со стороны всех учителей начальных школ. Правительство устроило что-то вроде плебисцита учителей, который дал совершенно неожиданный результат для их начальства. За „фонетику“ высказалось только два учителя, оба „зайды“, т. е. пришлые галичане. Не взирая на это, приказано ввести фонетику… Среди православных священников в конце прошлого столетия был только один самостийник, по фамилии Козарищук» {544}.
Австрийское правительство пыталось насадить в Буковине «украинскую национальную идею», назначая туда учителями «национально сознательных» выходцев из Галиции. Однако это привело к росту антигаличанских настроений. В ход пошли лозунги: «Буковина для буковинцев!», «Долой чужеземцев!». Буковинцы предпочли «примитивную индивидуалистическую борьбу с галичанами — „конкурентами“ за должности, чем борьбу с помощью галичан за освобождение Буковины» {545},— сокрушался один из деятелей украинского движения.
Во время Первой мировой войны буковинцам, так же как жителям других западноукраинских земель, пришлось пережить кровавый австро-венгерский террор. Как пишет тот же деятель, австрияки «вешали население, преимущественно крестьян, считая их агентами России. Множество буковинцев жили уже в России, куда много их сбежало, а еще больше сидело в Талергофе» {546}. Этот же «национально сознательный» деятель приводит довольно интересную подробность из жизни послевоенной Буковины. В 1919 году в край приехала миссия Антанты, которая должна была определить, в состав какой страны включать Буковину. Эмиссары Антанты объезжали села, собирали крестьянские сходы и опрашивали людей. Подлинную цену антантовской «демократии» буковинцы узнали позднее, когда их земли присоединили к Румынии, хотя не было ни одного села, где население высказалось бы за это. Но речь о другом. На сходах представитель Антанты, французский офицер, общался с крестьянами на русском языке («російській мові») {547}. Этот язык был там не чужим.
Под румынами буковинцам было не лучше, чем под австрийцами. Новая власть (так же, как и поляки в Галиции) первый удар обрушила на русский язык, изгоняя его из школ и стремясь вытравить из жителей русское самосознание. Так же, как и в Галиции, вслед за антирусскими репрессиями правительство стало ущемлять и украинское движение. «Разогнав сначала в оккупированных краях русские школы,— пишет «национально сознательный» автор,— румынское правительство допустило украинские школы работать, надеясь спровоцировать ссору между украинским и русским населением. Года через два украинские школы постигла та же участь, что и русские» {548}. 24 июня 1924 года был принят специальный закон о румынизации, на официальном уровне объявлено, что буковинцы — это «обрусевшие румыны» {549} (все-таки «обрусевшие»), которые «забыли свой родной язык», а теперь «должны вернуться в лоно материнской культуры» {550}. И так же, как и польские власти, Бухарест, убедившись, что превратить русских буковинцев в стопроцентных румын не удастся, прибегнул к украинизации. Но, как и в Галиции, полный успех украинизации был достигнут в Буковине уже после Второй мировой войны.
Несколько иную языковую историю имело Закарпатье. С распадом Киевской Руси оно подверглось венгерской агрессии, было включено в состав Венгрии и впоследствии вместе с ней вошло в Австрийскую империю. Оторванное от остальной Руси, население пребывало в культурной темноте. Лишь в конце XVIII века епископ мункачевский (мукачевский) Андрей Бачинский, стремясь к тому, чтобы (как он выразился в одном письме) «священники обучались тому русскому языку, патриархом которого был Ломоносов» {551}, ввел в местной семинарии преподавание богословия по-русски. На этом же языке епископская канцелярия вела переписку с приходским духовенством. Однако в условиях австрийского господства и существования крепостного права эти меры не могли существенно повлиять на общее состояние просвещения в крае. Тем более, что уже при преемнике Бачинского они были отменены.
Возрождение Угорской Руси началось в ходе революции 1848—1849 годов. Стали выходить газеты и книги на русском языке. Было образовано литературное общество св. Василия Великого. Угрорусская молодежь выписывала из России произведения А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, которые пользовались среди закарпатцев огромным успехом. «На Угорской Украине под влиянием Адольфа Добрянского воцарилось в 50—60 годах полностью москвофильство так, что сквозь него не могла пробиться украинская национальная идея» {552},— жаловался «национально сознательный» деятель. Действительно, когда в Галиции поляки стали энергично взращивать украинство, население Угорской Руси этой затеи не поддержало. «Мы, бедные угро-русские, радуемся, что наши галицкие братья по крови и вере занимаются нами и поддерживают в нас еще русский дух. Но на ту деятельность, которую развивает Ваша так названная украинофильская партия, мы, угро-русские, смотрим не совсем симпатично,— писал известный закарпатский общественный деятель священник Ставровский не менее известному галицкому украинофилу В. Гнатюку в ответ на призыв последнего присоединиться к украинскому движению.— Предполагаю, что Вы не будете за то гневаться, если тут выскажу Вам откровенно то общее мнение, которое мы, угро-русские, имеем о Вашей партии». Ставровский упрекал украинофилов в попытках навязать народу вместо русского языка испорченный, т. е. всю ту же выдуманную поляками «рідну мову», которую «ни украинские, ни галицкие, ни угорские русские не употребляют и трудно понимают; кроме того, употребляемая у Вас орфография неестественная, научной этимологии и лингвистике противная. Если бы Вы писали соответственно правилам и тысячелетнему преданию, тогда бы и галичане, и наши русаки лучше поняли Вас… Наконец: Ваша партия заявила недавно во всеуслышание, что она отвергает всякую солидарность с прочими русскими, которых называет москалефилами. Из этого следует, что Вы всех нас, не принимающих Вашего радикализма и Вашей орфографии, считаете как бы врагами государства, и что Вы стоите в солидарности с поляками и даже под покровительством поляков, которые внушают Вам все эти выше исчисленные стремления. Вот наше угро-русское духовенство и простой народ имеют такое воззрение о Вашей партии, и пока Ваша партия будет в том направлении действовать, до тех пор угро-русские не будут ей сочувствовать» {553}.
«Благодарю Вас за Вашу почесть и доверие, которым вы меня в сем интересном деле одарили. Но я уже наперед должен изъявить, что я ваш человек не могу быть, понеже мои начала с взором русской письменности и радикально противные суть, тем, которые общество Шевченко (имелось в виду «научное общество Шевченко», возглавляемое Грушевским.— Авт.) распространять старается. Так думаю, что и другого никого на Угорщине между нами не найдется, который бы к сему обществу пристал, настолько оно дискредитировано у нас. Ведь оно и у вас больше вреда, чем пользы принесло. Мы себе таких экспериментаций не можем дозволить… Язык того общества нам совсем чужой и не понятный, мы его не разумеем. У нас бы высмеяли человека, если бы вашим исполяченным и испорченным жаргоном пробовал говорить или писать. Мы не меняем наше наречие на вашу выкручену мову. То есть мы, пока нас благоизволит милосердный Господь поддерживать, останемся русскими и не переменимся на руских» {554},— отмечал в письме тому же Гнатюку другой видный деятель Закарпатья С. Сабов.
Категорически выступал против попыток отделиться от русского литературного языка и крупнейший угрорусский поэт того времени Иван Сильвай: «Я прочитал изданные Вами „Лірники“, это издание также интересно, как всё, что входит в состав этнографии,— писал он Гнатюку.— Только не понимаю, почему пользуетесь вы „кулішівкою“. У нас не только не увлекается ею никто, но напротив, кто только немножко занимался сравнительной филологией, тот всю кулішівку, все покушения к литературному разъединению и сепаратизму считает детскою чепухой» {555}. В другом письме Сильвай подчеркивал: «По эту сторону Карпат нет ни одного образованного русского человека, который увлекался бы вашею самостийною правописью и самородными мриями. Понапрасну станете Вы утверждать, уж хоть с клятвою, что вы русин, вас все будут считать поляком, портителем прекрасного русского языка. Издаваемой вами книги вы мне не посылайте, мне довольно муки причинило одно прочтение вашего самостийного письма, а не то еще целой самостийной книги» {556}.
О том же писал и угрорусский писатель М. Котрадов: «Мы пишем по-русски, так, как пишет умнейшая, образованнейшая и большая часть русского мира, а письма свои и заграничные читаем по выговору нашего народа. Оттуда происходит, что наш русин селянин лучше поразумеет наш панрусский, нежели ваш (галицкий) областной слог» {557}.
Еще один известный закарпатский деятель — Иван Раковский недоумевал по поводу стремления российских украинофилов создавать отдельный малорусский язык и литературу: «Как могла образоваться в пределах самой же России партия, отвергающая настоящий письменный русский язык? Что в Австрии готова почва для подобного рода деятелей — это нам понятно: ибо, само собой разумеется, что немецкое правительство равнодушно не может смотреть на преуспеяния другой народности, могущей, в свое время, оспаривать преобладание немецкого элемента; но что в России, и именно между соплеменниками нашими малороссами находятся мечтающие об образовании малорусской литературы, отдельной от настоящей русской, это, конечно, приводит нас в изумление… Мы должны заметить, что нисколько не видим нужды покинуть настоящую русскую литературу и гоняться за призраками какой-то новой малорусской литературы» {558}. Раковский удивлялся намерению возвести неправильное произношение некоторых русских слов в грамматические нормы и на такой основе создать новый язык: «Не находим мы никакой ни грамматики, ни логики в употреблении следующего образа писания: „вже“, „де“, „ще“, „усе“, „гострий“, „читав“, „говорить“, „у церковь“, „у корові“ и пр. вместо „где“, „ещё“, „всё“, „острый“, „читал“», „говорит“, „в церковь“, „в корове“». По его мнению, многие слова в отдельных местностях произносятся по-своему, отлично от правильного литературного произношения, и от произношений других местностей. Например, «знау», вместо «знаю», «цярь» вместо «царь», «читат» вместо «читает» и т. д. Сколько же пришлось бы создавать языков? {559} «Мы не считаем настоящую русскую литературу чуждою для малорусского племени, трактуем ее как общее достояние всех русских» {560},— делал замечание угрорус.
«Угорская Русь хорошо знает, что малороссы с великороссами образуют один русский народ, неразрывно связанный одним знаменем языка» {561},— заявляли угрорусские деятели в печати. Такие настроения безраздельно господствовали в Закарпатье. Конечно, и там власти делали все возможное, чтобы местное население забыло о своем русском происхождении. Однако, в отличие от австрийских немцев и поляков, венгры (после преобразования в 1867 году Австрийской империи в Австро-Венгрию Закарпатье вошло в венгерскую часть государства, а Галиция и Буковина остались австрийскими) не жаждали насаждать в Угорской Руси украинство. Они предпочитали превращать эту область в чисто венгерскую.
После окончания Первой мировой войны закарпатские общественные деятели однозначно высказались за воссоединение с Россией. Но, будучи враждебно настроены по отношению к советской власти, они приняли решение о временном (пока в России не будут свергнуты большевики) вхождении края в состав Чехословакии. (При этом сами закарпатцы не сидели сложа руки. Они сформировали несколько добровольческих отрядов, которые через территорию Румынии переправились в Россию и в рядах армии Деникина приняли участие в гражданской войне.)
В чехословацких правящих кругах поначалу не было единого мнения насчет национальной политики в Подкарпатской Руси (так называлось Закарпатье в составе Чехословакии). Первый премьер-министр нового государства К. Крамарж считал украинское движение изобретением немцев и не скрывал своего презрения к нему. Зато президент страны Т. Масарик ненавидел русских и потому поддерживать украинофильство считал своим долгом. Вот только Крамарж оставался премьер-министром всего несколько месяцев, а Масарик занимал высший государственный пост на протяжении многих лет (до 1935 года). Это и определило политику Праги. Она была направлена на насаждение «украинской национальной идеи». Из госбюджета выделялись немалые средства на финансирование украинских организаций, пропаганду украинского языка. Иногда использовались и силовые методы. Но к массовому террору власть все-таки не переходила (что объяснялось заступничеством за закарпатцев короля и правительства Югославии, бывшей тогда союзницей Чехословакии), а без него насадить «рідну мову» не получалось.
Органы местного самоуправления в Ужгороде и Мукачеве использовали в своей работе русский литературный язык. По-русски же были написаны вывески с названием улиц в закарпатских городах. Русский язык преобладал и в общественной жизни. А вот в системе образования, стесненной инструкциями чешского министерства, наблюдалось двуязычие. Министерство запрещало преподавание в школах на русском литературном языке и даже изучение самого этого языка, старалось не допустить в учебные заведения русскоязычных учебников. На должности учителей приглашались «национально сознательные» галичане. «Чешское правительство импортировало украинских сепаратистов из Польши, Австрии и даже Германии» {562},— отмечалось в Памятной записке Центральной Русской Народной Рады, переданной в июле 1938 года тогдашнему премьер-министру Милану Ходже, при котором политика несколько изменилась в благоприятную для русского населения сторону.
Такая «искусственная парниковая украинизация» (выражение из той же Памятной записки) объяснялась не только русофобскими настроениями чехословацкой правящей верхушки, но и практическими соображениями. Получив во временное управление Подкарпатскую Русь, Прага решила прибрать ее к рукам навсегда. Препятствием к чехизации Закарпатья было распространение там русского языка. «Никто не согласился бы променять русский литературный язык на чешский или на словацкий. Но с украинским языком мы можем конкурировать» {563},— заявлял в узком кругу министр народного просвещения Вавро Шробар. Отсюда и проистекала поддержка властями «национально сознательных» деятелей.
Однако языковая ситуация в школах и вузах больше, чем от министерских приказов, зависела от состава педагогического коллектива. В тех учебных заведениях, где не было засилья галицко-украинского элемента, как правило, учителя сами вводили русский язык. В результате — единого языка обучения в Закарпатье не существовало. В Ужгородской гимназии обучение велось на украинском языке, в Мукачевской — на русском, в Хустской — частично на одном, частично на другом. В учительском институте Мукачева предметы преподавались по-русски, в торговом училище — по-украински и т. д. Разумеется, сложившееся положение не могло устраивать население. «Нам нужна русская, исключительно русская школа. Мы требуем на нашей Руси русскую школу, всякая украинизация и чехизация должна быть немедленно приостановлена»,— заявляла местная печать. Как указывалось в закарпатских газетах, «Украина и все украинское — одни только фикции,— при том фикции, созданные с предвзятыми целями и стремлениями. Среди народов вообще, а в частности среди славян никогда не было украинского, а значит не было и украинского языка» {564}.
В конце концов закарпатцам удалось в 1937 году добиться официального разрешения властей на использование в школах русскоязычных учебников. Вслед за тем, в конце того же года, министерство просвещения провело в Закарпатье всенародный опрос о языке обучения в школах. «Каждый селянин получил два билета,— вспоминал закарпатский общественный деятель Михаил Прокоп.— На одном было написано: „малоруський язык (украинский язык)“, на другом — „великорусский язык (русский язык)“. Несмотря на жульничество со словами „малорусский“ и „великорусский“ — ибо малорусский народный язык это не украинский язык, а русский язык (литературный) это — не великорусский, наши самостийники потерпели полное поражение, ибо 86 процентов селян, подчиняясь тысячелетнему чувству единства всего русского народа, голосовали за „великорусский язык“» {565}. (Сегодня результаты этого опроса, да и сам факт его проведения старательно замалчиваются на Украине.)
Двуязычие царило и в прессе. 14 закарпатских газет выходили на русском языке, 8 — на украинском. В целом же, как свидетельствовал видный закарпатский ученый Г. Геровский, образованная часть населения «говорит на языке, словарный состав и морфология которого являются русскими литературными, но имеют особенности собственного подкарпатского произношения. Менее образованные люди говорят на местных говорах с большей или меньшей примесью книжных выражений». Что же касается «рідной мови», то «галицко-украинский литературный язык распространяется с очень большим трудом, и даже выпускники гимназии с украинским языком обучения не в состоянии полностью преодолеть трудности в произношении, которое очень существенно отличается от естественных звуков подкарпаторусской речи» {566}.
Наглядно характеризует языковые отношения в Закарпатье факт, приводимый в воспоминаниях Михаила Прокопа: «До второй мировой войны книгоноши (протестантские) продавали в нашем краю Библии на разных языках. По статистике, напечатанной в карпаторусских газетах за известный отчетный период, там книгоношам удалось продать 2000 Библий на русском языке и только 150 на украинском» {567}.
Из восьми депутатов, представлявших население Подкарпатской Руси в парламенте Чехословакии, семеро принадлежали к русскому движению и только один (Юлий Ревай) — к украинскому. Но «даже этот единственный „украинец“ не получил в Карпатской Руси достаточно голосов, чтобы быть избранным в Карпатской Руси. Он попал в парламент благодаря некоторым странностям чехословацкого избирательного закона. При второй баллотировке чехословацкая социал-демократическая партия, к которой принадлежал Ревай, дала ему остатки социал-демократических голосов, чешских и словацких, полученных партией в других частях республики. Что же касается голосов, полученных Реваем в самой Карпатской Руси, то это по большей части голоса мадьяр, евреев и чешских чиновников, принадлежащих к социал-демократической партии» {568}.
Когда в октябре 1938 года уже гибнущая после «мюнхенского сговора» Чехословакия предоставила Подкарпатской Руси автономию, в первое карпаторусское правительство вошли четыре представителя русского движения и два украинофила. Возглавил правительство один из лидеров русского движения А. Бродий. Как признают «национально сознательные» украинские историки, «соотношение два к одному в пользу представителей русофильства реально отображало соотношение между двумя главными политическими силами в крае. Назначение А. Бродия премьер-министром тоже не стало неожиданностью, так как возглавляемое им направление занимало доминирующее положение в общественно-политической жизни Закарпатья на протяжении всего междувоенного периода» {569}.
Однако кабинет А. Бродия работал немногим более двух недель. Чехословацкое правительство, уже практически полностью подчинявшееся диктату из Берлина, отдало приказ об аресте вождей русского движения и, невзирая на массовые протесты населения, передало власть в автономии лидеру закарпатских ненькопатриотов А. Волошину. Подкарпатская Русь была переименована в «Карпатскую Украину». Все русские политические партии запрещены, русские культурные учреждения, спортивные общества, студенческие организации и т. д. — закрыты. Украинский язык объявили государственным языком (и, между прочим, всем чиновникам было настоятельно рекомендовано изучать журнальчик И. И. Огиенко «Рідна мова»).
Правда, марионеточное правительство Волошина тоже функционировало недолго. «Карпатская Украина» была нужна Гитлеру только как разменная монета в политической игре. Желая заполучить в союзники Венгрию, Берлин в ноябре 1938 года приказал «карпатоукраинцам» уступить венграм значительную часть своей «державы», включая Ужгород, Мукачево, Берегово. А когда Венгрия официально присоединилась к странам гитлеровского блока, фюрер «подарил» ей и остальную территорию Закарпатья. 15 марта 1939 года одновременно с ликвидацией чехословацкого государства сгинула и «Карпатская Украина».
После оккупации Закарпатья венгерскими войсками новая власть стала поддерживать так называемое «руськое» направление, провозглашающее отделение местного «руського» языка как от русского, так и от украинского. «Великорусский литературный язык есть языком Москвы, в котором не имеется руських элементов… Так точно не имеет ничего общего руський язык с украинским, который образовался в Польше. Наши русины жили в Венгрии и не имели ни политической, ни культурной связи с великороссами или украинцами» {570},— писал теоретик этого направления. При этом «руськие» филологи использовали все-таки общерусский алфавит («ы» и др.).
В конце второй мировой войны, с поражением Германии и ее союзников, перед Закарпатьем явственно вырисовалась перспектива присоединения к СССР. Зная уже по опыту Галиции и Буковины, что воссоединение с другими русскими землями путем включения в состав УССР чревато тотальной украинизацией, закарпатцы попытались этого избежать. Делегация Подкарпатской Руси, возглавляемая архимандритом Алексием (Кабалюком) и профессором Петром Линтуром, в ноябре 1944 года посетила Патриарха Московского и всея Руси Алексия и заявила: «Мы решительно против присоединения нашей территории к Украинской ССР. Мы не хотим быть ни чехами, ни украинцами, мы хотим быть русскими и свою землю желаем видеть автономной, но в пределах советской России» {571}. Увы, Патриарх не мог влиять на политику Кремля. Закарпатье присоединили к УССР и украинизировали.
Избежала украинизации лишь закарпатская диаспора в Северной Америке. Эмигранты помнили о своей национальной принадлежности. Они издавали газету «Свободное слово Карпатской Руси», в которой защищали свою точку зрения. «Для нас, русских из Карпатской Руси, совершенно непонятно, почему мы вдруг должны отречься от своего тысячелетнего русского имени и перекреститься в „украинцев“, и почему мы должны заменить наш русский литературный язык, который мы до сих пор считаем своим, украинскою мовою,— писала газета.— Наш народ в Карпатской Руси в течение всей своей истории не называл себя иначе, как русским. И все его соседи, волохи (румыны), мадьяры, словаки и немцы его называли русскими… „Украинцем“ себя у нас никогда никто не называл, и у нас не было никакого „украинского“ движения до тех пор, пока, после Первой мировой войны, Карпатская Русь не попала под власть чехов, и пока чешское правительство не начало насаждать его у нас через посредство униатской церкви и бежавших из Польши украинских самостийников, воспитанных австрийским правительством с целью расчленения России. Но, невзирая на все старания чешского правительства, не брезговавшего никакими средствами, невзирая на миллионы чешских крон, израсходованных на украинскую пропаганду, незаконную украинизацию школ, украинство у нас не восторжествовало во время чешского режима. Украинствующие составляли после двадцати лет чешского управления Карпатской Русью незначительное меньшинство… Касательно украинской мовы необходимо отметить факт, что у нас не только наша интеллигенция, но и простой народ этой мовы не признал своей. Украинствующих галичан, говорящих мовою, наш народ называл не иначе, как „полячками“. Если на какой-либо сходке выступал „украинец“, говорящий мовою, то на вопрос, кто там говорил, получался непременно один и тот же ответ: „Был там какой-то полячок“. О русских же эмигрантах из России, говорящих на русском литературном языке, наши крестьяне говорили, что они говорят „твердо по-русски“, подразумевая, что они говорят настоящим литературным русским языком» {572}.
После Второй мировой войны была украинизирована и Пряшевская Русь — самая западная часть этнической русской территории, оставшаяся в составе Чехословакии. Там украинский язык вместо русского был введен в школах в 1952 году постановлением ЦК Компартии Словакии. Население протестовало, требовало сохранения русского образования. Но власть твердо стояла на своем, а ненькопатриоты жаловались на «низкую национальную сознательность и национальное равнодушие украинских трудящихся». В конце концов, ЦК Компартии Словакии постановил развернуть «политико-воспитательную работу, направленную на повышение национальной сознательности украинских трудящихся» {573}.
Так вся Юго-Западная Русь оказалась украинизированной. И, говоря словами печально известного деятеля, сегодня мы имеем то, что имеем. Украинский язык, еще несколько десятков лет назад почти никому непонятный, вызывавший только насмешки и неприязнь, возведен в статус государственного, именуется «рідною мовою», принудительными мерами внедряется повсеместно. Украинские газеты начала XX века, которые из-за непонятности языка в то время почти никто не читал, ныне в состоянии прочитать любой выпускник средней школы. (Экземпляры этих газет сохранились в крупных библиотеках, и желающие могут сами во всем убедиться.) И. М. Стешенко оказался прав: если новый язык насильно навязывать нескольким поколениям подряд, он становится привычным и понятным. Но прав оказался и И. С. Нечуй-Левицкий: привычное и понятное все-таки не стало родным. Ведь большинство из тех, кто при различных опросах и переписях называет украинский язык родным, делают так только потому, что с детства им внушали, что они — украинцы и родной язык у них должен быть украинский. На самом же деле, эти люди говорят или чисто по-русски, или на так называемом «суржике», т. е. на все том же малорусском наречии, сильно украинизированном за последние десятилетия (ведь в распоряжении украинизаторов, помимо прочего, появились такие действенные средства, как радио и телевидение), но все же не утратившем признаков общности с русской литературной речью.
В этом отношении интересны данные опроса, проведенного в Киеве Институтом социологии НАН Украины в апреле 2000 года. При ответе на вопрос: «Какой язык Вы считаете родным?» — 76 % киевлян — украинцев по происхождению назвали украинский. Когда же социологи несколько перифразировали вопрос: «На каком языке Вы общаетесь в семье?», только 24 % киевлян-украинцев ответили, что на украинском {574}. «В ответах на вопрос о родном языке респонденты нередко отожествляют его с этническим происхождением — отмечает заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор социологических наук Н. А. Шульга.— Поэтому для того, чтобы получить более объективную картину распространения языков в разных сферах жизни, необходимо задать вопрос не только о родном языке, но и на каком языке люди общаются в разных обстоятельствах» {575}.
Однако и вопрос о языке общения в семье полностью картину не проясняет. Как утверждает тот же Н. А. Шульга, «косвенным показателем распространения русского языка в Украине является выбор респондентами языка анкеты. Институт социологии НАН Украины при массовых опросах использует социологические анкеты на двух языках — украинском и русском. Перед тем как начать опрос, интервьюер предлагает респонденту по желанию выбрать анкету или интервью на украинском или русском языке. Иначе говоря, каждый социологический опрос — это манифестация языковых предпочтений населения, своего рода референдум». В результате, как выяснилось во время всеукраинского опроса, 49,5 % респондентов ответили, что общаются в семье на украинском языке, 48,5 % — на русском языке, 2 % — на другом языке. Однако анкеты на украинском языке предпочли взять только 37,2 % респондентов, в то время как на русском — 62,8 % (данные апреля 2000 года) {576}. Иными словами, среди тех, кто уверяет, что общается в семье на украинском языке, многим на самом деле легче говорить по-русски.
Вспомним еще раз и цифры, приведенные Яворивским: лишь несколько десятков тысяч человек действительно владеют украинским языком. Их и можно отнести к числу настоящих украиноязычных. К тому же и среди этой категории далеко не все являются украинцами по происхождению. Еще в начале украинизации было замечено, что часто евреи, поляки и великороссы гораздо быстрее овладевают украинским языком, чем те, для кого он официально является родным. «Я знаю множество фактов, как кое-кто, например из русских или евреев, недавно начав украинизироваться, превзошли на всех участках языковых (а особенно в письменности) „вековечных украинцев“» {577},— свидетельствовал один из главных подручных Кагановича — М. Ф. Сулима. Это еще раз доказывает, что пресловутая «рідна мова» украинцам не ближе, чем великороссам или евреям.
Глава 8. Украинизация или манкуртизация?
Подведем итоги. Со времен Киевской Руси на всей ее территории (и на юго-западе, и на северо-востоке) существовал один русский язык. Этот язык стал разделяться на наречия (малорусское, великорусское, белорусское) после временного распада единого государства, захвата отдельных его частей иноземными поработителями. Великорусское наречие развивалось на основе языка прежней Руси — Киевской. Это объяснялось относительно свободным культурным развитием северо-восточных русских земель (области распространения великорусского наречия). Татарская Золотая Орда, в зависимость от которой попала Северо-Восточная Русь, собирала с подвластных территорий дань, иногда опустошала их разорительными набегами, но не навязывала своей культуры, языка. Доказательством тому служит современный русский язык, в котором сохранилось очень немного слов татарского (также как и финно-угорского) происхождения.
По-иному сложилась судьба Руси Юго-Западной (Малороссии), подвергшейся польскому влиянию. Это влияние существенно отразилось на культуре вообще, и на языке, в частности. В результате малорусские народные говоры представляли собой пеструю русско-польскую смесь. «Польскому влиянию, прежде всего, попала Южная Русь,— писал И. И. Огиенко.— Влияние это началось рано,— уже в XIV веке в южнорусской речи есть полонизмы. Влияние это с течением времени все разрасталось и дошло до того, что ополячилась почти вся южнорусская знать. О языке и говорить нечего: литературный южнорусский язык, особенно XVII века, сплошь пересыпан полонизмами». Последствия полонизации сказывались долго. Как замечал ученый в 1915 году, «современная малорусская речь содержит в себе весьма много заимствований из языка польского» {578}. (Через два года разразилась революция, и Огиенко вместе с другими украинофилами принялся распространять легенду о древности самостоятельного украинского языка. Но это была уже не наука. Это была политика.)
Полонизация прекратилась (да и то не сразу) после воссоединения Малой Руси с Великой. Начался естественный процесс очищения народной речи от полонизмов. Этот процесс и задумали остановить руководимые поляками украинофилы путем создания из малорусского наречия самостоятельного литературного языка. Противоестественность украинофильских стремлений была очевидной с самого начала. Самостоятельный язык возникает только при долговременном самостоятельном существовании народа, чего в данном случае не было. Один из киевских публицистов XIX века сравнивал отношения малорусского наречия и русского языка с отношением ручья и полноводной реки. «Ручей, необыкновенным разлитием отведенный от родной реки» затем «снова смешивал воды свои с ее водами». После этого «ужели ручей может катить свои волны отдельно от реки?» Точно так же и малорусское наречие могло составлять народный говор только в эпоху польского ига («от уклонения ручья в сторону до слития его с рекою»). «Малорусское просторечие как явление временное, случайное, как говор, сложившийся для выражения бедной жизни народа русского под влиянием польским, есть явление для нас понятное, почти безразличное в устах запорожца времен Мазепы; но отстаивать, тем более обособлять это наречие теперь, после вековой почти, нераздельной жизни разных членов семьи русской?» Такое намерение будет означать попытку «окаменять это наречие, увековечивать в нем ржавчину, въевшуюся в кости русские от цепей чуждого рабства» {579}.
Кроме того, замечал публицист, малорусское наречие приспособлено исключительно для потребностей крестьянской жизни. «Чтобы создать из подобного наречия язык, а особенно литературу, нужно сделать то же, что должен был бы сделать человек, у которого нет и гроша, а ему хочется иметь миллион, то есть украсть его или одолжить. Чтоб и просторечье малорусское сделать органом всех выводов, изобретений и наблюдений науки, создать, то есть, малорусскую литературу, для этого оно непременно должно или украсть, или взять на прокат у языка русского или польского очень многое, и, прежде всего, хоть технологию, создать (если есть возможность) грамматику, да очистить речь свою от солецизмов (синтаксических ошибок, слово «солецизм» происходит от названия древней афинской колонии Сол, утратившей чистоту греческого языка.— Авт.) и барбаризмов (слов, несвойственных данному языку и заимствованных из других языков.— Авт.) как принадлежностей бедного, неустроенного наречия» {580}. Первый путь (заимствование из русского литературного языка) вполне естественен. Однако в этом случае «порченое наречие, малорусский жаргон преобразится в чистый русский язык. Так, когда вера и обрядность униатская очистились от искажений, внесенных в нее католицизмом, они явились по-прежнему православными; а что случилось с верою южнорусского народа, того весьма законно желать и для его языка как для равноправного вере элемента народной жизни. От того и талантливейший из людей, писавших малорусским наречием,— Шевченко вынужден был поминутно черпать обеими руками слова и обороты из русского словаря и говора».
Но украинофилы пошли другим путем, польским. «Кроме закрепления бесчисленных чуждых русской речи слов и оборотов, насильно вторгшихся в нее от причин, теперь несуществующих, они поминутно обращаются к лексикону своих и наших приятелей, только лишь для того, чтобы не обращаться к словарю родному, русскому. Сюда относятся: „погляд“, „оповідання“, „омана“, „наданий“, „одностайний“, „жаданьє“ и многие другие, которых нет в малорусском говоре, происхождение которых очевидно… Когда все эти непрошенные протекторы обособления малорусского наречия начнут подвигаться по этому пути вперед, они незаметно попятятся назад, в объятия латино-польской пропаганды: их наречие из порченного русско-славянско-польского обратится, может быть, в язык, но, конечно, порченый — польский, и они, изменив языку предков, запишут в истории имена свои рядом с теми из них, которые изменили вере предков» {581}.
«Что за надобность в смешной затее образовывать исключительную малороссийскую литературу, тогда как малороссийское наречие для всякого, хоть немного знакомого с польским языком, представляется отвратительною смесью польского языка, исказившего в малороссах старинный отечественный язык гнетом четырехвекового рабства» {582},— писал другой малорусский публицист.
«Руководствуясь главнейше украинофильской тенденцией и как бы силясь доказать теорию о самостоятельности малорусского народа, они («национально сознательные».— Авт.) стараются отдалить язык „украінсько-руськой“ литературы от языка общерусского,— отмечал профессор Т. Д. Флоринский.— С этой целью для передачи отвлеченных понятий, для которых не оказывается соответствующих выражений в простонародной речи и для которых весьма легко было бы найти соответствующие слова в русском образованном языке, они употребляют слова чужие, преимущественно польские, или искажают до неузнаваемости слова общерусские, или прямо куют и сочиняют совсем новые слова и выражения» {583}. Флоринский приводит примеры таких тенденциозных заимствований из польского языка: «аркуш», «вага», «вартість», «видатки», «випадок», «виразно», «вплив», «вправа», «докладно», «друкарня», «залежати», «затверджене», «зиск», «знищений», «зручність», «книгарня», «мова», «мусить», «наукова», «незвичайно», «папір», «переважно», «перегляд», «переклад», «помешкання», «поступ», «праця», «приємно», «рахунок», «спадок», «спілка», «справа», «сформована», «товариство», «увага», «умова», «фарба», «часопис», «читач», «шануючи» и др. Все эти примеры были взяты из изданий «Научного общества им. Шевченко», возглавляемого М. С. Грушевским, или из сочинений самого М. С. Грушевского. «И таких чужих и кованных слов можно набрать из изданий „Товариства“ на целый том, а то и больше. Спрашивается, что же это за язык? Ужели мы имеем перед собою настоящую малорусскую речь? Не служит ли этот искусственный, смешанный малорусско-польский говор резкой насмешкой над литературными заветами того самого Шевченко, имя которого носит „Наукове Товариство“?!» — задавался вопросом Т. Д. Флоринский и приводил слова другого выдающегося ученого А. С. Будиловича: «Лучше уж перейти к чистому польскому языку, чем писать на смешанном русско-польском жаргоне, напоминающем гермафродита» {584}.
Еще один крупный русский ученый — Н. С. Трубецкой — подчеркивал: «Современный украинский литературный язык, поскольку он употребляется вне того народнического литературного жанра, о котором говорилось выше, настолько переполнен полонизмами, что производит впечатление просто польского языка, слегка сдобренного малорусским элементом и втиснутого в малорусский грамматический строй… За вычетом этих полонизмов словарное различие между малорусским и южновеликорусским народным языком оказалось бы не большим, чем различие между рязанским и вологодским» {585}.
«В XIX веке литературные произведения украинцев преимущественно годились для изображения народной жизни, не имея достаточного запаса слов для выражения отвлеченных понятий,— замечал и видный русский ученый (белорус по происхождению) Н. О. Лосский.— Грушевский стал торопливо обогащать украинский язык словами для отвлеченных понятий, заимствуя их из польского языка. Таким образом, вместо органического развития получается искусственно создаваемый литературный язык» {586}.
В свою очередь, галицко-русский ученый О. А. Мончаловский отмечал, что если бы суть литературного украинофильства в Галиции заключалась «в любви к народу и в желании служить ему, развивая его национальное и гражданское сознание на местном, более всего понятном ему говоре и в развитии этого говора на естественном национально-историческом основании, то мы, русская партия — настоящие украинофилы. Дело, однако, в том, что украинофилы не так понимают свои задачи. Чтоб доказать теорию о самостоятельности малорусского народа, они стараются язык „русско-украинской“ литературы елико возможно, отдалить от общерусского языка, вследствие чего их язык представляет пеструю смесь малорусских, польских и искусственных выражений, как будто она возникла во время вавилонского столпотворения… Украинофилы, как черт священной воды, избегают культурных русских выражений и или коверкают их до неузнаваемости, или произвольно сочиняют новые, или заступают их польскими. Если к тому добавим, что украинофильские литераторы преднамеренно употребляют вульгарные выражения, желая таким образом придать своему языку характер „народного“, то можем себе представить карикатурность их языка» {587}.
Как выразился один из галицко-русских писателей о сочинителях украиноязычной «литературы», это «не писатели, не поэты, даже не литературные люди, а просто политические солдаты, которые получили приказание: сочинять литературу, писать вирши по заказу, на срок, на фунты. Вот и сыплются, как из рога изобилия, безграмотные литературные „произведения“, а в каждом из них „ненька Україна“ и „клятый москаль“ водятся за чубы. Ни малейшего следа таланта или вдохновения, ни смутного понятия о литературной форме и эстетике не проявляют эти „малые Тарасики“, как остроумно назвал их Драгоманов, но этого всего от них не требуется, лишь бы они заполняли столбцы „Зори“ и „Правды“ (украинофильские журналы в Галиции.— Авт.), лишь бы можно было статистически доказать миру, что дескать, как же мы не самостоятельный народ, а литература наша не самостоятельная, не отличная от „московской“, если у нас имеется целых 11 драматургов, 22 беллетриста и 37,5 поэта, которых фамилии оканчиваются на „-енко“» {588}.
Того же мнения придерживался П. А. Кулиш, довольно пренебрежительно отозвавшийся о новейших украинских писателях: «Немногие из них изучали памятники народной словесности хотя бы с тем прилежанием, с каким студент готовится к экзамену. В изучении разговорного народного языка также не заметно у них особенных успехов. Доказательством того и другого служит неловкость, с которою они принимаются за перо в журнальных статейках или книжонках, предназначаемых для народного чтения. Исключений из этого общего правила можно насчитать весьма немного. Неудивительно после этого, что народ не узнает в их писаниях своей родной речи, а сословие образованное видит в их языке извращение общего письменного языка. Мало того: неразвитость литературного вкуса вообще — не говоря уже о языке — так и разит в этих неловких попытках беседовать печатно с публикою: так и видно, что за это важное дело берутся у нас не самые лучшие, а только самые смелые» {589}.
«Недавно получил я письмо от Рудченко, человека, который больше меня щирый украинофил, так и тот, смотря на то, что послал последний год из украинской литературы, говорит: „лучше никакой литературы, чем такая“» {590},— сообщал М. П. Драгоманов В. Навроцкому. Сам Драгоманов отмечал, что украинская литература, «встав во имя живого языка очень отдает мертвым, или „выкованным“, „произвольным“» {591}. В частности, в письме тому же Навроцкому, он указывал на пример М. П. Старицкого, как раз развернувшего бурную «языкотворческую» деятельность: «Не знаю, Вы видели ли новый перевод сказок Андерсена Старицкого. Он мне причинил боль на 3 дня своим самовольно и безграмотно кованным языком. Господи! Каких слов не выдумал, что не покалечил! Я написал сердитую рецензию, которую пошлю в „Правду“, но которую она, понятно, не напечатает» {592}.
Добавим к этому, что деятельность на языковом поприще М. П. Старицкого, автора таких «шедевров», как перевод из Лермонтова под заглавием: «Пісня про царя Йвана Василевича, молодого опричника, та одважного крамаренка Калашника» и др., вызывала массу насмешек. Большой популярностью пользовалась история с переводом «Сербских народных песен», который Старицкий решил показать знакомому мужику. Прочитав эти песни «в украинском переводе», писатель поинтересовался у слушателя: «А что, нравится?» Но простодушный крестьянин не признал «рідну мову». Он решил, что Старицкий читал по-сербски, и ответил: «Знаете, этот сербский язык вроде немножко похож на наш. Я некоторые слова понял» {593}. Даже столь ярый украинофил, как галичанин О. Огоновский, признал: «Неудачными являются некоторые новые слова и выражения, которые Старицкий иногда нескладно ковал» {594}.
Тем не менее, «продукция» М. П. Старицкого старательно насаждалась украинофилами. «Михаил Петрович Старицкий… Ко времени нашего знакомства, он уже выступил как выдающийся переводчик: вышли некоторые его переводы сказок Андерсена, его прекрасные сербские песни,— вспоминала известная украинофилка С. Ф. Русова.— Он мечтал переводами обогатить нашу убогую на то время литературу, но ему не хватало слов, выражений, и он должен был создавать, беря народные корни и добавляя к ним те или другие наросты, и выискивал в богатой сокровищнице народного языка соответствующие выражения. Он переводил Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Некрасова. На него нападали за его иной раз искусственный язык, смеялись над его „кованием“ слов, но без его труда мы еще долгое время сидели бы на одном этнографическом языке. Житецкий, мастер нашей научной филологии, иной раз аж за голову хватался от „новых“ слов Старицкого, но эти слова набирали силу привычки и начали употребляться самыми большими ригористами-филологами» {595}. (Совсем недавно по первому каналу украинского радио Старицкого восхваляли за придуманное им слово «мрія».) «Бедность тогдашнего украинского литературного языка абстрактными понятиями приходилось ощущать каждому и всегда, кому и когда нужно было выйти за пределы быта, за пределы села. Типичным примером могут быть лексические искания М. Старицкого» {596},— отмечал и Ю. Шевелёв (Шерех).
Упомянул о создании украинского языка в мемуарах также известный галицкий украинофил А. Барвинский. Он пишет, что в целях пробуждения в народе «национальной сознательности» деятели украинского движения собрались издавать на «рідній мові» целую серию исторических сочинений. Однако возникли трудности: «Украинские историки обычно издавали свои сочинения на московском языке. Тут, таким образом, нужно было создать литературный язык научный, исторический лексикон, а это очевидно нелегко было сделать тем, которые привыкли о научных делах думать и писать по-московски, а только в беллетристических произведениях да популярных заметках пользовались украинским языком. Нужно было также согласовать название нашего народа и края в противоположность Московщине и по совету Антоновича принято прилагательное „українсько-руский“ в противопоставление „великорусскому“, а существительное „Україна-Русь“ в противоположность Московщине» {597}. (Еще одно доказательство того, что отдельной «украинской нации» тогда не существовало. Малороссы, как и великороссы, называли себя русскими, и украинофилам пришлось изобретать новое «национальное имя». Следует отметить, что, по данным О. А. Мончаловского, инициатором «перемены» названия был не В. Антонович, а другой поляк-украинофил — П. Свенцицкий {598}.) Таковы некоторые подробности зарождения и развития «рідной мови». Чем дальше украинофилы «развивали» ее, тем сильнее отдаляли от русского языка и от народных говоров.
Особенно большая «заслуга» в деле отрыва «рідной мови» от народной почвы принадлежит Л. М. Кагановичу. Именно во время его хозяйничанья на Украине в этом отношении был достигнут значительный «прогресс». В докладе, зачитанном в январе 1929 года в Комиссии по изучению национального вопроса Коммунистической академии и посвященном проблемам «культурного строительства в национальных республиках», отмечалось: «Возьмем дореволюционный украинский язык на Украине, скажем, язык Шевченко, и теперешний украинский язык, с одной стороны, и русский язык — с другой: Шевченко почти каждый из вас поймет. А если возьмете какого-либо современного украинского писателя — Тычину, Досвитского или другого из новых,— я не знаю, кто из вас, незнающих украинского или хотя бы польского языка, поймет этот язык на основе русского. По отношению к русскому языку мы видим здесь значительное увеличение расхождения». Таким образом, новый украинский язык можно понять, владея языком польским, но не русским. Автор доклада С. Диманштейн считал происходящее положительным явлением: «Если люди хотят иметь свой язык, они, естественно, ставят вопрос о чистоте языка. Начинаются поиски в глубинах истории или местных диалектов, старинных памятников и т. д., начинают искать самобытность — и находят» {599}.
Тем временем людей о желательности нового языка как раз и не спросили. Да и слова, которые отыскивали в «глубинах истории» (т. е. в периоде до воссоединения Малой и Великой Руси, когда еще не было «насильственной русификации»), вводили вместо русских, на поверку оказывались не народными, а польскими. Наиболее яркий пример: изгнание из украинского языка слова «город», объявленного «русизмом», и замена его извлеченным из «глубин истории» словом польского происхождения «місто». Между тем, слово «город» употреблялось в Юго-Западной Руси с давних пор, известно еще из киевских летописей и зафиксировано во множестве географических названий (Вышгород, Миргород, Ужгород, Шаргород). Таких примеров можно привести многие тысячи (далеко не полный перечень польских заимствований интересующиеся могут найти в книге А. И. Железного «Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине», К., 1998).
Так что же представляет собой современная «борьба с последствиями русификации»? Не есть ли нынешняя украинизация, по сути своей, попыткой заставить называемых украинцами малороссов забыть свое русское происхождение? В развернувшихся баталиях вокруг языковой проблемы сторонники тотальной украинизации любят разбрасываться оскорблениями, называя своих русскоязычных соотечественников «манкуртами», «янычарами» и т. д. Но прежде чем бросаться такими обвинениями, следует внимательно посмотреть в зеркало! Не странно ли: французы и триста лет назад были французами, поляки — поляками, сербы — сербами и т. д. А про украинцев как особую национальность не слыхал и Тарас Шевченко. Возьмите произведения «Великого кобзаря». Ни в поэзии, ни в прозе, ни в письмах, ни в «дневнике» нет даже слов «украинцы», «украинец». «В ту эпоху,— вспоминал уже о времени накануне революции 1917 года бывший секретарь Центральной Рады М. М. Еремееев,— само название „украинец“ было еще каким-то чужим и странным, потому что украинская литература ее никогда не употребляла. Писалось и говорилось: Украина, украинский, даже, очень редко украинка, но термин украинец был в ту эпоху неологизмом, который тяжело входил в жизнь» {600}. «„Украинцы“ до сих пор было неизвестное слово, и теперь оно еще не прошло во все слои общества» {601},— говорил в октябре 1918 года на открытии в Киеве Украинского государственного университета В. К. Винниченко.
В Галиции начала XX века «национально сознательные» деятели употребляли слово «украинец» лишь в узком кругу, между собой. К народу же, например, на предвыборных собраниях, обращались как к русским. Когда же, по свидетельству галицко-русского деятеля Н. И. Антоневича, на одном из таких собраний молодой и неопытный агитатор-украинофил неосторожно назвал присутствующих украинцами, то тут же нарвался на всеобщий протест: «Мы не украинцы», а один из участников собрания просто обиделся: «Прозывают нас украинцами, а ведь мы ничего не украли» {602}.
Галичане именовали себя русскими или употребляли древнее название — русины. Так же русскими или русинами называли они великороссов (что касается название «русин», то оно раньше употреблялось по всей Руси, например, тверский купец Афанасий Никитин в «Хождении за три моря» называет себя русином). Но наименование «украинец» в Галиции упорно не принимали. Так какую же «украинскую национальную идею» нам навязывают?
Родным для коренного населения всегда был русский язык. Малорусское простонародное наречие и литературный язык являются лишь его разновидностями. Люди необразованные общаются на просторечиях, «суржике». Те же, кто поднимается на более высокую ступень развития, переходят в общении на русский литературный язык. Где же здесь «зневаження мови свого народу», в чем кое-кто обвиняет русскоязычных украинцев?
В 1874 году в Киеве была проведена первая общегородская перепись населения. Среди прочих, задавался киевлянам и вопрос о языке. Оказалось, что из 116 774 киевлян 46 060 человек отметили, что родным для них является русский литературный (общерусский) язык, 8476 человек — великорусское наречие, 35 205 — малорусское наречие, 1379 — белорусское наречие. Таким образом, отмечалось в итогах переписи, 91 120 человек признают родным русский язык в различных его видах {603}. Позднее выяснилось, что руководившие проведением переписи украинофилы (возглавлял переписчиков все тот же П. П. Чубинский) при помощи различных ухищрений и махинаций завысили число тех, кто назвал родным малорусское наречие. Но дело в другом. Даже ярые украинофилы не путали русский литературный язык с великорусским. «Есть язык русский литературный и две группы народных русских говоров — северная и южная» {604},— отмечала видная украинофилка и известный историк Александра Ефименко, подразумевая под южными народными говорами — малорусскую, а под северными — великорусскую народную речь. (Кстати сказать, в декабре 1918 года А. Я. Ефименко, несмотря на заслуги перед украинским движением, была расстреляна петлюровцами за укрывательство у себя двух дочерей высокопоставленного гетманского чиновника).
Уместно привести и выдержку из работы выдающегося русского филолога Н. С. Трубецкого: «Вопрос о том, являются ли два близко родственных наречия диалектами одного или двумя самостоятельными языками, сводится к тому, насколько существующие между данными наречиями словарные, грамматические и звуковые различия фактически затрудняют языковое общение и взаимное понимание представителей того и другого наречия… В частности, относительно русских племен следует отметить, что там, где малороссы и великороссы живут друг с другом бок о бок (в областях недавно колонизированных и на этнографической границе между обоими племенами, например в некоторых частях Воронежской и Курской губернии), они без труда понимают друг друга, причем каждый говорит на своем родном говоре, почти не приспособляясь к говору собеседника. Правда, в этих случаях встреча происходит обычно между представителями южновеликорусских говоров, с одной стороны, и северомалорусских или восточноукраинских говоров с другой; если бы встреча произошла между архангельским помором и угрорусом или буковинским гуцулом, то взаимное понимание, надо полагать, оказалось бы более затрудненным. Но на это можно возразить, что саксонцы и тирольцы тоже почти не понимают друг друга, когда говорят на своих родных говорах, миланцы и сицилийцы просто-таки совсем друг друга не понимают… Каждый из больших литературных языков Европы (французский, итальянский, английский, немецкий) господствует на территории лингвистически гораздо менее однородной, чем территория русских племен. Различия между нижненемецким и верхненемецким или различия между народными говорами северной Франции и говорами Прованса не только сильнее, но и значительно древнее различий между малорусским, белорусским и великорусским» {605}. «Немец южный тяжелее понимает немца северного, чем „малоросс“ москаля» {606},— соглашался и Вацлав Липинский.
Простонародные украинские говоры вместе с простонародными великорусскими говорами и аналогичными белорусскими говорами составляют русский язык. Этот язык в своих различных формах (от просторечий до литературного) является родным как для великороссов, так и для малороссов и белорусов. Точно также немецкий язык, в своих различных формах, является родным как для пруссаков, так и для баварцев или саксонцев, а польский — родным как для великополян, так и для малополян и мазуров. Что же касается нынешней «рідной мовы», то она создана искусственно и уже по этой причине вряд ли может быть родной для большинства народа. Это прекрасно сознавали ненькопатриоты. София Русова вспоминала, как вместе со своим мужем Александром Русовым, поселившись в сельской местности, принялись обрабатывать в украинофильском духе своего соседа — крестьянина Хому Колесника. Однако супруги-энтузиасты очень скоро наткнулись на непреодолимое препятствие. «Украинский литературный язык» оказался чужим для их соседа (как и для других крестьян). «Продукт еще русской школы, он впервые от нас услышал речь про украинское национальное сознание, впервые теперь читал украинскую книжку, и признавался, что ему тяжело было ее понимать» {607}.
Оконфузились в связи с «рідной мовой» и другие супруги-украинофилы — Борис и Мария Гринченко. Известно, что прославляемый ныне у нас как великий педагог Б. Д. Гринченко считал, что украинке лучше быть безграмотной, чем русскоязычной. В молодые годы, будучи учителем в частной школе Х. Д. Алчевской, он разогнал оттуда всех девочек, мотивируя это тем, что «не следует калечить украинскую женщину обучением на чуждом ей великорусском языке» {608}. Исходя из таких принципов, сугубо на украинском языке воспитывалась и дочка четы Гринченко — Настя. В результате, вспоминала М. Н. Гринченко, «как приехали мы в Чернигов, то увидели, что нашей восьмилетней дочке нет украинского общества, потому что только три дочки Тищинского говорили кое-каким украинским языком и это, может, потому, что мать их была не русская, а француженка. Но старшей из девочек было лет 17, а самой младшей лет 12. И вот им приходилось временами быть за подруг нашей Насте, да впоследствии обнаружилась еще одна девочка, Оля Гаврилова, года на два старшая нашей; она тоже говорила немного по-украински, но поскольку уже ходила в гимназию, то мало времени имела для общения с Настей. А земляки еще и упрекали нас за то, что воспитали дочку такой украинкой, не жалея ее… Из-за того, что не было общества, пришлось отдать ее в гимназию раньше, чем собирались, но и в гимназии не было у нее ни одной „верной подруги“, так как не было ни одной настоящей украинки, такой, чтобы ей дела украинские были так дороги, как были они ей» {609}.
Воспоминания Софии Русовой и Марии Гринченко касались Черниговщины. Однако и в других регионах Украины состояние дел в языковой сфере было аналогичным. В сентябре 1904 года в Киев для обучения в местном университете приехал ярый украинофил В. В. Садовский, впоследствии — петлюровский министр. «Киев поразил меня полным отсутствием украинских внешних признаков,— писал он в своих мемуарах.— Вокруг звучал русский язык, на нем говорили не только интеллигенты. Вспоминаю, как неприятно меня поразил, когда я подъезжал к Киеву, московский язык пригородных рабочих, которые начали садиться на поезд в Фастове, едучи на работу в Киев. Не было сомнения, что они происходили из окрестных сел. Так точно всеохватывающе господствовал русский язык и в университете среди студентов. Лишь кое-где в небольших кружках слышал я временами отдельные украинские выражения и украинский жаргон, но это не был тот литературный язык, которого я искал» {610}.
Довольно интересные сведения сообщала видная украинофилка, педагог Христина Алчевская. Желая узнать, как воспринимаются народом книги издательства «Посредник», она отправилась на лето в одно из украинских сел Екатеринославской губернии. Там вышеуказанные книги Алчевская читала неграмотным крестьянам. Контингент слушателей состоял из нескольких десятков крестьян, всю жизнь проживших в селе и никогда не учившихся в школе. Все они, за исключением одного (служившего когда-то в помещичьем доме и потому старавшегося говорить «по-благородному») изъяснялись на малорусском наречии. Одним словом, этих слушателей никак нельзя было отнести к числу русифицированных. Тем не менее, они прекрасно понимали читаемые им произведения Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Гоголя, Островского, Достоевского, Писемского, Льва Толстого, Мельникова-Печерского, Гаршина, Успенского и других русских писателей.
Прочитанное живо обсуждалось и комментировалось. Мало того. Эти произведения воспринимались крестьянами с гораздо большим интересом, чем произведения украинской литературы. Как-то, вдохновившись успехом, который имели у крестьянской аудитории пьесы А. Н. Островского, Алчевская решила ознакомить слушателей с украинской пьесой. Выбор ее остановился на «Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Л. Кропивницкого. Однако пьеса не произвела на слушателей такого глубокого впечатления, как произведения общерусского драматурга. «Почему это так? — невольно спрашиваете вы себя, получив неожиданный результат, а между тем ответ так прост и ясен: сила таланта Островского взяла свое и над родной речью, и над родными мотивами» {611}.
Как известно, украинофилы утверждали, что русский язык не понятен простым людям на Украине и потому, дескать, не может быть языком просвещения народа. Естественно, что на опубликовавшую итоги своих наблюдений Алчевскую посыпались упреки соратников. Между тем, она всего лишь подтвердила очевидное: русский литературный язык не являлся для украинцев чужим. Чего нельзя было сказать об украинском литературном языке.
В марте 1914 года украинофильская газета «Маяк» опубликовала специальную редакционную статью — «Наше одиночество», где отмечалось, что украиноязычные интеллигенты в селах оказались в языковой изоляции, на что они сами и жаловались в письмах в редакцию. «Стали что-то часто приходить грустные жалобы наших интеллигентов сельских на свое одиночество»,— писала газета и «для примера» приводила «последнее такое письмо от подольского одного читателя-интеллигента», к которому был приложен стих:
«Рідней мови я не чую Знудився за нею То розваж-же, сивий орле Звісткою своєю» и т. д.«Человек живет в самой середине Украины, а не слышит языка родного, он тоскует за ним; ему не с кем отвести душу в приятельской беседе; он одинок, как перст»,— сокрушалась газета и констатировала: «Безусловно, это настроение среди нашей интеллигенции украинской не есть что-то случайное».
Как на причину сложившегося положения указывалось на то, что украинский «национально сознательный» интеллигент «окружен равнодушными, темными, отсталыми людьми». Выход газета видела в активизации работы самих интеллигентов-ненькопатриотов по пробуждению «национальной сознательности» в окружающих: «Та Украина, за которой он тоскует,— она не далеко (в пространстве); нет, она тут же, рядом с ним. Только она спит, будто замерла, и лучшим сынам ее, которые уже сами пробудились и просветились, им нужно победить тьму и равнодушие, чтобы приблизить к себе более отсталых, приблизить Украину» {612}.
Но давать рекомендации было легче, чем их выполнять. «Национальное сознание» в народе никак не пробуждалось. Как ни старались ненькопатриоты, малороссы по-прежнему считали себя частью русской нации и не отказывались от русского языка. В изданной в 1919 году петлюровским издательством «Національна свідомість» брошюре с сожалением отмечалось, что даже великорусские народные песни в украинских селах принимаются как свои. «Наш народ забывает свою песню, чуждается ее и легко меняет на чужие, на московские, намного худшие, а иногда совсем плохие,— писал «национально сознательный» сельский интеллигент, как раз из тех, которые, страдая от одиночества, по рекомендации украинофильских вождей, пытались «просветить», «пробудить» и «приблизить к себе» «темных, отсталых людей».— Когда начнешь говорить про нашу народную песню с каким-нибудь, скажем, парубком, с этим, который носит фуражку набекрень, он слушает, понурившись, и хоть на словах соглашается, но по глазам его и по тупому виду замечаешь, что, отойдя немного, он сплюнет сквозь зубы, собьет шапку на затылок и начнет орать на всю улицу: „Чудной месяц плывет над рекою“, или какую другую, от которой хочется закрыть уши» {613}.
Не удавалось ненькопатриотам «пробудить национальное сознание» даже там, где для их деятельности были созданы все условия — в немецких концлагерях Первой мировой войны. Как уже отмечалось, пленных малороссов немцы отделяли от великороссов и переводили в особые лагеря, где специально подготовленные пропагандисты (в основном из числа галицких «птенцов» Франца-Иосифа) пытались обработать их в украинофильском духе. Однако попытки эти, как правило, заканчивались неудачей. В начале агитаторов просто забрасывали камнями. «Агитаторов камнями били горячие патриоты из сверхсрочных унтеров и тех, кого совсем заморочила царская казарма» {614},— жаловался один из сотрудничавших с немцами украинофилов. Немецкой лагерной администрации пришлось принимать суровые меры, строго наказывая заключенных за такое бросание камней. Как признает современная «национально сознательная» исследовательница, «пленные надднепрянцы относились ко всему с недоверием и даже враждебно, усматривая то подлость немцев, то политическую агитацию СВУ» {615}. (СВУ — «Союз визволення України», организация, созданная с началом войны немцами из ненькопатриотов.) Когда в концлагере Фрайштадт украинофилы принялись раздавать изданную ими специально для пленных газету «Розвага», то предполагаемые читатели «швыряли ее в канавы и мусорники, сыпали проклятия и ругань на Украину и ее язык» {616}.
Исследовательница объясняет столь «теплый» прием газеты «психологическими и политическими» причинами, а также тем, что среди согнанных в «украинские» концлагеря военнопленных «общий процент сознательных украинцев тоже был незначителен: преобладали „малороссы“» — «темные, равнодушные к национальному вопросу» {617}. Кроме того, указывает ненькопатриотка, «стоит обратить внимание на тот факт, что среди военнопленных немало находилось совсем неграмотных, или малограмотных, были и такие, которые родного языка не знали и не умели им пользоваться» {618}. (И вновь-таки, можно ли называть родным для человека язык, который он даже не знает? Над этим «национально сознательные» не задумываются.)
«Беда еще с украинским языком,— констатировал видный галицкий украинофил В. Симович, распространявший «Розвагу» в концлагере.— Не дочитывают последнюю букву, так как на конце „твердого знака“ (ъ) нет. Кое-кто называет язык потешным» {619}. В первом номере газеты концлагерным пропагандистам пришлось даже объяснять, что название газеты переводится как развлечение, потому что слово «розвага» читатели не понимали.
О той же проблеме пишет в воспоминаниях «национально сознательный» военнопленный А. Кобец. Этот деятель еще до войны был убежденным ненькопатриотом. Поэтому, попав в плен, он, в отличие от большинства своих товарищей по несчастью, добровольно пошел на сотрудничество с лагерной администрацией. В обязанности Кобца входило читать солагерникам по воскресеньям украинские газеты и журналы. Успешному выполнению этой «работы», однако, постоянно мешало то, что многих фраз и слов слушатели не понимали, «они мало привыкли к литературному, с галицким привкусом, интеллигентскому языку». В конце концов, пленные заявили непрошеному чтецу: «Не иначе как немецкие штучки все эти газеты». Кобец вынужден был констатировать, что «трудно разворошить этих, забитых военщиной, исправниками, становыми и урядниками дядюшек на какую-то свободную мысль» {620}.
Правда, иногда, к огромной радости пропагандистов «украинской национальной идеи», кое-кто из пленных соглашался признать себя украинцем. Делали это узники концлагерей ради улучшенных условий содержания, предусматривавшихся для тех, в ком «пробудилось национальное сознание». Таких переводили в отдельные бараки, затем свозили в специальные лагеря для дальнейшей обработки. Однако и в этих лагерях «рідна мова» не прививалась, на что, к примеру, жаловался ненькопатриот Д. Скарженовский. Один из немногих среди «осознавших себя украинцами», кто действительно проникся «украинской национальной идеей», он был переведен в спецлагерь Йозефштадт и позднее в украинофильской лагерной газете «Наш голос» опубликовал свою «исповедь», рассказав об обстановке в этом лагере.
«Приезжаю с чистым желанием в Йозефштадт, со святым намерением в украинской атмосфере очиститься от грязи „хохлаччины“,— писал новообращенный ненькопатриот.— Тут украинский лагерь, тут все украинцы, думаю себе, поживу несколько месяцев в родном окружении и верну опять утраченное, захваченное врагом моего народа и прежде всего научусь своему родному языку. Знал я, что не все тут будут украинцы, но будут и землячки, которые приедут сюда „для лакомства несчастного, для роскоши панской“, знал я, что и из приехавших украинцев множество будет таких, как я, которые не владеют полностью украинским словом и идут к этой же самой цели „самоочищения“.
Я думал и надеялся, что мы общими силами преодолеем своего проклятого внутреннего врага, что мы, сознавая свою задачу, создадим хотя бы полуукраинскую атмосферу в нашей частной и общественной жизни и постепенно будем идти к тому, чтобы сделаться сознательными украинцами, то есть людьми, которые говорят и думают по-украински и живут украинскими интересами. Потому что нужда украинизации своего внутреннего „я“ болезненно ощущается мною. Но никогда не думал и не предполагал я ни на один миг, что мы будем иметь в своей работе какие-нибудь препятствия, что кто-то будет останавливать эту творческую работу перестройки своего „я“. Ведь всякому ясно, что для того, чтобы излечиться от этой болячки, которая овладела нами, нужно прежде всего лишить ее почвы, на которой она разрасталась и укреплялась, то есть полностью выбросить из нашей частной и общественной жизни московский язык, который не дает воцариться в нас украинской стихии и придает нам нехарактерное искалеченное лицо. Это, кажется, должно быть ясным всякому, кто не хочет и дальше оставаться „хохлом“.
Ищу этого чистого хоть полуукраинского воздуха, изучаю на свой взгляд нашу лагерную жизнь и что же вижу? Куда не повернешься, везде товарищи с удовольствием себе чешут по-московски. Зайдешь в зал — найдешь то, от чего бежишь, пойдешь на двор, в коридор — тоже самое; бежишь, заткнув уши, в собственную комнату,— и там слышишь московские выражения. Пойду на репетицию театрального кружка, там же, думаю, ставят украинские пьесы, ведь должны говорить по-своему. Куда там! Одни только книжные реплики и читаются по-украински, а разговор и пояснения ведутся по-московски. Так зачем же нам эти спектакли, когда они ставятся искусственно на чужом для артистов языке!? Разве может артист художественно выполнять свою роль на том языке, каким он не пользуется в обычной жизни? На занятиях хора тоже самое, на прогулках тоже. Не спала пелена еще с наших глаз!
Кое-кто говорит, что ему не хватает украинских слов и поэтому он разговаривает по-московски. Хорошо, я согласен, что у нас не хватает украинских слов для разговоров на общественные, политические и вообще абстрактные темы, но не для обычных будничных разговоров. Когда кое-кто вместо „чув, що кажуть“ говорит „слыхал, что говорят“, или вместо „тихіше, панове“ говорит „тише, господа“, вместо „йди швидше“ говорит „иди быстрее“, то это уже, извините, это уже не недостаток слов украинских, а что-то другое. Делается ли это сознательно, или несознательно — все равно это явление насколько грустное, настолько и омерзительное. Этим разрушается то, что мы строим» {621}.
Как видим, ненькопатриотам не удалось навязать украинцам «рідну мову» даже в благоприятных для себя условиях концлагеря, где они, с разрешения немцев, распоряжались как хозяева. Тем более не могли они этого сделать вне концлагерей. Украинский язык не признавался украинцами родным. Видный деятель Центральной Рады, министр в центральнорадовском, гетманском и петлюровском правительствах А. И. Лотоцкий до революции занимался организацией молодежных украинофильских кружков. В мемуарах он констатировал: «Русификаторские обстоятельства приводили к тому, что много выпускников средних школ мало знали родной язык, а то и почти не говорили по-украински» {622}. Это очень затрудняло деятельность ненькопатриотов. «Подается, напр., реферат про неизвестные произведения и письма Шевченко, а большинство данного кружка и про известные произведения мало что знало и даже говорить по-украински хорошо не умело» {623}.
«Какой малый процент „сознательных украинцев“ среди молодежи украинской по происхождению!..— ужасался М. С. Грушевский.— Они не читают украинских книг, не знают украинских газет» {624}. А журнал «Украинский студент» отмечал: «Поступая в высшую школу, молодой студент желает записаться в члены или землячества, или какого-то другого кружка. Стихия, иногда определенная организация в обществе, толкает его к украинцам. И вот он член украинской громады. Не говорим уже про литературу, историю,— языка родного, как правило, не знает. А про украинское движение едва слышал. По взглядам, убеждениям был и остался „русским“. А то и „истинно русским“. Кажется, тут должна начаться работа громады. Но это только кажется. В наше время для этого громады делают очень мало. Потому что и сознательное украинское студенчество еще ищет себя. И поэтому ему трудно, очень трудно еще обращать новых адептов украинской идеи» {625}.
Упрекая свой народ в неприятии «рідной мовы» и русскоязычности, ненькопатриоты, мягко говоря, лицемерили. Они и сами не воспринимали пропагандируемый ими язык как родной и пользовались языком русским. В обществе даже ходила эпиграмма на украинофилов: «Собирались малороссы в тесно сплоченном кружке, обсуждали все вопросы на российском языке» {626}. Переходя на персоналии, можно указать на М. П. Драгоманова, который потратил много сил и умения, убеждая всех вокруг, что украинцы должны разговаривать «по-украински». На украинском языке переписывался он со своими соратниками и призывал их твердо отстаивать права «рідної мови», но вот к своей сестре, украинской писательнице Олене Пчилке (матери Леси Украинки) писал по-русски. «Каждому из нас писать по-русски легче, чем по-украински» {627},— признавался этот деятель в частной переписке.
Родным был русский язык и для Михаила Грушевского, и для Бориса Гринченко, и для Ивана Стешенко, лишь из политических соображений ставших украиноязычными. Так же из политических соображений перешел на украинский писатель Степан Васильченко, начинавший свою литературную деятельность на русском языке. Этот классик украинской литературы жаловался потом на трудности нового пути (ведь «украинский язык» еще только придумывался). «Писать произведения украинским языком, молодым, недоразвитым, без сравнения труднее, чем русским, с его широчайшим лексиконом, с готовыми фразами. Украинскому писателю приходилось тут делать двойную работу — тянуть вместе два плуга: писать художественное произведение и вместе с тем создавать для него язык» {628}.
Михаил Еремеев в мемуарах рассказывал, что в период между двумя революциями (1906—1917) украинские деятели проявляли немалую активность, внедряя в народ «украинскую национальную идею» — устраивали театральные спектакли, концерты, экскурсии на Тарасову могилу. «Но все эти, довольно важные проявления национальной сознательности, были поверхностные и не проникали в гущу населения. В театрах, на концертах или экскурсиях почти вся публика говорила упорно по-русски» {629}. Да и сами украинские активисты оставались русскоязычными, так как «нам не доставало научной и культурной терминологии», и, следовательно, вести культурный разговор по-украински «было очень тяжело». Если же среди украинофилов находился кто-то, кто заговаривал по-украински, то на него смотрели, как на какую-то редкость, «как смотрят на музейные экспонаты» {630}.
А. И. Лотоцкий вспоминал, как он и другие «национально сознательные» деятели были неприятно поражены, когда во время гастролей в Киеве в 1893 году украинской театральной труппы выяснилось, что артисты только на сцене пользуются украинским языком, а вне театра говорят по-русски. Украинофилы отправили к руководителям труппы М. К. Занковецкой и Н. К. Садовскому специальную делегацию, в составе самого А. И. Лотоцкого и И. М. Стешенко, с протестом, но корифеи украинской сцены восприняли эти претензии просто как бред. «Все усилия дать им понять принципиальную нашу позицию не имели успеха. С тем мы и ушли. А вечером в театре Занковецкая ответила на наш визит очень решительным шагом: не приняла подарка, который поднесли ей в антракте от украинской общественности» {631}. К этому свидетельству видного ненькопатриота можно добавить выдержку из заметки харьковского корреспондента украинофильской газеты «Буковина» (март 1897 года), касающуюся другой, также довольно известной украинской театральной труппы: «Об украинских артистах должен, к сожалению, сказать, что они не имеют ни крошки чувства ответственности для поддержания украинского слова и служат украинской сцене только за деньги. В труппе Захаренко кроме Касиненко и Царенко никто не умеет говорить по украински, только то, что выучит в роли, как попугай, а за кулисами уже не услышишь у них другого языка, только русский… Вообще между актерами считают того человека, который сердцем и душой является украинцем, необразованным, неотесанным» {632}.
Тот же А. И. Лотоцкий пишет в воспоминаниях, как однажды во время празднования очередной шевченковской годовщины собравшиеся украинцы после прослушивания народных песен грянули русский национальный гимн «Боже, Царя храни!», чем довели «национально сознательных» организаторов мероприятия до истерики {633}. «Сами украинофилы сначала учились языку (украинскому.— Авт.), составляли словари, изучали фольклор, но в ежедневном быту употребляли русский язык, думали и писали на русском языке» {634},— писал В. Г. Коряк и приводил свидетельство галицкого украинофила Бучинского: «Что малороссы владеют ныне в России лучше своего языком русским, это ни плохо, ни хорошо, потому что необходимо и неизменно» {635}.
Не сразу изменилось положение и после революции. Как сознавался в 1919 году А. Никовский, «если перестанем кокетничать нашим культурным самостийничеством, то должны будем признать, что это факт — положительный или отрицательный — тут не об этом речь — настоящей действительности и нашего воспитания и, наконец, большой экономии энергии, факт то, что основной в нас всех является культура русская рядом с украинской… И насколько весь культурный состав вокруг по языку и по отношениям был русским, настолько, то есть в полной мере, новоиспеченный украинский гражданин был и есть мгновенным переводом с „языка родных осин“ на „мову похилих верб“» {636}.
Известно, что генеральный секретарь Центральной Рады по международным делам (т. е. министр иностранных дел), «отец украинской дипломатии» А. Я. Шульгин дома с женой и близкими друзьями говорил по-русски, но стоило на пороге показаться постороннему — министр тут же переходил на «рідну мову» {637}. Аналогичным образом вел себя петлюровский министр труда М. А. Славинский. Да и вообще, по признаниям петлюровских деятелей, «даже в патриотических украинских семьях перевес имел русский язык» {638}. Еще один член Центральной Рады, а впоследствии нарком просвещения УССР Александр Шумский прославился тем, что в украинизаторском рвении превзошел даже Л. М. Кагановича и был обвинен в националистическом уклоне (так называемый «шумскизм»). Но, как свидетельствовал бежавший на Запад украинский советский дипломат Г. З. Беседовский (знавший Шумского, когда тот работал полпредом УССР в Варшаве), «украинец Шумский имел очень слабое представление об украинском языке. Его ноты были беспорядочной мешаниной из русских, украинских и польских слов… Было противно читать этот самодельный волапюк» {639}.
Если говорить о деятелях Западной Украины, то стоит вспомнить, что собравшийся в 1848 году съезд галицко-русских ученых постановил: очищая народные говоры от полонизмов, вырабатывать самостоятельный литературный язык. Но уже принимая такое решение, деятели науки сознавали свое неразрывное языковое единство с великороссами. «Пускай россияне начали от головы, а мы начнем от ног, то мы раньше или позже встретим друг друга и сойдемся в сердце» {640},— говорил на съезде видный галицкий историк А. С. Петрушевич. Вскоре выяснилось, что чем больше галицкие выговоры очищаются от польских слов, тем сильнее приближаются они к русскому литературному языку. И через несколько лет ученые-галичане, отказавшись от языковой «самостийности», единодушно признали родным язык Ломоносова, Пушкина, Гоголя.
Зато яростно боролся с русским языком и отстаивал права «рідної мови» австрийский украинофил барон Н. Василько. Правда, для самого барона родным языком был совсем не украинский. И когда С. В. Петлюра назначил его главой «дипломатической миссии» в Италии, петлюровские дипломаты злословили, что теперь каждый доклад нужно будет переводить на немецкий язык, так как Василько «будет трудно его по-украински прочитать» {641}.
Перечень примеров можно продолжать и дальше, но, наверное, приведенного достаточно, чтобы убедиться в том, что «рідна мова» совсем не рідна.
Вместо послесловия
Посетивший российскую Украину галицкий украинофил В. Барвинский в 1882 году писал: «На 15 миллионов нет и 50 человек, которые б дорожили своим родным языком» {642}. Другой «национально сознательный» деятель уже в XX веке вспоминал о дореволюционном времени, когда «наш язык был „недоделанным“, „неразвитым“, когда его все, кроме нескольких десятков фантастов, считали за наречие, которое вот-вот, завтра-послезавтра, умрет» {643}. Напомним и признание А. Н. Синявского, отмечавшего, что украинский язык до 1917 года был лишь «языком жменьки полулегальной интеллигенции».
«Жменька полулегальной интеллигенции», «несколько десятков фантастов», 50 человек из 15 миллионов украинского населения — вот действительные пределы распространения украинского языка (не считая западноукраинских территорий). Понадобились десятилетия украинизаторских усилий, чтобы эти пределы расширились. Но и теперь украиноязычные составляют у нас меньшинство. (Вышеприведенное высказывание Яворивского достаточно красноречиво.) Стоит повториться: вышесказанное не означает, что украинский язык нужно дискриминировать. Но нельзя забывать, что родным для большинства украинцев является все-таки язык русский, что Украина — прекрасный, самобытный край, но она — только часть исторической Руси. Отказываясь признать русский язык своим, наша страна вынужденно отрекается от части собственной культуры, от целого ряда талантливейших писателей и поэтов (от Николая Гоголя до Анны Ахматовой), от плеяды выдающихся карпаторусских деятелей (первого историка Галиции Д. И. Зубрицкого, писателя и педагога А. В. Духновича, филолога Я. Ф. Головацкого и др.). «Опомнитесь, голубчики, любите Украину, любите наш говор, наши песни, нашу историю, но полюбите целую Русь и не четвертуйте ее так немилосердно» {644},— писал, обращаясь к украинофилам, выдающийся галицко-русский деятель Н. И. Антоневич. И с ним невозможно не согласиться.
«Нет отрасли знания, в которой бы рядом с великорусами не писали и малорусы на русском книжном языке,— отмечал О. А. Мончаловский.— И не удивительно, поскольку до середины XIX века никому на Руси и не снилось делать различие между жителями северной Руси или великорусами и их языком и жителями южной Руси или малорусами и их языком. История свидетельствует, что одни и другие принадлежат к одному народу и что они только расселились в различных сторонах земли, испокон века названной Русью. История учит, что ими владели князья одного рода. История свидетельствует, что из южной Руси переходили грамотные и ученые люди в северную Русь и наоборот, а это доказывает, что между теми частями Руси и их языком не было иного различия, как лишь диалектное, т. е. наречивое. И так Петр из-над Раты, близко Мостов Великих, первый митрополит московский, и целый ряд киевских ученых пошли в Москву, а из Москвы к нам, во Львов, пришел первый русский книгопечатник, Иван Федоров. И все они находились как бы дома, поскольку находились среди своих и продолжали действовать в пользу Руси» {645}. «Мы в России все-таки дома, свои» {646},— признавался и М. П. Драгоманов.
«В течение всей своей истории украинцы считали себя русскими и, соединившись в XVII веке с Россией, естественно, так слились с нею, что в большинстве случаев в общественной жизни даже и вопрос не поднимался о том, кто великоросс, а кто малоросс» {647},— замечал Н. О. Лосский. Он подчеркивал, что «интеллигентные малороссы творили в XIX веке великую культуру в неразрывной связи со всем русским народом, не отделяя себя от великороссов. Таковы, например, в области литературы Капнист, Гнедич, переводчик „Илиады“, Гоголь, Короленко, Мордовцев; в области философии — профессора Т. Ф. Осиповский, С. С. Гогоцкий и особенно Юркевич, приглашенный из Киевского университета в Московский; в области других наук упомяну из множества видных ученых лишь несколько имен — историк Костомаров, лингвист Потебня, математик В. Г. Имшенецкий, зоолог А. О. Ковалевский, минералог академик В. И. Вернадский, геолог Н. И. Андрусов, Данилевские, Петрушевские, Прокоповичи. В области живописи — всем известные Лосенко, Левицкий, Боровиковский, Репин, гениальный Врубель… Говоря о великом прошлом Украины, связывающим ее с великим прошлым России, на первый план нужно поставить воспоминание о первоклассной культуре, выработанной сообща всеми тремя ветвями русского народа во второй половине XIX века и в начале XX века… Если сепаратистам-украинцам удалось бы отделить Украину от России и образовать самостоятельное государство, культура Украины весьма пострадала бы. Отрекшись от великой прошлой культуры, выработанной путем органической связи всех трех ветвей русского народа, шовинисты-украинцы достигли бы только ускоренного развития провинциальных особенностей своего языка и своего быта» {648}.
Даже столь ярый ненькопатриот, как Д. И. Дорошенко, правда, уже после того, как оказался в эмиграции, писал: «Если бы украинцы и поставили себе такую страшную цель — искусственно отмежевать себя в области культуры от всего русского, этого достичь было бы совершенно невозможно, ибо узы общности происхождения, религии, векового строительства дают и всегда будут давать себя чувствовать. Но кроме того, такое отмежевание было бы равносильно отречению от всего запаса культурных ценностей, накопленных при участии украинских сил и относящихся к украинской же истории, филологии, агиографии и т. д. Ведь всего не переведешь на украинский язык из того, что писали Максимович, Костомаров, Потебня, Антонович и бесконечное число прочих украиноведов на русском языке… Изучение русского языка и литературы будет совершенно естественным явлением в свободной Украине» {649}.
Увы, сегодня происходит именно то, против чего предупреждали Н. О. Лосский и Д. И. Дорошенко. Разве не снижает культурный уровень украинцев исключение из школьных программ русского языка и русской литературы? Разве можно признать нормальным тот факт, что в русскоязычном Киеве не осталось ни одного русскоязычного детсада и почти не осталось школ с русским языком обучения? Не превратится ли в результате такой «образовательной» политики разговорный язык киевских детей из чисто русского в какую-то смесь, все тот же «суржик»? Это и есть «национальное возрождение»?
«Считать „возрождением“ освобождение Руси от Руси, русского народа от русского государства, от русской церкви, русской письменности, общерусского языка,— это такая же нелепость, как если бы кто-нибудь считал „возрождением“ немцев их распадение на клочки, подобные Германии долютеровской и добисмарковской, или если бы „возрождением“ французов признано было распадение Франции на несколько государств, языков или культур!» {650},— отмечал А. Будилович.
В 2000 году киевская организация «Просвіта» выпустила книжку своего лидера Ю. Гнаткевича «Уникаймо русизмів в українській мові!». Автор зовет на борьбу с «русизмами» и приводит краткий их перечень в «короткому словнику-антисуржику», поясняя заодно, как надо писать правильно. Любопытно сопоставить этот «словничок» со словарем языка Т. Г. Шевченко. Из 56 слов, которые есть у Тараса Григорьевича и отмечены в «словничку», 36 — «русизмы». Что ж, будем «очищать» мову и от Шевченко?
«Подавляющее большинство слов, которые принято считать „русизмами“ в украинском языке, на самом деле, являются „древнерусизмами“, которые такие же русские, как и украинские. Изъятие их из современного украинского языка было бы равнозначно отречению от нашего древнерусского наследства» {651},— замечает современный украинский ученый П. П. Толочко.
«Украинская национальная идея» построена целиком на лжи. Свет Правды означает для нее смерть. И если эта идея будет положена в основание государственного строительства, как этого кое-кто хочет сегодня, это приведет к далеко идущим последствиям. Чтобы защитить ложь от Правды, придется вновь засекречивать архивы, запирать книги в спецхранах, устанавливать жесткую цензуру, ужесточать политические репрессии. Но ведь все равно через двадцать, пятьдесят, семьдесят лет правда выйдет наружу. И тогда идеологический монстр рухнет, оставляя незаживающие раны в душах целых поколений. Не слишком ли большую цену должна будет заплатить Украина в угоду некоторым «национально сознательным» деятелям?
Следует помнить и еще об одном. Немецкий язык занимает в Австрии такое же положение, как и в Германии. Там проживает единая немецкая нация, но независимость этих стран друг от друга сомнению не подлежит. То же самое можно сказать о греках и греческом языке в Греции и на Кипре. Отделившись от Англии, Соединенные Штаты не стали выдумывать себе язык, а продолжают пользоваться английским, не видя в этом угрозы своему государственному суверенитету. Англоязычны и ирландцы, но вряд ли кто-либо заподозрит их в желании присоединиться к Великобритании. Одним языком пользуются сербы и хорваты, несмотря на все политические расколы. То же можно сказать об арабских государствах, независимых друг от друга, хоть и единых в языковом отношении. Так нужно ли опасаться, что признание исторических прав русского языка в Украине подорвет ее независимость, обзывать русскоязычное население «пятой колонной Москвы»?
«Русская культура и русский язык очень сильны на Украине,— признавал видный украинский ученый и государственный деятель, министр народного просвещения при гетмане Скоропадском Н. П. Василенко.— На них воспитывалась вся украинская интеллигенция. Говорить, что эта культура навязана народу, значит, по-моему, говорить заведомую неправду. Русская культура имеет глубокие корни в сознании украинского народа. Русский язык является родным языком преобладающей части интеллигенции на Украине. Мало того. Значительный процент населения Украины говорит только на этом языке. Поэтому, с точки зрения государственной (не говоря уже о национальном чувстве), унижать положение русского языка или придавать ему какое-то второстепенное значение было бы не только нецелесообразным, а прямо таки вредным… Я считаю вопрос об украинском языке чрезвычайно важным в державном строительстве Украины. Тем не менее, я являюсь противником издания закона об одном только державном языке. Такой закон, кроме путаницы, вреда и больших затруднений в жизни ничего не принесет. Оба языка — и русский, и украинский — должны пользоваться полным равноправием. Практически жизнь сама хорошо развяжет этот вопрос. Не следует только государству класть свой кулак на ту или другую сторону» {652}. Задумаемся над этими словами.
И последнее. В IV веке большое распространение в христианском мире получило еретическое учение, проповедуемое неким Арием. Церковное предание гласит, что однажды, в разгар борьбы с арианством, к молившемуся в уединении александрийскому патриарху явился сам Иисус Христос в надвое разодранной ризе. На вопрос: «Господи! Кто Тебе разодрал ризу?», Иисус ответил: «Разодрал ее Арий, разделив народ мой, который я себе приобрел своею кровью».
Известно, что в пропаганде своего учения Арий добился больших успехов и даже завоевал симпатии представителей государственной власти, с помощью которых собирался победить Церковь. Однако в день, когда еретик готовился торжествовать победу, его постигла ужасная смерть: в общественной уборной, во время отправления естественных надобностей, у него внезапно вывалились наружу кишки. Арий умер в страшных мучениях, среди вони и нечистот, в буквальном смысле утопая в дерьме.
Согласно православной идеологии, после временного вероотступничества греков (Флорентийская уния 1439 г.) и захвата турками Константинополя (1453 г.) — миссию хранения истинной веры взял на себя русский народ. Именно русский народ (великорусы, малорусы, белорусы) является богоизбранным. Этот народ ненькопатриоты, как некогда Арий, стремятся разорвать на части. Они добились больших успехов. Многие слабые умы и сердца соблазнились «украинской национальной идеей». Поддерживает ее и государственная власть. Но «национально сознательным» следует помнить о судьбе Ария. Их конец будет таким же.
Приложения
Выдумка старого гетмана Необычный взгляд на «Батуринскую резню»
Многие мифы передавались плутами одного века дуракам следующих веков.
Генри БолингброкОб этом историческом событии когда-то говорили мало. Не то чтобы замалчивали, а просто не акцентировали на нем внимания. Наверное, напрасно. Может быть, историкам стоило осветить случившееся более подробно. Впрочем, той небольшой информации, которая содержалась в научной литературе, хватало, чтобы любой интересующийся мог для себя составить правдивую картину происшедшего. Теперь все наоборот. Об этом событии рассказывается много, очень много. А вот узнать правду о нем нелегко. Ибо то, что говорят и пишут на эту тему, как правило, далеко от истины.
«Ответом московского царя Петра I на переход Мазепы к шведскому королю была неслыханная жестокость, которая залила кровью Украину и ошеломила Европу. 2 ноября 1708 года московское войско полностью разрушило гетманскую столицу — город Батурин, вырезав всех его жителей, даже женщин и младенцев. Казаков распяли на крестах, которые были установлены на плотах, и пустили вниз по реке Сейм. Гетмана Мазепу, а вместе с ним и всех украинцев, объявили предателями и предали церковному проклятию». «От казацкой столицы не осталось и кусочка, ни один житель не спасся в устроенном московскими пришельцами аду». «Русское войско ворвалось в Батурин. Город был полностью разрушен, а его население перебито». «В городе была устроена кровавая резня: жестоко убиты все его жители, даже женщины и младенцы… Этой карательной акцией Петр I пытался запугать украинцев и окончательно поработить их, лишив стремления к свободе». «Всех казаков и жителей вырезали. Не пощадили ни стариков, ни молодых, ни женщин, ни детей». Вышеприведенные цитаты взяты из школьных учебников по истории Украины. Аналогичным образом повествуют о «кровавой трагедии гетманской столицы» многочисленные (в последнее время) газетные и журнальные публикации, научно-популярные и художественные книги, теле- и радиопередачи. Батуринская тема стала необычайно модной. Обсуждают ее охотно. Причем не только историки.
Видный дипломат, занявший ныне крупный пост в Министерстве иностранных дел Украины, выступая по телевидению, признается, что на его отношение к России влияет «воспоминание» о «резне в Батурине». Это «воспоминание», по словам дипломата, содержится у него («как и у других украинцев») в «генетической памяти». Известный кинорежиссер, расхваливая собственный (по мнению многих, очень слабый) фильм о гетмане Мазепе, особо упирает на то, что там «впервые в истории кино была показана Батуринская резня». Той же «резне» посвящен сюжет в выпуске новостей (!) на популярном всеукраинском телеканале. Автор сюжета информирует телезрителей о событиях почти трехсотлетней давности с такими деталями, будто речь идет о чем-то, чему он сам был свидетелем. И так далее. И тому подобное.
Плач по «жертвам московского геноцида в Батурине» не умолкает. Наслушавшись (насмотревшись, начитавшись) всего этого, вполне можно было бы воскликнуть: «Нет повести печальнее на свете!» Можно было бы… Вот только никакой резни на самом деле не было. Доказательств тому — великое множество.
«Никакого худа ни в ком не видать»
Прежде всего, стоит заметить: ни царь Петр Алексеевич, ни руководивший штурмом Батурина Александр Меншиков запугивать население Малороссии (Украины) не собирались. В этом просто не было необходимости. Вместе с великороссами малороссы мужественно сопротивлялись шведскому нашествию. Перебежавшего к врагу гетмана Ивана Мазепу поддержала лишь кучка приближенных. Малорусский народ сохранил верность своему монарху. «При сем еще доношу вашей милости,— писал Петру I Меншиков 26 октября 1708 года,— что в здешней старшине, кроме самых вышних, також и в подлом народе с нынешнего гетманского злого учинку никакого худа ни в ком не видать. Но токмо ко мне изо всех здешних ближних мест съезжаются сотники и прочие полчаня и приносят на него ж в том нарекание, и многие просят меня со слезами, чтоб за них предстательствовать и не допустить бы их до погибели, ежели какой от него, гетмана, будет над ними промысл, которых я всяким обнадеживанием увещеваю, а особливо вашим в Украйну пришествием, из чего они, по-видимому, в великую приходят радость».
«Мазепа не хотел в добром имени умереть: уже будучи при гробе учинился изменником и ушел к шведам,— извещал царь князя Василия Долгорукого 30 октября.— Однако ж, слава Богу, что при нем в мысли ни пяти человек нет, и сей край как был, так есть». О том же (и в тот же день) писал он адмиралу Федору Апраксину.
Даже казаки, которых Мазепа привел с собой в шведский лагерь, сообщниками его не являлись. Они оказались обмануты предателем и, узнав об измене, покидали гетмана при первой возможности. 30 октября Петр I сообщал белоцерковскому полковнику Михаилу Омельченко, что Мазепа заявил казакам, «будто он идет по нашему, великого государя, указу за Десну против шведского войска. И когда их привел к шведам, то, по учиненному с ними (со шведами.— Авт.) уже договору, велел их окружить тем шведам и потом им объявил свое изменничье намерение и отдал тако в руки неприятельские, из которых от него отданных уже многие верные к стороне нашей паки возвращаются».
Итак, царь Петр Алексеевич не считал малороссов предателями. Разумеется, это не значит, что он пребывал в беспечности. Власти делали все возможное, чтобы укрепить верноподданнические настроения в народных массах. Но укрепить не карательными акциями (неоправданная жестокость могла привести к обратному — спровоцировать бунты), а милостями. Уже 28 октября специальным царским указом были отменены «аренды (отдача на откуп винной, дегтярной и табачной торговли.— Авт.) и многие иные поборы», которые, как говорилось в указе, Мазепа «наложил на малороссийский народ, будто на плату войску, а в самом деле ради обогащения своего». Царь увеличил жалованье запорожским казакам, приказывал великороссийским военачальникам обращаться с казацкой старшиной «сколько возможно ласкаво» и т. п.
Еще до обнаружения гетманской измены Петр I принял меры для недопущения в Малороссии конфликтов между войском и населением (такие конфликты во время войн являлись обычным делом в тогдашней Европе). «Надобно драгунам учинить заказ под потерянием живота, дабы они черкассам (так иногда называли малороссиян.— Авт.) обид не чинили; и ежели кто им учинит какую обиду, и таковых велите вешать без пощады»,— предписывал самодержец своим полководцам.
Предписания не оставались пустым звуком. «Мы войскам своим великороссийским под смертною казнью запретили малороссийскому народу никакого разорения и обид отнюдь не чинить, за что уже некоторые самовольные преступники при Почепе и смертью казнены»,— объявлялось в указе от 6 ноября 1708 года.
Очевидно, что «Батуринская резня» (если бы она действительно имела место) не только не являлась целесообразной, но и противоречила политике царского правительства. Нетрудно прийти к выводу, что резни не было и быть не могло. К выводу, который подтверждается документально.
Восставшие из мертвых?
22 декабря 1708 года избранный казаками вместо Мазепы новый гетман Иван Скоропадский выдал батуринскому атаману Данилу Харевскому универсал, разрешавший жителям Батурина вновь селиться на старых местах. Тем самым жителям, которые якобы были «вырезаны московским войском». Между тем, «вырезанные» разрешением воспользовались. Опись города, произведенная в 1726 году, насчитала (цитирую по составленному выдающимся украинским историком Александром Лазаревским «Историческому очерку Батурина»): «прежних батуринских жителей, поселившихся слободами — 25 дворов; торгующих мелочным товаром — 17 дворов; ремесленников, прежде бывших батуринских жителей, которые по разорению Батурина поселились в старых домах на своих местах (снова вспомним цитатку из школьного учебника: «От казацкой столицы не осталось и кусочка, ни один житель не спасся».— Авт.): цеха шевского (сапожников) — 38 дворов, цеха кравецкого (портных) — 28 дворов, цеха калачницкого — 11 дворов, цеха ткацкого — 12 дворов, цеха резницкого (мясников) — 9 дворов, кузнецов — 15 дворов, музыкантов — 6 дворов, гончаров — 5 дворов, плотников — 5. Живущие при Батурине в слободах прежние жители: в слободе Подзамковой — 19 дворов, в слободе Горбаневской — 31 двор, в слободе Гончаровской — 72 двора. Сверх того, в слободе Гончаровской живут бывшие служители гетманского двора, ныне принадлежащие к Обмочевскому „дворцу“ — 12 дворов и „рыбалок“, принадлежавших к гетманским батуринским рыбным ловлям — 9 дворов».
А еще: «Мельники, мерочники и посполитые люди, которые прежде надлежали ко дворцу Мазепы, а ныне к Обмочевскому дворцу принадлежат — 82 двора» и «30 дворов крестьян надлежащих до двора Мазепы». Это жители «посполитого звания». Кроме них опись зафиксировала наличие в Батурине казаков (104 двора). Они жили и здравствовали, не ведая, что когда-нибудь их запишут в «жертвы геноцида».
Так что же произошло в Батурине 2 ноября 1708 года?
А было так
В Батуринском замке Мазепа сосредоточил свою артиллерию (70 орудий), огромное количество боеприпасов и продовольствия. Все это он намеревался передать шведскому королю Карлу XII, что значительно усилило бы армию последнего. Со своей стороны, царские военачальники стремились не допустить осуществления замыслов предателя. Получив известие об измене гетмана, Александр Меншиков поспешил с войском к казацкой столице. Но командовавший местным гарнизоном сердюцкий полковник Дмитрий Чечель, бывший в сговоре с Мазепой, отказался впустить царских солдат. Еще до подхода Меншикова сердюки (иностранные наемники, находившиеся на службе гетмана) по приказу Чечеля силой согнали жителей Батурина в замок и подожгли городские предместья. По великороссийским полкам мазепинцы открыли пальбу из пушек.
Переговоры ни к чему не привели. Тем временем к городу двигались шведы. Пронесся слух, что они совсем близко. Меншикову не оставалось ничего другого, как атаковать замок. Сражение длилось недолго. Отчаянно оборонялись лишь сердюки. Большинство казаков во главе с прилуцким полковником Иваном Носом предпочли сложить оружие. Через два часа все было кончено. Кое-кого из пленных мятежников действительно казнили. Но только их. Об этом, между прочим, имеется собственноручное свидетельство Петра I.
9 ноября царь направил коменданту Белоцерковского замка письмо с приказом: посылаемых к Белой Церкви «для лучшего отпора неприятелю» великороссийских ратных людей «впускать безо всякого прекословия». Монарх подозревал, что в замке могут находиться тайные приверженцы Мазепы (незадолго до перехода к шведам гетман внезапно озаботился усилением тамошнего гарнизона и направил туда новый отряд казаков). Поэтому царь Петр Алексеевич предупреждал: «Если же кто дерзнет сему нашему, великого государя, указу учинить непослушание и тех наших великороссийских людей впустить в замок не похощет, и с теми учинено будет по тому ж, как и в Батурине с сидящими, которые было ослушали нашего царского величества указу, в Батуринский замок наших великороссийских войск не впускали, но взяты от наших войск приступом; и которые противились побиты, а заводчикам из них учинена смертная казнь».
Самодержец указывал четко: убиты были те, кто сопротивлялся («которые противились»), а из пленных смерти предали зачинщиков («заводчиков») мятежа. А ведь данным письмом Петр I старался запугать вероятных предателей. Он не стал бы преуменьшать строгости применяемых к изменникам мер. Скорее наоборот, мог эту строгость преувеличивать. Но угрожать всеобщей резней монарху и в голову не пришло.
Письмо с той же целью (предупредить возможную измену) и описанием наказания батуринских бунтовщиков («которые противились, те побиты, а заводчики из них казнены») царь направил коменданту Прилуцкого замка. Однако и в том письме угрозы резней нет и в помине.
Как видим, репрессии в Батурине были направлены против вооруженных мятежников, а никак не против насильно согнанных мазепинцами в замок мирных людей, тем более женщин и детей. Конечно, там, где гражданское население оказывается в эпицентре военных действий, случаи гибели обывателей — не редкость. Могли такие случаи иметь место и в Батурине. Но все же массовой смерти жителей удалось избежать.
После взятия Батуринский замок сожгли. Правда, не сразу. Еще 4 ноября Петр I писал Меншикову, что если есть надежда не допустить захвата Батурина шведами, его следует защищать. В противном случае, приказывал царь, замок со всеми припасами нужно сжечь, а пушки вывезти, так как «когда в таком слабом городе такую артиллерию оставить, то шведы также легко могут взять, как и мы взяли».
Меншиков долго не колебался. Замок был укреплен плохо. Времени на реставрацию старых укреплений и строительство новых не оставалось. Шведская армия представляла собой внушительную силу. Шансов устоять против нее в Батурине практически не было. И военачальник принял тяжелое, но с военной точки зрения единственно правильное решение…
Огонь уничтожил замок. Русское войско отступило. Покинуло полуразрушенный (подожженный еще Чечелем, потом пострадавший во время боя) город и население. Покинуло (а не было уничтожено), чтобы после ухода оккупантов вновь вернуться на свои места. «Город был сожжен и разорен, а жители его разбежались»,— констатирует упоминавшийся уже историк Александр Лазаревский (кстати, видный украинофил, который не стал бы замалчивать «обиды», понесенные Украиной от великороссов).
Рождение мифа
Откуда же тогда взялся миф о «Батуринской резне»? Сочинил его… Иван Степанович Мазепа. Пытаясь подбить казаков к мятежу, гетман-изменник принялся повсюду рассылать свои универсалы, переполненные клеветами на царя и великорусский народ. Мазепа уверял, что Петр I замыслил погубить малороссов, хочет силой переселить их всех за Волгу, а Украину заселить великороссами, что с этой целью московское войско уже начало нападать на украинские города, выгонять оттуда жителей и т. д. Сообщение о «резне» в казацкой столице как бы иллюстрировало эти вымыслы.
Так произошло рождение мифа. Остальные небылицы, придуманные Иваном Степановичем, вскоре забылись по причине их очевидной абсурдности (ведь не последовало никаких депортаций, не было и нападений на города). А «батуринский миф» получил долгую жизнь. Он нашел отражение в писаниях шведских мемуаристов, затем перекочевал в некоторые исторические сочинения и особенно был растиражирован с помощью печально известной фальшивки — так называемой «Истории русов».
Разумеется, своих соотечественников Мазепа не убедил (хотя стремился он, прежде всего, именно к этому). Малороссы хорошо знали, что в действительности произошло в Батурине. К тому же не замедлило официальное опровержение. 8 декабря 1708 года гетман Иван Скоропадский издал универсал, где разоблачил ложь своего предшественника. Касаясь темы Батурина, Скоропадский признавал, что при штурме замка было убито много мятежников. Но он тут же подчеркивал: «Однако же, що о женах и детях, о гвалтованю панен и о ином, що написано во изменничьем универсале, то самая есть неправда… Не тылко тые не имеючие в руках оружия, але большая часть з сердюков и з городовых войсковых людей, в Батурине бывших, на потом пощажены и свободно в домы, по Указу Царского Пресветлого Величества, от князя, Его Милости, Меншикова, отпущены».
Зато Ивану Мазепе поверили шведы. Подойдя к Батурину, они застали там руины и пепелища, обгорелые трупы и ни единой живой души. А гетман, не жалея красок, описывал ужасы массовой резни. Таким образом Мазепа пытался оправдаться перед шведским королем, объяснить провал своих предательских планов. Дескать, казаки не пошли за ним потому, что испугались свирепого и беспощадного царя Петра. Короля такое объяснение устроило, а Украине оно обошлось очень дорого.
Шведы уверовали, что причина поддержки населением царских войск заключается всего лишь в элементарном страхе. Уверовали и решили действовать по принципу: клин клином вышибают. Они делали все, чтобы внушить малороссам еще больший страх. Захватчики жгли города и села, уничтожая их жителей без разбора. Творилось это с ведома, а иногда и при участии Ивана Мазепы. Естественно, желаемого результата оккупанты не достигли (борьба против них только усилилась). Однако тысячам малороссов (в том числе женщинам и детям) выдумка старого гетмана стоила жизни.
Уроки русофобии
Сегодня эта выдумка распространяется в Украине с новой силой. Давно уже обнародованы опровергающие ее факты и документы. (Например, универсал Ивана Скоропадского, разоблачающий Мазепину клевету, опубликован еще в 1859 году. Работа Александра Лазаревского с обширными извлечениями из описи Батурина — в 1892 году). Но современные украинские «батуриноведы» об этих опровержениях не знают и не хотят знать. Они свято верят в миф, сочиненный когда-то исключительно с пропагандистской целью. Как тут не вспомнить слова английского философа, вынесенные в эпиграф настоящей статьи?
Давайте представим на минуту, что историю Великой Отечественной войны у нас станут излагать, опираясь на агитки, подготовленные ведомством Йозефа Пауля Геббельса. И при этом будут игнорировать все, что данным агиткам противоречит. Насколько объективной будет такая «история»? Вопрос, безусловно, риторический.
Но ведь подобным образом излагают ныне в нашей стране историю шведского нашествия 1708—1709 годов. Излагают не только в газетках «национально сознательной» направленности (тут удивляться не приходится), но и на школьных уроках. Уроках русофобии, густо замешанной на лжи. Если вера в «батуринский миф» подогревает неприязнь к России даже у великовозрастного дяди из внешнеполитического ведомства, то какие чувства могут возникать в юных душах? И к чему это приведет? Может, стоит задуматься и об этом?..
Поэт и царь
Так уж повелось у нас в советские времена, что персонажи отечественной истории изображались исключительно в двух цветах. Одних (русских царей, кроме Петра I, «буржуазных националистов», реакционеров и т. д.) густо мазали черной краской, превращая в некое средоточие пороков и преступлений. Других (главным образом представителей «революционно-демократического лагеря») делали подобием ангелочков, тщательно следя, чтобы на воображаемых белых одеждах не появилось ни единого пятнышка. Просто неприличным считалось говорить о недостатках людей, на официальном уровне признанных великими; их неблаговидные поступки, как правило, замалчивались, а образ жизни лакировался до неузнаваемости.
Мало что изменилось и в постсоветское время. Разве только некоторые личности из реестра черных попали в белые, а кое-кто из недавних «чистых» был ниспровергнут в грязь. В остальном же все осталось по-прежнему: или однозначно черное, или однозначно белое.
Между тем, подобное изображение знаменитых людей в стиле индийского кино (если хороший, то: ах, какой хороший! — и добрый, и смелый, и благородный; ну а если плохой, то уж хуже некуда) порождает массу вопросов и неясностей. Почему жизнь определенного исторического деятеля сложилась так, а не иначе? Отчего такого хорошего человека не понимали окружающие? За что судьба наказывала тех, кто, кажется, совсем был без греха?
Пытаясь удовлетворить читательское любопытство и в то же время не выйти за черно-белые рамки, авторы биографических сочинений пускаются в пространные объяснения, призванные скорее затемнить суть проблемы, чем прояснить ее, не брезгуют и сознательными фальсификациями, подгоняя факты под заранее утвержденный образ. В результате вопросов становится больше, а торжество истины отдаляется.
Все вышеизложенное в полной мере можно отнести к биографии, пожалуй, самого знаменитого из деятелей украинской культуры — Тараса Григорьевича Шевченко. О великом Кобзаре написано немало научных монографий и статей, романов и повестей, сняты художественные и документальные фильмы, поставлены спектакли. Имя его увековечено в тысячах названий населенных пунктов, улиц, вузов, театров, а неясности в жизнеописании поэта так и остаются загадками для большинства его почитателей, да и просто для людей, неравнодушных к собственной истории.
Одной из таких загадок до сих пор является необъяснимая суровость царского приговора Кобзарю по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе. Следствие не установило факта причастности поэта к тайной организации, да и сами кирилло-мефодиевцы не успели сделать ничего существенного, что могло бы навлечь гнев самодержца. Недаром большинство из них отделались весьма мягкими наказаниями и даже не потеряли права делать карьеру на государственной службе. Откуда же тогда такая строгость к Шевченко, сосланному на долгие годы в оренбургские степи тянуть солдатскую лямку? Отчего с такой неумолимостью отклонял Николай I все прошения о помиловании приговоренного? Почему, наконец, уже после смерти императора его сын и наследник Александр II не спешил облегчить участь поэта?
Не прибавляет ясности и пристальное изучение личности Николая I, чей подлинный облик разительно отличался от нарисованного советскими историками образа «жестокого деспота». Просвещенный монарх, в чье царствование русская культура достигла расцвета, покровитель Пушкина, Жуковского, Гоголя,— и вдруг: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Чем же прогневил Тарас Григорьевич державного повелителя? Ключ к разгадке этой истории находится в биографии поэта.
Надо сказать, что ко времени проведения следствия о Кирилло-Мефодиевском обществе (1847) Шевченко был уже известен императору. Именно царская семья несколькими годами ранее выкупила будущего великого поэта и художника из крепостной неволи.
«Шевченкознавцы» советской закваски очень не любят вспоминать об этом, и если иногда проговариваются, то тут же делают оговорку: дескать, выкупая Тараса из рабства, царственные особы просто таким образом развлекались, им, мол, было абсолютно все равно, куда пойдут деньги, полученные от лотереи, в которой члены царской семьи принимали участие. Факты, однако, свидетельствуют о другом.
Как известно, хозяин Шевченко, помещик П. В. Энгельгардт, был чужд порывов душевного благородства. Ему совсем не улыбалась мысль ради каких-то «интересов искусства» отпустить на волю талантливого крепостного, бесплатно рисовавшего для него портреты. Ни Карл Брюллов, ни другой великий художник — А. Г. Венецианов, не смогли склонить помещика к освобождению Тараса. Брюллов обратился за содействием к своему другу, поэту В. А. Жуковскому, бывшему тогда воспитателем наследника престола. Жуковский рассказал обо всем императрице Александре Федоровне, а та, в свою очередь, сообщила о крепостном художнике супругу.
По приказу Николая I в дело вмешались министр императорского двора князь П. М. Волконский и президент Академии художеств А. Н. Оленин. Но Энгельгардт неожиданно заартачился. Он заявил, что и сам царь не имеет права принудить его расстаться с частью собственности, и категорически отказался освободить Шевченко.
Император оказался в затруднительном положении. У нас привыкли изображать российских царей эдакими самодурами, из одной лишь прихоти отправляющими своих подданных в ссылку, а то и на эшафот. Действительность (по крайней мере, в XIX веке) была далека от таких картин. Русские государи, в том числе и Николай I, рассматривали свою самодержавную власть как особый вид ответственности перед Богом. Монарх не забывал, что на него направлены взоры миллионов людей, которым он обязан подавать пример в исполнении законов. И хотя Николай I прекрасно сознавал необходимость ликвидации крепостничества (все царствование его прошло в подготовке к великой крестьянской реформе, осуществленной уже его сыном), на тот момент крепостное право существовало. Царь мог бы самым суровым образом наказать Энгельгардта, если бы тот нарушил закон, но просто так отнять у помещика хотя бы одного крепостного, даже во имя самых благих побуждений, он не имел юридических оснований.
С другой стороны, и Энгельгардт, поостыв, сообразил, что ссора с царем ничего хорошего ему не принесет. Он предпочел пойти на попятную и согласился отпустить Шевченко за 2500 рублей — огромную в то время сумму, во много раз превышающую среднюю цену крепостного крестьянина. Даже далеко не бедствовавшие Брюллов и Жуковский не могли запросто выложить такие деньги из своего кармана. Им пришлось вновь обратиться к императрице. Александра Федоровна согласилась заплатить, но с условием, чтобы Брюллов нарисовал для нее давно обещанный портрет Жуковского. Художник приступил к работе.
А тем временем известие о талантливом крепостном художнике распространялось по Петербургу, и некоторые представители высшего света были не прочь иметь у себя его работы. Среди заинтересовавшихся Шевченко аристократов оказался и некий генерал, заказавший художнику свой портрет, за который обещал приличные деньги. Но то ли портрет вышел не очень удачным, то ли заказчик слишком уж придирался, а только забирать собственное изображение и оплачивать труд художника генерал отказался.
Обиженный Тарас решил отомстить. Он замазал мундир и эполеты, дорисовал взамен белую рубаху, полотенце и бритвенные принадлежности и продал картину в качестве вывески в цирюльню, куда имел обыкновение ходить бриться его обидчик.
Можно представить себе гнев генерала, узревшего себя изображенным в роли зазывалы у цирюльника. Он тут же приобрел вывеску, а затем поехал к Энгельгардту, объявив о желании купить у него дерзкого крепостного.
Помещик, наверное, про себя посмеялся над покупателем, но отказывать ему не стал, тем более что генерал соглашался заплатить бо́льшую сумму, чем условленные с Брюлловым 2,5 тысячи. Торги быстро близились к завершению и, вероятно, Шевченко ожидала незавидная участь, если бы не новое вмешательство императрицы.
Дело в том, что, узнав о предполагаемой своей продаже, Тарас бросился к Брюллову, тот немедленно сообщил новость Жуковскому, а последний — Александре Федоровне. Из дворца Энгельгардту было передано высочайшее неудовольствие нарушением достигнутых ранее договоренностей, и сделка расстроилась.
Вскоре Брюллов закончил обещанный портрет Жуковского, который разыграли в лотерею среди членов царской семьи. Вырученные за лотерейные билеты деньги были переданы Энгельгардту, и Шевченко получил, наконец, отпускную. Произошло это знаменательное событие 22 апреля 1838 года.
Справедливости ради следует заметить, что историю с генералом некоторые исследователи считают вымыслом, из рода анекдотов, неизбежно преследующих жизнеописания всех выдающихся людей. Учитывая, однако, что правдивость «анекдота» отстаивалась некоторыми весьма близкими к поэту людьми, можно признать его правдивым.
Но если эта история и вызывает у кого-то недоверие, то роль царской семьи в освобождении Шевченко из крепостной зависимости никакому сомнению не подлежит. Сам Тарас Григорьевич упоминает об этом факте в собственноручно написанной автобиографии (есть еще и другая «автобиография» поэта, написанная его другом П. А. Кулишом), а также в автобиографической повести «Художник». Кроме того, имеются другие свидетельства и сохранившиеся в архивах документы.
Дальнейшая судьба Т. Г. Шевченко известна. Учеба в Академии художеств, издание «Кобзаря», литературная известность. Имя Николая I помогло бывшему крепостному еще раз, когда он выполнил иллюстрации к роскошному изданию подготовленной известным историком Н. А. Полевым книги «Русские полководцы», посвященной царствовавшему императору. Участие Шевченко в таком издании стало лучшей рекомендацией для киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, которому он после переезда в Украину подал прошение о зачислении художником во Временную комиссию для разбора древних актов, существовавшую при канцелярии генерал-губернатора.
Во время работы в комиссии Тарас Григорьевич близко сошелся с группой оппозиционно настроенных интеллигентов, образовавших тайное Кирилло-Мефодиевское общество. В этом окружении поощрительно воспринимались его «вольнолюбивые поэзии», в частности, написанная еще в Петербурге поэма «Сон», где в карикатурном виде изображался не только Николай I, но и Александра Федоровна:
Цариця небога Мов опеньок засушений, Тонка, довгонога, Та ще, на лихо, сердешне Хита головою. Так оце-то та богиня! Лишенько з тобою… и т. п.Это сочинение сыграло роковую роль в жизни Шевченко. При разгроме Кирилло-Мефодиевского общества экземпляры текста поэмы вместе с другими его произведениями были обнаружены у многих членов организации и представлены императору.
Говорят, Николай I от души смеялся, читая строки, направленные против себя, и хотя называл поэта дураком, но совсем не был расположен наказывать его. Однако, дойдя до поэмы «Сон», где поливалась грязью его жена, царь пришел в ярость. «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» — спрашивал разгневанный монарх.
Шевченко был арестован и доставлен в столицу. Опасность он осознал не сразу. К тайному обществу поэт не принадлежал (во всяком случае, никаких доказательств этому не было), а «вольнолюбивые стихи», очевидно, не считались тогда основанием для крупных неприятностей. По воспоминаниям очевидцев, всю дорогу до Петербурга Тарас беспрестанно хохотал, шутил, пел песни, словом, вел себя так, что даже у конвоировавших его жандармов сложилась уверенность в неминуемом оправдании поэта.
Только оказавшись в тюрьме и подвергшись строгому допросу, Шевченко понял, чем грозит ему оскорбление императрицы. Он признает «неблагопристойность своих сочинений», называет их «мерзкими», высказывает «раскаяние в гнусной неблагодарности своей к особам, оказавшим ему столь высокую милость». «Я слышал везде дерзости и порицания на Государя и Правительство. Я всему этому поверил и, забыв совесть и страх Божий, дерзнул писать наглости против моего Высочайшего благодетеля, чем довершил свое безумство»,— пояснял поэт свое поведение.
Но раскаяние явно запоздало. Шевченко уже восстановил против себя как императора, так и руководителей следствия. Управляющий III Отделением Л. В. Дубельт и шеф жандармов А. Ф. Орлов не скрывали своего презрения к нему. И если большинству подследственных при вынесении приговора было оказано снисхождение, то Шевченко, за проявленную им неблагодарность к монарху, единодушно был признан никакой милости не заслуживающим. Он был наказан по всей строгости тогдашних законов и «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений» определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус, сохранив, однако, за собой право выслуги в унтер-офицеры. Местному начальству было поручено иметь за поэтом «строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».
Вдобавок ко всему, при обыске среди бумаг Кобзаря жандармы нашли выполненные им рисунки «фривольного» (как тогда говорили) содержания. Возможно, сегодня, когда любой телезритель, включив «ящик» в «детское» время, имеет возможность лицезреть на экране половой акт, такие рисунки показались бы невинной шалостью. В середине XIX века нравы были иные. Шевченко посчитали развратником, а рисованные им «картинки» оскорбили царскую семью не меньше, чем «возмутительные стихи». Ведь прося во дворце помощи для Шевченко, его ходатаи говорили о необычайном таланте крепостного, той пользе, которую он может принести русскому искусству. И вот куда были употреблены способности художника! Так к запрещению писать прибавилось не менее тягостное для Тараса Григорьевича запрещение рисовать.
Нельзя не заметить, что, в отличие от «шевченкознавцев», сам поэт не оспаривал справедливости приговора. В документах III Отделения указывалось, что «бывший художник Шевченко, при объявлении ему Высочайшего решения об определении его рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, принял это объявление с величайшею покорностью, выражал глубочайшую благодарность Государю Императору за дарование ему права выслуги и с искреннейшим раскаянием, сквозь слезы говорил, что он сам чувствует, сколь низки и преступны были его занятия. По его словам, он не получил никакого воспитания и образования до того самого времени, когда был освобожден из крепостного состояния, а потом вдруг попал в круг студентов, которые совратили его с прямой дороги. Он обещается употребить все старания вполне исправиться и заслужить оказанное ему снисхождение».
Искренним ли было намерение исправиться? Или поэт рассчитывал показным смирением добиться смягчения своей участи? Надо сказать, что Шевченко тогда очень надеялся на прежние связи в столичном обществе. Но слишком уж в неприглядном свете предстал он перед своими знакомыми. Отплатившему злом на добро не было оправдания.
«Недаром говорит пословица: с хама не буде пана»,— прокомментировал случившееся первый издатель «Кобзаря» П. И. Мартос. Карл Брюллов в ответ на просьбу друзей Шевченко о помощи только пожал плечами и отказался предпринять что-либо для своего бывшего ученика. Не заступился за поэта и Жуковский, к которому Тарас Григорьевич обратился с письмом. Интересно, что в изданном в 60-е годы академическом «полном» собрании сочинений Т. Г. Шевченко из чернового варианта письма к Жуковскому таинственным образом «исчезла» часть текста с фразами «я вполне сознаю мое преступление и от души раскаиваюсь» и «я прошу милостивого ходатайства вашего перед всемилостивейшим Государем нашим», так же, как из советских публикаций следственного дела поэта «исчезали» все признания им своей вины. Видно, не очень-то вязались они с образом «несгибаемого борца с самодержавием».
Не помогло Шевченко и обращение его доброжелателей к командиру Оренбургского отдельного корпуса генералу А. В. Перовскому, которого знавшие его близко люди характеризовали как человека «истинно великодушного и с ангельски добрым сердцем». Перовский выразил намерение «сделать для него все, что можно», но, съездив в III Отделение и лично ознакомившись со следственным делом, отказался заступаться за поэта, запретив своим сотрудникам впредь просить об этом. Когда же один из подчиненных генерала посмел нарушить запрет, Перовский решительно потребовал не напоминать ему больше про «этого негодяя».
Долгие десять лет тянул поэт солдатскую лямку. Огонек надежды мелькнул для него в 1855 году, после смерти Николая I. Вступивший на отцовский престол Александр II амнистировал многих политических преступников, но фамилию Шевченко собственноручно вычеркнул из списка освобождаемых. «Этого простить не могу, он оскорбил мою мать»,— заявил новый император.
Понадобились усиленные хлопоты, чтобы добиться прощения для Тараса Григорьевича. И здесь снова не обошлось без представителей царской семьи. Пост президента Академии художеств занимала тогда дочь Николая I, великая княгиня Мария Николаевна. Именно к ней, через посредство вице-президента Академии графа Ф. П. Толстого и его супруги, обратился поэт. «Ходатайствуйте обо мне у нашей высокой покровительницы», «подайте от себя прошение обо мне ея высочеству, нашему августейшему президенту»,— умолял он в письмах.
Великая княгиня также вначале не проявила желания добиваться освобождения человека, столь неблагодарного по отношению к ее родителям, но, тронутая рассказами о страданиях Шевченко, смягчилась и обратилась с соответствующей просьбой к Александру II. Император не стал отказывать сестре, и в 1857 году «во внимание к ходатайству президента Академии художеств Ее Императорского Высочества Великой Княгини Марии Николаевны» поэт был уволен от воинской службы. Позднее, после новых просьб со стороны Шевченко, та же великая княгиня добилась для него разрешения проживать в Петербурге и работать в Академии.
Так закончился тяжелейший период в биографии Кобзаря.
Ко всему этому можно добавить, что, обращаясь с просьбами к Марии Николаевне, поэт в дневниковых записках поносил ее уже покойного отца, а в 1860, когда умерла вдовствующая императрица Александра Федоровна, Шевченко откликнулся на это событие стихотворением «Хоча лежачого й не бють», в котором называет мать великой княгини «сукой» и призывает «тілько плюнуть на тих оддоених щенят, що ти щенила», зачисляя, надо полагать, в число «щенят» и свою новую покровительницу.
Думается, нет нужды комментировать этот поступок великого поэта.
Примечание автора
При подготовке статьи использованы дневник, письма и художественные произведения Т. Г. Шевченко, материалы следственного дела об «Украйно-славянском обществе», воспоминания о поэте Н. Д. Быкова, К. И. Герна, Л. В. Дубельта, Н. И. Костомарова, Ф. М. Лазаревского, П. И. Мартоса, П. Д. Седлецкого, Е. Ф. Юнге, другие материалы, опубликованные в журналах «Вестник Европы», «Вестник Юго-Западной и Западной России», «Голос минувшего», «Исторический вестник», «Киевская старина», «Русская мысль», «Русская старина», «Русский архив», «Русское богатство», «Україна». А также книги: Белинский В. Г. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1982; Демченко Я. «Оклеветание Шевченко некоторыми патриотами». К., 1910; Конисский А. Я. «Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко». Одесса, 1898; «Листи до Т. Г. Шевченка». К., 1962; Маслов В. П. «Тарас Григорьевич Шевченко». М., 1874; Моренец И. И. «Шевченко в Петербурге». Л., 1960; Петров И. И. «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». К., 1884; Пискунов Ф. М. «Шевченко, его жизнь и сочинения». К., 1878; «Спогади про Тараса Шевченка». К., 1982; Чалый М. К. «Жизнь и произведения Тараса Шевченко». К., 1882; «Тарас Григорович Шевченко. Біографія». К., 1960; «Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах». К., 1950; «Шевченковський словник». Т. 1—2. К., 1976—1977; Яворницький Д. I. «Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка». Катеринослав, 1909; Яковенко В. И. «Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность». СПб, 1894.
Не сотвори себе кумира (Тарас Шевченко: оборотная сторона медали)
…полупьяная муза Шевченко. Я знаю, что эти слова произведут на моих читателей неблагоприятное для автора впечатление, и спешу заявить, что для историка слово правды должно быть дороже благосклонности читателей… Как необходимы были в свое время похвалы, так необходимо теперь показать медаль с оборотной стороны.
П. А. КулишВы, сударь, глупости делаете — носитесь с этим Шевченко, как не ведомо с кем, а тем временем это просто средний поэт, которого незаслуженно пытаются посадить на пьедестал мирового гения.
И. Я. ФранкоРазве это не Шевченко — этот, возможно, неплохой поэт и на удивление малокультурный и безвольный человек, разве это не он научил нас ругать пана, как говорится, за глаза и пить с ним водку и холуйствовать перед ним? Именно этот иконописный «батько Тарас» и задержал культурное развитие нашей нации.
М. ХвылевыйИзвестно, что людей без недостатков нет. Маленькие слабости присущи даже великим, выдающимся личностям, что, конечно, не умаляет их величия, ибо достоинства гениев, положенные на весы высшей справедливости, настолько перевешивают недостатки, что говорить о последних даже как-то неловко. Однако не всё и не всегда бывает так однозначно. То ли грехи оказываются не такими уж легкими, то ли достоинства не столь весомы, но при беспристрастной оценке некоторых знаменитостей чаши весов, взвешивающих их «плюсы» и «минусы», начинают колебаться. И если по каким-то соображениям конкретную личность нужно возвести в ранг великих, недостатки приходится замалчивать, а заслуги преувеличивать, раздувая их иногда до невероятных размеров.
Проиллюстрировать вышесказанное можно примером Т. Г. Шевченко. В свое время близкий друг Кобзаря, выдающийся украинский ученый Михаил Александрович Максимович категорически возражал против его возвеличивания и даже считал ненужным составление жизнеописания поэта, указывая, что в жизни Тараса Григорьевича было «столько грязного и безнравственного, что изображение этой стороны затмит все хорошее». Честный труженик науки, М. А. Максимович, по-видимому, и представить себе не мог, что сочинять биографии можно так, как это делали и делают присяжные шевченкознавцы. Под их пером незаурядная, одаренная, но вместе с тем далеко не безупречная в моральном отношении фигура Шевченко предстает как нечто всецело положительное, безусловно достойное поклонения. Особенно грандиозный размах приняло восхваление «батьки Тараса» в последние годы, став сопоставимым по масштабу разве что с былым возвеличиванием В. И. Ленина. Призывы «жить по Тарасу», сверять с ним каждый свой шаг (как раньше с Ильичем), торжественные, с участием первых лиц государства, заседания, посвященные очередной годовщине со дня рождения «великого Кобзаря», портреты Шевченко в кабинетах больших начальников (где раньше висели портреты «вождя мирового пролетариата») — все это характерные приметы нашего времени.
Но опирающийся на умолчания и лакировки культ не может быть вечным. Рано или поздно в обществе возникает потребность узнать правду, дать объективную оценку кумиру. Исторические судьбы других культов — наглядное тому подтверждение. Попробуем же приблизить «момент истины» и, не отрицая творческих способностей Тараса Григорьевича, его вклада в становление украинской литературы, обратим внимание на другую сторону биографии Кобзаря, до сих пор остающуюся в тени для большинства его почитателей.
Слово и дело
Кто-то из древних философов, кажется, Сенека, проповедуя на словах щедрость, доброту, порядочность, в жизни являлся невероятным скрягой, доносчиком и развратником. Когда же недоумевающие ученики мудреца обратились к нему с упреками, он, не моргнув глазом, ответил: «Я же учу, как надо жить, а не как живу сам».
Судя по всему, Шевченко пребывал в духовном родстве с античным мыслителем. Во всяком случае, расхождение слова и дела было присуще ему в неменьшей степени. Так, гневные антикрепостнические тирады в своих произведениях поэт сочетал с весьма приятным времяпровождением в помещичьем обществе, развлекая крепостников пением, стихами и анекдотами. «Праздничная обстановка помещичьих домов не могла ослепить человека, подобного Тарасу, который по собственному опыту знал, какова должна быть закулисная жизнь этих гостеприимных хозяев и чего стоило богатое угощение сотен гостей их крепостным людям»,— отмечал один из первых биографов Кобзаря М. К. Чалый и удивлялся, «как в душе Шевченко могли в одно и то же время ужиться высокие идеалы поэзии с пошлостью окружавшей его среды».
Между тем удивляться придется значительно меньше, если допустить, что Тарас Григорьевич вовсе не был тем, кем хотел казаться, и многое, описываемое им будто бы с болью в сердце, на самом деле не трогало поэта. Как бы ни возмущался он на словах панскими гнусностями, сколько бы ни называл помещичьи балы на фоне бедности крепостных «нечеловеческим весельем», ничто не мешало ему принимать в этом веселье участие, вновь и вновь ездить в гости к обличаемым им рабовладельцам, оказывать и принимать от них самому любезные знаки внимания, в общем — от души радоваться жизни и даже называть кое-кого из крепостников, [забыв] об «оборванных крестьянах», о которых печалился в творчестве, «друже мій єдиний».
Правда, иногда, под настроение, Шевченко высказывал недовольство крепостническим произволом (дотошные исследователи выявили аж два таких случая), но гораздо чаще предпочитал закрывать глаза на действительность и не портить ради крестьян отношений с приятелями-рабовладельцами. Впрочем, дело было не только в нежелании осложнять себе жизнь. Сочувствие к бедным и угнетенным не было свойственно Тарасу Григорьевичу с детства.
Ему довелось обучаться в школе у дьячка Богорского, где каждую субботу перед роспуском по домам учеников секли розгами (просто так, «для науки»). Ведал телесными наказаниями самый старший из школяров, так называемый «консул». Естественно, процедура битья не доставляла ученикам удовольствия, но когда в «консулы» вышел Шевченко, для многих из них настала настоящая каторга. Тарас неумолимо требовал от одноклассников подношений. Приносивших ему из дому достаточное количество гостинцев он почти не трогал. Тех же, кто по бедности принести ничего не мог или приносил мало — сек нещадно, стараясь во время экзекуции причинить им как можно более сильную боль. Думается, выяснить подлинную сущность Кобзаря эти порки помогают больше, чем его стихотворное «сострадание» беднякам, тем более, что уже в зрелом возрасте он вспоминал о своем «консульстве» без тени раскаяния, всего лишь как о забавном эпизоде из прошлого.
Не меньше характеризует Тараса Григорьевича и история с неудачной попыткой выкупа им из крепостной неволи своих братьев и сестер. Тему освобождения родственников поэта современные шевченкознавцы сознательно ограничивают временными рамками 1859—1860 гг., когда вернувшийся с военной службы Шевченко взывал к сочувствию петербургского общества, демонстрируя свои переживания по поводу рабского положения родни, и с помощью видных представителей столичного бомонда добился-таки для них свободы. Событие это могло, однако, случиться лет на пятнадцать раньше.
Кобзарь объявил о желании выкупить своих кровных еще в 1845 году. Энергично помогать Тарасу Григорьевичу взялась симпатизировавшая ему княжна В. Н. Репнина, которая, используя свои связи среди местной аристократии, организовала сбор средств, необходимых для воплощения благородного намерения в жизнь. Но, получив в распоряжение определенную сумму, Шевченко не удержался и прогулял деньги, на чем вся затея с выкупом и закончилась. «Жаль очень, что Вы так легкомысленно отказались от доброго дела для родных ваших; жаль их и совестно перед всеми, которых я завлекла в это дело»,— писала поэту оскорбленная в своих чувствах княжна.
Видно, и самому Тарасу Григорьевичу было неудобно перед родственниками, которых он успел обнадежить близкой свободой, Может быть, поэтому Кобзарь прервал с ними отношения, за тринадцать лет (1846—1858) не передав им никакой весточки о себе, не сделав ни одной попытки узнать что-либо о них, хотя в переписке с украинскими адресатами живо интересовался другими, далеко не самыми близкими людьми.
Связь с родственниками восстановилась лишь в 1859 году, во время очередной поездки Шевченко на родину. Кстати сказать, поездка эта могла состояться раньше, но после увольнения в 1857 г. в отставку поэт, только и думающий, если верить его стихам, об Украине, устремился не туда, а в столицу империи, где покровители обещали ему безбедное существование. Как видим, расхождение слова и дела в полной мере проявилось и тут. И не только тут.
«Кохайтеся, чорноброві…»
Тема «Женская судьба в произведениях Т. Г. Шевченко» изучена у нас вроде бы достаточно. Общеизвестно, сколько теплых и сочувственных строк посвятил поэт соблазненным и покинутым девушкам-покрыткам, с каким жаром обличал он их коварных соблазнителей — панов и москалей. Менее известно, что сам Тарас Григорьевич не был в этом отношении безгрешен.
«Доброе дело никогда не остается безнаказанным»,— шутят циники. О роли Ивана Максимовича Сошенко в судьбе Кобзаря написано немало. Именно он, познакомившись с тогда еще крепостным Шевченко, первым поднял вопрос о необходимости освобождения молодого таланта. Он же, пока тянулось решение вопроса о выкупе, морально поддерживал Тараса, много хлопотал за него, помогал в занятиях живописью, делился куском хлеба (иногда последним) и, наконец, приютил получившего свободу друга у себя в комнате. Приютил, однако, не надолго.
Очень скоро «друг» «отблагодарил» Сошенко, начав ухаживать за его невестой Машей, уговорил семнадцатилетнюю девушку позировать ему в качестве натурщицы и, в конце концов, совратил ее. Иван Максимович был потрясен. Он прогнал будущего Кобзаря, но было уже поздно.
Переехавший на другую квартиру Шевченко продолжал роман с Машей, но когда та забеременела, решил не связывать себя семейными узами и бросил обесчещенную им девушку. Заступиться за нее оказалось некому. Маша была круглой сиротой и жила у тетки, которая, узнав о беременности, выгнала племянницу из дома. Дальнейшая ее судьба теряется в неизвестности. Ясно только, что, проливая слезы над горькой долей покрыток, Тарас Григорьевич знал, о чем пишет, не понаслышке.
Интересно, что на склоне лет, будучи уже знаменитым и заботясь о памяти, которую оставит после себя, Шевченко попытался оправдаться. В автобиографической повести «Художник» он обвинил Машу в распутстве и связи с неким мичманом, якобы от которого она и забеременела. Но ввести кого-либо в заблуждение Кобзарю не удалось. Истину установили без труда (в том числе с помощью Сошенко), и дореволюционные биографы поэта, смущаясь, все-таки упоминали о неприглядном факте из жизни Тараса Григорьевича, в отличие от шевченкознавцев позднейших времен, предпочитавших разглагольствовать о «кристально чистом в отношениях с женщинами» поэте.
К истории с Машей можно добавить, что выгнавшая опозоренную племянницу тетка попыталась найти управу на Шевченко, подав на него жалобу в Академию художеств. Но академическое начальство, прекрасно осведомленное о не слишком строгих нравах своих подопечных, на подобные шалости воспитанников смотрело сквозь пальцы.
Однако, избежав наказания людского, от возмездия поэт не ушел. Надругавшись над невинной девушкой, растоптав ее чувства, никогда больше не узнал он женской любви (если не считать чисто платонических отношений с княжной Репниной). Кобзарь обречен был пользоваться только услугами продажных женщин, одна из которых заразила Тараса Григорьевича нехорошей болезнью (тщательно замалчиваемый сегодня факт, ради сокрытия которого издателям академического «полного» собрания сочинений Шевченко пришлось «сокращать» его переписку). Попытки же завязать с кем-либо серьезные отношения неизменно натыкались на отказ.
Да, вероятно, и не могли не наткнуться. Рисованный шевченкознавцами образ нежно влюбленного поэта, галантного кавалера и т. п. действительности не соответствовал. Реальный Кобзарь, грубый, неопрятный, распространяющий вокруг себя запах лука и водки, был малопривлекателен для женщин. И как бы ни упрекали ныне избранниц Шевченко, будто бы не способных оценить тонкую душу Тараса Григорьевича, можно понять шестнадцатилетнюю Екатерину Пиунову, актрису нижегородского театра, прятавшуюся, когда сильно подвыпивший сорокатрехлетний ее «обожатель» (выглядевший к тому же гораздо старше своих лет) вламывался в артистические уборные, скандалил и требовал «Катрусю», пока не засыпал, свалившись где-нибудь без чувств. Можно понять и восемнадцатилетнюю крестьянскую девушку Хариту Довгополенко, отказавшуюся выходить замуж за «лысого и старого» даже в обмен на выкуп ее из крепостного состояния и ответившую посланцу Кобзаря: «Выкупят, да и закрепостят на всю жизнь».
Весьма примечательно и то, что по получении очередного отказа «влюбленность» поэта быстро улетучивалась, уступая место ненависти. Хариту он обзывает в письмах «дурной» и «сумашедшей». От другой девушки (Лукерьи Полусмак) требовал вернуть все свои подарки, составил их список, несмотря на небольшую ценность «даров», и даже ознакомил с этим списком третьих лиц. А юной Пиуновой Тарас Григорьевич принялся посылать записки непристойного содержания.
Картину личной жизни Шевченко дополняет и его непреодолимая тяга к рисованию порнографических (или, как тогда говорили, «фривольных») картинок. Современные шевченкознавцы категорически отказываются признать подобное увлечение «батьки Тараса», в чем сильно расходятся не только с истиной, но и со своими предшественниками на ниве изучения жизни и творчества Кобзаря.
Известный шевченкознавец начала века М. Новицкий в статье «Шевченко в процессе 1847 г. и его бумаги», опубликованной в 1925 г. в журнале «Украина», выходившем тогда под редакцией М. Грушевского, указывал, что альбом Тараса Григорьевича «содержит довольно фривольные (не хочу говорить порнографические) рисунки и небольшие срамные стихи народного или собственного сочинения, где воспеваются перепятовские заигрывания Шевченко с девушками». Современник Новицкого А. Дорошкевич в книге «Этюды из шевченкознавства», констатируя, что поэзия Т. Г. Шевченко «лишена наслоения нездоровой эротики или даже цинизма», тут же оговаривался: «Этого, конечно, нельзя сказать о его карикатурах». Наличие «фривольных эскизов в частном альбоме Шевченко» признает и С. Ефремов. А в официальной справке о поэте, подготовленной III Отделением, прямо отмечается, что он «рисовал неблагопристойные картинки», почему ему и было запрещено рисовать. Правда, запреты не помогли. При обыске 1850 г. у Тараса Григорьевича снова были отобраны альбомы, где «на некоторых рисунках изображены неблагопристойные сцены».
Такова истина — нравится она кому-то или нет.
Для чего скромничать?
«Для чего скромничать? Пушкин первый, Лермонтов второй, а я, Величков,— третий. За неумеющего читать г. Величкова прочтут его друзья». Так в придуманном объявлении высмеивал возвеличивание недостойных А. П. Чехов.
Справедливости ради надо сказать, что сам Шевченко оценивал себя довольно объективно. В обществе образованных людей, присутствуя при серьезных разговорах, он, если был трезв, отмалчивался, опасаясь показать свое невежество. Лавровый венок «величайшего и гениальнейшего», «достигшаго высочайшего уровня образованности, вкуса, знания и понимания истории и философии», навесили на Кобзаря уже после смерти.
Тем временем знакомые поэта оставили на этот счет однозначные свидетельства. «Читать, он, кажется, никогда не читал при мне; книг, как и вообще ничего, не собирал. Валялись у него и по полу, и по столу растерзанные книги „Современника“ да Мицкевича» — вспоминал скульптор М. О. Микешин. «Читал Шевченко, я полагаю, очень мало (даже Гоголь был ему лишь поверхностно известен), а знал еще менее того»,— утверждал И. С. Тургенев. «Шевченко не был ни учен, ни начитан»,— писал поэт Я. П. Полонский. «Недостаток образования и лень» Кобзаря отмечал М. А. Максимович, добавляя, что «писал он большею частью в пьяном виде». Аналогичного мнения придерживался и П. А. Кулиш.
Кроме того, современники осуждали Кобзаря за богохульство, писание пасквилей на императрицу Александру Федоровну, выкупившую его из крепостной зависимости, и многое, многое другое. Бралось под сомнение даже литературное дарование Тараса Григорьевича.
Сегодня мало кто знает, что не все публикующееся в собраниях сочинений Шевченко является произведением его пера. Грубые наброски, созданные Кобзарем, дорабатывались («доводились до ладу») его друзьями и редакторами, вынужденными не только исправлять огромное количество грамматических ошибок (грамотно писать Тарас Григорьевич не научился до конца жизни), но и дописывать иногда целые строки, изменять слова, чтобы придать творениям более литературную форму. Те же, кто имел возможность прочитать Шевченко без поправок, в оригинале (П. А. Кулиш, Я. И. Щёголев и др.), были далеки от признания его «поэтического гения».
«А… это наш славный поэт. Скажите, какую толстую книгу написал. Видимо, не даром его фухтелями угощали. (Фухтель — удар саблей плашмя.— А. К.). В сущности ведь пьянчужка был»,— пренебрежительно заметил видный украинский историк Н. Д. Иванишев, получив в подарок новое издание «Кобзаря».
Невысокого мнения о творчестве Тараса Григорьевича были и Н. В. Гоголь, и М. П. Драгоманов, и И. Я. Франко.
Так стоит ли утверждать культ «батьки Тараса», делать из пусть и выдающегося, но грешного человека — идола, своеобразный объект для поклонения, объявлять Шевченко «гениальным мыслителем», «национальным пророком», «духовным отцом украинской нации» и даже «апостолом божиим Тарасом»? «Не сотвори себе кумира»,— говорит Библия. Может, все-таки прислушаемся?
Не сотвори себе кумира (Еще раз о Тарасе Шевченко и тарасопоклонниках)
Есть у меня приятель на примете. Не ведаю, в каком бы он предмете Был знатоком, хоть строг он на словах. Но черт его несет судить о свете: Попробуй он судить о сапогах! А. С. ПушкинНельзя сказать, что появление в «Киевском телеграфе» ругательной «рецензии» на мою статью «Копытца ангела. Тарас Шевченко: оборотная сторона медали» («Киевский телеграф», 19—25 мая с. г.) стало для меня неожиданностью. Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг публикации, был уверен — такое обязательно произойдет. И не ошибся. В номере за 16—22 июня порадовал (пишу это без тени иронии) своим откликом поэт, культуролог (так он подписался) Александр Хоменко. Порадовал и, вместе с тем, немного разочаровал. Все-таки хотелось бы иметь дело с более подготовленным «противником». Но тут уж — кого Бог пошлет.
Как бы там ни было, хочу выразить признательность своему оппоненту. Он несколько раз прочитал мой материал, «анализировал» его, «проверял на достоверность», наконец, сочинил забавный отзыв. Единственное, что огорчает — есть в этом отзыве некоторые недоработки. Не все, о чем пишет мой нелицеприятный критик, соответствует действительности. Точнее, все, что он говорит о моей статье,— далеко от истины.
Ни в коей мере не хочу упрекнуть глубокоуважаемого Хоменко, поэта, культуролога, в сознательной лжи. Причина слабых мест в его статье — другая. Мой достопочтенный оппонент, как бы это мягче выразиться, не совсем хорошо знает жизнь и творчество Тараса Григорьевича Шевченко, о котором громогласно взялся высказываться. Надеюсь, г-н Хоменко не обидится, если я укажу на отдельные неточности в его по-своему увлекательной работе.
Но сначала хочу повторить то, что уже писал. Я нисколько не отрицаю наличия литературных способностей у Тараса Шевченко. Скажу больше. Я считаю его самым выдающимся из всех поэтов, когда-либо писавших на украинском языке. И обвинять меня в стремлении «на одной газетной странице перечеркнуть значение Шевченко-поэта» — неправильно. Не стремился я к этому. Однако вернемся к нашему Хоменко.
Суди не выше сапога
Выступление в печати достопочтенного поэта-культуролога напомнило мне эпизод из античной истории. В свое время этот случай вдохновил Александра Пушкина на написание стихотворения «Сапожник», фрагмент из которого вынесен в эпиграф. Древнегреческий художник Апеллес имел обыкновение выставлять нарисованные им картины в людных местах. Считая народ лучшим критиком и ценителем, живописец внимательно выслушивал мнения о своем творчестве проходивших мимо людей. Однажды некий сапожник заметил ему, что сапог на одной из картин изображен неверно: на внутренней стороне обуви нарисовано на одну петлю меньше должного. Художник поблагодарил специалиста по сапожному ремеслу и тут же исправил оплошность. Вдохновленный этим, сапожник принялся критиковать всю картину: и нога не так изображена, и все остальное. В конце концов, Апеллес не выдержал: «Сапожник, суди не выше сапога!»
Схожесть Александра Хоменко с незадачливым обувщиком поразительна. Разве что сапожник хоть в сапоге знал толк. А Хоменко…
Моего критика чрезвычайно рассердила состоящая, по его мнению, из смеси «гремучего невежества», «заносчивости» и «легко опровергаемой лжи» статья «никому неизвестного автора», написанная в жанре «погромной журналистики». Он просто пылает праведным гневом: «Ни одного правдивого утверждения я в этой статье не нашел, хотя и пытался».
О собственной известности спорить не буду. Хотя и не думаю, что известность поэта Александра Хоменко намного превышает мою. С остальными тезисами рискну не согласиться. Но возражать постараюсь без резкостей, присущих моему обвинителю. Помню о золотом правиле: «Чтобы не оскорблять человека, если хочешь указать на недостатки, сначала похвали». Поэтому, прежде чем ответить поэту-культурологу, скажу о нем доброе слово.
Г-н Хоменко совершенно прав в оценке литературных и иных нравов сталинской эпохи. Он, наверное, даже представить не может, насколько я солидарен с ним в этом вопросе. Особенно охотно разделяю возмущение по поводу того, что из истории литературы на долгое время был вычеркнут Сергей Александрович Ефремов. Ведь именно на работах Ефремова во многом основана моя статья. Биографию и произведения Тараса Шевченко этот ученый знал досконально. Чего, к сожалению, нельзя сказать о г-не Хоменко. Между тем, для того чтобы точно определить, где правда, а где ложь, нужно обладать хотя бы минимальным запасом знаний по разбираемому вопросу. Иначе вся аргументация берущегося судить о чем-либо критика будет на уровне доводов туповатого лектора-атеиста из советского прошлого: «Я Бога не видел. Гагарин летал в космос — тоже не видел. Значит, Бога нет».
Новое платье короля
Не хотелось бы обижать Александра Хоменко, но его аргументация именно такого уровня. Он, например, сомневается в аутентичности приводимой мною цитаты «якобы из какого-то письма Ивана Франко, в которой Шевченко называется посредственным поэтом». Поэт-культуролог ничего не знает о таком письме, в связи с чем употребляет выражение «сплошная лажа».
Сообщаю г-ну Хоменко и всем скептикам: письмо это датировано 1907 годом, адресовано видному шевченковеду Василию Доманицкому, а мною взято из книги Сергея Ефремова «Иван Франко», лишь недавно возвращенной из спецхранов в открытый доступ. Кстати сказать, Америки я не открываю. Все, что было изложено в моей статье, прекрасно известно специалистам. Не самый знающий главный редактор «Народної газети» Анатолий Шевченко (тоже весьма бурно отреагировавший на «Копытца ангела») безошибочно указал, что это за цитата.
Что же касается восторженных отзывов о Шевченко Тарасе, сделанных Франко публично, то стоит порекомендовать г-ну Хоменко прочитать сказку Андерсена «Новое платье короля» или поспрашивать людей, помнящих не такие уж далекие времена «застоя». Многие тогда в публичных речах и статьях говорили одно, а в узком кругу — другое. Те, кто думает, что в среде, к которой принадлежал Франко, отношение к инакомыслящим было более терпимым, чем в СССР эпохи Брежнева, глубоко ошибаются. Достаточно вспомнить о судьбе «позднего» Кулиша или Драгоманова. Вот и приходилось Ивану Яковлевичу, подобно подданным глупого короля из андерсеновской сказки, громко восхищаться тем, чем он совсем не восхищался в душе.
Оконфузился достопочтенный Хоменко и с «разбором» другой цитаты. «В уста Мыколы Хвылевого,— пишет он,— вкладываются негативные слова о Шевченко как о малокультурном и безвольном человеке. „Поздравляю вас, господин, соврамши!“ — говаривал, помнится, в подобной ситуации булгаковский персонаж, поскольку приведенные Каревиным слова принадлежат не Хвылевому, а Дмитрию Карамазову — литературному персонажу романа Хвылевого „Вальдшнепы“. Подобное передергивание всегда считалось одним из самых грубых нарушений научной и журналистской этики».
Безусловно, не всегда позицию автора правомерно отождествлять с позицией его литературного героя. Однако в данном случае литературоведы уверены: в уста Дмитрия Карамазова Хвылевый вложил собственные мысли. Небезызвестный Евген Маланюк (тоже поэт и культуролог, но поавторитетнее Хоменко) о данном изречении написал целую статью «По поводу высказываний М. Хвылевого о влиянии Т. Шевченко на формирование психологии украинского народа». Статья эта, в которой осуждается «бунт Хвылевого против Шевченко», давно опубликована за границей. В 1997 году ее перепечатал журнал «Народна творчість та етнографія» (№ 2—3). Другой исследователь в журнале «Український засів» (1995. № 4) даже пишет фамилии литературного героя и его автора через дефис: Карамазов-Хвылевой и нападает на писателя за попытку «нейтрализации» Шевченко. Перечень аргументов из литературоведческих работ можно продолжить. Их довольно много. Но, кажется, и так ясно, что с булгаковским «соврамши» по моему адресу достопочтенный слегка погорячился.
«Проверка на достоверность»
Не выдерживает критики и проведенная Хоменко «проверка на достоверность» утверждения о неряшливости Кобзаря. Повторюсь еще раз: для такой проверки проверяющему необходимо обладать определенным запасом знаний. Мой оппонент ссылается на воспоминания Сошенко о том, что Шевченко «хорошо одевался». Жаль только, что воспоминания эти г-н Хоменко изучал не очень тщательно. Будь он усерднее, обратил бы внимание: рассказ Сошенко относится к концу 1830-х годов, а у меня речь идет о конце 1850-х. «Сапоги смазные, дегтярные, тулуп чуть не нагольный, шапка самая простая барашковая, да такая страшная и, в патетические минуты Тараса Григорьевича, хлопающаяся на пол в день по сотне раз». Так описывает Шевченко Пиунова.
А вот свидетельство доброго знакомого Кобзаря, музыкального критика Стасова: «Я ненавижу лук… и через этот фрукт ушел было раз за 1,5 версты от Шевченки, когда он повстречался со мною на Невском, закабалил мою руку, по которой похлопывал дружески и любовно своею красною толстою ладонью, а сам для наиболее эстетического услащения вонял мне прямо в нос луком и водкой».
Легко отметаются и другие «доводы» г-на Хоменко. О Шевченко-«садисте» (это слово употребляет мой оппонент, в моей статье его нет), поровшем одноклассников, известно из его собственного признания. Об увлечении крепкими напитками (принимаемыми в количествах, многократно превышающих указанную Хоменко «норму»,— «рюмка-другая») — свидетельств масса. Тут и Максимович, и Иванишев, и Костомаров, и Кулиш, и Белозерский, и Лебединцев, и Косарев, и Ускова. Да и в так называемом «Дневнике» Тараса Григорьевича есть соответствующие «откровения». О «таинственных редакторах» замечу, что таинственные они лишь для г-на Хоменко и равных ему по уровню. Большой тайны здесь нет. Это прежде всего Кулиш. Еще Гребенка, Мартос. Вероятно, Костомаров. Есть и другие, менее известные.
Негодование моего оппонента вызвало утверждение о всего только двух случаях, когда Шевченко в жизни (а не в стихах) возмущался под настроение крепостническим произволом. Хоменко уверяет, что таких случаев было «большое количество», но в доказательство приводит только один — эпизод с помещиком Родзянко. Ну, и где же «большое количество»? У меня, по крайней мере, речь идет о двух эпизодах, один из которых как раз и есть история с Родзянко. Тогда, как известно, недовольный подзатыльником, отпущенным дворецким мальчику-слуге, Тарас Григорьевич покинул помещичий дом не попрощавшись. Это и было возмущение под настроение. Прошло немного времени, настроение поменялось,— и вот уже поэт пишет супругам Родзянко: «Дорогие мои Аркадий Гаврилович и Надежда Акимовна. Как я теперь раскаиваюсь, что оставил ваши места».
Еще более курьезна претензия г-на Хоменко по поводу приведенного мной общеизвестного факта: после увольнения в отставку Шевченко устремился не на родную Украину, а в Петербург, где покровители обещали ему безбедное существование. «Зачем так подставляться? — вопрошает мой достопочтенный оппонент.— Зачем делать все на таком примитивном уровне, откровенно врать, сознавая, что твоя ложь сразу будет опровергнута… Каждому учителю украинской литературы известно, что после увольнения Шевченко не мог по собственному желанию выбирать место своего проживания».
Чуть-чуть поправлю моего многоуважаемого критика. Не только каждому учителю, но и вообще каждому, кто учил в школе биографию Кобзаря, должно быть известно: Шевченко после выхода в отставку ничего не знал о каких-то ограничениях на выбор места проживания. Куда ехать, он выбирал сам. «1 августа пришла почта и привезла мне разрешение ехать, куда я хочу»,— писал поэт Михаилу Лазаревскому. Только в Нижнем Новгороде, уже на полпути в Петербург, настигло Тараса Григорьевича ограничительное распоряжение. Он вынужден был почти на полгода застрять в провинциальной глуши, настойчиво добиваясь права на въезд в столицу империи.
Все это, повторяю, факты общеизвестные, ничего не слышал о них, кроме г-на Хоменко, наверное, только народный депутат Владимир Яворивский (что, конечно, очень печально, ибо главе Национального союза писателей Украины следовало бы лучше ориентироваться в биографии Кобзаря).
Не переадресовываю Александру Хоменко вопрос: «Зачем так подставляться?» Уверен: подставляться он не хотел, а просто не очень хорошо знал, о чем пишет. Нужно пожелать многоуважаемому поэту и культурологу немного больше скромности. Наверное, не стоило при таком уровне осведомленности высовываться со своим «отзывом» на страницы прессы. А если уж высунулся, нужно грамотно выбирать тактику ведения полемики: определить у «противника» «слабые места» и наносить по ним выверенные до миллиметра удары, избегая ударов по местам защищенным. Хоменко же со всей силы лупит туда, где, образно выражаясь, броня крепка. Так и покалечиться можно.
Гораздо умнее поступил, например, главный редактор «Літературної України» Василий Плющ. В эмоциональном, написанном сразу по горячим следам отклике, он в своей газете все же не стал опровергать содержащиеся в «Копытцах ангела» факты, переключив внимание читателей на другое. Дескать, Пушкин с Байроном тоже не были ангелами в жизни, но их все равно ценят как литераторов.
Тут возразить нечего.
Но, как говорится, умнее поступает тот, кто умнее. Г-н Хоменко, судя по всему, и не мог выбрать правильную тактику. Главная, хорошо просматривающаяся цель его опуса — «достать», уязвить автора ненавистной ему статьи. Подскажу своему оппоненту: легче всего подобная цель достигается, если стремление к ней завуалировано, неочевидно для «врага» и третьих лиц. У Хоменко это правило не соблюдено. Злобой дышит каждая его строчка. А злоба и ненависть — плохие помощники в полемике.
Заслуга Ефремова
Особняком стоит вопрос об уровне грамотности Шевченко. Мое утверждение, что писал Тарас Григорьевич со множеством ошибок, г-н Хоменко называет «полной галиматьей». А напрасно. Обосновать это утверждение совсем нетрудно, благодаря Сергею Александровичу Ефремову. В 1920-х годах он, будучи редактором полного собрания сочинений поэта, готовил эти сочинения к изданию. Свет, к сожалению, увидели только два тома («Дневник» Шевченко и его переписка). Затем Ефремова арестовали, издание прекратили, а уже вышедшие тома, вместе с содержащимися в них необычайно ценными редакторскими комментариями, надежно упрятали в спецхран.
Ныне они из спецхрана извлечены, и шевченковеды получили возможность узнать много интересного. Вот что, например, писал Сергей Александрович о рукописи шевченковского «Дневника»: «Первое поверхностное впечатление от этих густо исписанных страничек может уложиться в слова — какая неграмотная рукопись! Какой хаос в передавании графическими знаками тех или иных звуковых сочетаний! Какая изумительная небрежность относительно написания самых обычных слов, какое игнорирование всех предписаний грамматики, полное презрение к установленной пунктуации». И далее: «Шевченко, пишучи, вообще мало заботился об общепринятых графических обычаях, не давая себе труда задуматься над написанием данного слова и писал его как придется. Это, собственно, и бросалось в глаза всем, кто читал эту рукопись, прежде всего редакторам и издателям записок поэта. Они смотрели на них просто как на удивительно неграмотную рукопись, которую нужно исправить „по грамматике“. И исправляли».
Сам Ефремов считал, что любая ошибка и даже описка Тараса Григорьевича ценна для понимания Шевченко как личности. Поэтому издал его «Дневник» в первозданном виде. Благодаря этому интересующиеся могут получить представление об уровне грамотности Кобзаря, даже не заглядывая в архивы.
Кстати, из ефремовского издания взята мною и информация о венерическом заболевании Шевченко. Собственноручное признание поэта о том, что он страдал от трыпера (воспроизвожу это слово так, как писал его Тарас Григорьевич) содержится в письме доктору Андрею Козачковскому от 16 июля 1852 г. Из последующих изданий это признание удалено.
Честно говоря, не понимаю, почему вышедшая наружу правда вызвала такую истерическую реакцию. Ну, любил холостой человек погулять. Ну, подхватил неосторожно заразу. Кто от этого застрахован? Между прочим, украиноязычный журнал «Політика і культура», выходивший под редакцией недавно погибшего Александра Кривенко, как-то выдал куда более шокирующую информацию про «особливі статеві схильності» Тараса Шевченко (а также Леси Украинки, Григория Сковороды и Агатангела Крымского). И случилось это тоже накануне празднования «шевченковских дней» (№ 17 журнала за 2000 г.). Проглотили, панове? Кривенко считается журналистом, на которого надо равняться. Зачем же тогда вся эта свистопляска вокруг «російськомовного» «Киевского телеграфа», с политическими доносами в «инстанции» и воплями про «антиукраинский заговор олигархов»?
Не зная броду
Думается, всего приведенного достаточно, чтобы убедиться: достопочтенный Хоменко сунулся в воду, не зная броду. Результат закономерен. Можно, конечно, и дальше разбирать нелепицы, которыми обильно усыпан его опус. Но надо ли?
И все-таки в одном мой уважаемый оппонент прав. Он высказал предположение, что когда я писал статью о Шевченко, то вспоминал кого-то из своих знакомых. Верно, вспоминал. Но, конечно, не в том смысле, что приписывал Тарасу Григорьевичу качества своих приятелей. В памяти я держал другое.
Мне хорошо известны люди, которые с детства воспитывались на образе Ленина — мудрого, честного, справедливого вождя. Они не были дураками, видели все недостатки советского строя, но питали уверенность: все плохое у нас от того, что не выполняются заветы Ильича, допущены отступления от ленинских норм. Когда правда о «вожде мирового пролетариата» стала всплывать на поверхность, эти люди буквально хватались за голову. Как дальше жить, если он был таким? Если тот, кому поклонялись с юных лет, оказался недостоин поклонения?
Таких людей было много. На светлом образе «самого человечного человека» воспитывались целые поколения. И оставались с опустошенными душами.
Сейчас на место Ильича воздвигают другого кумира. На нем воспитывают сегодняшнее юное поколение. Ему поклоняются, его ревностно оберегают от критики. Но ведь тайное все равно станет явным. И что тогда? Опять опустошенные души? Не надоело ставить эксперименты над собственным народом?
Мы строим новое государство. Зачем же возводить его на заведомо ненадежной основе? Пушкин в России — только великий поэт. Самый великий! Самый гениальный! Но только поэт. Мицкевич в Польше — тоже. И Байрон — в Англии. А у нас: «батько Тарас», «найдорожча святиня», «апостол правди», «сонце нації», «національний пророк». Не слишком ли?
Культ «великого Кобзаря»
«Мы знаем действия многих причин, но не знаем причины многих действий»,— заметил еще в XVIII веке американский мыслитель Калеб Колтон. В своей заметке «К поэту по-научному» («КТ», № 36), поданной как отклик на мою статью «Копытца ангела» («КТ», № 16), Евгений Турчин попытался докопаться до причин существующего в нашей стране культа Тараса Григорьевича Шевченко. Он считает, что «Шевченко — это своеобразная компенсация невостребованных желаний безгосударственной нации. Почему в России Пушкин только поэт? Да потому, что россияне имели свое государство, а вместе с ним свои национальные символы — своих царей и своих императоров, своего патриарха как предстоятеля Православной церкви, своих ученых, свой герб и другие государственные регалии. У украинцев всего этого не было, но было сильное желание, как великой европейской нации, иметь все это. Спрашивается, кто, кроме Шевченко, в окраине мог временно компенсировать эти желания?»
Можно согласиться с пояснением Турчина, но с одной существенной поправкой: не об украинской нации должна тут идти речь. До 1917 года огромное большинство украинцев (малороссов) в национальном отношении не отделяло себя от великороссов. «Всякую украинофильскую пропаганду мы отвергаем, ибо никогда не считали и не считаем себя нерусскими; и с какой бы хитростью ни старались услужливые господа Милюковы вселить в нас сознание розни с великороссами, им это не удастся. Мы, малороссы, как и великороссы, суть люди русские»,— говорил на заседании Государственной Думы депутат от Подольской губернии крестьянин Андрийчук в ответ на попытку лидера российских либералов Павла Милюкова вбить клин между велико- и малороссиянами.
Соответственно, и русское государство украинцы воспринимали как свое («Малорусы никогда не были покорены и присоединены к России, а издревле составляли одну из стихий, из которых складывалось русское государственное тело»,— отмечал Николай Костомаров). Русский монарх в представлении украинских крестьян являлся таким же отцом народа, как и в представлении крестьян-великороссов. Государственный герб был общим («Орле наш двоглавий»,— называл его тот же Костомаров в одном из написанных на украинском языке стихотворений). Не делили по племенному признаку и ученых, писателей, деятелей искусства. И уж тем более не делили Православную церковь. Что касается патриархов, то их с петровских времен и до революции в России просто не было. Церковью управлял Святейший Синод, первенствующее положение в котором занимал митрополит Киевский (т. е. и с этой стороны украинцы не чувствовали себя ущемленными). Таким образом, говорить о культе Шевченко, как о «компенсации невостребованных желаний безгосударственной нации» не приходится. Не было нужды у украинцев в такой компенсации.
Иное дело — украинофилы, деятели так называемого украинского движения. Руководствуясь политическими соображениями, они объявили русскую культуру чужой Украине. Проблема, однако, состояла в том, что русская культура (как и русский литературный язык) была общерусской, общей для всей исторической Руси. В ее развитии украинцы принимали участие наравне с великороссами. Отрекаясь от этой культуры, приходилось отрекаться и от украинского вклада в нее, отрекаться от писавших на русском языке украинских писателей. Здесь действительно возникала потребность в компенсации. Украинофилам предстояло убедить украинское общество, что общерусское культурное наследие можно заменить чем-то не менее ценным. Так на литературном небосклоне стала восходить «звезда» Тараса Шевченко.
Одаренный, но все-таки не гениальный, Тарас Григорьевич не смог, в отличие, скажем, от Николая Гоголя, занять место в общерусской литературе (хотя очень к этому стремился и поэтому писал по-русски свои повести и «Дневник»). Он так и остался провинциальным поэтом. Но эта провинциальность, необщерусскость как раз и устраивала украинофилов. Шевченко принялись возводить на пьедестал мирового гения, пытались поставить его вровень с Шекспиром, Гёте, Пушкиным и нисколько не заботились о том, что такие попытки выглядят по меньшей мере комично. Забегая вперед, надо сказать, что нынешние разговоры об украинском происхождении Иисуса Христа, объявление украинцев изобретателями письменности, отождествление древней Трои с Троещиной и т. п.— явления того же порядка.
Возвращаясь же к «великому Кобзарю», следует отметить, что до Октябрьской революции не только в мире, но и на Украине он был мало известен (несмотря на все старания украинофилов). «На вопрос: „Чья это могила?“ всякий ответит Вам: „Тарасова!“ — „Хто ж такий був той Тарас?“ — „А хто його знає!.. Мабуть, який чиновник важний“»,— вспоминал смотритель могилы поэта Василий Гнилосыров. Когда, незадолго до столетней годовщины со дня рождения Шевченко, украинофилы пошли по крестьянским хатам с целью собрать средства на памятник юбиляру, их встретили с недоумением. «В каждой хате приходилось рассказывать про Шевченко и читать его биографию, потому что к кому не зайдут — каждый спрашивает: „Кто ж он такой был, этот Шевченко?“» — писала украинофильская газета «Дніпрові хвилі». Миф о всенародном поклонении «батьке Тарасу», начавшемся будто бы сразу после его смерти, получил распространение позднее.
Не пользовался Тарас Григорьевич популярностью и среди интеллигенции. На организованных в Киеве после Февральской революции курсах украиноведения для учителей начальных школ выяснилось, что многие педагоги никогда не читали произведений поэта. Признание пришло к Шевченко только после установления советской власти. Возвеличивание пострадавшего при царском режиме выходца из народных низов вполне укладывалось в рамки большевистской идеологии. Культ Тараса вышел за пределы украинофильских кружков и расцвел пышным цветом. Уже в 1920 году, при праздновании очередной шевченковской годовщины, поэта именовали «красным пророком», а его «Кобзарь» — «красным евангелием». В дальнейшем подобные эпитеты вышли из моды, но сам культ продолжали усиленно насаждать. Именем Шевченко называли населенные пункты, улицы, научные и культурно-просветительные учреждения. Ему возводили памятники, открывали музеи. Его произведения ввели в школьные программы.
В то же время в Западной Украине, где советской власти не было, Тарас Григорьевич оставался малоизвестным. В издаваемом Иваном Огиенко журнале «Рідна мова» еще в 1939 году с сожалением констатировалось, что «великого поэта» в Галичине не знают и знать не хотят. «У нас мало читают Шевченко, или вообще не читают его. Пройдите все села и города. Едва ли есть один „Кобзарь“ в библиотеке. А стоит он, обычно, присыпанный пылью, заплесневелый». С приходом большевиков положение выправилось и там.
Результат советского кумиротворчества хорошо виден сегодня. Любое высказывание о Шевченко, не приправленное бурным восторгом, воспринимается многими как оскорбление украинского народа. Между тем, следует помнить, откуда берет начало культ «великого Кобзаря». Даже терминология, употребляемая сегодняшними тарасопоклонниками, заимствована из эпохи пролетарской революции и лишь слегка модернизирована в духе времени. Вместо «красного пророка» поэта именуют «пророком национальным». Постулат ««Кобзарь» — красное евангелие» заменили на ««Кобзарь» — евангелие украинцев». В остальном — то же безудержное возвеличивание и революционная нетерпимость к тем, кто имеет о Тарасе Григорьевиче собственное мнение.
Хотелось бы быть понятым правильно. Желание отыскать в своем прошлом выдающихся людей, которыми можно было бы гордиться перед всем миром, присуще каждой стране. Это совершенно нормальное желание. Нет никаких оснований отказываться от его реализации и нам. Но те ли возводятся у нас в ранг великих? Не так давно в России был издан биографический словарь русских писателей XIX — начала XX века. Из около трехсот упомянутых там литераторов более сорока — украинцы. Но в Украине признают своими только двоих — Евгения Гребенку и Григория Квитку-Основьяненко. Да еще велико-россиянку Марию Вилинскую (Марко Вовчок). Остальные — как бы и не наши. А среди отвергнутых — писатели с мировым именем: Николай Гоголь, Анна Ахматова (Горенко) и другие. Вместо них нам навязывают примитивный культ «батька Тараса».
Правильно ли это?
Стоит задуматься.
Правда останется правдой
Главному редактору газеты «День» Ларисе Ившиной
Глубокоуважаемая г-жа редактор!
6 августа с. г. в Вашей газете были напечатаны материалы «Та не однаково мені…» некоей Марии Матиос и «Ослиные уши невежды» старшего научного сотрудника отдела шевченковедения Института литературы НАН Украины Николая Павлюка. Трудно сказать, почему материалы эти, посвященные моей статье «Копытца ангела. Тарас Шевченко: оборотная сторона медали» («Киевский телеграф» за 19 мая с. г. [6]), помещены под рубрикой «Полемика». Полемика предполагает хоть какое-то столкновение мнений. Между тем, оба автора демонстрируют трогательное единомыслие, местами чуть ли не буквально повторяя друг друга.
Не буду касаться злобной ругани по моему адресу. Она характеризует прежде всего самих «полемистов». Плохо лишь, что в обоих «отзывах», поданных в газете под видом «восстановления справедливости», грубо извращается суть моей публикации. «Копытца ангела» направлены не против Шевченко, а против культа «батьки Тараса». Это все-таки не одно и то же. Но если уж редакции «Дня» было угодно затеять полемику вокруг статьи, опубликованной в другой газете, то, может быть, Вы будете настолько любезны, что дадите мне возможность изложить на страницах Вашего издания свою точку зрения? Тем более, что в редакционном предисловии к писаниям Матиос-Павлюка сказаны такие красивые слова о том, как «хорошо, когда бой проходит на одном поле и у различных сил есть возможность честно столкнуться лицом к лицу, виртуозно продемонстрировав убедительность аргументов».
Должен заметить, что убедительностью аргументов мои оппоненты не отличаются. Пытаясь опровергнуть положения ненавистной им статьи, Павлюк и Матиос пользуются явно недобросовестными методами. Последняя, к тому же, наследуя традиции «пламенных революционерок» эпохи красного террора, призывает «дать в морду» тем, кто думает не так, как она. Насколько этично публиковать такие призывы, оставляю судить изданию, относящему себя по уровню к профессиональному журналистскому миру. Я же только хочу доказать неосновательность предъявленных мне обвинений.
Марии Матиос очень не понравилось обнародование в «Копытцах ангела» факта рисования Тарасом Шевченко порнографических (фривольных, как говорили когда-то) картинок. Она заявляет, что «фривольными» эти картинки были лишь «с точки зрения Третьего управления царской жандармерии». Дескать, на самом деле они «могли бы конкурировать с работами выдающихся художников».
Наверное, не нужно придираться к тому, что III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии именуется «Третьим управлением царской жандармерии». Это деталь, о которой «полемисты» такого уровня могут и не знать. Обращает на себя внимание другое. «Допускаю,— разглагольствует Матиос,— что сотрудники III отделения (на этот раз хотя бы отделения.— Авт.) были малокультурными и необразованными, поэтому не имели ни малейшего представления о скульптурах Древней Греции или картинах эпохи Возрождения».
Не думаю, что сотрудники III отделения были необразованными, но речь не о них. В своей статье я ссылался не только на жандармов (на жандармов как раз в последнюю очередь), но и на известных украинских литературоведов Сергея Ефремова, Михаила Новицкого, Александра Дорошкевича. Они тоже были малокультурными? Не логичнее ли предположить, что на недостаточном уровне находится образованность Матиос, не способной различить в творчестве Т. Г. Шевченко произведения искусства от банальной порнографии?
Кстати сказать, о том, что «батько Тарас» рисовал «интересные» картинки, я упомянул в статье вовсе не из желания «посмаковать подробностями». Факт этот, тщательно замалчиваемый присяжными шевченкознавцами, позволяет многое понять в судьбе Кобзаря. В частности, он объясняет запрет рисовать, содержащийся в царском приговоре поэту.
Точно так же далеко не малозначительной подробностью является пристрастие Тараса Григорьевича к чрезмерному употреблению спиртных напитков. Эта пагубная привычка снижала уровень литературного творчества Шевченко и, в конце концов, преждевременно свела его в могилу. Зачем же пытаться замолчать то, что, в общем-то, общеизвестно? Другое дело, что упоминание об этом не должно служить поводом для насмешек над поэтом. Но разве тон моей статьи насмешливый? Чем же тогда возмущается Матиос? Правдой?
Необоснованны, по моему мнению, и претензии к «Копытцам ангела» Николая Павлюка. Он, например, стремится обесценить приводимое там высказывание Пантелеймона Кулиша о «полупьяной музе Шевченко». Павлюк указывает, что раньше Кулиш говорил другое и изменил свое мнение лишь после смерти поэта, «когда Шевченко давно уже не мог дать ему достойную отповедь, а сам он окончательно убедился, что его собственной музе оказалось не по силам внушить ему ничего подобного шевченковским стихам».
Мой оппонент умалчивает (а может быть, просто не знает), что Кулиш периода 1870-х годов (когда была написана им «История воссоединения Руси», откуда взята цитата о «полупьяной музе») существенно отличается от Кулиша шевченковского времени. С тех пор Пантелеймон Александрович интеллектуально вырос, значительно пополнив свои знания по истории Украины. В результате он отказался от прежних заблуждений и нелестно отзывался не только о сочинениях Кобзаря (многие из которых сам редактировал), но и о своих ранних произведениях. Что же, Кулиш завидовал самому себе?
Столь же некорректны комментарии институтского «шевченкознавца» по поводу высказывания И. Я. Франко о Т. Г. Шевченко как о «просто среднем поэте, которого незаслуженно пытаются посадить на пьедестал мирового гения». Н. Павлюк объясняет эту фразу тяжелой болезнью Ивана Яковлевича и тут же противопоставляет ей другое высказывание, из «знаменитого» «Посвящения» к 100-летнему юбилею Кобзаря в 1914 году, где Франко говорит о «мировом значении Шевченко». Но если в 1907 году, когда было написано цитировавшееся мною письмо Франко к В. Доманицкому, классик украинской литературы действительно тяжело болел, то в 1914 году он был еще более тяжело болен (болезнь-то прогрессировала). Выходит, дело не в состоянии здоровья писателя? Видимо, необходимо определить, когда Франко писал то, что думал, а когда руководствовался другими соображениями. Сделать это несложно. Достаточно задаться вопросом: в каком случае человек бывает более искренним? Толкая речи с трибуны и сочиняя юбилейные статьи или высказываясь в узком кругу и частной переписке? Вопрос, конечно же, риторический.
Двойной стандарт применяет Н. Павлюк в ответ на упоминание мною Н. В. Гоголя, не очень высоко ценившего творчество Кобзаря. Мой оппонент многозначительно заявляет, что Гоголь Шевченко никогда не видел. (Как будто для верного суждения о произведении нужно обязательно повидать его автора!) А через два абзаца, доказывая гениальность Тараса Григорьевича, Павлюк спокойно ссылается на Герцена, тоже никогда не встречавшегося с поэтом. Где логика?
Явно неубедительно указание моего оппонента на Н. Г. Чернышевского. Приведя его слова все о том же «мировом значении Шевченко», Павлюк ехидно замечает: «Как видно, не всех „современников“ Шевченко удастся А. Каревину записать в число своих единомышленников». Видно между тем, что Павлюк не вполне разбирается в том, о чем пишет. В число современников Кобзаря у него попадает Короленко, которому ко дню смерти Тараса Григорьевича было семь лет. Что же касается Чернышевского, то значение мнения этого, по выражению Льва Толстого, «клоповоняющего господина», Павлюком слишком преувеличивается. В советское время автора «Что делать?» объявили классиком русской литературы не за талант, а за «прогрессивномыслие». Но можно ли сегодня равнять его с Гоголем или, скажем, с Афанасием Фетом (тоже не восторгавшимся Кобзарем)? Опять-таки риторический вопрос.
Впрочем, привлечение Чернышевского в качестве эксперта-шевченковеда — не самое курьезное в опусе Павлюка. В неуемный восторг его приводит опубликованный тем же «Киевским телеграфом» (16 июня с. г.) материал, в котором некий Хоменко тужится «развенчать» мою статью. Появление подобного «отклика», уверен Павлюк, означает попытку газеты откреститься от «Копытец ангела» и «сдать» их автора (т. е. меня).
Курьез заключается в том, что выступивший в качестве моего «опровергателя» Хоменко, как это отчетливо видно из им написанного, не знает биографии Т. Г. Шевченко даже в рамках куцей школьной программы. Напечатав его материал, «Киевский телеграф» дал возможность своим читателям самостоятельно сопоставить, чьи аргументы весомее. Многие полагают, что редакция газеты просто подыграла мне, подобрав в оппоненты заведомо слабого «противника». А вслед за тем «Киевский телеграф» напечатал и мой ответ (№ от 21 июля с. г.). Правда, пожалев Хоменко, редактор убрал из моего материала несколько критических стрел. Но и то, что прошло в печать, дает наглядное представление о том, кто есть кто. И если такой «специалист» попал у Павлюка в авторитеты, остается только задуматься об уровне знаний старшего научного сотрудника Института литературы.
А об этом уровне свидетельствует хотя бы следующее место из его статьи: «Сплошной выдумкой является обвинение, будто Шевченко попросту „прогулял“ деньги, якобы собранные с помощью Варвары Репниной для выкупа его родственников из крепостного состояния. В тогдашних ее письмах к Шевченко, в том числе и в приводимом А. Каревиным письме от 9 декабря 1845 г., речь идет о попытке Шевченко издать несколько выпусков альбома своих гравюр „Живописная Украина“ (подписные билеты на которые помогала распространять княжна)».
Сотруднику отдела шевченковедения стыдно не знать, что доходы от издания «Живописной Украины» должны были пойти именно на выкуп родственников Шевченко. Однако из затеи этой, по вине Тараса Григорьевича, ничего не вышло, что и вызвало упреки Репниной. Упреки, как полагает Сергей Ефремов (исследователь, которого никак нельзя заподозрить в стремлении очернить память поэта), связанные с якшанием («приятелюванням») Шевченко с «мочемордами».
Еще один тезис «Копытец ангела», возмущающий Павлюка,— упоминание об осуждении Кобзаря современниками за писание пасквилей на императрицу Александру Федоровну, выкупившую его из крепостной зависимости. Эти обвинения, заявляет мой оппонент, «напрямую списаны с жандармских протоколов». Неужели только оттуда? Платить злом на добро (в данном случае, поливать грязью женщину, благодаря которой получил свободу) считалось дурным тоном в любом цивилизованном обществе. «Недаром говорится: с хама не буде пана». Так прокомментировал поступок Шевченко первый издатель его «Кобзаря» П. И. Мартос. Карл Брюллов и Василий Жуковский, люди, также сыгравшие не последнюю роль в выкупе Тараса Григорьевича, после случившегося отказали ему в своем покровительстве. Генерал В. А. Перовский, которого многие, в том числе друзья поэта, характеризовали как человека «истинно великодушного и с ангельски добрым сердцем», искренне хотел помочь Кобзарю. Но узнав подробности его вины, отказался от своего намерения и отозвался о Шевченко как о негодяе. Очень плохо, если Павлюк всего этого не знает.
Вряд ли можно признать убедительными и доводы моего оппонента в пользу высокого, как ему кажется, уровня образованности Шевченко. Ссылка на посмертную опись шевченковской библиотеки ничего не доказывает. Опись состоит всего из 110 наименований, включая газеты, журналы, буквари, брошюры, инструкцию по гравированию, сочинения самого Шевченко и даже чистый альбом. К тому же большинство книг Тарас Григорьевич не покупал. Их дарили ему знакомые и, по свидетельству очевидцев, валялись эти книги в беспорядке на полу, оставаясь непрочитанными.
Мало что дает для выяснения вопроса об образованности Кобзаря и так называемый «Дневник» Шевченко. Более чем странно, что профессиональный шевченковед именует это сочинение дневником (без кавычек). Настоящие специалисты знают, что сам поэт свои записки дневником не называл. Да они и не были таковыми. Дневник пишется для себя и не предназначен для посторонних глаз. Упомянутое же произведение изначально составлялось в расчете на будущих читателей. С помощью этих записок Шевченко хотел подать себя как образованного человека. Вот и сыпал именами писателей и других известных людей, названиями книг, суждениями на различные темы. И при этом часто попадал впросак.
Так, Тарас Григорьевич называет Фультона изобретателем паровоза («перепутал паровоз с пароходом»,— комментирует это место Ефремов). Рассказывает о своем знакомстве со Львом Толстым, которого тогда не было в Петербурге. (Исследователи думают, что автор записок перепутал писателя с его братом.) Сообщает о встрече с декабристом Персидским (не существовало такого декабриста). В записи от 30 сентября Шевченко говорит, что только что прочитал «Рассказ маркера» Л. Толстого. Но произведение Льва Николаевича называется «Записки маркера». Вряд ли поэт ошибся бы в названии, если бы только вот-вот выпустил книгу из рук. Очевидно, он просто что-то слышал о произведении и по памяти воспроизвел название в «Дневнике». И т. д.
И, конечно же, совершенно неприемлемыми являются комментарии Павлюка к «истории с Машей». Он, правда, называет этот «инцидент» «неприглядным», но считает его исчерпанным на том основании, что Шевченко извинился перед Сошенко. Однако пострадавшей стороной был не только и не столько Сошенко, сколько Маша. История с ней — большое пятно на совести Тараса Григорьевича, которое еще более увеличивается в свете его творчества. Указания на «донжуанство» Пушкина никого не оправдывают. «Донжуанство» еще не синоним подлости. Кроме того, сравнивать двух литераторов неправомерно. Пушкина справедливо ценят как великого поэта. Но никто никогда не выставлял его в качестве образца для подражания, человека несомненных моральных принципов, могущего служить примером для юного поколения.
Отношение к Шевченко у нас принципиально иное. На него указывают как на пример, на котором надо воспитывать молодежь. Его тщательно оберегают от критики. Призывают «жить по Тарасу», сверять с ним каждый свой шаг. Когда-то так относились к Ленину. Чем закончилось? Когда правда о «самом человечном человеке» вышла наружу, многие испытали шок. Когда-нибудь выйдет на свет вся правда и о Шевченко. И что тогда? Опять шок для миллионов людей, в сознании которых сегодня насаждается образ непогрешимого Тараса.
Тарасу Григорьевичу, безусловно, нужно отдать дань уважения как поэту. Но нельзя делать из него кумира, формировать в обществе такое отношение к Шевченко, когда к нему на поклон идут «неначе грішники до Бога» (как поется в известной песне). Вот об этом написано в «Копытцах ангела».
Разумеется, свое мнение я никому не навязываю. Хочет кто-то молиться на «батьку Тараса»? Пожалуйста. Но не надо свои субъективные суждения выдавать за глас народа. Павлюк со своими «ослиными ушами» и Матиос с революционной кровожадностью — это еще не народ. Их мнение — не истина в последней инстанции. Никакого «повсеместного возмущения статьей А. Каревина» нет. Есть отклики — положительные, отрицательные. Каких больше? Никто не считал. Замечу только, что для справедливой оценки моей статьи нужно не вопрошать: «Как он посмел замахнуться на нашу святыню?» Следует ставить вопрос: «Насколько написанное в «Копытцах ангела» — правда?» И раз все изложенное там соответствует действительности (а никто до сих пор не смог опровергнуть ни одного приводимого мною факта) — возмущаться излишне. Правда все равно останется правдой.
Первая киевская
«Лучше позже, чем никогда» — говорит пословица. Вообще-то эту статью надо было писать год назад — к юбилею знаменательного события из истории Киева. Но так уж случилось, что та круглая дата осталась незамеченной большинством отечественных СМИ. А потому, руководствуясь вышеприведенной народной мудростью, отметим годовщину некруглую. 14-го (2-го — по старому стилю) марта исполняется 131 год со дня проведения в Киеве первой городской переписи населения.
Городские переписи проводились в Российской империи с 1862 года. Начали с Петербурга. Затем, в течении десяти с небольшим лет подобный учет населения провели во множестве городов — от Москвы до каких-нибудь Верхнеуральска, Цивильска или Таганрога. На Украине в число «переписанных» попали Екатеринослав, Житомир, Одесса, Харьков. А вот Киев, будучи по своему историческому значению одним из главнейших городов России, оказался отстающим.
Наверное, поэтому киевский генерал-губернатор Александр Дондуков-Корсаков выступил с инициативой проведения здесь однодневной статистической переписи. Соответствующее предложение он подал министру внутренних дел Александру Тимашеву. Тот, в свою очередь, доложил о нем Александру II. Вскоре, «во исполнение Высочайшего повеления», начались подготовительные работы «для приведения в точную известность числа жителей города Киева, состава населения и размещения его в различных частях города».
Первоначально перепись назначили на ноябрь 1873-го года, но чтобы лучше подготовиться, ее проведение отсрочили на несколько месяцев. Сбор данных и их обработку поручили Юго-Западному отделу Императорского Русского географического общества (ИРГО). Отдел с задачей, в основном, справился. Данные были собраны, обработаны и изданы, благодаря чему сегодня мы имеем возможность получить четкое представление,— какой была наше нынешняя столица в то далекое время.
Население Киева насчитывало тогда 116 тысяч человек. Это непосредственно в городе. Перепись, однако, проводилась не только там. В документах Юго-Западного отдела ИРГО отмечалось, что некоторые предместья Киева (Шулявка, Соломенка, Протасов Яр, Демиевка, Саперная слободка, а также поселки около кладбища на Байковой горе), хотя и находятся за городской чертой, но «составляют существенную часть города Киева, как по занятиям жителей, так и по своему значению в общей городской жизни». С учетом этих предместий численность жителей увеличилась до 127 тыс. человек. Из них — почти 72 тыс. мужчин и более 55 тыс. женщин.
Коренные киевляне составляли меньшинство населения — всего 28,3 %. Остальные обитатели города являлись уроженцами других регионов Украины (45,5 %), Великороссии (13,2 %), Белоруссии (8,2 %), прочих частей империи и иных стран (менее 5 %). Как видим, абсолютное большинство (почти 74 %) проживающих в Киеве людей родились в Украине. Это, между прочим, наглядно опровергает утверждения некоторых «национально сознательных» авторов о будто бы имевшем месте при царизме целенаправленном заселении украинских городов выходцами из Великороссии, чем наши профессиональные «патриоты» и пытаются объяснить русскоязычность городского населения.
Кстати, о языке. Согласно данным киевской переписи, 38 % горожан считали родным общерусский (русский литературный) язык, 30,2 % — малорусское наречие, 7,6 % — великорусское наречие, 1,1 % — белорусское наречие. Всего, таким образом, русский язык в его разновидностях являлся родным для 77 % киевлян. Из остальных языков стоит упомянуть еврейский (родной для 10 % жителей Киева), польский (он был родным для 6 % киевлян) и немецкий (немецкоязычными являлись 2 % обитателей города).
Позднее выяснилось, что количество тех, кто назвал родным малороссийское наречие, с помощью различных манипуляций было завышено. Неудивительно — Юго-Западный отдел ИРГО представлял собой рассадник украинофильства. Непосредственно переписчиками руководил никто иной, как Павел Чубинский (автор слов «Ще не вмерла Україна»). Примечательно, впрочем, другое. Даже ярые украинофилы не отождествляли великорусский и русский литературный языки. В то время все понимали, что русский литературный язык является общерусским, т. е. не исключительно великорусским, но и украинским (малорусским), и белорусским культурным языком.
По вероисповеданию население Киева было преимущественно православным (77,5 %). 10,8 % киевлян исповедовали иудаизм, 8,1 % — католицизм, 2,1 % являлись протестантами. Остальные религии имели в городе незначительное число приверженцев. Караимов, например, насчитывалось всего 154, мусульман — 86, униатов — 31. Имелось в наличии даже три язычника.
Учитывала перепись также количество домов. В Киеве насчитывалось 10 669 жилых строений, составляющих 6375 дворов. При этом дома только в 147 дворах (в основном в центре города) были снабжены водопроводом. 1420 дворов имели колодцы, а через 103 двора протекали речки или ручьи. Обитателям остальных приходилось ходить за водой к более или менее близко расположенным водоемам.
Что касается жилых домов, то 65 % из них были деревянные, около 15 % — смешанные (построенные из дерева и камня), 12 % — каменные, остальные — мазанки, землянки и т. п. 9069 домов представляли собой одноэтажные строения, 1419 были двухэтажными, 160 — трехэтажными, 18 — четырехэтажными и только три пятиэтажными. Более высоких жилых зданий в Киеве тогда не строили.
В домах насчитывалось 21 203 квартиры, 652 из них переписчики по каким-то причинам не описали. В остальных насчитали 62 297 комнат. Более 40 % квартир были бесплатными. Квартплата в прочих колебалась в зависимости от числа комнат и от местоположения. К примеру, в центральной — Дворцовой части города, минимальная месячная плата за однокомнатную квартиру равнялась одному рублю. А на Демиевке такую квартиру можно было снять и за 40 копеек в месяц.
Кроме того, перепись установила, что в Киеве имелось: 17 ресторанов, 82 трактира, 715 питейных заведений, 105 гостиниц и постоялых дворов, 696 магазинов (не считая книжных), 32 парикмахерских, 13 больниц, 18 аптек, 9 банков, 13 фотоателье, 6 детских приютов, 4 богадельни и 29 домов терпимости. Любопытно, что последние были отнесены переписчиками к категории заведений, «имеющих отношение к общественному здравию».
Культурные потребности киевлян и гостей города обеспечивали два театра, восемь библиотек, 14 книжных и нотных магазинов. А еще в городе функционировало 63 учебных заведения. В том числе два высших — университет святого Владимира и духовная академия. Правда, с грамотностью в Киеве обстояло не очень хорошо. 49 % жителей города в возрасте старше семи лет не умели ни читать, ни писать. Но эта проблема решалась, причем решалась успешно (как, впрочем, и везде в царской России). И доказательством этому являются результаты еще одной киевской переписи. Ее провели спустя 45 лет, почти день в день — 16 марта 1919 года. Она тоже была своего рода первой. Первой после установления (еще не окончательного) в городе советской власти.
Население Киева составляло тогда уже 544 тысяч человек (255 тысяч мужчин и 289 тысяч женщин). А неграмотных (в возрасте семь лет и старше) было в 1919-м году всего 19,7 %. Разумеется, большинство горожан овладели грамотой не в два последних предшествовавших переписи года (когда нормальный учебный процесс был просто невозможен), а еще до революции, в царское время.
Неизвестная война Победу России украли две революции… [7]
До 1917 года ее называли Второй Отечественной. Затем — Империалистической, Мировой, Первой мировой. Для большинства наших соотечественников она остается неизвестной войной, как бы заслоненной последующими бурными событиями. 1 августа исполняется 90 лет со дня ее начала. Что же это была за война?
Смерть в Сараево
Утром 28 июня 1914 года боснийский город Сараево напоминал растревоженный улей. Еще бы! Только что было совершено покушение на прибывшего сюда после участия в военных маневрах эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола (Босния входила тогда в состав Австро-Венгрии). К счастью, покушение не удалось. Брошенная террористом бомба, попав на откинутый верх машины эрцгерцога, скатилась на мостовую и лишь потом взорвалась, ранив несколько посторонних лиц. Покушавшийся был схвачен полицией.
Франц Фердинанд продемонстрировал завидное хладнокровие. Сам легко оцарапанный осколком, он приказал шоферу остановиться, осведомился о числе пострадавших, дождался, пока их отправят в больницу, мельком взглянул на своего несостоявшегося убийцу, назвал его сумасшедшим и… поехал на торжественный прием в свою честь, устраиваемый в ратуше властями. Горожане оживленно обсуждали случившееся и радовались, что все обошлось. Но радость оказалась преждевременной.
После приема в ратуше эрцгерцог выразил желание проведать раненных во время террористического акта людей, а затем, как это и предусматривалось программой визита, посетить городской музей. Кое-кто из сопровождавших престолонаследника опасался повторного покушения, но Франц Фердинанд настоял на своем. Да и военный губернатор Боснии генерал Оскар Потиорек заверял, что приняты все меры безопасности. Автомобильный кортеж вновь двинулся по той же переполненной народом улице, по какой прибыл в ратушу. На одном из перекрестков ехавший вместе с эрцгерцогом и его супругой Потиорек что-то сказал водителю. Машина замедлила ход. И в этот момент выскочивший из толпы молодой человек подбежал к автомобилю и дважды выстрелил из браунинга. Первая пуля попала престолонаследнику в шею, от чего у него изо рта фонтаном хлынула кровь. Вторая — угодила в живот его жене. «София, не умирай, останься жить для наших детей»,— успел прохрипеть Франц Фердинанд. Это были его последние слова. Супруга эрцгерцога скончалась через несколько минут.
Кто стоял за спиной террористов? Поскольку они оказались сербами по национальности, Австро-Венгрия поспешила обвинить во всем официальный Белград. Позднее, когда Европа уже пылала в огне боевых действий, выяснилось, что организаторов убийства нужно было искать не там. Следы от рядовых исполнителей вели не в правительство Сербии, а в масонские ложи Парижа и Берлина. Но это обнаружилось потом (впервые данные о причастности масонов всплыли в октябре 1914 года во время судебного процесса над участниками покушения). Летом же того года Вена предъявила сербам ультиматум и постаралась разжечь конфликт. «Чисто политическая победа, даже если она закончится вполне очевидным унижением Сербии, не будет иметь никакой цены, и поэтому требования, которые будут предъявлены Сербии, должны быть таковыми, чтобы можно было наперед предвидеть, что они будут отвергнуты»,— такое решение принял австрийский Совет министров, готовивший почву «для радикального решения вопроса военным нападением».
Воинственную позицию Австро-Венгрии всячески поддерживала союзная ей Германия. «Теперь или никогда»,— заявил кайзер Вильгельм II. У Берлина были свои причины способствовать нагнетанию напряженности. Там с тревогой смотрели, как с каждым годом растет мощь соседней Российской империи, традиционной союзницы сербов. «После войны в Маньчжурии в военном деле России наблюдается значительный подъем,— отмечалось в секретной записке германского Генерального штаба, датированной 1913 годом.— В связи с быстрым хозяйственным ростом государства появилась возможность предоставить управлению армии средства, значительно превосходящие расходы всех других держав на оборону страны». Начальник Генерального штаба Гельмут фон Мольтке в докладе на имя статс-секретаря по иностранным делам утверждал: «Боевая готовность России со времени Русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда еще не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить, что она некоторыми чертами превосходит боевую готовность других держав, включая Германию».
В 1917 году должна была завершиться реорганизация русской армии, после чего она стала бы еще сильнее. Поэтому вполне понятно, что милитаристские круги Германии стремились втянуть Петербург в конфликт до того, как это произойдет. Лучшего предлога, чем нападение на Сербию, немцы не могли даже представить. Царская Россия никогда бы не бросила союзницу на произвол судьбы. И в Берлине сделали все, чтобы убедить Австро-Венгрию начать агрессию. По совету Николая II сербы проявили максимальную уступчивость. Они приняли все пункты австрийского ультиматума, кроме одного, ведущего к фактическому подчинению сербских следственных органов австрийским при поиске на территории страны сообщников сараевских террористов. Такой ответ был признан удовлетворительным дипломатами всех европейских стран. Но только не австрийскими. В Вене жаждали крови. 28 июля, ровно через месяц после теракта, Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Австрийская артиллерия обстреляла Белград.
Дальнейший ход событий был предопределен. Россия начала всеобщую мобилизацию. Германия потребовала ее отмены. Получила отказ. «Мы далеки от того, чтобы желать войны,— телеграфировал Николай II кайзеру.— Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких военных действий. Я даю тебе в этом мое слово». Но Вильгельму II мир был не нужен. 1 августа (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну России. 3 августа — Франции (союзнице России). Немецкие войска оккупировали Люксембург и вторглись в Бельгию. 4 августа на стороне России и Франции в войну вступила Великобритания, 7 августа — Черногория, 23-го — Япония. Кроме Европы, боевые действия развернулись в Китае, немецких колониях в Африке и Океании. А когда (все в том же 1914-м) к Германии и Австро-Венгрии присоединилась Турция, а к их противникам Египет, то — и в Синайской пустыне, Закавказье, Иране, Месопотамии. Английские и немецкие эскадры сражались у берегов Южной Америки.
Мировой пожар разгорелся. За Веру, Царя и Отечество!
Известие об объявлении войны вызвало в России патриотический подъем. По стране прокатилась волна демонстраций. В Петербурге (по случаю войны с немцами переименованном в Петроград) огромная толпа народа перед Зимним дворцом пела национальный гимн «Боже, Царя храни!» и восторженно приветствовала Николая II и императрицу Александру Федоровну. Успешнее, чем ожидалось, прошла мобилизация. Вопреки осторожным прогнозам Главного управления Генерального штаба, считавшего, что на сборные пункты явятся 80 % запасных, явка была почти стопроцентной.
Пример патриотизма показывала царская семья. Почти все свои капиталы (кроме, конечно, средств, находившихся на банковских счетах в Германии, которые сразу были «заморожены» немцами) Николай II и Александра Федоровна пожертвовали на организацию лазаретов, помощь раненым и семьям погибших воинов. Несколько представителей династии (великих князей и членов императорской фамилии) отправились добровольцами на фронт. Один из них погиб в бою в сентябре 1914 года. Царица с двумя старшими дочерьми поступила на курсы медсестер. Вскоре они уже ухаживали за ранеными воинами и даже ассистировали докторам при хирургических операциях.
Боевые действия начались с захвата немцами нескольких незащищенных городов на границе. С ответом не замедлили — русская кавалерия совершила рейд вглубь германской территории. Но главные события разворачивались в то время на Западном фронте. Рассчитывая, что мобилизация русской армии затянется не меньше чем на два месяца, немецкое командование сосредоточило основные силы против Франции. Ломая сопротивление французских, английских и бельгийских войск, немецкие дивизии устремились к Парижу. Там царила паника. Французское правительство покинуло столицу. Посол Франции в Петрограде умолял царя о помощи. И хотя сосредоточение войск еще не было завершено, спасая союзников, русские вторглись в Восточную Пруссию. Не ожидавшие такого оборота событий немцы вынуждены были спешно перебрасывать войска с Западного фронта на Восточный. Париж был спасен.
В исторической литературе часто можно встретить резкую критику царя за принятое решение. Дескать, неподготовленность наступления привела к поражению, и спасение французской столицы оказалось слишком уж щедро оплачено русской кровью. Такой взгляд представляется поверхностным. Не поспеши русская армия с наступлением, Франция была бы разгромлена. Тогда России пришлось бы сражаться против Германии и Австро-Венгрии практически в одиночку. Военный потенциал Сербии и Черногории не шел ни в какое сравнение с австро-германским, а Англия и Япония предпочитали воевать в колониях. При подобном развитии событий русские потери были бы гораздо большими. Что же касается тяжелого поражения в августе 1915-го, то причиной его явилась не столько недостаточная готовность к наступлению, сколько грубые просчеты генералитета. После первых успешных боев российские военачальники умудрились просмотреть подход к немцам подкреплений с Западного фронта. В результате 2-я русская армия была окружена, и около 70 тысяч солдат и офицеров оказались в плену.
Более удачными были действия против австрийцев. Сражение, длившееся на 400-километровом фронте около месяца, закончилось разгромом врага. Австро-венгерская армия потеряла 336 тысяч солдат и офицеров (из них 120 тыс. пленными), 640 орудий, 220 пулеметов. Она почти полностью утратила боеспособность. Германцы вынуждены были срочно укреплять разваливающийся фронт союзников своими дивизиями.
В целом благоприятный для России ход войны продолжался несколько месяцев. Русские отразили наступление немцев на Варшаву, вновь начали теснить их в Восточной Пруссии, продолжали гнать на запад австро-венгров, заняли Восточную Галицию и Буковину (где были с радостью встречены местным населением как освободители). А вот дальше начались проблемы.
К весне 1915 года в русской армии явственно обозначилась нехватка боеприпасов. Из-за «снарядного голода» на многих участках фронта войска прекратили атаки. Поползли слухи о вредительстве и измене. Но измена тут была ни при чем. Все объяснялось проще. Стратегические планы, разработанные в штабах воюющих держав, предусматривали ведение военной кампании в течение полугода. И русские, и французские, и немецкие генералы были уверены, что за это время добьются победы. Соответственно рассчитывалось и количество боеприпасов. Поэтому через полгода перебои со снарядами начались у всех. Германия и Франция оперативно выправили положение подвозом всего необходимого с тыловых складов и военных заводов. Гораздо более значительной по размерам России требовалось для этого больше времени. Но времени у нее не было.
Весной 1915 года немцы и австрийцы перешли в контрнаступление. Ураганный артиллерийский огонь сметал русские окопы. Воины царской армии показали себя настоящими героями, но одного героизма при отсутствии снарядов было недостаточно. Вдобавок ко всему Верховный Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич недооценил значение первых ударов врага. Вместо того чтобы сконцентрировать войска на главных направлениях германо-австрийского натиска, он распылял силы, посылая подкрепления на второстепенные участки фронта. Итог оказался плачевным. Оборона не выдержала. Началось «великое отступление». В течение мая — августа 1915 года русские оставили большую часть только что освобожденной Галиции, Буковину, а также Польшу, Литву, Курляндию, Западную Волынь и Западную Белоруссию. Над Россией нависла угроза разгрома. В войсках наблюдался упадок боевого духа. Командование растерялось. В Совете министров обсуждался вопрос об эвакуации Киева. Тем временем доблестные союзники — Франция и Англия — вовсе не торопились оказывать России услугу, аналогичную той, которую сами получили от нее в августе 1914-го. На западном фронте особой активности не наблюдалось, что позволяло немцам перебрасывать на восток все новые и новые дивизии.
В это время и возглавил русскую армию император Николай II, сместив с поста Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. «Сего числа я принял на себя предводительство всеми сухопутными и морскими силами, находящимися на театре военных действий,— говорилось в царском приказе от 23 августа 1915 года.— С твердой верой в помощь Божью и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты родины до конца и не посрамим земли Русской».
И вновь-таки впоследствии многие, очень многие историки (особенно советские) критиковали царя за этот шаг. Заявляли о «бездарном руководстве», ехидно замечали, что император имел только чин полковника («до большего не дослужился») и т. п. Между тем сравнительно низкое воинское звание Николая II объясняется просто. Он вступил на престол в 26-летнем возрасте после преждевременной смерти отца. К тому времени он и был полковником. Дальнейшее же повышение в чинах для царствующих особ не было предусмотрено законом. Русские императоры не считали возможным производить сами себя в маршалы и генералиссимусы (этим они очень отличались от советских генсеков). Не соответствовал действительности и тезис о «бездарном руководстве» войсками. Факты как раз говорят об ином.
Николай II принял командование не на победном марше, а в годину тяжелых поражений. «История часто видела монархов, становившихся во главе победоносных армий для легких лавров завершения победы. Но она никогда не встречала венценосца, берущего на себя крест возглавить армию, казалось, безнадежно разбитую, знающего заранее, что здесь его могут венчать не лавры, а только тернии»,— замечал выдающийся военный историк, автор четырехтомной «Истории Русской армии» Антон Керсновский, назвавший решение царя «единственным выходом из создавшейся критической обстановки».
От поражения к победам
Принятие командования государем благоприятно сказалось на моральном состоянии солдат. Уже в сентябре 1915 года русская армия нанесла противнику ряд ощутимых ударов. Продвижение германцев было остановлено, а на австрийском фронте русским даже удалось отвоевать часть территории. С осени до весны бои шли с переменным успехом, а в мае 1916 года началось новое русское наступление. В гигантской битве (так называемый «Брусиловский прорыв») австро-германские войска потеряли 1,5 млн. человек (в том числе 400 тыс. пленными), русские — 600 тысяч. Вновь была освобождена значительная часть Галиции, Буковины, Волыни. Германия и ее союзники стояли перед катастрофой и ничто, казалось, уже не могло предотвратить ее. В конце 1916 года врагу был нанесен новый удар. На этот раз внезапной атакой был прорван германский фронт у Митавы, под Ригой. Застигнутые врасплох немцы в панике отступали. Но…
В России уже зрел заговор против монархии. Участвовали в нем и высшие должностные лица армии. Всякий военный успех работал на авторитет царя, а значит, был не нужен заговорщикам. Напрасно командиры наступавших под Митавой дивизий просили о подкреплениях. Исполняющий должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерал Василий Гурко и главнокомандующий Северным фронтом генерал Николай Рузский (оба входили в руководящее ядро заговора) отказались вводить в бой резервы. Продвинувшись на несколько километров, войска вынуждены были остановить наступление. Это была последняя крупная операция императорской армии. Через два месяца разразилась Февральская революция.
Уже потом, оказавшись у разбитого корыта, вожди Февраля признавались, что специально торопили события, чтобы перехватить у Николая II лавры победителя. «Ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или в начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования»,— писал в 1918 году в частном письме один из лидеров либеральной оппозиции Павел Милюков.
«Февралисты» не учли многого и прежде всего — психологии русского солдата. Мужики в шинелях, порядком уставшие от войны, готовы были умирать за своего царя, в котором видели помазанника Божия, но не за кучку сытых господ, именуемых «Временным правительством». После революции дисциплина в войсках резко упала. Армия стремительно утрачивала боеспособность. Солдаты отказывались воевать. К октябрю 1917 года русского фронта практически не существовало. Перемирие, подписанное большевиками 2 декабря 1917 года, лишь формально зафиксировало реальное положение дел.
Получив передышку на Востоке, Германия перегруппировала свои силы и еще год сопротивлялась чуть ли не всему миру. В состоянии войны с ней, кроме тех, кто вступил в схватку в 1914 году, находились Италия, Португалия, Румыния, Соединенные Штаты, Греция, Китай, Бразилия и даже Панама, Коста-Рика и Гондурас. Все эти страны получили от победы свои дивиденды. Лишь Россия, затратившая в борьбе с общим врагом больше всего сил, осталась ни с чем. Ее победу украли две революции — Февральская и Октябрьская…
Преступление профессора Грушевского
Язык разлучил первого президента и классика Нечуя-Левицкого
Апрель 1918 года… По просьбе Центральной Рады германская армия оккупирует Украину. Официально объявлено, что «союзные немецкие войска» явились для защиты страны от большевиков. Под охраной оккупантов пригласившие их деятели пытаются укрепить свою власть и угодничают перед «союзниками». Председатель Центральной Рады Михаил Грушевский пишет статьи о «внутреннем родстве» украинцев и немцев, о давнем тяготении украинской нации к «близкому ей по духу и натуре» западному миру, «в первую очередь к миру германскому». Произносятся торжественные речи об «украинско-немецком братстве», о грядущем «национальном возрождении Украины».
А в это время в Киеве умер старый человек. В этом не было бы ничего необычного (многие тогда умирали), если бы не одно обстоятельство. Умершего звали Иван Семёнович Левицкий. Широкая публика знала его под псевдонимом Нечуй-Левицкий. Известный украинский писатель в независимой Украине по праву должен был пользоваться почетом и уважением. Между тем умер Нечуй-Левицкий в полной нищете в одной из киевских богаделен.
Как же так получилось? У власти стояли люди, называвшие себя патриотами. Их прямой обязанностью было позаботиться о человеке, чьи произведения являлись украшением украинской литературы. Вместо этого писатель оказался лишен всех средств к существованию. А ведь Михаил Грушевский был лично обязан Ивану Семёновичу. В свое время именно Нечуй-Левицкий взял под свое покровительство тогда еще никому не известного гимназиста, стал его наставником в литературных занятиях, рекомендовал к печати первые произведения будущего главы украинского государства. И теперь такая неблагодарность. Почему?
Биографы писателя, как правило, обходят этот вопрос. Говорят лишь, что время тогда было тяжелое, что печальная судьба — умереть в нищете — характерна для многих выдающихся людей… Общие, ничего не объясняющие фразы. Но объяснение все-таки есть.
Язык как яблоко раздора
Ключ к разгадке — ссора между Грушевским и Нечуем-Левицким. Произошла она из-за расхождений по вопросу, который, казалось бы, споров у них вызывать не должен. По вопросу об украинском языке.
Как известно, вплоть до революции 1917 года во всех сферах общественной жизни Украины (кроме западной ее части, входившей в состав Австро-Венгрии) господствовал русский язык. Для культурных украинцев он был родным. Люди же малообразованные говорили на местных просторечиях, лексикон которых ограничивался минимумом, необходимым в сельском быту. Если возникала потребность затронуть в разговоре тему, выходившую за рамки обыденности, простолюдины черпали недостающие слова из языка образованного общества, то есть из русского.
Все это не нравилось деятелям украинского движения (украинофилам). Они (в том числе Нечуй-Левицкий и Грушевский) считали необходимым вырабатывать, в противовес русскому, самостоятельный украинский язык. Однако при этом Иван Семёнович был уверен, что вырабатывать язык следует на народной основе, опираясь на сельские говоры Центральной и Восточной Украины. А вот его бывший ученик стоял на иной позиции. Перебравшись в 1894 году на жительство в австрийскую Галицию, Михаил Грушевский завязал тесные контакты с тамошними украинофилами. У последних был свой взгляд на языковой вопрос. По их мнению, говоры российской Украины являлись сильно русифицированными, а потому недостойными стать основой украинского литературного языка. При издании в Галиции сочинений украинских писателей из России (Коцюбинского, Кулиша, Нечуя-Левицкого) народные слова беспощадно выбрасывались, если такие же (или похожие) слова употреблялись в русской речи. Выброшенное заменялось заимствованиями из польского, немецкого, других языков, а то и просто выдуманными словами. Таким образом, галицкие украинофилы создавали «самостоятельный украинский язык». В это языкотворчество включился и Грушевский.
Поначалу ничто не предвещало разрыва с Нечуем-Левицким. Иван Семёнович тоже считал нужным «бороться с русификацией», даже благодарил Грушевского за «исправление ошибок» в своих произведениях. Однако «исправлений» становилось все больше. Получалась уже не чистка от «русизмов», а подмена всего языка. Писатель обратился к галичанам с просьбой умерить пыл. Но от него отмахнулись.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не перемены в России. В 1905 году был отменен запрет на издание украиноязычной прессы. «Национально сознательные» галичане сочли, что настал момент для распространения своего языка на всю Украину. С этой целью стали открываться газеты, журналы, книгоиздательства. «Языковой поход» на восток возглавил Грушевский. Тут и выяснилось, что создавать язык на бумаге легче, чем навязывать его людям. Такая «рідна мова» с огромным количеством польских, немецких и выдуманных слов еще могла кое-как существовать в Галиции, где украинцы жили бок о бок с поляками и немцами. В российской Украине галицкое «творение» восприняли как абракадабру. Печатавшиеся на ней книги и прессу местные жители просто не могли читать. «В начале 1906 года почти в каждом большом городе Украины начали выходить под разными названиями газеты на украинском языке,— вспоминал один из наиболее деятельных украинофилов Юрий Сирый (Тищенко).— К сожалению, большинство тех попыток и предприятий заканчивались полным разочарованием издателей, были ли то отдельные лица или коллективы, и издание, увидев свет, уже через несколько номеров, а то и после первого, кануло в Лету».
Причина создавшегося положения заключалась в языке. «Помимо того маленького круга украинцев,— отмечал Сирый,— которые умели читать и писать по-украински, для многомиллионного населения российской Украины появление украинской прессы с новым правописанием, с массой уже забытых или новых литературных слов и понятий и т. д. было чем-то не только новым, но и тяжелым, требующим тренировки и изучения». Но «тренироваться» и изучать совершенно ненужный, чужой язык (пусть и называемый «рідною мовою») украинцы не желали. В результате — украиноязычные периодические издания практически не имели читателей. «Национальное возрождение» грозило обернуться катастрофой.
«Чертовщина под украинским соусом»
Нечуй-Левицкий тяжело переживал неудачу. Он попытался еще раз образумить Грушевского. Но тот не желал признавать, что с введением новых слов перестарался. И тогда Иван Семёнович выступил публично. Свои взгляды писатель изложил в статье «Современный газетный язык на Украине» и брошюре «Кривое зеркало украинского языка». Он протестовал против искусственной полонизации украинской речи, замены народных слов иноязычными, приводил конкретные примеры. Так, вместо народного слова «держать», указывал Нечуй-Левицкий, вводят слово «тримати», вместо народного «ждать» — слово «чекати», вместо «предложили» — «пропонували», вместо «ярко» — «яскраво», вместо «обида» — «образа», вместо «война» — «війна» и т. д. Известное еще из языка киевских средневековых ученых слово «учебник» Грушевский и К° заменили на «підручник», «ученик» — на «учень», вместо «на углу» пишут «на розі» («и вышло так, что какие-то дома и улицы были с рогами, чего нигде на Украине я еще не видел»).
Сам не безгрешный по части выдумывания слов, Иван Семёнович считал торопливость тут недопустимой, так как слишком большого количества нововведений народ «не переварит». Он пояснял, что в основе таких замен лежит желание сделать новый литературный язык как можно более далеким от русского. «Получилось что-то и правда уж слишком далекое от русского, но вместе с тем оно вышло настолько же далеким от украинского»,— заметил Нечуй-Левицкий. Польским влиянием объяснял писатель введение форм «для народу», «без закону», «з потоку», «такого факту», в то время как на Украине говорят: «для народа», «без закона», «с потока», «такого факта». Крайне возмущала его и «реформа» правописания с введением апострофа и буквы «ї»: «Крестьяне только глаза таращат и все меня спрашивают, зачем телепаются над словами эти хвостики»,— возмущался он.
Классик украинской литературы настаивал на том, что украинский литературный язык нельзя основать на «переходном к польскому» галицком говоре, к которому добавляют еще «тьму чисто польских слов: передплата, помешкання, остаточно, рух (да-да, это тоже не украинское слово.— Авт.), рахунок, співчуття, співробітник». Указав на множество таких заимствований («аркуш», «бридкий», «брудний», «вабити», «вибух», «виконання», «віч-на-віч», «влада», «гасло», «єдність», «здолати», «злочинність», «зненацька», «крок», «лишився», «мешкає», «мусить», «недосконалість», «оточення», «отримати», «переконання», «перешкоджати», «поступ», «потвора», «прагнути», «розмаїтий», «розпач», «свідоцтво», «скарга», «старанно», «улюблений», «уникати», «цілком», «шалений» и много-много других, не хватит газетной полосы, чтобы привести все) Иван Семёнович констатировал: это не украинский, а псевдоукраинский язык, «чертовщина под якобы украинским соусом».
Следует еще раз подчеркнуть: Иван Нечуй-Левицкий был убежденным украинофилом. Не меньше Грушевского и его компаньонов хотел он вытеснения из Украины русского языка. Но, стиснув зубы и скрепя сердце, вынужден был признать: этот язык все же ближе и понятнее народу, чем навязываемая из австрийской Галиции «тарабарщина».
Разоблачения Нечуя-Левицкого вызвали шок в «национально сознательных» кругах. На него нельзя было навесить ярлык «великорусского шовиниста» или замолчать его выступление. Грушевский попытался оправдываться. Он признал, что пропагандируемый им язык действительно многим непонятен, «много в нем такого, что было применено или составлено на скорую руку и ждет, чтобы заменили его оборотом лучшим», но игнорировать этот «созданный тяжкими трудами» язык, «отбросить его, спуститься вновь на дно и пробовать, независимо от этого „галицкого“ языка, создавать новый культурный язык из народных украинских говоров приднепровских или левобережных, как некоторые хотят теперь,— это был бы поступок страшно вредный, ошибочный, опасный для всего нашего национального развития».
Грушевского поддержали соратники. Ярый украинофил Иван Стешенко даже написал специальную брошюру по этому поводу. В том, что украинский литературный язык создан на галицкой основе, по его мнению, были виноваты сами российские украинцы. Их, «даже сознательных патриотов», вполне устраивал русский язык, и создавать рядом с ним еще один они не желали. «И вот галицкие литераторы берутся за это важное дело. Создается язык для институций, школы, наук, журналов. Берется материал и с немецкого, и с польского, и с латинского языка, куются и по народному образцу слова, и все вместе дает желаемое — язык высшего порядка. И, негде правды деть, много в этом языке нежелательного, но что было делать?» Впрочем, уверял Стешенко, язык получился «не такой уж плохой». То, что он непривычен для большинства украинцев,— несущественно. «Не привычка может перейти в привычку, когда какая-то вещь часто попадает на глаза или вводится принудительно. Так происходит и с языком. Его неологизмы, вначале „страшные“, постепенно прививаются и через несколько поколений становятся совершенно родными и даже приятными»,— уговаривал Стешенко.
Однако такие пояснения никого не убедили. «Языковой поход» провалился. Грушевский и его окружение винили во всем Нечуя-Левицкого, якобы нанесшего своим выступлением вред делу «распространения украинского языка». «Приверженцы профессора Грушевского и введения галицкого языка у нас очень враждебны ко мне,— писал Иван Семёнович.— Хотя их становится все меньше, потому что публика совсем не покупает галицких книжек, и Грушевский лишь теперь убедился, что его план подогнать язык даже у наших классиков под страшный язык своей „Истории Украины-Руси“ потерпел полный крах. Его истории почти никто не читает».
Справедливости ради надо сказать, что «Историю Украины-Руси» не читали не только из-за языка. Это сегодня Михаила Грушевского объявили «великим историком». Современники его таковым не считали. Некоторые ученые в частных разговорах называли этого деятеля «научным ничтожеством». Но признаться в собственном ничтожестве Грушевский не мог даже самому себе. Проще было винить во всем Нечуя-Левицкого. И профессор затаил злобу.
Вендетта по-украински
Возможность отомстить появилась у него после 1917 года. Грушевский вознесся к вершинам власти. Ивану Семёновичу повезло меньше. В царской России он жил на пенсию. Но царской России больше не было. Да и Украина стала независимой. Пенсию платить перестали. Старый писатель остался совсем без денег. Некоторое время помогали знакомые. Однако общее понижение уровня жизни затронуло и их. Ждать помощи было неоткуда…
Мария Гринченко (вдова Бориса Гринченко) попыталась хлопотать о назначении писателю пособия. Она обратилась в министерство просвещения. Вот тут и вспомнились старые обиды. В министерстве всем заправлял Иван Стешенко. Правда, отказать прямо он не посмел. Наоборот, обещал помочь, но, естественно, обещания не выполнил. Так же повели себя другие высокопоставленные чиновники. Сам «старый мерзавец» (так небезосновательно называл в своем дневнике Михаила Грушевского известный украинский ученый Сергей Ефремов) сделал вид, что его этот вопрос не касается…
…А несчастный старик оказался в богадельне и медленно угасал от хронического недоедания. Уже потом, когда писатель умер, деятели Центральной Рады заявили, что хотели назначить ему пенсию, даже приняли такое решение, но, дескать, опоздали. Наивная ложь людей, каждый из которых мог выдать нужную сумму просто из собственного кармана. И тысячу раз был прав галицкий литератор Осип Маковей, осудивший центральнорадовских «заумных лилипутов-политиков», распоряжавшихся миллионами, но пожалевших немного денег для того, кто лилипутом не был…
Хоронили писателя торжественно. За счет государства. Правда, перед этим тело покойного тайно перевезли в Софийский собор (как-то неудобно было устраивать «торжественные похороны» из богадельни). За гробом шли представители правительства, может быть, и сам Грушевский…
Ну, а «крамольные» произведения Ивана Семёновича предали забвению. Между тем они актуальны и сегодня. Созданный в Галиции язык был включен в школьную программу во время советской украинизации 1920-х годов и так в ней и остался. Через несколько поколений он стал привычным. Прогноз Стешенко оправдался. Но оправдался и прогноз Нечуя-Левицкого: привычное все равно не стало родным. Не секрет, что даже среди тех, кто называет украинский язык «рідною мовою», многие признают, что им легче говорить на русском. Объясняют этот «парадокс» чем угодно — «русификацией», «манкуртизацией» и т. п. А следует почитать забытые труды Нечуя-Левицкого. Многое станет понятным…
…Иван Семёнович оказался прав. За это и поплатился. В апреле исполнилось 86 лет со дня его смерти. Годовщина не круглая. И все-таки стоит вспомнить. Чтобы многое не повторилось уже на новом витке истории…
Вот такой вот отаман… Взлеты и падения Симона Петлюры
Так за что же, ради Бога, вы, украинцы, считаете этого человека вождем? Ведь вы называете себя великой культурной нацией, вы не готтентоты, у которых не нужно никаких культурных ценностей, чтобы быть вождем, хотя и они требуют от своих вождей своеобразного знания, умелости, храбрости, мужества, самоотдачи. Но разве было хоть это у Петлюры?
Владимир ВинниченкоДолгое время его называли «злейшим врагом украинского народа», «главарем контрреволюционных банд», «предателем, продававшим Украину всем желающим». Сегодня для многих он — «великий патриот», «герой украинской революции», «вождь национально-освободительного движения, отдавший жизнь за свободу Украины». В мае исполняется 125 лет со дня его рождения. По этому поводу Верховная Рада приняла постановление о чествовании памяти «выдающегося государственного и общественного деятеля». Кем же на самом деле был Симон Васильевич Петлюра?
Родился он в пригороде Полтавы в семье извозчика. В детстве ничем особым не выделялся. Помогал отцу, учился в бурсе, затем в семинарии. Учеба давалась ему нелегко. Уже после первого курса семинарии Семёна (таким было его настоящее имя) оставили на второй год. Да и в дальнейшем он не блистал успехами. В конце концов, из семинарии его исключили. Некоторое время спустя Петлюра попытался сдать экзамены за семинарский курс экстерном, но провалился. Так и остался недоучкой. А таким был прямой путь в революцию.
По этой дорожке и пошел Семён. Точнее — Симон. Еще в семинарии Петлюра стал называть себя на французский манер и требовал, чтобы так обращались к нему другие. Но и под новым именем оставался он ничем не примечательной личностью. Состоял в Революционной украинской партии (РУП). Распространял листовки. Попался. Был арестован. Освобожден под денежный залог (отцу пришлось продать единственную принадлежавшую семье десятину лесных угодий). Бежал за границу. После объявления в 1905 году амнистии вернулся на родину. Вступил в Украинскую социал-демократическую рабочую партию, образовавшуюся на руинах РУП. Но даже в этой карликовой партии он пребывал на вторых ролях.
С поражением революции заглохла и революционная деятельность Петлюры. Он устраивается в украиноязычную газету «Рада». Но пришелся не ко двору (слишком уж был малокультурным и невоспитанным). Симон Васильевич переходит в другую украиноязычную газету — «Слово». Становится ее редактором. Пишет статьи. И помимо прочего пытается свести счеты с бывшими работодателями. Он обвиняет «Раду» в… украинском национализме. (Интересная деталь: ярлык «украинский буржуазный национализм» вовсе не изобретение советских времен. До революции навешиванием этого ярлыка на оппонентов занималась редактируемая Петлюрой газета «Слово». Разве что звучало чуть-чуть по-иному: «мелкобуржуазный украинский национализм».)
В 1909 году «Слово» закрывается из-за недостатка читателей. Симон Васильевич уезжает в Петербург. Работает в частной фирме бухгалтером. Вечерами посещает заседания украинской «Громады». Вступает в масонскую ложу. Это способствует карьере. Со временем масоны помогают Петлюре переехать в Москву (там у него к тридцати годам появляется первая и единственная в его жизни женщина). Когда в 1912 году открывается журнал «Украинская жизнь», Симон Васильевич устраивается туда. Здесь встречает он начало Первой мировой войны.
На грозное событие Петлюра откликнулся специальной статьей. Призывает украинцев выполнить свой патриотический долг на поле брани. Сам же делает все возможное, чтобы уклониться от мобилизации. Масонские «братья» определяют его в Земгор — Всероссийский земский и городской союз, общественную организацию, занимавшуюся снабжением войск. Работа в Земгоре гарантировала освобождение от призыва в армию и вдобавок была очень выгодной в материальном отношении. Так «воевал» Петлюра до 1917 года.
Революция открыла перед ним новые перспективы. Симон Васильевич едет в Киев, где активизировалось украинское движение. И поспевает вовремя. Только что созданная Центральная Рада озабочена созданием собственных вооруженных сил. По ее инициативе основывается Украинский военный комитет. Но претендовавший на пост главы комитета поручик Николай Михновский не устраивал центральнорадовских политиков. Психически неуравновешенный, мнящий себя украинским Наполеоном, он никому не желал подчиняться. Других же претендентов не было. Тут и подвернулся Петлюра. Пусть не военный, но имеющий отношение к армии, послушный (как тогда думали), Симон Васильевич был подходящей кандидатурой. И оказался во главе «украинских войск». Войск, которые еще надо было создать.
В начале «славных» дел
Задача оказалась непростой. На призыв комитета откликнулись, в основном, дезертиры. Как вспоминал один из участников тех событий, эти «добровольцы» готовы были объявить себя не только украинцами, но и китайцами, лишь бы не воевать. Лозунг: «Не пойдем на фронт, пока из нас не сформируют украинские полки» пришелся им по душе. Разумеется, даже организовавшись в такие полки, дезертиры не хотели и слышать о фронте. Явившегося к ним с уговорами Петлюру они обругали, пригрозив прибить, если явится еще раз. Перепуганный Симон Васильевич урок усвоил. Создавать настоящие полки — дело рискованное. Гораздо безопаснее сидеть в кабинете и сочинять приказы, заранее зная, что никто их не будет исполнять. Этим Петлюра и занялся.
Впрочем, пока «военный комитет» был чем-то вроде «частной лавочки», «деятельность» его председателя выглядела невинной забавой. Осложнения начались после падения Временного правительства и провозглашения Украинской народной республики (УНР). Симон Васильевич стал генеральным секретарем (министром) военных дел, но продолжал «забавляться» приказотворчеством. В ответ на угрозы Совета народных комиссаров по адресу Центральной Рады Петлюра приказал украинским войскам под Петроградом начать операции против большевистской столицы.
Вряд ли можно было придумать что-то более глупое. Не было под Петроградом «украинских войск». Если только не считать таковыми солдат-украинцев Северного фронта, которые в эти дни массово бросали окопы и уходили домой. Дурацкий (ну не подберешь тут иного слова!) приказ Петлюры лишь ускорил вторжение красных в Украину. Вторжение, выявившее, чего стоят созданные Симоном Васильевичем «украинские полки». Они разбегались еще до приближения противника…
В декабре 1917 года Петлюру сместили с поста министра, обвинив в поражениях. Обвинение, по правде говоря, было не совсем справедливо. В условиях общего развала создать из дезертиров боеспособные подразделения не смог бы, наверное, и действительно мужественный человек, профессионал. Куда уж там Петлюре? Из него просто сделали козла отпущения. Но оставался он в этой роли недолго.
Успехи и неудачи
В январе 1918 года Симон Васильевич становится командиром гайдамацкого коша Слободской Украины. Кош (около 150-ти бойцов) сформировал бывший офицер Николай Чеботарёв. Но будучи человеком малоизвестным, Чеботарёв предложил командование фигуре более значительной — бывшему военному министру. Во главе коша Петлюра выступил из Киева на «большевистский фронт». Правда, понюхать пороху в тот раз ему не довелось. В украинской столице вспыхнуло восстание, и гайдамакам пришлось срочно возвращаться назад.
В биографиях Петлюры (сопоставимых по лживости разве что с биографиями «великого Сталина») рассказывается, какой небывалый героизм проявил он в боях с восставшими, как под вражеским огнем бесстрашно вел свой кош на штурм завода «Арсенал». Все это вымысел. Гайдамаки вошли в Киев, когда восстание в большинстве районов было уже подавлено. Окруженный войсками УНР «Арсенал» еще держался. Но узнав, что к осаждавшим подошло подкрепление, защитники завода пали духом. Они прекратили сопротивление.
А вот в чем действительно приняли участие петлюровцы, так это в расстрелах пленных. Наверное, не надо судить их за это строго. Шла гражданская война. Жестокость (иногда оправданная, иногда — нет) была присуща всем воюющим сторонам. Однако и героизмом расстрел безоружных людей назвать трудно. Тем более что через несколько дней гайдамаки вместе со своим «героическим» командиром дружно бежали от ворвавшихся в Киев красногвардейцев.
Вернулись они уже с немцами. По просьбе Центральной Рады германская армия развернула наступление на большевиков, выбила их с Правобережной Украины и подошла к Киеву. Чтобы создать видимость освобождения столицы украинскими войсками, немцы остановились на окраине и пропустили в уже оставленный красными город подразделения армии УНР. Среди них был и кош Слободской Украины. Но если большинство украинских формирований, пройдя парадом по киевским улицам, отправились дальше воевать, то петлюровцы не торопились. Симон Васильевич добивался своего назначения на высокий пост в правительстве и потому задержал кош. Это было ошибкой. Гайдамаки вели себя как разбойники. Каждое утро на улицах находили тела убитых и ограбленных ими людей. Терпение немцев (а реальной властью были они) лопнуло быстро. Кош вывели из города и расформировали. Петлюру отправили в отставку. Он вновь оказался не у дел.
Выручили масонские связи. Симона Васильевича сделали главой киевского губернского земства. В этой должности он встретил гетманский переворот. В отличие от большинства украинских деятелей, глава киевских земцев не перешел в оппозицию сразу. Наоборот, он зачастил к Скоропадскому, выпрашивая кредит в сто миллионов рублей («на земскую деятельность»). Гетман не возражал. Однако предложил, чтобы деньги выделялись для уплаты по определенным счетам. Петлюра же хотел получить всю сумму в полное и бесконтрольное распоряжение. Отказ толкнул его в лагерь врагов гетманского режима.
Оппозиция не очень тревожила Скоропадского. С ней практически не боролись. Лишь время от времени кого-нибудь из оппозиционеров арестовывали на несколько дней. Так поступили и с Петлюрой. Но Симону Васильевичу не повезло. Через два дня после ареста российские эсеры убили в Киеве немецкого фельдмаршала Эйхгорна. Теракт повлек за собой ужесточение репрессий. Возможно, поэтому Петлюру не освободили вовремя. А может быть, в водовороте событий о нем просто забыли. Как бы то ни было, Симону Васильевичу пришлось провести за решеткой долгих три с половиной месяца. Но нет худа без добра. Тюремное сидение подняло его авторитет. И когда Петлюра вышел на свободу, ему сразу же предложили принять участие в заговоре против гетмана.
Главный атаман
Антигетманское восстание — пик в политической карьере Петлюры. Пока остальные заговорщики совещались, Симон Васильевич втайне от них устремился в Белую Церковь. Там стоял полк галицких сечевых стрельцов — ударная сила заговора. Петлюра заявил стрельцам, что уполномочен начать восстание. Он провозгласил воссоздание УНР и объявил себя главным атаманом республиканских войск. Не подозревая, что перед ними самозванец, стрельцы подчинились. Позднее офицеры армии УНР ругались, говорили, что Петлюра начал восстание «як Пилип з конопель», без достаточной подготовки. Это привело к лишним потерям. Но что значили для Симона Васильевича жизни нескольких сотен или даже тысяч людей? Главное, что он (он!) оказался во главе, он стал главным атаманом (отаманом)!
В самом деле, когда настоящие руководители заговора прибыли в стан стрельцов, было уже поздно. Повстанцы были уверены, что их вождь — Петлюра. Разоблачить его — значило вызвать ненужную смуту. И все оставили как есть. Тем более что полководческого таланта от главного атамана не требовалось. Боевыми операциями руководили командиры стрельцов. Да и противник был слаб — сопротивление гетманцев сломили за четыре недели.
Вступление победителей в Киев ознаменовалось массовыми убийствами и грабежами. Кровавый шабаш продолжался все время петлюровщины. За период гражданской войны власть в Киеве менялась 13 раз, но, по признанию киевских обывателей, ни при ком разгул уголовщины не был таким буйным, как при Петлюре. Между тем надвигалась новая гроза. Повстанческие отряды состояли в основном из крестьян, недовольных земельной политикой Скоропадского. Свергнув гетмана, они разошлись по домам. В распоряжении Симона Васильевича остались только стрельцы и небольшие подразделения гайдамаков. А с востока опять наступали красные.
Еще можно было спастись. На юге Украины высадился французский десант. Французы готовы были помочь войсками и оружием, но потребовали, чтобы в отставку ушел «бандит Петлюра». На такую жертву Симон Васильевич не мог согласиться. Переговоры сорвались. УНР была обречена. Некоторые из петлюровских деятелей деликатно называют свой исход из Киева в феврале 1919 года «ускоренным отступлением». Но это было не отступление. Это было позорное бегство. Красные гнали главного атамана до самой границы. Лишь перебравшись в Галицию, он перевел дух. Все думали, что петлюровщине — конец. Однако ситуация вновь переменилась.
Летом 1919 года началось наступление деникинской армии. Не в силах сдержать белогвардейцев, большевики предпочли сдать территорию украинского Правобережья Петлюре. Они рассчитывали, что главный атаман не договорится с Деникиным. И не ошиблись. Петлюровцы (усиленные пополнением из галичан) столкнулись с белыми в самом Киеве (куда те и другие вошли с разных сторон почти одновременно). Белогвардейцы не собирались конфликтовать, но гайдамаки лезли на рожон. Стычки переросли в бой. Тут и выяснилось, кто есть кто. Численно петлюровцы в семь раз превосходили противника. Но у Деникина была армия, у Петлюры — банда. При первых выстрелах войско главного атамана стало разбегаться. Несколько тысяч УНРовских солдат сдались в плен (число сдавшихся превышало количество взявших их в плен белогвардейцев). Симон Васильевич был в отчаянии. Он мечтал въехать в Киев на белом коне. Крещатик уже украсили портретами главного атамана. Готовился торжественный парад. И все пришлось отменить. Для Петлюры это была трагедия.
За власть Советов
О петлюровщине написано немало. Но и советские историки, и их оппоненты тщательно обходили одну тему — о роли Симона Васильевича в установлении на Украине советской власти. А роль он сыграл значительную. Желая отомстить белым, главный атаман прекратил боевые действия против большевиков. Он пропускает через свою территорию красные дивизии, разбитые деникинцами под Одессой и, казалось бы, обреченные на гибель. Делегация УНР ведет в Москве переговоры о подчинении петлюровского войска Реввоенсовету, в который должен был войти представитель Петлюры. Не ожидая окончания переговоров, Симон Васильевич приказывает начать наступление на белых.
Вроде бы он все рассчитал правильно. Основные силы белогвардейцев сосредоточены против красных. На Правобережной Украине у Деникина менее 10 тысяч солдат. У главного атамана — 40 тысяч (большинство — галичане). Большевики обещают помочь оружием и боеприпасами. В тылу деникинцев орудует батько Махно. Все складывается в пользу Петлюры. Но…
Белым понадобилось всего лишь две недели, чтобы разгромить врага. Петлюровцы массово сдавались в плен. Галицкие части перешли к Деникину. Гайдамаки взбунтовались. Из подчинения Симона Васильевича вышла даже личная охрана. Он бежит на Волынь. Там есть еще верные отряды. Можно организовать оборону. Но Петлюра помышляет только о собственном спасении. И тут произошел эпизод, который следовало бы назвать смешным, если бы не сопровождавшие его грустные обстоятельства.
Наверное, многие помнят антисоветские политические анекдоты. Один из них рассказывал, как чуть было не сорвалась Октябрьская революция (белые броневик украли, а второй броневик Ленин на кепочку поменял). И мало кто знал, что эта байка основана на реальном факте. Только случилось все не с «вождем мирового пролетариата», а с «героем украинской революции». Он бежал, не помня себя от страха. Куда? Ближе всех были поляки. Последние, однако, потребовали за место в товарном вагоне, следующем в Польшу, отдать им броневик. Это был единственный остававшийся у армии УНР броневик. Захваченный в бою, он был предметом гордости гайдамаков. Но Симон Васильевич «махнул не глядя». Адъютант Петлюры Александр Доценко, поведавший эту историю, навсегда запомнил глаза петлюровских солдат и офицеров, смотревших, как забирают их «самое ценное сокровище в войне». Но главному атаману было не до сантиментов. Оказавшись в набитом разным хламом вагоне, он счастливо улыбался и радовался удачной сделке. Вероятно, в тот момент Симон Васильевич не сознавал, что пришла его политическая смерть.
Закономерный финал
Почему погибла УНР? Прежде всего по причине отсутствия народной поддержки. Не была тогда популярна идея самостийной Украины. Но была и другая причина — Симон Васильевич Петлюра. Он оказался не на своем месте и знал это. Главный атаман был бездарным полководцем, но в отставку не уходил. Чувствуя, как презирают его профессиональные военные, он с подозрением относился к кадровым офицерам, и это сказывалось на боеспособности его войска. Он плохо разбирался в государственных делах. Но вместо того чтобы набрать себе толковых помощников, тщательно следил, чтоб никто из его окружения не был умнее, чем он сам. В результате кабинет министров УНР состоял из людей «прямо страшных по своему интеллектуальному убожеству» (таким, по словам Доценко, было общее мнение о тогдашнем украинском правительстве). И не столь важно, являлись ли петлюровские министры «законченными идиотами» (как сказал о них Степан Баран, заместитель председателя Национальной Рады — некоего подобия парламента в УНР) или просто деятелями, не обладавшими «государственной мудростью» (так выразится давний друг Симона Васильевича Александр Саликовский). У власти оказались лица, не способные управлять страной. Других рядом с Петлюрой быть не могло. И потому его финал закономерен.
На короткий срок главный атаман вернулся в Украину с поляками. Но он уже не был тут хозяином. Даже на белом коне в мае 1920 года в Киев въезжал Юзеф Пилсудский. Симону Васильевичу разрешили приехать позже. А потом — новое бегство. Злоключения в эмиграции. Трагический конец в Париже — от рук наемного убийцы. Кто стоял за спиной преступника? Точного ответа нет до сих пор. Выдвигать версии можно долго. Это не входит в задачу данной статьи. Поэтому о версиях как-нибудь в другой раз…
Убийство Симона Петлюры Три версии преступления, за которое не было наказания
25-го мая 1926 года в начале третьего часа дня по одной из парижских улиц (немноголюдных в это послеобеденное время) уныло брел уже немолодой и явно потрепанный жизнью человек. Одет он был небогато. Поношенный пиджак и стоптанные туфли свидетельствовали о незавидном материальном положении. Спешить человеку было некуда. Немного не доходя до перекрестка, он остановился у витрины книжного магазина, рассматривая выставленные там издания. В этот момент его нагнал мужчина в рабочей блузе и окликнул по имени. Как только обладатель поношенного пиджака обернулся, мужчина выхватил револьвер и открыл огонь. Первые выстрелы свалили несчастного на тротуар. Побледневший от боли и страха, он успел умоляюще крикнуть: «Хватит! Хватит!». Но убийца продолжал стрелять. Всего было выпущено семь пуль, прежде чем находившийся поблизости полицейский обезоружил преступника. Последний не сопротивлялся, не пытался вырваться и убежать. Его жертву, корчившуюся в агонии, повезли в ближайший госпиталь. Но помощь врачей уже не понадобилась.
Так окончил свой жизненный путь Симон Васильевич Петлюра.
Личность стрелявшего установили быстро. Им оказался Самуил Шварцбард, еврей, уроженец Российской империи, долгое время живший в Украине. Но что двигало преступником? Почему он убил Петлюру? Точного ответа не дано до сих пор. Сам Шварцбард заявил, что хотел отомстить за смерть своих близких, погибших при еврейских погромах во время гражданской войны. Эту версию принял и французский суд, оправдавший убийцу. В свою очередь, деятели украинской эмиграции почти единодушно (за единичными исключениями) отвергли обвинение в погромах и объявили Шварцбарда агентом ГПУ.
Нет единого мнения и в исторической литературе. Версию о мести за погромы поддерживали многие западные историки (преимущественно еврейского происхождения), а также историки советские. Наоборот, представители исторической науки из украинской диаспоры уверенно говорили о «руке Москвы». Правда, не приводя при этом никаких убедительных доказательств. «Кремлевский след» активно «разыскивают» и современные украинские историки. Но, вновь-таки, пока безуспешно. «При всей очевидности связей Шварцбарда с НКВД, документальных свидетельств причастности советской спецслужбы не обнаружено»,— отмечается, например, в комментариях к мемуарам Исаака Мазепы, премьер-министра петлюровского правительства, переизданным в Украине в прошлом году. И хотя необнаружение доказательств не мешает отечественным петлюроведам твердить об «организованной чекистами расправе», утверждения эти звучат неубедительно. Так что же произошло на самом деле? Попробуем разобраться.
Версия первая: преступление ГПУ
Чисто гипотетически можно, конечно, допустить, что Шварцбард действовал по указке Москвы. Но возникает вопрос: «Зачем?». Зачем Кремлю понадобилось убивать Петлюру? Объяснения на этот счет сторонников «чекистской» версии сводятся к тому, что, дескать, Петлюра представлял опасность для большевиков как вождь украинского движения. Дело, однако, в том, что к середине 1920-х годов никаким вождем он не являлся. Это потом, после гибели Симона Васильевича, в украинской эмиграции стали говорить о том, каким он был «великим человеком». В эмигрантской печати появились некрологи с признанием «выдающихся заслуг». Были изданы сборники, посвященные памяти Петлюры и т. п.
Накануне же смерти, да и вообще в последние годы жизни, отношение к нему было иное. Симону Васильевичу пришлось пережить немало неприятных минут. Многие бывшие соратники отвернулись от него. На Петлюру возлагали (и, надо признать, небеспочвенно) ответственность за катастрофу, постигшую украинское движение, за поражение в гражданской войне. К тому же галичане (а костяк украинского движения составляли именно они) люто ненавидели бывшего главу Директории как предателя, согласившегося от имени Украинской Народной Республики (УНР) отдать Галицию полякам. Без власти, без армии, без денег, ненавидимый и презираемый, Петлюра не имел никаких шансов вновь стать лидером. Достаточно вспомнить, что в пропетлюровский «Союз украинских эмигрантских организаций Франции» записалось всего несколько сотен человек. (Это притом, что во Франции находились тогда десятки тысяч эмигрантов из Украины). Политический конкурент Симона Васильевича Николай Шаповал собрал вокруг своей «Украинской громады» в три раза больше людей. А были еще другие украинские организации, тоже откровенно враждебно настроенные по отношению к Петлюре.
Все это прекрасно знали большевики. И хотя советская пропаганда по-прежнему называла все украинское движение «петлюровским», в Кремле по этому поводу нисколько не заблуждались. Любые потуги Симона Васильевича снова стать вождем были заранее обречены на провал. Они могли вызвать в эмигрантской среде только новые склоки, что, естественно, играло на руку большевикам. Убивать такого деятеля ГПУ не было никакой надобности.
Обращает на себя внимание и другое. Убийство атамана Александра Дутова. Похищение и убийство атамана Бориса Анненкова, генералов Александра Кутепова и Евгения Миллера. Ликвидация полковника Евгения Коновальца. Это операции, блестяще проведенные советской разведкой. Выполнив «работу», исполнители спокойно уходили от преследования. Ни один агент не попался. В случае же с Петлюрой убийца даже не стал убегать. На спецоперацию ГПУ это не похоже. Таким образом, версия о «руке Москвы», если и имеет право на существование, то все-таки представляется маловероятной.
Версия вторая: месть за погромы
Эта версия кажется более правдоподобной. Опровергая ее, отечественные историки указывают на то, что Петлюра не был антисемитом, не организовывал еврейские погромы, иногда пытался даже их предотвратить. Это действительно так. «Войско» УНР в значительной своей части состояло из отдельных банд, руководимых собственными атаманами («батьками»). Командованию главного атамана Петлюры они подчинялись лишь номинально, признавая его власть на словах, но не на деле. Фактически каждый «батько» своевольно распоряжался на контролируемой территории. Вот эти-то атаманы в основном и устраивали погромы. Устраивали вопреки запретам Петлюры (плевать они хотели на его запреты). Помешать им или наказать за содеянное Симон Васильевич чаще всего не мог. А если в отдельных случаях и мог, то боялся это сделать. «Батькам» ничего не стоило выступить против него самого, подрывая и без того шаткое положение главы государства.
Знал ли об этих нюансах Шварцбард? Вряд ли. Он видел только то, что мог видеть рядовой обыватель, оказавшийся в водовороте тех событий. Были погромы в Украине? Были. В них участвовали те, кто называл себя воинами «армии» УНР. А эту «армию» и саму республику возглавлял Симон Васильевич Петлюра. Нужно ли удивляться, что в происходящем винили его? А значит, вполне возможно, что, нажимая на курок в тот майский день, Шварцбард действительно мстил тому, кого совершенно искренне считал главным организатором погромов. Но возможно и другое.
Третья версия: масонская
Эту версию не обсуждают историки. О ней не рассказывают журналисты. Ее обходят своим вниманием любители всякого рода «исторических исследований». В отечественном (как, впрочем, и в зарубежном) петлюроведении она практически не освещена. Не напрасно ли?
Еще задолго до революции Симон Васильевич вступил в масонскую ложу. Это способствовало его карьере. Во многом благодаря содействию «Ордена вольных каменщиков» (так иногда называют масонов) Симон Васильевич вознесся к вершинам власти, оказался во главе УНР. Однако в 1919-м году между Петлюрой и орденом наметились существенные разногласия.
События, происходившие в Украине в 1917—1919 годах, убедили верховное руководство организации в преждевременности попыток воплощения в жизнь идеи о самостоятельном украинском государстве. Действительно: большинство украинцев (малороссов) в национальном отношении не отделяли себя от великороссов. Лозунги независимости не были популярны среди населения. Насильственный же отрыв Украины от России вызвал бы в массах обратную реакцию, усиливая стремление к объединению. «Украинский народ не имеет сознательности, не проявляет организационных способностей, украинское движение возникло благодаря немецким влияниям, современное положение такое хаотичное»,— говорил в 1919 году в Париже бывшему военному министру УНР Александру Жуковскому влиятельный американский масон Льорд.
В связи со сложившимся положением масоны скорректировали свои политические планы. В парижских ложах (Париж являлся одним из мировых центров масонства) обсуждался проект преобразования бывшей Российской империи в Союз республик. Важное место в этом проекте отводилось Украине. Она должна была стать одной из союзных республик, состоящей в федеративной связи с другими частями распавшейся империи. Лишь по прошествии долгого времени, когда в украинцах удастся прочно утвердить сознание того, что они — самостоятельная национальность (а не малорусская ветвь русской нации), масоны считали возможным поставить вопрос о государственной независимости Украины.
Проект активно поддержал глава украинского масонства Сергей Маркотун. А вот Петлюре план не понравился. Наверное, в глубине души он сознавал правоту своих масонских «братьев», говоривших о преждевременности строительства Украины как самостоятельного государства. Лучше любого другого видел Симон Васильевич, что народ не хочет отделения от России. В узком кругу он даже как-то обозвал за это украинцев «недозрелой нацией». Проблема заключалась в другом. В самостоятельной Украине Петлюра мог претендовать на главную роль. В Украине, находящейся в федеративной связи с Россией,— нет. А это было для Симона Васильевича решающим фактором.
Петлюра отверг проект, требуя немедленной поддержки масонами идеи полной независимости страны. Он рассорился с Маркотуном и вышел из его подчинения. Правда, чтобы не разрывать с орденом, Симон Васильевич тут же основал и возглавил новую «Великую ложу Украины». Но в высших масонских инстанциях «бунт» не одобрили. Орден потому и был силен, что умел ставить стратегические планы выше амбиций отдельных своих членов. Вновь созданную «ложу» проигнорировали. Ее самозваного главу лишили поддержки. А без такой поддержки Симон Васильевич быстро стал тем, кем был раньше,— политическим нулем.
Петлюра не сдавался. Оказавшись в эмиграции, он вел переговоры с «вольными каменщиками», добивался признания своей «ложи», пытался вернуть поддержку ордена. Безрезультатно. И тем не менее надежда не умирала. Симон Васильевич страстно желал возвращения в большую политику. Скорее всего, это желание особенно разгорелось в мае 1926 года. Как раз тогда в Польше произошел организованный масонами государственный переворот. Член ордена Юзеф Пилсудский, несколько лет назад, казалось, навсегда утративший власть, вновь встал во главе страны. Орден помог ему вернуться.
Для себя Петлюра хотел того же. Вероятно, он вновь стал искать поддержки в масонских ложах. И, может быть, снова натолкнувшись на отказ, сорвался, попытался шантажировать «братьев», угрожать разоблачением, выдачей масонских тайн. На такие угрозы орден всегда реагировал одинаково. Ответом Симону Васильевичу стали выстрелы Шварцбарда.
Стоит повториться: это только версия. Однако в ее пользу говорит демонстративный характер убийства. Средь бела дня, на улице, почти в центре Парижа, практически на виду у полицейских. Так не просто убивают. Так казнят…
Подтверждает данную версию и оправдательный приговор убийце. Судебная система Франции к тому времени находилась под полным контролем масонства. Можно по-разному относиться к личности убийцы и к его жертве. Можно различно оценивать степень ответственности Петлюры за еврейские погромы. Судьи могли учесть смягчающие обстоятельства и наказать преступника не слишком строго. В конце концов, можно было добиться помилования у президента Франции. Но перед присяжными стояли четко сформулированные вопросы: «Виновен ли обвиняемый Самуил Шварцбард в том, что добровольно стрелял в Симона Петлюру 25 мая 1926 года? Его ли выстрелы и раны от них привели к смерти? Имел ли Шварцбард намерение убить Симона Петлюру?» Дать отрицательный ответ на эти вопросы означало откровенно поглумиться над правосудием. Во Франции позволить себе это могла только одна сила.
В заключение — любопытная деталь. Накануне судебного процесса к видному французскому политику, депутату парламента (ставшему позднее премьер-министром) Леону Блюму обратилась жена Шварцбарда. Она просила политического деятеля употребить все свое влияние, чтобы спасти ее мужа от смертного приговора (получить который за убийство было по закону вполне реально). Блюм ответил мадам Шварцбард, что ей не о чем беспокоиться — подсудимого оправдают. Так и случилось. Леон Блюм был масоном. Он знал, что говорил…
Такие вот версии. Какая из них истинна? Каждый волен выбирать сам. Несомненно, то, что произошло 25 мая 1926 года,— преступление. Преступление, к сожалению, оставшееся безнаказанным. Но бесспорно также и то, что Петлюра полностью заслужил то, что получил. По вине возглавляемого им режима погибли сотни тысяч людей. Не только (и не столько) евреи. От петлюровщины страдали все. И больше всего — украинцы. Убийства, остававшиеся без наказания со стороны властей и, мало того, поощрявшиеся властями, стали нормой в петлюровской Украине. И, наверное, есть какой-то высший смысл в том, что сам Симон Васильевич стал жертвой аналогичного преступления. Существует такая поговорка: «За что боролся — на то и напоролся». К Петлюре она, похоже, применима в полной мере…
Еще один украинский президент-2 Черные дела «монсеньора» Волошина
«Еще один украинский президент…» — под таким заголовком «Кіевскій телеграфъ» (см. «КТ», № 26) опубликовал материал Игоря Петрова, посвященный Августину Волошину. Внимание к этому персонажу отечественной истории вполне объяснимо. В текущем году исполнилось 130 лет со дня рождения президента Карпатской Украины, а также 65 лет со времени провозглашения независимости возглавлявшегося им государства. Понятно и стремление автора превратить героя своей статьи в национального героя. Вот только, добиваясь поставленной цели, г-н Петров (не в упрек ему будет сказано — все мы не свободны от личных симпатий и антипатий) несколько увлекся.
Наверное, это и помешало многоуважаемому автору разносторонне осветить деятельность «монсеньора» (так иногда называли Волошина, имевшего священнический сан). Потому хотелось бы дополнить и, может быть, чуть-чуть поправить сочинителя увлекательной статьи о карпатско-украинском президенте.
Русь Подкарпатская
Прежде всего следует заметить, что называть Августина Волошина «авторитетным общественно-политическим деятелем» — значит немного удаляться от истины. Волошин был политиком украинофильского (украинского) направления, отстаивавшего взгляды на украинцев (малороссов, русинов) как на самостоятельную нацию. Между тем в Закарпатье (оно тогда входило в состав Чехословакии) вплоть до Второй мировой войны господствовало русофильское направление (русское). Большинство закарпатских русинов считали себя частью единой русской нации, проживавшей на пространстве от Карпат до Камчатки. Достаточно сказать, что из восьми депутатов, представлявших в парламенте Чехословакии население Подкарпатской Руси (официальное название Закарпатья в то время), семеро принадлежали к русскому движению, и только один (Юлий Ревай) являлся украинофилом. Да и этот последний стал депутатом лишь благодаря особенностям чехословацкого законодательства. В своем крае он не набрал необходимого числа голосов, но Социал-демократическая партия Чехословакии (ее членом был Ревай) передала ему часть голосов, отданных за социал-демократов в других регионах страны.
Однозначно говорили о симпатиях закарпатцев и результаты референдума, проведенного по вопросу о языке преподавания в школах. Русофилы настаивали, что процесс обучения должен вестись на русском литературном языке как языке общерусском, общем для всех составных частей русской нации (великороссов, малороссов и белорусов). А чехословацкие власти, поддерживая украинофилов, стремились утвердить в учебных заведениях язык украинский. В 1937 году вопрос о языке был вынесен на всенародное голосование. «Каждый селянин получил два билета,— вспоминал закарпатский общественный деятель Михаил Прокоп.— На одном было написано: „малорусский язык (украинский язык.— Авт.)“, на другом — „великорусский язык (русский язык)“. Несмотря на жульничество со словами „малорусский“ и „великорусский“ — ибо малорусский народный язык — это не украинский, а русский язык (литературный) — это не великорусский, тогдашние „самостийныки“ потерпели полное поражение, ибо 86 % селян, подчиняясь тысячелетнему чувству единства всего русского народа, голосовали за „великорусский язык“».
Результаты референдума наглядно продемонстрировали расстановку сил в крае. Поэтому, когда политики агонизирующей после Мюнхенского сговора Чехословакии изъявили наконец готовность предоставить Закарпатью автономию (обещанную еще в 1919 году), они вынуждены были обратиться к русофильским политикам. Тем более что как раз русофилы требовали для Подкарпатской Руси автономного статуса. Первое правительство новообразованной автономии возглавил не Августин Волошин, а русофил Андрей Бродий. Кроме него, в состав администрации вошли еще три русофильских деятеля. Чтобы обеспечить в той напряженной обстановке единство всех политических сил региона, к участию в управлении пригласили и украинофилов, выделив им два места в правительстве. Юлий Ревай стал министром, а Августин Волошин — государственным секретарем. Как признают современные украинские историки, «соотношение два к одному в пользу представителей русофильства реально отображало соотношение между двумя главными политическими силами в крае. Назначение Андрея Бродия премьер-министром тоже не стало неожиданностью, так как возглавляемое им направление занимало доминирующее положение в общественно-политической жизни Закарпатья на протяжении всего междувоенного периода».
Видимо, нужно подчеркнуть, что современных отечественных историков, на работах которых во многом основана эта статья, ни в коей мере нельзя упрекнуть в «антиукраинских взглядах» (такое обвинение ныне очень модно в определенных кругах). Все они принадлежат к числу тех, кого принято считать «национально сознательными», однако, в отличие от своих менее щепетильных коллег-единомышленников, все-таки не замалчивают некоторых (хотя бы некоторых!) неудобных для себя фактов. Пока же еще одна цитата из работ по истории Закарпатья: «Известие о включении Волошина в автономное правительство Подкарпатской Руси вызвало большое неудовольствие населения, особенно горных округов края. В Центральном историческом архиве Чехословакии находятся более двадцати телеграмм из населенных пунктов Свалявского и Нижневоротского округов с решительным протестом против этого акта. В телеграммах из сел Жденева, Керецек, Нижних Верецек и других подчеркивалось, что место Волошина должен занять учитель Василенко, который во время выборов в парламент в 1935 году получил более 11 тысяч голосов, в то время как за Волошина проголосовало всего около 4 тысяч. В населенных пунктах этих округов состоялись митинги против несправедливого, антидемократического и антиконституционного решения. Однако центральное правительство (чехословацкое, оно утверждало состав администрации автономии.— Авт.) осталось глухим к этим требованиям».
Вышеприведенное приходит в противоречие с нарисованным в статье г-на Петрова обликом «авторитетного деятеля Августина Волошина». Не вяжется с таким обликом и последующее…
Во главе автономии
Кабинет Бродия функционировал всего две недели. Пытающийся отстаивать интересы края лидер русофилов оказался неудобен для пражских властей. 26 октября 1938 года по надуманному обвинению его арестовали (свою роль в этом сыграли интриги украинофильских деятелей). Правительство распустили. Новую администрацию составили исключительно из украинофилов. Вот ее-то и возглавил Августин Волошин, кандидатуру которого, как стало известно позже, настойчиво рекомендовали чехословацким властям из Берлина.
Время волошинского правления смело можно назвать черным периодом в истории Закарпатья. Его назначение премьер-министром автономии вызвало повсеместное возмущение. В Ужгороде и других городах состоялись массовые демонстрации протеста. Корреспондент «Українських щоденних вістей», газеты украинской диаспоры в США, сообщал из края: «Администрация состоит из Волошина (Народно-христианская партия, которая набрала на последних выборах 9327 голосов из 309 909 поданных) и Ревая (Социал-демократическая партия, которая набрала 29 717 голосов). Ясно, что эта власть не имеет никакой опоры в массах, не пользуется ни авторитетом, ни популярностью».
Но авторитет и популярность «монсеньору» были не нужны. Он опирался не на народ, а на поддержку пражского правительства (практически во всем уже следовавшего указаниям из Берлина). Демонстрации против волошинской клики были разогнаны подразделениями армии и жандармерии Чехословакии. Разогнаны с кровью, при помощи танков и бронетранспортеров. С благословения чехословацких властей новый премьер-министр устанавливал в автономии тоталитарный режим. Все политические партии, кроме волошинского УНО — «Украинского народного объединения» (куда свели ранее существовавшие политические организации украинофилов), были запрещены. Все оппозиционные газеты закрыты. Ликвидировалось местное самоуправление. Избранных населением сельских старост заменили на правительственных комиссаров.
И, конечно же, проводилась тотальная украинизация. Украинский язык объявили государственным. На него в приказном порядке перевели работу всех учреждений, преподавание в учебных заведениях. В городах спешно меняли вывески и таблички с указанием улиц (раньше они были на русском языке). Все ответственные посты замещались «национально сознательными» деятелями. Поскольку таковых в Закарпатье не хватало, их (преимущественно членов Организации украинских националистов) в большом количестве «импортировали» из Галиции.
С недовольными не церемонились. По краю прокатилась волна арестов. 18 ноября 1938 года приказом Волошина на горе Думен (возле Рахова) был создан концентрационный лагерь. Первый концлагерь в истории Закарпатья. Без судебного приговора бросали туда всех, кого по тем или иным причинам волошинцы считали опасными. Свободы лишали не только оппозиционных политиков и журналистов. За колючую проволоку попадали обычные крестьяне, рабочие, представители интеллигенции, посмевшие нелестно отозваться о новоявленном «вожде» и «отце» народа (так называла «монсеньора» официальная пресса). «Двадцать лет плюрализма и демократии не прошли даром для закарпатцев,— комментируют те события историки.— И когда по селам начали привлекать к ответственности людей только за то, что те критиковали Волошина или хвалили Венгрию, население просто удивлялось… Без всяких юридических „формальностей“, в том числе без суда, человека отправляли в концлагерь только за то, что он показался кому-то подозрительным. Такого Закарпатье не знало уже давно».
Кому подражал «монсеньор»? Чьи методы управления копировал? Догадаться нетрудно. Снова обращаемся к работам украинских историков: «Слов из песни не выкинешь. Сам Волошин, как и множество его соратников, все больше склонялся к идеологии немецкого фашизма»,— констатируют они. По приказу главы автономии в Подкарпатской Руси распространялась «Майн кампф». В беседе с германским консулом «монсеньор» выражал «свои симпатии фюреру Германии». Как уже отмечалось, деятельность политических партий, кроме волошинской, оказалась под запретом. Но одно исключение все-таки сделали. «Всем гражданам немецкой народности, несмотря на их государственную принадлежность, разрешено организовываться в „Немецкую партию“ на основе национал-социалистических и организовывать все в этой партии обычные партийные органы, а также носить знаки отличия и знамена со свастикой». Это указание за подписью Августина Волошина было под грифом «совершенно секретно» разослано 2 февраля 1939 года во все структуры власти. В то же время любая антигитлеровская пропаганда строжайше запрещалась.
В таких вот условиях были объявлены и проведены «выборы» в сойм Подкарпатской Руси. Право выдвигать кандидатов имело только УНО. О какой-то альтернативности не могло быть и речи. На 32 мандата претендовали 32 кандидата, список которых был утвержден «монсеньором». Агитация против претендентов не допускалась. Однако и этого показалось мало. Для обеспечения «правильного» результата «выборов» на каждый избирательный участок УНО назначило своего комиссара с неограниченными полномочиями. Комиссары, как сообщала потом зарубежная (американская, венгерская и другая) пресса, получили следующую инструкцию: «Подготовьте группу из определенно наших людей, которая демонстративно начнет голосовать явно „за“. Этим она должна повлиять на остальных избирателей. Если это не поможет, пусть станут 2—3 сечевика (члены полувоенной организации «Карпатська Січ».— Авт.) возле урны и каждому смотрят в руки, кидает ли полный или пустой конверт (пустой конверт означал голос «против».— Авт.). Но этим еще не обеспечится успех выборов. Люди могут и явно голосовать пустыми конвертами. Тут и террор не поможет. Поэтому имеете тут столько-то конвертов с кандидатами. Вы обязаны придумать способ, как избирательную комиссию куда-то послать на минуту, тогда поменять конверты в урне. Можете также сфальсифицировать протокол выборов. Вы, господин комиссар, лично отвечаете за выполнение этого задания».
Стоит ли удивляться, что, по официальным данным, УНО получило 92 % голосов? Даже нынешние «национально сознательные» (повторим это еще раз) историки признают: «Выборы в сойм Карпатской Украины 12 февраля 1939 года были проведены с целым рядом юридических нарушений, а их результаты сфальсифицированы». Любопытный штрих к общей картине: на следующий день после голосования в окружную администрацию прибыла делегация из села Заречье (Иршава). «Как же так? — спрашивали крестьяне.— Мы все голосовали пустыми конвертами, а в результате — только несколько голосов „против“».
Но на недоуменные вопросы избирателей власти отвечать не собирались. Все кандидаты были объявлены «избранными». Они-то, собравшись через месяц на первое и единственное заседание сойма, провозгласили «независимость Карпатской Украины», избрав ее президентом Августина Волошина. И поэтому вряд ли приходится говорить о «чисто легитимном характере» происшедшего. Думается, читатели могут сделать выводы сами.
Патриот или предатель?
Как же тогда объяснить нынешнее возвеличивание «монсеньора»? Ведь ужгородцы, возвращающие, по данным информагентств, «из забытого прошлого доброе имя своего славного земляка»,— это реальность. И улицу в честь него назвали. И институт. И мемориальную доску повесили. И даже памятник соорудили.
Объяснение всему одно. Так уж повелось у нас еще с советских времен, что различных исторических деятелей часто оценивают не по их делам, а по лозунгам, которыми они прикрывались. Волошин насаждал в Закарпатье модную ныне «украинскую национальную идею». Насаждал силовыми методами. Но ведь не секрет, что и сегодня определенная часть украинского политического бомонда желает насаждать эту же идею теми же методами. Они-то и тянут на исторический пьедестал одиозную фигуру «монсеньора». Впрочем, тянут, наверное, по недоразумению. Ибо не был Августин Волошин сторонником построения именно независимого украинского государства.
Опасаясь остаться со своим народом один на один, к независимости он не стремился. «Монсеньер» постоянно искал поддержки извне. Сначала в Праге, перед политиками которой всячески угодничал. (Одно время он даже доказывал, что закарпатские диалекты к чешскому языку ближе, чем к украинскому, и, значит, край должен быть в составе Чехословакии, а не Украины.) Когда выяснилось, что дни чехословацкого государства сочтены, Волошин откровенно переориентировался на гитлеровскую Германию (со спецслужбами которой, судя по всему, поддерживал контакты давно). «Монсеньор» настойчиво добивался установления над Подкарпатской Русью германского протектората. Однако Гитлер, заинтересованный в союзе с венгерским диктатором Хорти, предпочел «подарить» край последнему. Волошин же не нашел общего языка с венграми. И потому обратился в Бухарест. «Монсеньор» готов был отдать Закарпатье Румынии при одном условии: если его самого оставят во главе администрации. Но румыны не пошли на конфликт с Хорти.
И вот тогда (только тогда) волошинский режим провозгласил независимость Подкарпатской Руси, переименовав ее в Карпатскую Украину. Разумеется, это был фарс. Венгерская армия уже вторглась в Закарпатье. Противостоять ей не было никакой возможности. И «монсеньор», и «депутаты» сойма прекрасно понимали, что их «государство» просуществует не более нескольких часов. Так и случилось.
В изгнании
Что было дальше? Г-н Петров пишет, что после провозглашения Карпатской Украины Волошина «интернировали в Прагу». Это не совсем так. Объявив себя президентом, «монсеньор» тут же сбежал в Румынию. Оттуда перебрался в Югославию. Затем… в гитлеровскую Германию. Он мог уехать в любую страну, но предпочел служить «великому фюреру». Некоторое время Волошин пребывал в Берлине. Потом уехал в оккупированную нацистами Прагу. Никто его там не интернировал. «Монсеньор» работал в Украинском вольном университете (УВУ). Когда Германия напала на СССР, он обратился к Гитлеру с письмом, скромно предлагая себя на пост президента занятой немецкой армией Украины. Заодно советовал фюреру ликвидировать в Украине православную церковь и заменить ее католической (тайная мечта многих украинских «патриотов»). Но, как известно, у Гитлера были иные планы.
В большую политику «монсеньора» не вернули. Он продолжал работать в УВУ. Дослужился до должности ректора (что вряд ли было возможно без согласия оккупационных властей). Перед приходом Красной Армии мог выехать на Запад. Делать этого не стал. И здесь возникает очень интересный вопрос: «Почему?». Волошину было хорошо известно, что ожидает даже рядовых фашистских пособников. Он же был не рядовым. И тем не менее остался. В чем же причина этого явно самоубийственного решения?
Как ни крути, а трудно отделаться от мысли, что кроме Гитлера, «монсеньор» служил еще одному хозяину — спецслужбам СССР. Само по себе такое предположение не столь невероятно, как может показаться на первый взгляд. Известно, что с ГПУ—НКВД—МГБ сотрудничали многие деятели украинского движения (одно время даже такой вроде бы непримиримый враг большевиков, как Евгений Коновалец). В Подкарпатской Руси советская разведка еще до войны сплела густую сеть. В нее вполне мог попасть и Волошин.
Подтверждается эта версия деталями ареста «монсеньора». Первый раз СМЕРШ арестовал его почти сразу после взятия Праги советскими войсками. Но… после беседы Августина Волошина не только выпустили, но и отвезли на машине домой и даже выдали своеобразную «охранную грамоту», гарантировавшую от недоразумений с новыми властями. Что сказал «монсеньор» контрразведчикам? На кого сослался? Этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Факт, однако, остается фактом: Волошина сразу освободили, что в то время случалось нечасто.
И все-таки через несколько дней его арестовали во второй раз. Местным смершевцам как раз хватило времени, чтобы связаться с Москвой и навести необходимые справки. Возможно, вербовавшие и курировавшие когда-то «монсеньора» чекисты оказались «врагами народа» (очень распространенный случай в сталинских органах безопасности). Может быть, спецслужбы просто решили избавиться от ставшего ненужным сексота. А может быть, имела место какая-то очередная тайная операция.
Арестованного отправили в Москву. Там он, согласно официальной версии, умер от паралича сердца. Как было на самом деле? Кто знает?
Использованная литература
1. Болдижар М. М. Краю мій рідний. Науково-популярні нариси з історії Закарпаття. Ужгород, 1998.
2. Вегеш М. До питання про діятельність першого автономного уряду Подкарпатської Русі. (11—26 жовтня 1938 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія. Випуск 2. 1998.
3. Вегеш М. М., Запорожний В. Є. Карпатска Україна в 1938—1939 рр.: деякі аспекти соціально-економічного і політичного розвитку // Український історичний журнал. 1995. № 2.
4. Йосипенко В. Зимові сутінки червневих днів. Деякі подробиці перебування Августина Волошина в Лефортово // З архівів ВУЧК—ГПУ—НКВД—КГБ. 1994. № 1.
Комментарии
1
Нечуй-Левицький І. С. Сьогочасна часописна мова на Україні // Україна. 1907. № 1. С. 10—11.
(обратно)2
Цит. по: Краснюк М. Религиозно-философские воззрения Сковороды // Вера и разум. 1901. № 16. С. 132.
(обратно)3
Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. К., 1987. С. 186.
(обратно)4
Цит. по: Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український крехівський апостол. Варшава, 1930. Т. 1. С. 469.
(обратно)5
Библиотека иностранных писателей о России. Т. 1. СПб., 1836. С. 20.
(обратно)6
Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Кн. 2. М., 1855. С. 286.
(обратно)7
Павлищев Н. И. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. Т. 2. СПб., 1887. С. 286.
(обратно)8
Кулиш П. А. Об отношении малороссийской словесности к общерусской (Эпилог к «Черной раде») // Куліш П. О. Твори. К., 1989. Т. 2. С. 459.
(обратно)9
Цит. по: Флоринский Т. Малорусский язык и «украінсько-руський» литературный сепаратизм. СПб, 1900. С. 46.
(обратно)10
Ульянов Н. И. Русское и великорусское // Этнографическое обозрение. 1996. № 6. С. 142.
(обратно)11
Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів. К., 1968. Т. 10. С. 355.
(обратно)12
Антонович М. Історія України. Прага, 1942. Т. 4. С. 9.
(обратно)13
Гогоцкий С. С. Украйнофильство с его затеями о двухтекстовых учебниках. Почаев, 1881. С. 40.
(обратно)14
Там же. С. 18.
(обратно)15
Там же. С. 14.
(обратно)16
Там же. С. 68—69.
(обратно)17
Довбищенко Я. Михайло Драгоманов // Пам’яти Михайла Драгоманова. Х., 1920. С. 10.
(обратно)18
Плевако М. Григорій Квітка-Основ’яненко // Наше минуле. 1918. № 2. С. 13.
(обратно)19
Костомаров Н. И. Малорусская литература // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. Б. м., 1928. С. 241.
(обратно)20
Кулиш П. А. Обзор украинской словесности // Основа. 1861. № 1. С. 244, 246, 247.
(обратно)21
Цит. по: Шамрай А. Харківські поети 30—40 років XIX століття. Х., 1930. С. 67.
(обратно)22
Цит. по: Коряк В. Нарис історії української літератури. Х., 1929. Т. 2. С. 320.
(обратно)23
Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Твори. К., 1957. Т. 5. С. 531.
(обратно)24
Шевченко Тарас. Твори. К., 1971. Т. 5. С. 12.
(обратно)25
Там же. С. 73.
(обратно)26
Скрипник М. Підсумки «літературної дискусії» // Більшовик України. 1926. № 1. С. 31.
(обратно)27
Флоринский Т. Указ. соч. С. 7—8.
(обратно)28
Будилович А. К вопросу о литературном языке Юго-Западной Руси. Юрьев, 1900. С. 14.
(обратно)29
Чалый М. Иван Максимович Сошенко. К., 1877. С. 65.
(обратно)30
Бутенко И. Что должен знать каждый об украинцах // Украина — это Русь. СПб., 2000. С. 169.
(обратно)31
Щёголев С. Н. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. К., 1912. С. 50—51.
(обратно)32
Студинський К. Епізоди боротьби за українство в 1863 р. // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського. К., 1928. Т. 2. С. 521—522.
(обратно)33
Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. С. 191.
(обратно)34
Перевод П. А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и Положения о крестьянах // Киевская старина. 1905. Кн. 2. С. 327.
(обратно)35
Цит. по: Лемке М. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг. СПб, 1904. С. 302—303.
(обратно)36
Гогоцкий С. С. Указ. соч. С. 37.
(обратно)37
Переписка М. Драгоманова з В. Навроцьким // За сто літ. 1927. Кн. 1. С. 102.
(обратно)38
Вовк Хв. Де-що й з моїх австро-руських споминок // Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874—1914: Літературно-науковий збірник. Львів, 1916. С. 151.
(обратно)39
Комаров А. И. Украинский язык, фольклор и литература в русском обществе начала XIX века // Ученые записки ЛГУ. 1939. № 47. С. 153.
(обратно)40
Уманец Ф. М. Вырождение Польши. СПб., 1872. С. LXXVIII.
(обратно)41
Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Х.; К., 1930. С. 379.
(обратно)42
Цит. по: Громада. Українська збірка, впорядкована Михайлом Драгомановим. Женева, 1878. С. 150.
(обратно)43
Гогоцкий С. С. Указ соч. С. 29.
(обратно)44
Антонович Д. Триста років українського театру. 1619—1919. Прага, 1925. С. 131—132.
(обратно)45
Там же. С. 117.
(обратно)46
Коряк В. Вказ. праця. С. 220.
(обратно)47
Козуб С. Леонід Глібов і царська цензура // Життя й революція. 1930. № 2. С. 170.
(обратно)48
Громада. С. 246—247.
(обратно)49
Там же. С. 238.
(обратно)50
Стебницкий П. Очерк развития действующего цензурного режима в отношении малорусской письменности // Наука і культура. Вип. 26—27. 1993. С. 103.
(обратно)51
Антонович Д. Вказ. праця. С. 123.
(обратно)52
Огоновский Ом. Исторія литературы рускои. Львов, 1889. Ч. 2. С. 139.
(обратно)53
Єфремов С. В тісних рямцях. Українська книга в 1798—1916 рр. К., 1926. С. 17.
(обратно)54
Там же. С. 20.
(обратно)55
Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів. Т. 10. С. 404.
(обратно)56
Грінченкова Н., Верзилів А. Чернігівська українська громада. Спогади // Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріяли. Б. м., 1928. С. 481.
(обратно)57
Там же. С. 478.
(обратно)58
Багалій Д. Й. Автобіографія // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. К., 1927. С. 119.
(обратно)59
Там же.
(обратно)60
Липа Ю. Велетенське завдання. Св. Письмо рідною мовою // Рідна мова. 1939. № 2. С. 51.
(обратно)61
Л. С. Додаток до роботи Т. Зіньківського «Штунда, українська раціоналістична секта» // Писання Трохима Зіньківського. Львів, 1896. Кн. 2. С. 275.
(обратно)62
Рецензії на шкільні підручники, які розглянуті в спеціяльних комісіях при міністерстві освіти до 1 липня 1918 р. К., 1918. Вип. 1. С. 44—45.
(обратно)63
Дурдуківський В. Педагогічна діяльність Б. Грінченка. Б. м., б. д. (оттиск). С. 59—60.
(обратно)64
Громада. С. 194.
(обратно)65
Цит. по: Коряк В. Вказ. праця. С. 265—266.
(обратно)66
Громада. С. 248.
(обратно)67
Коряк В. Вказ. праця. С. 322.
(обратно)68
Там же. С. 319.
(обратно)69
Яворський М. Емський акт 1876 р. // Яворський М. На історичному фронті: Збірка статтів. Б. м., 1929. Т. 1. С. 94.
(обратно)70
Грушевський М. С. Спомини // Київ. 1988. № 9. С. 140.
(обратно)71
Там же. № 12. С. 133.
(обратно)72
Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 67.
(обратно)73
Цит. по: Флоринский Т. Указ. соч. С. 67.
(обратно)74
Дорошенко Д. Народная украинская литература. СПб., 1904. С. 3.
(обратно)75
Коряк В. Вказ. праця. Т. 2. С. 263—264.
(обратно)76
Цит. по: Стріха М. Українська мова // Сучасність. 1997. № 12. С. 107.
(обратно)77
Цит. по: Скрипник М. О. Національне відродження в сучасних капіталістичних державах на прикладі Закарпатської України // Прапор марксизму. 1928. № 1. С. 213.
(обратно)78
Антоневич Н. И. Наше нынешнее положение (Эпизоды из новейшей истории). Львов, 1907. С. 28.
(обратно)79
Демкович-Добрянський М. Українсько-польскі стосунки у XIX сторіччі. Мюнхен, 1969. С. 36—37.
(обратно)80
Алабин П. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853, 1854—1856, 1877—1878 годах. Самара, 1888. Ч. I. С. 15, 25—26.
(обратно)81
Цит. по: Макара М., Чаварга І. Росіяни в Карпатах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія. 1998. Вип. 2. С. 86.
(обратно)82
Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772—1880 роки). Відень, 1916. С. 44.
(обратно)83
Филевич И. И. Вопрос о двух русских народностях и «Киевская старина» // Научно-литературный сборник. Повременное издание «Галицко-русской матицы». 1902. Т. 2. Кн. 4. С. 156.
(обратно)84
Гнатюк В. Вказ. праця. С. 45.
(обратно)85
Головацкий Я. Ф. Об отношениях галицких русинов к соседям // Основа. 1862. № 5. С. 62—63.
(обратно)86
Площанский В. Из истории Галицкой Руси 1882 г. Вильна, 1892. С. 31.
(обратно)87
Свистун Ф. Прикарпатская Русь под владением Австрии. Львов, 1896. Ч. 2. С. 40.
(обратно)88
Проект политической программы для Руси австрийской. Львов, 1871 // .
(обратно)89
Свистун Ф. Прикарпатская Русь под владением Австрии. Ч. 2. С. 270.
(обратно)90
Щёголев С. Н. Указ. соч. С. 83.
(обратно)91
Цит. по: Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. Львов, 1983. С. 109.
(обратно)92
Добрянский А. И. О современном религиозно-политическом положении Австро-Угорской Руси. М., 1885. С. 11—12.
(обратно)93
Флоринский Т. Указ. соч. С. 113.
(обратно)94
Цит. по: Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство. Львов, 1898 // .
(обратно)95
Свистун Ф. Галицкая Русь в европейской политике. Львов, 1886. С. 116—117.
(обратно)96
Цит. по: Устиянович К. Н. Галицко-русский сепаратизм // Научно-литературный сборник. Повременное издание «Галицко-русской матицы». 1904. Кн. 3. С. 67.
(обратно)97
Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство. Львов, 1898 // .
(обратно)98
Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси. Нью-Йорк, 1961. Т. 2 // .
(обратно)99
Свистун Ф. Галицкая Русь в европейской политике. С. 117.
(обратно)100
Свистун Ф. Прикарпатская Русь под владением Австрии. Ч. 2. С. 441.
(обратно)101
Там же. С. 278—279.
(обратно)102
Корнієнко Н. П. Боротьба І. Франка за чистоту української літературної мови // Мовознавство. 1955. Т. 13. С. 91—93, 100 ; П. К. Язикові та стилістичні поправки Франка в тексті літературно-критичної студії «Темне царство» // Літературний архів. 1931. Кн. 1. С. 119—129.
(обратно)103
Корнієнко Н. П. Вказ. праця. С. 89.
(обратно)104
П. К. Язикові та стилістичні поправки Франка … С. 129.
(обратно)105
См., например: Щёголев С. Н. Указ. соч. С. 143—152.
(обратно)106
Цит. по: Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1933. Ч. 2. С. 379—381.
(обратно)107
Тищенко-Сірий Ю. Перші наддніпрянські українські масові політичні газети. Нью-Йорк, 1952. С. 4—5.
(обратно)108
Там же. С. 5.
(обратно)109
Там же. С. 6.
(обратно)110
Єреміїв М. За лаштунками Центральної Ради (Сторінки зі спогадів) // Український історик. 1968. № 1—4. С. 95.
(обратно)111
Цит. по: Грінченко Б. Тяжким шляхом (Про українську пресу). К., 1912. С. 52.
(обратно)112
Сніп. 1912. 18 (31) березня.
(обратно)113
Дорошкевич О. Естет і поміщик // Життя й революція. 1925. № 11. С. 66.
(обратно)114
Довгань К. «На давніх позиціях» (Про сучасну українську літературну мову) // Життя й революція. 1925. № 11. С. 50.
(обратно)115
Цит. по: Сумцов М. Ф. Начерк розвитку української літературної мови. Х., 1918. С. 9.
(обратно)116
Записка по вопросу о цензуре книг на малороссийском языке. Х., 1905. С. 2, 8.
(обратно)117
Драгоманов М. П. Література російська, великоруська, українська і галицька // Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні твори. К., 1970. Т. 1. С. 186—187.
(обратно)118
Там же. С. 188.
(обратно)119
Там же. С. 137.
(обратно)120
Хроніка і бібліографія // Літературно-науковий вісник. 1901. № 3. С. 227—228.
(обратно)121
Баштовий І. (Нечуй-Левицький І. С.) Українство на літературних позвах з Московщиною. Львів, 1891. С. 16.
(обратно)122
Там же.
(обратно)123
Там же. С. 17.
(обратно)124
Там же. С. 17—18.
(обратно)125
Флоринский Т. Указ. соч. С. 51—52.
(обратно)126
Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів. Т. 10. С. 296.
(обратно)127
Там же. С. 339—340.
(обратно)128
Там же. С. 430.
(обратно)129
Там же. С. 311, 316—318, 321—323, 337, 418—421.
(обратно)130
Там же. С. 440.
(обратно)131
Там же. С. 337.
(обратно)132
Там же. С. 440.
(обратно)133
Там же. С. 426—427.
(обратно)134
Там же. С. 132.
(обратно)135
Там же. С. 461.
(обратно)136
Там же. С. 464.
(обратно)137
Нечуй-Левицький І. С. Сьогочасна часописна мова на Україні // Україна. 1907. № 2. С. 205.
(обратно)138
Нечуй-Левицький І. С. Криве дзеркало украінськоі мови. К., 1912. С. 26.
(обратно)139
Нечуй-Левицький І. С. Сьогочасна часописна мова на Україні // Україна. 1907. № 1—3; Нечуй-Левицький І. С. Криве дзеркало украінськоі мови. К., 1912.
(обратно)140
Нечуй-Левицький І. С. Сьогочасна часописна мова на Україні // Україна. 1907. № 2. С. 197.
(обратно)141
Там же. № 1. С. 25.
(обратно)142
Нечуй-Левицький І. С. Криве дзеркало украінськоі мови. С. 7.
(обратно)143
Там же. С. 44.
(обратно)144
Там же. С. 16.
(обратно)145
Там же. С. 48.
(обратно)146
Там же. С. 88.
(обратно)147
Там же. С. 63.
(обратно)148
Там же. С. 65.
(обратно)149
Нечуй-Левицький І. С. Сьогочасна часописна мова на Україні // Україна. 1907. № 1. С. 40.
(обратно)150
Там же. № 2. С. 211.
(обратно)151
Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів. Т. 10. С. 468—469.
(обратно)152
Там же. С. 472.
(обратно)153
Там же. С. 480.
(обратно)154
Там же. С. 481—483.
(обратно)155
Коцюбинський М. Твори. К., 1956. Т. 3. С. 108.
(обратно)156
Паламарчук Л. С. Спостереження над авторськими лексико-синонімічними замінами в текстах художніх творів М. Коцюбинського // Мовознавство. 1955. Т. 13. С. 110.
(обратно)157
Козуб С. До початків літературної творчости Коцюбинського // Коцюбинський: Збірка статей. Х.—К., 1931. Т. 1. С. 229.
(обратно)158
Цит. по: Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI—XVIII вв. К., 1924. С. 121.
(обратно)159
Там же. С. 120—121.
(обратно)160
Пчілка О. Наша нова літературна мова // Рідний край. 1909. № 3.
(обратно)161
Королів-Старий В. «Розмови про мову» // Рідна мова. 1939. № 7—8. С. 291.
(обратно)162
В. Ст. Українська політика // Дзвін: Збірник. К., 1907. С. 239.
(обратно)163
Мацюк Г. П., Панько Т. І. Питання української наукової мови в системі поглядів М. Грушевського // Мовознавство. 1991. № 6. С. 5.
(обратно)164
Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989—1990. С. 191.
(обратно)165
Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів. Т. 10. С. 488—489.
(обратно)166
Грушевський М. Про українську мову й українську справу. К., 1907. С. 8.
(обратно)167
Пачовський М. Літературна мова на Україні // Україна. 1907. № 4. С. 63.
(обратно)168
Гнатюк В. В справі нашої літературної мови // Діло. 1913. 25 марта.
(обратно)169
Гнатюк В. В справі нашої літературної мови // Діло. 1913. 27 марта.
(обратно)170
Гнатюк В. В справі нашої літературної мови // Діло. 1913. 28 марта.
(обратно)171
Там же.
(обратно)172
Гнатюк В. В справі нашої літературної мови // Діло. 1913. 25 марта.
(обратно)173
Левицький М. Де-що до справи про вкраїнську письменницьку мову // Літературно-науковий вісник. 1909. № 8. С. 239.
(обратно)174
Там же.
(обратно)175
Там же. С. 250.
(обратно)176
Там же. С. 248.
(обратно)177
Там же. С. 239.
(обратно)178
Там же. С. 251.
(обратно)179
Там же. С. 240.
(обратно)180
Там же. С. 241.
(обратно)181
Там же. С. 243.
(обратно)182
Там же. С. 241.
(обратно)183
Там же. С. 240.
(обратно)184
Пилипович (Левицький) М. Де-що про сучасну стадію розвитку вкраїнської літературної мови // Світло. 1912. Грудень. С. 26.
(обратно)185
Там же.
(обратно)186
Там же. С. 26—27.
(обратно)187
Там же. С. 27.
(обратно)188
Там же. С. 28.
(обратно)189
Там же. С. 28—29.
(обратно)190
Там же. С. 30—31.
(обратно)191
Там же. С. 29.
(обратно)192
Там же. С. 33.
(обратно)193
Там же. С. 34—35, 41—42 ; 1913. Січень. С. 34—35.
(обратно)194
Там же. 1913. Січень. С. 37.
(обратно)195
Там же. С. 34.
(обратно)196
Там же. 1912. Грудень. С. 37.
(обратно)197
Там же. С. 38.
(обратно)198
Там же. С. 39.
(обратно)199
Там же. 1913. Січень. С. 36.
(обратно)200
Огієнко І. Як селяне читають і пишуть по вкраїнськи (Матеріали до питання про вкраїнський правопис) // Літературно-науковий вісник. 1909. № 8. С. 506.
(обратно)201
Там же.
(обратно)202
Там же. С. 507.
(обратно)203
Там же.
(обратно)204
Там же. С. 508.
(обратно)205
Там же. С. 510.
(обратно)206
Там же.
(обратно)207
Там же. С. 512.
(обратно)208
Там же. С. 513.
(обратно)209
Там же. С. 510.
(обратно)210
Жученко М. (Дорошенко Д.) Про українську літературну мову // Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку XX століття. К., 2001. С. 225.
(обратно)211
Там же. С. 230.
(обратно)212
Там же. С. 228.
(обратно)213
Там же. С. 229.
(обратно)214
Там же. С. 232—233.
(обратно)215
Там же. С. 233.
(обратно)216
Там же. С. 234.
(обратно)217
Там же.
(обратно)218
Там же. С. 237.
(обратно)219
Стешенко І. Про українську літературну мову. К., 1912. С. 15.
(обратно)220
Там же. С. 8—9.
(обратно)221
Там же. С. 15.
(обратно)222
Там же. С. 34.
(обратно)223
Там же. С. 35.
(обратно)224
Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917—1919 рр. К., 1920. С. 26.
(обратно)225
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної ради. К., 1998. С. 134.
(обратно)226
Янковський О. Посягання на мову — посягання на державність // Віче. 1993. № 4. С. 128.
(обратно)227
Протест Совета Университета св. Владимира против насильственной украинизации Южной России, принятый на заседании Совета 26 июля 1917 года // Университетские известия. 1916. № 11—12. К., 1917. С. 8.
(обратно)228
Цит. по: Зінченко А. Для вивчення української мови замало і вісімдесяти років // Вісті з України. 1995. № 25.
(обратно)229
Июльские резолюции Русского Народного Совета Прикарпатской Руси. Ростов-на-Дону. 1917. С. 8.
(обратно)230
Там же. С. 9.
(обратно)231
Цит. по: Гірчак Є. Ленін і українське питання // Більшовик України. 1929. № 2. С. 26—27.
(обратно)232
Листи М. Грушевського до Т. Починка з додатком двох листів до Д. Островського // Український історик. 1970. № 1—3. С. 189.
(обратно)233
Коломийченко Хв. Революція й життябудівництво України. М., 1917. С. 10—11.
(обратно)234
Лотоцький О. Вказ. праця. Ч. 2. С. 359.
(обратно)235
Крилач С. Жахлива небезпека для рідної мови // Шлях. 1918. № 4—5. С. 84.
(обратно)236
Мандрика М. І. Дещо за роки 1917 та 1918 (З неопублікованих споминів) // Український історик. 1977. № 1—2. С. 87.
(обратно)237
Там же.
(обратно)238
Там же. С. 89.
(обратно)239
Там же. С. 92.
(обратно)240
Федоровский Ю. К 80-летию Донецко-Криворожской республики // .
(обратно)241
Народна справа. 1918. 14 вересня (сентября).
(обратно)242
Постернак С. Вказ. праця. К., 1920. С. 35.
(обратно)243
Там же. С. 71.
(обратно)244
Там же. С. 34.
(обратно)245
Там же.
(обратно)246
Елпатьевский С. Украина и Россия // Родная земля. 1918. № 1. С. 105.
(обратно)247
Янковський О. Вказ. праця. С. 120.
(обратно)248
Лозовий В. С. Діяльність бібліотеки Кам’янець-Подільського університету з відродження історичної пам’яті та формування національної свідомості // Міжнародна наукова конференція «Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства». 2002. Жовтень.
(обратно)249
Дорошенко Д. І. Історія України. 1917—1923. К., 2002. Т. 2. С. 235.
(обратно)250
Там же.
(обратно)251
Махно Н. Воспоминания. К., 1991. Кн. 1. С. 113.
(обратно)252
Центральный Исполнительный Комитет СССР. Вторая сессия. Стенографический отчет. М., 1926. С. 513.
(обратно)253
Винниченко В. Відродження нації. К., 1990. Ч. 2. С. 259—260.
(обратно)254
Михайлов И. К. Четверть века подпольщика. М.; Л., 1928. С. 217.
(обратно)255
Синявський О. Коротка історія «Українського правопису» // Культура українського слова: Збірник 1. Х.; К., 1931. С. 110.
(обратно)256
Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1909 г. Сессия третья. СПб., 1910. Ч. 1. С. 3081.
(обратно)257
Там же. 1910 г. Сессия четвертая. СПб., 1910. Ч. 1. С. 1280.
(обратно)258
Грушевський М. С. Спомини // Київ. 1989. № 8. С. 144.
(обратно)259
Дикий А. Указ. соч.
(обратно)260
Саліковський О. Нова Україна (шлях нашої державності). К., 1919. С. 66.
(обратно)261
Мартынов А. Мои украинские впечатления. М., б. г. С. 34.
(обратно)262
Цит. по: Пивовар С. Берестейський мирний договір крізь призму ставлення українського народу до державності // Київська старовина. 1998. № 1. С. 35.
(обратно)263
Цит. по: Мельниченко В. Ю. Історичне значення воєнно-політичного союзу радянських республік // Український історичний журнал. 1986. № 1. С. 41.
(обратно)264
Струхманчук Я. Серед орієнтацій (Із спогадів про розклад Галицької Армії 1919—20 рр.) // Західна Україна. ДВУ. 1927. С. 270.
(обратно)265
Цит. по: Щёголев С. Н. Указ. соч. С. 507.
(обратно)266
Цит. по: А. М. «Лирические малорусские песни, преимущественно свадебные. Сост. Я. Ящуржинский». (Варшава, 1881) // Исторический вестник. 1882. № 2. С. 475—476.
(обратно)267
Геттер А. Европейская Россия. Антропогеографический этюд: Пер. с нем. М., 1907. С. 48.
(обратно)268
Гофман М. Записки и дневники 1914—1918. Л., 1929. С. 242.
(обратно)269
Там же. С. 247.
(обратно)270
Саліковський О. Вказ. праця. С. 43.
(обратно)271
Там же.
(обратно)272
Там же. С. 56.
(обратно)273
Доценко О. Літопис української революції. Матеріали й документи до історії української революції 1917—1923. Львів, 1924. Т. 2. Кн. 5. С. 378.
(обратно)274
Там же. С. 107.
(обратно)275
Саліковський О. Вказ. праця. С. 55.
(обратно)276
Там же. С. 55.
(обратно)277
Доценко О. Вказ. праця. С. 267.
(обратно)278
Там же. С. 172.
(обратно)279
Липинський В. Листи до братів-хліборобів. К.; Філадельфія, 1995. С. 97.
(обратно)280
Там же.
(обратно)281
Липинський В. З приводу статті генерала Залеського // .
(обратно)282
Диманштейн С. Проблемы национальной культуры и культурного строительства в национальных республиках // Вестник Коммунистической Академии. 1929. № 31 (1). С. 125.
(обратно)283
Лейтес А. Ренесанс української літератури. Б. м., 1925. С. 31—32.
(обратно)284
Ганцов В. Проблеми розвитку нашої літературної мови // Життя й революція. 1925. № 10. С. 61.
(обратно)285
Кічак І. Гримаси нашої дійсності // Визвольний шлях. 1995. № 9. С. 1116.
(обратно)286
Постернак С. Вказ. праця. С. 122.
(обратно)287
До історії міжнаціональних процесів на Україні // Український історичний журнал. 1990. № 8. С. 100.
(обратно)288
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины. 1919. № 23. С. 348.
(обратно)289
Постернак С. Вказ. праця. С. 38.
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
Арнаутов В. О. Короткий нарис історії соцвиху на Україні // Записки Харківського інституту народної освіти. 1927. Т. 2. С. 9.
(обратно)292
Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1970. Т. 49. С. 377.
(обратно)293
Перший всеукраїнський учительський з’їзд в Харкові від 5 до 11 січня 1925 р. Х., 1925. С. 65.
(обратно)294
Цит. по: Постишев П. Підсумки перевірки партійних документів в КП(б)У і завдання партійної роботи. З доповіді на Пленумі ЦК КП(б)У 29 січня 1936 року // Про партійну роботу. Б. м., 1936. С. 304.
(обратно)295
Сталін Й. В. Твори. К., 1948. Т. 5. С. 48.
(обратно)296
Люксембург Р. Рукопись о русской революции // Вопросы истории. 1990. № 2. С. 20.
(обратно)297
Там же. С. 22—23.
(обратно)298
Переписка редакции газеты «Свободное слово Карпатской Руси» со своими читателями по национальному вопросу // .
(обратно)299
Верменич Я. В. Здійснення українізації у 20—30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми. Дис. канд. істор. наук. К., 1993. С. 27.
(обратно)300
До історії міжнаціональних процесів на Україні // Український історичний журнал. 1990. № 8. С. 100.
(обратно)301
Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів. К., 1976. Т. 1. С. 214.
(обратно)302
Там же. С. 212.
(обратно)303
Равіч-Черкаський М. Історія Комуністичної партії (б-ів) України. Х., 1923. С. 8.
(обратно)304
Дикий А. Указ. соч.
(обратно)305
Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968. С. 570.
(обратно)306
Там же. С. 504.
(обратно)307
Там же. С. 694.
(обратно)308
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины. 1923. № 29. С. 913—914.
(обратно)309
Драгоманов М. П. Листи на Наддніпрянську Україну // Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці. К., 1970. Т. 2. С. 452.
(обратно)310
Коряк В. Боротьба за Шевченка. Х., 1925. С. 106.
(обратно)311
Синявський О. Принципи редагування мови й правопису Т. Шевченко // Культура українського слова: Збірник 1. Х.; К., 1931. С. 117—118.
(обратно)312
Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. К., 1966. С. 38.
(обратно)313
Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. К., 1964. Т. 6. С. 367.
(обратно)314
Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. С. 253.
(обратно)315
Синявський О. Принципи редагування мови й правопису Т. Шевченко. С. 116.
(обратно)316
Рулін П. Примітки // Рання українська драма. Б. м., б. д. С. II.
(обратно)317
Там же. С. III—IV.
(обратно)318
Грушевський М. Про українську мову й українську справу. С. 12—13.
(обратно)319
Сумцов М. Ф. Начерк розвитку української літературної мови. Х., 1918. С. 16.
(обратно)320
Тешенко І. Вказ. праця. С. 34.
(обратно)321
Грінченко Б. Тяжким шляхом (Про українську пресу). К., 1912. С. 40.
(обратно)322
Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI—XVIII вв. К., 1924. С. 115.
(обратно)323
Квірінг Е. Крутий поворот чи розгортання попередньої роботи // Червоний шлях. 1923. № 4—5. С. 109.
(обратно)324
Левченко. До організації гуртків культури українського слова // Життя й революція. 1926. № 2—3. С. 126.
(обратно)325
Киевский губернский комитет КП(б)У. Отчет (май 1924 г. — февраль 1925 г.). К., 1925. С. 52.
(обратно)326
Перший всеукраїнський учительський з’їзд … С. 76.
(обратно)327
Єфремов С. Щоденники. 1923—1929. К., 1997. С. 155.
(обратно)328
Скрипник М. Політика наркомосвіти в царині мистецтва // Скрипник М. Статті й промови. Х., 1930. Т. 5. С. 89—90.
(обратно)329
Цит. по: Хвиля А. Проти українського й російського націоналізму. Б. м., 1927. С. 32.
(обратно)330
Цит. по: Сулима М. Регулятори й дисонатори української літературної мови // Життя і революція. 1927. № 1. С. 131.
(обратно)331
Янковський О. Вказ. праця. С. 131.
(обратно)332
Цит. по: Хвиля А. Ясною дорогою (рік на літературному фронті). Б. м., 1927. С. 79.
(обратно)333
Про українізацію техперсоналу освітустанов // Бюллетень народного комісаріату освіти. 1926. № 13 (31). С. 26.
(обратно)334
Малій К. Українізація освіти // Рідна школа. 1996. № 11—12. С. 30.
(обратно)335
Єфремов С. Щоденники. С. 256.
(обратно)336
Там же. С. 431.
(обратно)337
Там же. С. 155.
(обратно)338
Скрипник М. Політика наркомосвіти в царині мистецтва. С. 93.
(обратно)339
Листування Михайла Грушевського. К.—Нью-Йорк—Париж—Львів—Торонто, 1997. С. 267—268.
(обратно)340
Рудченко Д. Про пожвавлення нашої роботи // Збірник Центральних державних курсів українознавства (далее — ЦДКУ). Х., 1928. С. 10.
(обратно)341
Там же. С. 11.
(обратно)342
Лобко-Лобанівський В. Збагачення лексики слухача та методи ії вщеплення // Збірник ЦДКУ. С. 90.
(обратно)343
Денисенко В. До збирання відомостей із історії дерусіфикації // Голос українізатора. 1927. № 3. С. 45.
(обратно)344
Попов С. Характеристичні помилки підчас навчання української мови // Збірник ЦДКУ. С. 115—116.
(обратно)345
Стенографічний звіт XV-ої округової конференції Київської організації КП(б)У. К., 1930. С. 505.
(обратно)346
Васильківський М. Як навчити усної мови (розмови) // Збірник ЦДКУ. С. 106.
(обратно)347
С. Б. Диспут «Шляхи розвитку української літературної мови» // Життя й революція. 1925. № 10. С. 102.
(обратно)348
Керкез Я. Художня література і селянський читач // Критика. 1929. № 12. С. 20.
(обратно)349
Перший всеукраїнський учительський з’їзд … С. 75.
(обратно)350
Там же. С. 129.
(обратно)351
Дорошенко М. Наслідки перевірки Київського сільськогосподарського інституту // Голос українізатора. 1927. № 3. С. 40.
(обратно)352
Синявський О. «Грамматика» при навчанні української наукової мови // Збірник ЦДКУ. С. 80.
(обратно)353
Від редакції // Вісник Інституту української наукової мови. 1928. № 1. С. 7.
(обратно)354
Осипов М. Українська мова в гуртках найвищого типу ЦДКУ // Збірник 2 ЦДКУ. Х., 1929. С. 55.
(обратно)355
Там же. С. 60.
(обратно)356
Рудченко Д. Красне письменство на курсах українознавства // Збірник 2 ЦДКУ. С. 94—95.
(обратно)357
Там же. С. 95.
(обратно)358
Там же. С. 96—97.
(обратно)359
Там же. С. 99.
(обратно)360
Там же. С. 96.
(обратно)361
Там же. С. 97.
(обратно)362
Там же. С. 98.
(обратно)363
Там же. С. 99.
(обратно)364
Там же. С. 93.
(обратно)365
Там же. С. 102.
(обратно)366
Лапчинський Г. Національна політика за десять років соціяльної революції // Життя й революція. 1927. № 5. С. 249.
(обратно)367
Хвиля А. Ясною дорогою. С. 70.
(обратно)368
Там же. С. 80.
(обратно)369
Сулима М. Ф. Мова нашого студента // Записки Харківського інституту народної освіти. 1928. Т. 3. С. 27.
(обратно)370
Есен С. З матеріялів про українізацію округ // Збірник ЦДКУ. С. 132.
(обратно)371
Волков. Стан вузів України // Більшовик України. 1929. № 17—18. С. 88.
(обратно)372
І. Ш. Українська мова та шляхи її розвою // Життя й революція. 1925. № 11. С. 91.
(обратно)373
Студинський К. З побуту на Радянській Україні. Львів, 1927. С. 77.
(обратно)374
Хоменко А. Національний склад людности УСРР. Х., 1931. С. 10.
(обратно)375
Там же.
(обратно)376
Міртов А. В. Східна межа української мови // На мовознавчому фронті. К., 1931. Кн. 1. С. 104.
(обратно)377
Хоменко А. Вказ. праця. С. 18.
(обратно)378
Міртов А. В. Вказ. праця. С. 104.
(обратно)379
Стенографічний звіт XV-ої округової конференції Київської організації КП(б)У. С. 594.
(обратно)380
Там же. С. 274—275.
(обратно)381
Там же. С. 595.
(обратно)382
Там же. С. 597.
(обратно)383
Хоменко А. Вказ. праця. С. 39.
(обратно)384
Єфремов С. Щоденники. С. 157.
(обратно)385
Листи М. Грушевського до Т. Починка … С. 182.
(обратно)386
Листи М. Грушевського до Е. Фариняка (1923 р.) // Український історик. 1977. № 1—2. С. 128.
(обратно)387
Цит. по: Хвиля А. Ясною дорогою. С. 77.
(обратно)388
Гординський Я. Повість у Радянській Україні // Рідна мова. 1938. № 7—8. С. 321.
(обратно)389
Верменич Я. В. Вказ. праця. С. 90.
(обратно)390
Шерех (Шевельов) Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900—1941). Стан і статус // Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. К., 1998. С. 329—330.
(обратно)391
Денисенко В. Вказ. праця. С. 45.
(обратно)392
Хоменко А. Вказ. праця. С. 39.
(обратно)393
Шерех (Шевельов) Ю. Вказ. праця. С. 330.
(обратно)394
І. Ш. Вказ. праця. С. 91.
(обратно)395
Коряк В. Нарис історії української літератури. Т. 2. С. 47.
(обратно)396
Цит. по: Гірчак Є. Хвильовизм. Х., 1930. С. 128.
(обратно)397
Єфремов С. Щоденники. С. 533.
(обратно)398
Блінда Л. В. Українізація та її роль в суспільно-політичному житті українського народу в 20-і роки. Дис. канд. істор. наук. К., 1992. С. 117.
(обратно)399
Єфремов С. Щоденники. С. 431.
(обратно)400
Фрід Д. До питання про коріння КПУ // Більшовик України. 1927. № 14. С. 37.
(обратно)401
Хвиля А. Про одну спробу ревізії ленінізму // Більшовик України. 1929. № 19. С. 33—34.
(обратно)402
Гладкий М. Мова сучасного українського письменства. Х.; К., 1930. С. 96.
(обратно)403
Довгань К. Вказ. праця. С. 53.
(обратно)404
Ганцов В. Вказ. праця. С. 65.
(обратно)405
І. Ш. Вказ. праця. С. 91.
(обратно)406
Там же.
(обратно)407
Луців. Мовні дивогляди // Літературно-науковий вісник. 1931. Т. 107. С. 1089.
(обратно)408
І. Ш. Вказ. праця. С. 93.
(обратно)409
Каганович Н. Кілька слов про словники // Прапор марксизму. 1930. № 3. С. 123.
(обратно)410
Фаворський В. «Інж. Т. Садовський та Ів. Шелудько. Словник технічної термінології. Загальний» // На мовознавчому фронті. К., 1931. Кн. 1. С. 99.
(обратно)411
Довгань К. Вказ. праця. С. 51.
(обратно)412
Ганцов В. Вказ. праця. С. 63.
(обратно)413
Листи С. О. Єфремова до Є. Х. Чикаленка // Український історик. 1975. № 3—4. С. 118.
(обратно)414
Диманштейн С. Указ. соч. С. 123.
(обратно)415
Довгань К. Вказ. праця. С. 51.
(обратно)416
Диманштейн С. Указ. соч. С. 123.
(обратно)417
Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 48—49.
(обратно)418
Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917—1927). Б. м., 1928. Т. 2. С. 98.
(обратно)419
Студинський К. З побуту на Радянській Україні. С. 65.
(обратно)420
Єфремов С. Щоденники. С. 587.
(обратно)421
Маніфест Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників // Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917—1927). Б. м., 1928. Т. 2. С. 234.
(обратно)422
Гехтман І. Проблеми національної культури // Більшовик України. 1929. № 21—22. С. 106.
(обратно)423
Скрипник М. До теорії боротьби двох культур // Скрипник М. Статті й промови. Б. м., 1929. Т. 2. Ч. 1. С. 110.
(обратно)424
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Б. м., 1925. С. 1.
(обратно)425
Там же. С. 190.
(обратно)426
Перший всеукраїнський учительський з’їзд … С. 74.
(обратно)427
Хвиля А. Про одну спробу ревізії ленінізму. С. 44—45.
(обратно)428
Там же. С. 67.
(обратно)429
Ткаченко І. Словникову роботу на широке громадське обговорення // На мовознавчому фронті. Кн. 1. С. 6—7.
(обратно)430
І. Ш. Вказ. праця. С. 91.
(обратно)431
Марковський Є. Російсько-український словник. Т. 1 // На мовознавчому фронті. Кн. 1. С. 45.
(обратно)432
Огієнко І. Сучасна літературна мова Наддніпрянської України // Рідна мова. 1938. № 2 (62). С. 63.
(обратно)433
Там же. С. 69.
(обратно)434
Там же. С. 72.
(обратно)435
Листи І. Огієнка до А. Кримського // Слово і час. 1996. № 7. С. 17.
(обратно)436
Стріха М. Українська мова // Сучасність. 1997. № 12. С. 118.
(обратно)437
Волков. Вказ. праця. С. 89.
(обратно)438
Лапчинський Г. Вказ. праця. С. 249.
(обратно)439
Петрусь В. Техніка язика // Життя й революція. 1926. № 1. С. 54.
(обратно)440
Витяги з постанов Колегії НКО з протоколу № 21 // Бюлетень народного комісаріяту освіти. 1926. № 13 (31). С. 7.
(обратно)441
Центральный Исполнительный Комитет СССР. Вторая сессия. Стенографический отчет. М., 1926. С. 501.
(обратно)442
Щепотьєв В. Мова наших школярів // Етнографічний вісник. 1927. Кн. 3. С. 76.
(обратно)443
Гладкий М. Мова сучасного українського письменства. Х.—К., 1930. С. 144.
(обратно)444
Йогансен М. «Академічна неписьменність чи мовне шкідництво?» // Літературний архів. 1930. Кн. 3—4. С. 329.
(обратно)445
Ганцов В. Вказ. праця. С. 64.
(обратно)446
Мурський В. Коротка граматика української мови для шкіл та самонавчання. Б. м., б. д. ; Смаль-Стоцький С., Гартенер Ф. Граматика руської мови. Відень, 1914 ; Грох-Грохальський Ю. Російсько-український словничок граматичних термінів. Козятин, 1917 ; Нечуй-Левицький І. С. Граматика української мови. К., 1913. Ч. 1 ; К., 1914. Ч. 2 ; Грунский Н. Н. Украинская граматика. К., 1919 ; Крымский А. Украинская граматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. М., 1908. Т. 1.
(обратно)447
Огієнко І. Нариси з історії української мови: система українського правопису. Варшава, 1927. С. 203.
(обратно)448
Довгань К. Вказ. праця. С. 52.
(обратно)449
Ганцов В. Вказ. праця. С. 61.
(обратно)450
Косіор Ст. Українізація і завдання КП(б)У // Більшовик України. 1929. № 1. С. 38.
(обратно)451
Там же. С. 39.
(обратно)452
Там же. С. 41.
(обратно)453
Там же. С. 40.
(обратно)454
Цит. по: Ахматов Л. «Спілка визволення України» // Вісник радянської юстиції. 1930. № 6. С. 163.
(обратно)455
Косіор Ст. Вказ. праця. С. 42.
(обратно)456
Шліхтер О. Чергові завдання культурного фронту // Шліхтер О. Боротьба проти національних ухилів на сучасному етапі. Б. м., 1933. С. 39.
(обратно)457
Там же. С. 37.
(обратно)458
Ахматов Л. Вказ. праця. С. 164.
(обратно)459
Попов М. М. Перетворити Україну в зразкову республіку // Попов М. М. За радянську Україну — невід’ємну частину СРСР. К., 1939. С. 53.
(обратно)460
Попов М. М. Про націоналістичні ухили в лавах української парторганізації і про завдання боротьби з ними // Там же. С. 42.
(обратно)461
Цит. по: Попов М. М. Про націоналістичні ухили … С. 40.
(обратно)462
Огієнко І. Смілі новотвори сучасних письменників // Рідна мова. 1939. № 7—8. С. 333.
(обратно)463
Дописи прихильників рідної мови // Рідна мова. 1938. № 12. С. 533—534.
(обратно)464
Дмитриев М. В. Этнонациональные отношения русских и украинцев в свете новейших исследований // Вопросы истории. 2002. № 8. С. 158.
(обратно)465
Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині XIX — на початку XX ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. 1999. Вип. 34. С. 250.
(обратно)466
Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX вв. М., 2000. С. 130.
(обратно)467
Терех И. Украинизация Галичины // Украина — это Русь. СПб., 2000. С. 134—135.
(обратно)468
Павлик М. Москвофільство та українофільство серед австро-руського народу. Львів, 1906. С. 25.
(обратно)469
Там же. С. 4—5.
(обратно)470
Грушевський М. Наша політика. Львів, 1911. С. 23.
(обратно)471
Там же. С. 86.
(обратно)472
Чайковський А. Мої спомини про Івана Франка // Спомини про Івана Франка. Львів, 1927. С. 35.
(обратно)473
Вовк Хв. Вказ. праця. С. 157.
(обратно)474
Аркуша О., Мудрий М. Вказ. праця. С. 268.
(обратно)475
Пашаева Н. М. Указ. соч. С. 84.
(обратно)476
Цит. по: Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели // Ваврик В. Р. Терезин и Талергоф. М., 2001. С. 142.
(обратно)477
Ваврик В. Р. Терезин и Талергоф. М., 2001. С. 103—104.
(обратно)478
Медвецкий С. Как росла и воспитывалась русская молодежь вне пределов державной Руси // Украина — это Русь. СПб., 2000. С. 143.
(обратно)479
Кулаковский П. Русский язык и литература пред судом в Австро-Венгрии. Вильно, 1900. С. 22—28.
(обратно)480
Терех И. Указ. соч. С. 136.
(обратно)481
Грушевський М. Наша політика. С. 93.
(обратно)482
Мончаловский О. А. Святая Русь. Львов, 1903. С. 83.
(обратно)483
Аркуша О., Мудрий М. Вказ. праця. С. 265.
(обратно)484
Цит. по: Талергофский альманах. Памятная книга австрийских жестокостей, изуверств и насилий над карпато-русским народом во время Всемирной войны 1914—1917 гг. Львов, 1924. Вып. 1 // .
(обратно)485
Дикий А. Указ. соч. // .
(обратно)486
Попик С. Д. «Ukrainischer irredentismus» до питання про боротьбу з москвофільством у Австрії (1914—1917) // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. 1996. Вип. 6—7. С. 226.
(обратно)487
Осетинський В. К. Австрійський військово-поліцейський терор в Галичині під час першої світової війни // Наукові записки Львівського державного університету. Львів, 1957. Т. 46. С. 67.
(обратно)488
Талергофский альманах. Вып. 1 // .
(обратно)489
Ронге М. Разведка и контрразведка. М., 1939. С. 74—75.
(обратно)490
Осетинський В. К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму. Львів, 1954. С. 94.
(обратно)491
Там же. С. 97.
(обратно)492
Ронге М. Указ. соч. С. 88.
(обратно)493
Казанский П. Е. Присоединение Галичины, Буковины и Угорской Руси. Одесса, 1914. С. 18.
(обратно)494
Масловський В. І. Дорога в безодню. Львів, 1978. С. 25.
(обратно)495
Цит. по: Платонов О. Россия перед вторым пришествием // Молодая гвардия. 1996. № 7. С. 316—317.
(обратно)496
Пашаева Н. М. Указ. соч. С. 156.
(обратно)497
Там же.
(обратно)498
Талергофский альманах. Вып. 1 // .
(обратно)499
Ронге М. Указ. соч. С. 88—89.
(обратно)500
Ваврик В. Р. Указ. соч. С. 66.
(обратно)501
Талергофский альманах. Вып. 1 // .
(обратно)502
Там же.
(обратно)503
Пашаева Н. М. Указ. соч. С. 153.
(обратно)504
Бутурина А. Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. М., 2000. С. 88.
(обратно)505
Там же. С. 94.
(обратно)506
Старосельский А. Ф. Малороссия вне границ России. Из галицких впечатлений // Русская мысль. 1915. № 2. С. 152—153.
(обратно)507
Осетинський В. К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини … С. 98.
(обратно)508
Бутурина А. Ю. Указ. соч. С. 187—188 ; Макарчук С. А. Указ. соч. С. 62.
(обратно)509
«Украинцы… могут сделаться честными австрийцами» // Военно-исторический журнал. 1997. № 3. С. 59.
(обратно)510
Цит. по: Хвиля А. Блюдолизи графів Бобринських // Більшовик України. 1928. № 18. С. 85.
(обратно)511
Пашаева Н. М. Указ. соч. С. 164.
(обратно)512
Бевзя П. Політичні партії на Західній Україні // Західна Україна. К., 1927. С. 24.
(обратно)513
Політична ситуація і завдания КПЗУ (Тези III пленуму ЦК КПЗУ) // Більшовик України. 1930. № 5—6. С. 105.
(обратно)514
Вінарський К. Третій з’їзд КПЗУ про національне питання на Західній Україні. Б. м., б. д. С. 90.
(обратно)515
Лозняк К. Поширення української книжки товариством «Просвіта» на Лемківщині у 30-х роках XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 1999. Вип. 34. С. 490.
(обратно)516
Ткачівський С. Дещо про минуле // Західна Україна. К., 1927. С. 25.
(обратно)517
Хвиля А. Блюдолизи графів Бобринських. С. 88.
(обратно)518
Там же. С. 90.
(обратно)519
Цит. по: Хвиля А. Блюдолизи графів Бобринських. С. 85.
(обратно)520
Там же. С. 86.
(обратно)521
Политические партии в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине. Б. м., 1935. С. 331—332.
(обратно)522
Огієнко І. Чистота й правильність української мови. Львів, 1925. С. 68.
(обратно)523
Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український крехівський апостол. Т. 1. С. 232.
(обратно)524
Там же. С. 231—232.
(обратно)525
Огієнко І. Чистота й правильність української мови. С. 15—16, 18—19, 27, 30, 62, 98, 125, 154 ; Огієнко І. Життя слів // Рідна мова. 1938. № 3. С. 136 ; Огієнко І. Історія слова «піп» // Рідна мова. 1938. № 7—8. С. 290.
(обратно)526
Огієнко І. Чистота й правильність української мови. С. 13.
(обратно)527
Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український крехівський апостол. Варшава, 1930. Т. 1. С. 123.
(обратно)528
Огієнко І. Мова наших часописів. Мова щоденника «Діло» // Рідна мова. 1938. № 12. С. 517.
(обратно)529
Огієнко І. Денник літературного критика. Нові видання // Рідна мова. 1939. № 6. С. 286.
(обратно)530
Огієнко І. Денник літературного критика. Нові видання // Рідна мова. 1939. № 9. С. 398.
(обратно)531
Огієнко І. Мова Євгена Маланюка («Перстень Полікрата» 1939) // Там же. С. 388.
(обратно)532
І. О. Денник літературного критика. Нові видання // Рідна мова. 1939. № 7—8. С. 345.
(обратно)533
І. О. По словах, а не архаїчне — по словам // Рідна мова. 1939. № 5. С. 235.
(обратно)534
Дичук Л. Вороги «Рідної мови» // Рідна мова. 1939. № 6. С. 287.
(обратно)535
Барагура В. Психологічні основи успіху літературного твору // Рідна мова. 1938. № 9. С. 367—368.
(обратно)536
Колодрубець М. Рідної мови треба завжди навчатися // Рідна мова. 1938. № 4. С. 177—178.
(обратно)537
Кривоносюк П. «Рідна мова» вказала національну дорогу в рідній мові // Рідна мова. 1938. № 6. С. 286.
(обратно)538
Тернистим шляхом! // Рідна мова. 1938. № 1. С. 1.
(обратно)539
Дописи прихильників рідної мови // Рідна мова. 1939. № 9. С. 399.
(обратно)540
Панейко О. За чистоту української мови в школі // Українська мова. Часопис українського вчительства в ген.-губернаторстві. 1943. № 10—12. С. 82.
(обратно)541
Мінко Ю. Методи й цілі навчання німецької мови в українських народних школах // Там же. С. 97.
(обратно)542
Пашаева Н. М. Указ. соч. С. 174.
(обратно)543
Аркуша О., Мудрий М. Вказ. праця. С. 235.
(обратно)544
Геровский А. Украинизация Буковины // .
(обратно)545
Піддубний Г. Буковина. Б. м., 1928. С. 49.
(обратно)546
Там же. С. 84.
(обратно)547
Там же. С. 103.
(обратно)548
Алісов П. Національне питання в Румунії // Більшовик України. 1929. № 4. С. 107.
(обратно)549
Канюк С. Буковина під Румунією // Західна Україна. Б. м., 1927. С. 255.
(обратно)550
Піддубний Г. Буковина. Б. м., 1928. С. 147.
(обратно)551
Терлецкий В. Угорская Русь и возрождение сознания народности между русскими в Венгрии. К., 1874. С. 15.
(обратно)552
Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772—1880 рр.). Відень, 1916. С. 46.
(обратно)553
Гнатюк В. Причинок до історії зносин галицьких і угорських русинів // Літературно-науковий вісник. 1899. № 7—9. С. 167—168.
(обратно)554
Там же. С. 168—169.
(обратно)555
Там же. С. 169—170.
(обратно)556
Там же. С. 170.
(обратно)557
Цит. по: Огоновский О. История литературы рускои. Ч. 2. С. 128.
(обратно)558
Письмо из венгерской Руси // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. Т. 3, февраль. С. 253—254.
(обратно)559
Там же. С. 254—255.
(обратно)560
Там же. С. 257.
(обратно)561
Цит. по: Огоновский О. История литературы рускои. Ч. 2. С. 128.
(обратно)562
Памятная записка Центральной Русской Народной Рады переданная д-ру Милану Ходже, председателю Совета министров Чехословацкой республики // .
(обратно)563
Там же.
(обратно)564
Цит. по: Скрипник М. О. Національне відродження в сучасних капіталістичних державах на прикладі Закарпатської України // Прапор марксизму. 1928. № 1. С. 218.
(обратно)565
Прокоп М. Авантюра галицких самостийников на Закарпатской Руси // .
(обратно)566
Геровский Г. Язык подкарпатской Руси. М., 1995. С. 85.
(обратно)567
Там же.
(обратно)568
Памятная записка Центральной Русской Народной Рады … // .
(обратно)569
Вегеш М. До питання про діяльність першого автономного уряду Подкарпатської Русі (11—26 жовтня 1938 р.). // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія. 1998. Вип. 2. С. 64.
(обратно)570
Бонкало А. Руський литературный язык. Унгвар, 1941. С. 9.
(обратно)571
«Между Подкарпатской Русью и Галицией нет ничего общего». Интервью с главным редактором газеты «Карпатская панорама», президентом фонда «Карпатороссия» В. Разгуловым // .
(обратно)572
Переписка редакции газеты «Свободное слово Карпатской Руси» со своими читателями по национальному вопросу // .
(обратно)573
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація // Вітчизна. 1990. № 5. С. 116.
(обратно)574
Україна молода. 2000. 25 квітня.
(обратно)575
Шульга Н. А. Функционирование украинского и русского языков в украинском обществе // Что делать? 2001. № 3—4 (7—8), февраль. С. 82.
(обратно)576
Там же.
(обратно)577
Сулима М. Ф. Мова нашого студента // Записки Харківського інституту народної освіти. 1928. Т. 3. С. 20.
(обратно)578
Огиенко И. И. Иноземные элементы в русском языке. К., 1915. С. 70—71.
(обратно)579
И…ъ. О характере и деятелях народного образования // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. Т. 2, февраль. С. 169—170 (В этой и двух следующих библиографических ссылках мною исправлены неверно указанные номера страниц.— L.).
(обратно)580
Там же. С. 170—171.
(обратно)581
Там же. С. 171—172.
(обратно)582
Цит. по: Коряк В. Нарис історії української літератури. Х., 1929. Т. 2. С. 204.
(обратно)583
Флоринский Т. Указ. соч. С. 116.
(обратно)584
Там же. С. 121—122.
(обратно)585
Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре // .
(обратно)586
Лосский Н. Украинский и белорусский сепаратизм // Север. 1992. № 4. С. 101—102.
(обратно)587
Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство. Львов, 1898 // .
(обратно)588
Цит. по: Флоринский Т. Указ. соч. С. 107—108.
(обратно)589
Кулиш П. А. Украинофилам. Б. м., б. д. С. 22.
(обратно)590
Переписка М. Драгоманова з В. Навроцьким. С. 103.
(обратно)591
Там же. С. 108.
(обратно)592
Там же. С. 135.
(обратно)593
Сулима М. З історії української мови. Х., 1927. С. 20.
(обратно)594
Огоновский О. История литературы рускои. Ч. 2. С. 825.
(обратно)595
Русова С. Мої спомини. Рр. 1861—1879 // За сто літ. 1928. Кн. 2. С. 150—151.
(обратно)596
Шевельов Ю. В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. (Про мову поезій П. Г. Тичини) // Учені записки Харьківського державного університету. Х., 1940. № 20. С. 73.
(обратно)597
Барвінський О. Спомини з мого життя. Львів, 1913. Ч. 2. С. 321—322.
(обратно)598
Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство.
(обратно)599
Диманштейн С. Указ. соч. С. 122.
(обратно)600
Єреміїв М. Вказ. праця. С. 98.
(обратно)601
Постернак С. Вказ. праця. С. 75.
(обратно)602
Антоневич Н. И. Указ. соч. С. 61.
(обратно)603
Киев и его предместья по переписи 2 марта 1874 года. К., 1875. С. 20—21.
(обратно)604
Цит. по: Рклицкий С. Правда о языке Украины. Градижск, 1917. С. 15.
(обратно)605
Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре.
(обратно)606
Липинський В. Листи до братів-хліборобів. С. 18.
(обратно)607
Русова С. Вказ. праця. С. 169.
(обратно)608
Щёголев С. Н. Указ. соч. С. 398.
(обратно)609
Грінченкова М., Верзилів А. Чернігівська українська громада. Спогади // Чернігів і північне лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріяли. Б. м., 1928. С. 475.
(обратно)610
Садовський В. Студентське життя в Києві в 1904—1909 роках // З минулого: Збірник 2. Варшава, 1939. С. 5.
(обратно)611
Что читать народу? Критический указатель книг для народного чтения. СПб., 1889. Т. 2. С. 534.
(обратно)612
Наша самотність // Маяк. 1914. 27 марта.
(обратно)613
Панасенко С. Шануймо рідну пісню. Проскурів, 1919. С. 6.
(обратно)614
Кобець О. В неволі (записки полоненого). Х.; К., 1931. С. 158.
(обратно)615
Сидоренко Н. Національно-духовне самоствердження. Українська таборова періодика часів Першої світової війни. К., 2000. С. 46.
(обратно)616
Там же. С. 37.
(обратно)617
Там же. С. 23.
(обратно)618
Там же. С. 53.
(обратно)619
Там же. С. 34.
(обратно)620
Кобець О. Вказ. праця. С. 128.
(обратно)621
Сидоренко Н. Вказ. праця. С. 175—176.
(обратно)622
Лотоцький О. Вказ. праця. Ч. 2. С. 105.
(обратно)623
Там же. С. 106.
(обратно)624
Там же. С. 118.
(обратно)625
Там же. С. 106.
(обратно)626
Стріха М. Вказ. праця. С. 107.
(обратно)627
Переписка М. Драгоманова з В. Навроцьким. С. 109.
(обратно)628
Васильченко С. Мій шлях (Автобіографічні записки) // Грудницька М., Курашов В. Степан Васильченко. Статті та матеріали. К., 1950. С. 274.
(обратно)629
Єреміїв М. Вказ. праця. С. 98.
(обратно)630
Єреміїв М. Вказ. праця. С. 97.
(обратно)631
Лотоцький О. Вказ. праця. Ч. 2. С. 19.
(обратно)632
Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство.
(обратно)633
Лотоцький О. Вказ. праця. Ч. 2. С. 19.
(обратно)634
Коряк В. Нарис історії української літератури. Т. 2. С. 100.
(обратно)635
Там же. С. 261.
(обратно)636
Ніковський А. Vita nova. К., 1919. С. 99—100.
(обратно)637
Феденко П. Дмитро Чижевський (Спомини про життя і наукову діяльність) // Український історик. 1978. № 1—3. С. 105.
(обратно)638
Там же.
(обратно)639
Беседовский Г. На путях к термидору. М., 1997. С. 58.
(обратно)640
Мончаловский О. А. Святая Русь. С. 92.
(обратно)641
Онацький Є. Під омофором барона М. Василька (Записки журналіста і дипломата) // Український історик. 1980. № 1—4. С. 119.
(обратно)642
Барвінський О. З останніх десятиліть XIX віку. Львів, 1906. С. 38.
(обратно)643
Старий письменник. Сучасна літературна мова // Рідна мова. 1939. № 5. С. 235.
(обратно)644
Антоневич Н. И. Указ. соч. С. 51.
(обратно)645
Мончаловский О. А. Святая Русь. С. 64.
(обратно)646
Переписка М. Драгоманова з В. Навроцьким. С. 109.
(обратно)647
Лосский Н. Указ. соч. С. 99.
(обратно)648
Там же. С. 102—103.
(обратно)649
Дорошенко Д. «К украинской проблеме». По поводу статьи кн. Н. С. Трубецкого // .
(обратно)650
Будилович А. К вопросу о литературном языке Юго-Западной Руси. Юрьев, 1900. С. 25.
(обратно)651
Толочко П. П. Що або хто загрожує українській мові? К., 1998. С. 13.
(обратно)652
Мова. Політика. Культура. Проблема державності української мови очима корифеїв вітчизняної науки // Вісник Академії наук Української РСР. 1991. № 8. С. 52.
(обратно)Примечания
1
Еще до революции вышли посвященные проблеме украинского языка работы А. С. Будиловича, П. А. Кулаковского, Т. Д. Флоринского.
(обратно)2
Здесь в оригинале ошибочно: «Священного»,— так этот орган управления Русской православной церковью стал именоваться лишь с 1917 г. (в двух других его упоминаниях в тексте книги название верное).— L.
(обратно)3
Так в оригинале. В цитируемом источнике — «обращались».— L.
(обратно)4
В первоисточнике — «чужоїдним», что переводится скорее как «инородный».— L.
(обратно)5
Так в оригинале.— L.
(обратно)6
Имеется ввиду 2003 г.— L.
(обратно)7
Воспроизводится по изд.: Каревин А. Русь нерусская: Как рождалась «рiдна мова». М., 2008. 430 с. ISBN 978-5-89097-068-8. (Православный центр имперских политических исследований.).— L.
(обратно)

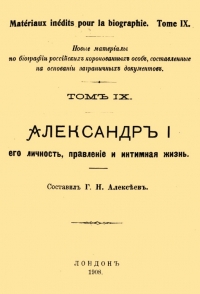
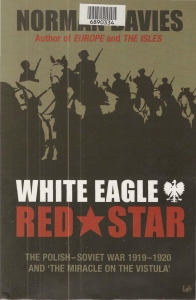
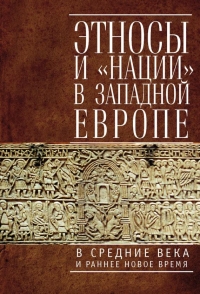
Комментарии к книге «Русь нерусская (Как рождалась «рiдна мова»)», Александр Каревин
Всего 0 комментариев